Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Компания BIOCAD начала поставки российского ритуксимаба во Вьетнам
Российская биотехнологическая компания BIOCAD доставила первую партию препаратов для лечения онкологических заболеваний во Вьетнам. Согласно пресс-релизу российского фармпроизводителя, вьетнамская сторона получила медикаменты в в конце декабря 2015 года. Это первая поставка в рамках пятилетнего контракта, сумма которого в сообщении не называется.
Ритуксимаб – высокотехнологичный биопрепарат на основе моноклональных антител, предназначенный для лечения онкогематологических заболеваний. До настоящего времени, отмечается в сообщении, во Вьетнаме применялся оригинальный препарат производства компании Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, из-за высокой цены которого лечение было доступно далеко не всем нуждающимся в нем пациентам.
По словам генерального директора BIOCAD Дмитрия Морозова, высокое качество российского ритуксимаба подтверждено масштабными международными клиническими исследованиями, а более доступная цена препарата обеспечивает ему конкурентное преимущество на рынках развивающихся стран.
На сегодняшний день контракты на поставку биопрепаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний производства BIOCAD подписаны с целым рядом государств Южной и Юго-Восточной Азии, отмечается в пресс-релизе. В их число входят Филиппины, Малайзия, Индонезия и Таиланд. Общий объем запланированных поставок, по данным компании, превышает 150 млн долларов.
Что принес нам Новый Год?
Как продавались новогодние туры? Оправдались ли ожидания? Какой туристический продукт оказался наиболее востребован в кризис? - подборка комментариев экспертов рынка и первых лиц туроператорских компаний и агентств.
По предварительным данным Ассоциации туроператоров (финальная статистика будет подготовлена к 1 февраля - ред.), падение спроса на зарубежных направлениях в минувшие новогодние каникулы составило 30-35%. Туроператоры констатируют тотальный обвал продаж горнолыжных и экскурсионных туров в Европу. Закрытые Египет и Турция и низкая покупательская способность населения стали причиной того, что многие российские путешественники отказались от новогодних поездок. Однако, на фоне потери емкого и дешевого египетского продукта, смогли подрасти некоторые направления юго-восточной и юго-западной Азии. В выигрыше - Израиль, Таиланд, Вьетнам, Индия, а также ОАЭ.
Падение продаж на зарубежных направлениях было неизбежно, а вот от России все ждали взлета. Чиновники и некоторые туроператоры предрекали 25-30% роста. Фактический рост по предварительным подсчетам составил 6-12%
Комментарии экспертов
Татьяна Ванд
"Ванд Интернэшнл Тур"
генеральный директор
Конечно, в этом сезоне нас очень разочаровала Европа. На этом направлении у нас, что называется, «голяк». Продажи стояли и стоят по-прежнему. Это касается и горнолыжки, и экскурсионных туров.
Ожидалось, что Китай и Въетнам будет более массовым. Эти страны находятся в среднем ценовом сегменте и мы рассчитывали повышенный спрос на Новый год. Спрос был, но не большой.
Почти нулевые показатели по Прибалтике.
Достаточно уверенно мы продавали индивидуальные туры в дальние экзотические страны. Туристов, которые никогда не отказывали себе в качественном и дорогом отдыхе, мы, к счастью, не потеряли. Среди востребованных направлений для этого сегмента могу назвать Индонезию, Японию, Австралию, Бразилию, Аргентину. Не плохо продавались туры в США.
В этом новогоднем сезоне очень активно продавались туры в Узбекистан и Азербайджан. Пожалуй, это был первый такой хороший сезон для этих направлений.
На внутренних направлениях выше ожидания продавалась экскурсионка по Золотому Кольцу, в Санкт-Петербург, Казань. Были продажи на Алтай.
Мы рассчитывали на хорошие продажи российской горнолыжки, брали блоки в Красной Поляне, но, к сожалению, продажи нас не порадовали. В очередной раз убедились, что внутренний продукт россияне предпочитают бронировать не через туроператора, а самостоятельно.
В целом, по продажам новогодних туров скажу так: скромно. Но терпимо, не криминально. И на том спасибо.
Валерия Смагина
TUI Россия
руководитель отдела маркетингаи PR
В этом зимнем сезоне TUI Россия вышла на рынок внутреннего туризма, запустив новое направление - Сочи и по показателям продаж оно заняло 1-е место в новогодние праздники. Возросший интерес к Сочи был обусловлен отсутствием виз и выгодными ценами – популярностью пользовались отели и апартаменты на курорте Красная Поляна, в частности туры продолжительностью 3-4 ночи. Примерно аналогичные показатели по продажам у Чехии – экскурсионные туры, Италии, Болгарии, Андорры. Также туристам было предложено еще одно безвизовое направление для горнолыжного отдыха – Сербия.
Болгария и Италия стали отличным сочетанием цены и качества для российских туристов, и сейчас Болгария продолжает оставаться одним из самых бюджетных горнолыжных направлений в этом зимнем сезоне, ведь, помимо невысокой стоимости туров, расходы туристов во время поездки (скипассы, питание, сувениры) ниже, чем в других аналогичных странах.
Сергей Ромашкин
"Дельфин"
генеральный директор
Общий прирост продаж по туристам, которые заезжали с 25 декабря по 10 января, оказался незначительным, в районе 10% - это несколько хуже наших ожиданий.
В “плюсе” Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Крым, а также хорошо продавалась Белорусия.
В “минусе” оказались практически все экскурсионные туры. Золотое Кольцо, Санкт-Петербург, Карелия в этом сезоне явно не стали хитами наших продаж.
Причину не оправдавшихся надежд я вижу в стремительном падении платежеспособности людей. На старте продаж новогодних туров – в октябре-ноябре – туристы себя чувствовали еще не так плохо, но по мере приближения Нового года негативные экономические ожидания сильно давили на рынок и большое количество туристов видимо решили воздержаться от поездок. Предполагаю, что эта тенденция будет распространяться. Если раньше люди могли себе позволить выезжать на отдых 2-3 раза в году – летом, на Новый год и на майские каникулы – то сейчас предпочтение будет отдано летнему отпуску. На этом фоне чрезмерный оптимизм руководства страны и туристической отрасли, связанный с бурным ростом внутреннего туризма, несколко преждевременен. Общеэкономическая ситуация к этому не располагает.
Ольга Филипенкова
Горный курорт «Роза Хутор»
директор по маркетингу и продажам
С 19 декабря по 10 января включительно курорт «Роза Хутор» посетили 157 тысяч человек. Загрузка отелей курорта в новогодние праздники составила 100%. При этом большая часть отелей были проданы еще в ноябре. 75% продаж пришлось на самостоятельные бронирования – через онлайн-магазин курорта, плюс сервисы бронирования, 25% было реализовано с помощью туроператоров и независимых агентских сетей. Нам удалось использовать опыт прошлого сезона в позитивном ключе – мы заранее анонсировали цены на ски-пассы и не поднимали их, была пересмотрена схема посадки гостей на канатные дороги, что позволило уменьшить время ожидания в очередях на подъем. На данный момент, на январь курорт продан на 85%.
Янис Дзенис
Aviasales
PR-директор
72% билетов купленных на новогодние даты были на перелеты внутри страны (на Крым приходится 5.5% бронирований в эти даты).
Самые популярные направления внутри страны: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, СПБ, Краснодар
Самые популярные пляжные: Бангкок, Пхукет, Бали, Коломбо, Сайгон
Европа: Прага, Тель-Авив, Прага, Стамбул, Мюнхен .
Ирина Рябовол
Momondo
представитель в России
Согласно нашей статистики, Россия заняла первую строчку в топ-10 востребованных стран для поездок на Новый год. Однако пока, по данным исследования, число запросов на международные направления на Новый год значительно выше, чем на российские маршруты: 81% против 19%. Мы проанализировали порядка 140 тыс. запросов пользователей на авиаперелеты из России на период с 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года.
У Москвичей в списке самых популярных направлений для новогоднего отдыха представлены как теплые, экзотические, так и горнолыжные и экскурсионные направления. Места распределяются так: Бангкок, Прага, Пхукет, Сочи, Рим, Коломбо, Барселона, Будапешт, Мюнхен, Париж.
Петербуржцы несильно желают уехать от российских холодов в жаркие страны – тайская столица стоит только на третьем месте, а из остальных популярных южно-азиатских направлений в десятку не вошел ни один город. Жители Северной столицы планируют в период новогодних праздников посетить: Прагу, Рим, Бангкок, Барселону, Париж, Сочи, Будапешт, Вену, Берлин и Милан.
Общий ТОП-10 выглядит так:
|
|
Топ-10 популярных у россиян стран на новогодние праздники 2015/2016 гг. |
| 1 | Россия |
| 2 | Таиланд |
| 3 | Италия |
| 4 | Испания |
| 5 | Германия |
| 6 | Чехия |
| 7 | США |
| 8 | Турция |
| 9 | Индия |
| 10 | Франция |
Президент Украины Петр Порошенко 20-22 января посетит с рабочим визитом Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В ходе трехдневного визита украинский президент намерен встретиться с главой МВФ Кристин Лагард, президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также с ведущими представителями международных инвестиционных и бизнес-кругов. Порошенко намерен поднять вопросы получения следующего транша финансовой помощи, привлечения инвестиций в страну, а также обсудить ситуацию в Донбассе.
ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНША
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Киев выполнил все взятые на себя обязательства перед МВФ для получения очередного транша кредита. Среди основных условий МВФ правительству Украины нужно было утвердить план мер по приватизации пяти государственных предприятий из перечня приоритетных объектов для приватизации (список 10 таких госпредприятий должны были подготовить до 31 августа). Также украинским властям необходимо было создать специализированное подразделение антикоррупционной прокуратуры и создать условия для полномасштабного функционирования Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, парламенту надо было принять госбюджет на 2016 год, согласованный с МВФ.
Камнем преткновения на пути к получению очередного транша было принятие госбюджета на 2016 год с дефицитом 3,7%. Депутаты Верховной рады долго не могли принять главный финансовый документ, и приняли его лишь в ночь на 25 декабря.
Несмотря на выполнение основных требований МВФ, перспективы выделения Киеву очередного транша по-прежнему очень размыты. До сих пор не определена дата предоставления нового транша. Ранее источник РИА Новости в фонде сообщал, что украинское правительство получит новый транш от международного валютного фонда не раньше февраля, причем к этому траншу (порядка 1,7 миллиарда долларов) привязаны другие предполагаемые поступления средств от международных финансовых институтов и государств.
В конце минувшего года в Минфине заявляли, что следующие два транша кредита от МВФ могут быть объединены, поскольку сроки выполнения требований были смещены. Однако уже в январе глава Минфина Наталья Яресько исключила возможность объединения этих траншей. При этом премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что не может быть никакой дискуссии о выходе Украины из программы МВФ.
Украинские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что очередная миссия МВФ приедет на Украину 20 января. Миссия должна провести работу по пересмотру финансовой программы Киева.
МЕЧТЫ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Порошенко неоднократно заявлял, что Украина обладает большим потенциалом для инвесторов. Кроме того, гарант настаивает, что инвесторам нет необходимости преувеличивать риски для инвестиций в страну. По его словам, Украина предлагает огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, информационных технологий, энергетики, авиации и космических технологий.
Украинский президент крайне оптимистичен в вопросе возможного привлечения иностранных инвестиций в страну в нынешнем году. "В этом году, наконец, я прогнозирую миллиардные инвестиции в украинскую экономику", - заявил президент на пресс-конференции в начале года.
Вместе с тем, комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнес Хан заявил, что для обеспечения притока в экономику Украины инвестиций из Евросоюза необходимо активизировать борьбу с коррупцией, улучшить таможенную систему и реорганизовать систему налоговых сборов.
ГУМАНИТАРНЫЙ ВОПРОС
Официальный Киев планирует активизировать сотрудничество с МККК по поиску пропавших без вести в Донбассе. Украинские власти уже передали МККК списки пропавших в Донбассе, в котором 762 человека. Теперь Киев ожидает, что ополченцы также передадут МККК свой список пропавших, после чего будет создана единая база данных для поиска пропавших.
Кроме того, Киев настаивает на доступе МККК к заключенным, которые содержатся в тюрьмах на неподконтрольных Киеву территориях. Представители неподконтрольных Киеву районов Донбасса в гуманитарной подгруппе уже пообещали разрешить такую возможность представителям МККК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
О ситуации с поставками в Россию срезанных цветов.
Россельхознадзором проведен анализ ситуации с фитосанитарным состоянием срезанных цветов, поступающих в Россию.
С момента принятия европейскими странами фитосанитарных мер в отношении срезанных цветов голландского происхождения (с 27 июля 2015 года) и по настоящее время в 329 случаях срезанные цветы, поступившие из Словакии, Латвии, Чехии, Литвы, Болгарии, Венгрии (происхождением из Кении, Италии, Эквадора, Испании, Колумбии, Израиля, Дании, Германии, Бельгии, Эфиопии) были заражены 4 видами карантинных для России объектов: Frankliniella occidentalis Perg., Bemisia tabaci Gen., Puccinia horiana Henn, Didymella liqulicolavo Arx.
При этом, при прямых поставках срезанных цветов из Эквадора, Кении, Вьетнама, Армении, Казахстана в 14 случаях был выявлен карантинный для России объект - Frankliniella occidentalis Perg.
По всем указанным случаям Россельхознадзором направлена информация о несоответствии российским фитосанитарным требованиям, с целью принятия срочных фитосанитарных мер и исключения подобной ситуации.
Кроме того, в преддверии наступающих праздников, таких как: день святого Валентина, Международного женского дня и других событий, неизменно влекущих за собой увеличение потока ввозимой цветочной подкарантинной продукции, по приглашению российской стороны планируется в конце января 2016 года двусторонняя встреча с представителями Департамента защиты растений Словацкой Республики для обсуждения вопроса о соблюдении российских фитосанитарных требований при поставках срезанных цветов из этой страны.
Пэйлин вступилась за Трампа
Сара Пэйлин высказалась в поддержку кампании Дональда Трампа
Игорь Крючков
Экс-губернатор Аляски, скандально известная и в США, и в России республиканка Сара Пэйлин официально поддержала предвыборную кампанию Дональда Трампа за американское президентское кресло. Она должна добавить Трампу популярности среди консервативного электората. Очевидно, лидер республиканской предвыборной гонки уверен, что сможет контролировать одну из самых непредсказуемых и ярких женщин партии.
В среду бывшая губернатор Аляски Сара Пэйлин поддержала Дональда Трампа на встрече кандидата-республиканца с избирателями в штате Айова. Пэйлин призывала толпу восклицать «Аллилуйя!» из-за того, что Трамп — не профессиональный политик, а человек «из частного сектора». По ее словам, миллиардер прогонит демократов из Белого дома и «надерет задницу» «Исламскому государству», запрещенной в России международной террористической группировке.
Пэйлин поддержала Трампа за две недели до очередного этапа отбора единого кандидата от Республиканской партии. Пройдет этот отбор в том же штате Айова. Именно поэтому поддержка Пэйлин, популярной в этом консервативном штате, считается победой Трампа как минимум в ближайшей перспективе.
«Вы готовы к лидеру, который вернет Америке величие? Готовы шатать рампу за Трампа?» — примерно так можно перевести один из пассажей ее речи, которая, как всегда, была наполнена звучными фразами и жаргонизмами. Они стали визитной карточкой Пэйлин еще в 2008 году, когда республиканец Джон Маккейн, пытавшийся обойти Обаму на выборах, пообещал сделать ее своим вице-президентом.
Американские эксперты до сих пор спорят о том, было ли это мудрым шагом. Связка Маккейн — Пэйлин получила пристальное внимание прессы, однако в конечном счете губернатор Аляски оказалась слабым звеном. Чем чаще она выступала, тем очевиднее становилось: если Маккейн действительно станет президентом, она может опозорить пост вице-президента США. Ее заявления были слишком резки, эмоциональны и наивны, чтобы заслужить уважение в высших эшелонах республиканского электората. Более того, действия Пэйлин нередко вступали в противоречие с линией Маккейна, и было очевидно, что даже упертый республиканец и герой войны во Вьетнаме не может контролировать свою визави.
Трамп, очевидно, считает, что он справится с этой задачей лучше. «С самого первого дня я говорил, что если начну кампанию, мне нужно заручиться ее поддержкой, — заявил Трамп в среду, обращаясь к стоящей рядом Пэйлин. — И она это чувствует».
Трамп и Пэйлин — политики, близкие друг другу по духу. Трамп тоже не лезет за словом в карман, ломает стереотипы предвыборной кампании и не стесняется выдвигать до абсурдности неполиткорректные инициативы типа запрета на въезд всех мусульман на территорию США. До последнего времени такая стратегия только укрепляла рейтинг Трампа. Сегодня миллиардер лидирует в целом ряде предвыборных соцопросов и считается наиболее вероятным единым кандидатом от Республиканской партии.
Двух политиков сближает и кадровый вопрос. Майкл Гласснер, ответственный за политическую составляющую кампании Трампа, — бывший глава штаба Пэйлин.
Предсказательница украинского кризиса
О невежестве и резкости Пэйлин с 2008 года ходит множество баек, которые далеко не всегда правдивы, но вне зависимости от этого делают ее неоднозначным «подарком» для кампании Трампа.
Например, особенной популярностью в СМИ, в том числе отечественных, пользуется цитата Пэйлин от 2008 года о том, что она «может видеть Россию из окна собственного дома». В соцсетях циркулирует множество коллажей, высмеивающих этот ляп, в том числе коллаж с изображением Владимира Путина. Политик держит в руках бинокль и говорит: «И что, это дом Пэйлин? Боже, какие отвратительные занавески!»
Между тем Пэйлин никогда не говорила, что видит Россию из дома. Это искаженная цитата, которую привела журналистка Тина Фей на шоу телеканала NBC Saturday Night Life. Политик говорила, что Россию можно увидеть с острова на Аляске. Этот факт тоже сомнителен, но не такой эффектный с журналистской точки зрения.
Более того, жесткая антироссийская риторика даже позволила Пэйлин предсказать украинский конфликт еще в 2008 году, спустя два месяца после российской военной операции в Грузии. В одной из своих предвыборных речей она заявила, что реакция сенатора Обамы на этот конфликт была нерешительной и «такой подход только подтолкнет Путина к вторжению на Украину в будущем».
Тогда большинство американских экспертов подняли на смех эти слова, однако шесть лет спустя, в 2014 году, Пэйлин праздновала свой триумф. «Я обычно воздерживаюсь от фраз типа «Я вас предупреждала», но я на самом деле предупреждала», — написала она в своем фейсбуке после начала украинского кризиса.
Трамп сегодня говорит о России в самом мягком тоне из всех республиканских кандидатов. Это может в перспективе вызвать конфликт с Пэйлин, которая делала упор на российской угрозе еще в ходе кампании 2008 года.
Пэйлин готовит почву
Насколько высоко Трамп ценит аналитические способности Пэйлин в международной политике, неясно. Как заявил The New York Times бывший политический директор Республиканской партии в Айове Крейг Робинсон, вероятнее всего, миллиардер-кандидат просто стремится расширить свою электоральную платформу. Пэйлин — любимица белых американцев из низших слоев общества, в большинстве своем консервативных и любящих политиков, которые выражаются ярко и метко.
Трамп для этой части электората слишком богат и успешен. Пэйлин же с 2009 года, когда она ушла с поста губернатора Аляски, работала над своей популярностью среди массовой аудитории. Она регулярно участвует в политических ток-шоу, издает книги и выступает на мероприятиях, популярных у американских консерваторов — например, на ежегодном слете Национальной стрелковой ассоциации США, где Пэйлин постоянно превозносит право американцев свободно носить оружие и таким образом «поддерживать в стране законность».
На современной политической арене Пэйлин известна своей активной деятельностью в объединении консервативных республиканцев Tea Party, которые занимают самую непримиримую позицию относительно нынешнего президента США Барака Обамы и его демократической политики.
Решение Пэйлин поддержать Трампа — сильный удар по его главному республиканскому конкуренту Теду Крузу. Пэйлин поддержала его кандидатуру в 2012 году, когда тот выдвигался в американский сенат от штата Техас. Круз тогда выиграл и теперь надеялся сохранить союз с Пэйлин.
Рик Тайлер, глава предвыборного штаба Круза, уже выразил свое сильное разочарование этой ситуацией. По его словам, убежденный консерватор Пэйлин сделала ошибку, поддержав «неискреннего» республиканца Трампа. Бизнесмен не раз сигнализировал, что может выйти из состава партии, если не найдет здесь достаточной поддержки. Кроме того, до предвыборной кампании Трамп был не против абортов и не придавал большого значения браку, что неприемлемо для консервативного республиканского электората. В Айове Пэйлин говорила, что у нее нет проблем с подходом Трампа — даже наоборот. «Он постоянно перемещался между левым и правым флангом, — заявила она. — Именно поэтому он достиг такого успеха».
18 января в столице Филиппин начался 35-й Туристский форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в рамках которого состоялся 6-ой раунд ежегодных консультаций Россия – АСЕАН по туризму. Российскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый.
Значительная часть выступления замглавы Ростуризма на очередном раунде консультаций, прошедшем сегодня, 19 января, была посвящена ключевым для развития индустрии проблемам безопасности туризма.
«Учитывая масштабы российского турпотока в регион, который составляет более 2 млн поездок ежегодно, а также имеющийся потенциал роста в связи приостановкой сотрудничества в сфере туризма с Турцией и Египтом, необходима совместная проработка двусторонних механизмов повышения безопасности и качества обслуживания российских туристов в странах АСЕАН», подчеркнул Р.Скорый, отметивший, что безопасность является неотъемлемой частью любого туристского продукта: «В 2015 году вопрос обеспечения безопасности подчеркнул свою чрезвычайную важность не только для России. Ключевые страны-поставщики туристов и туристических услуг лицом к лицу столкнулись с проблемами безопасности в результате терактов в Индонезии, Таиланде, Египте, Франции, Турции».
По словам Р.Скорого, российский подход к безопасности туризма имеет долгосрочный характер. Эту проблему не решить сторон. При этом координационным центром подобного сотрудничества, по мнению замглавы Ростуризма, может стать недавно созданный Центр безопасности АСЕАН.
Помимо прочего, участники консультаций обсудили вопросы по практическому расширению сотрудничества, включая созданием одного или нескольких документов – необходима система, основанная на сотрудничестве всех заинтересованных продолжение востребованных в Юго-Восточной Азии программ по русскому языку для туроператоров стран АСЕАН.
Напомним, что в силу перераспределения въездных и выездных турпотоков, произошедшего в последние годы, страны АСЕАН демонстрируют значительный рост показателей как по въезду туристов в Россию, так и в выездных турпотоках. Например, за 9 месяцев прошлого года Вьетнам и Таиланд увеличили число турпоездок в нашу страну по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 53 и 61 процент соответственно.
Значимость проведения 6-ого раунда ежегодных консультаций Россия – АСЕАН по туризму в рамках форума в Маниле повышается проведением 19-20 мая 2016 года 3-го Саммита Россия – АСЕАН на высшем уровне в Сочи, который приурочен к 20-летию диалогового партнерства Россия – АСЕАН.
Вьетнамская креветка не выдерживает конкуренции
Стоимостные объемы экспорта водных биоресурсов из Вьетнама в 2015 г. снизились более чем на 15% в сравнении с предыдущим периодом. Сильнее всего пострадали производители креветки.
Объемы вывоза рыбной продукции и морепродуктов из Вьетнама в прошлом году в стоимостном выражении составили 6,7 млрд. долларов, в то время как в 2014 г. – 7,9 млрд. долларов, сообщает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов. Эксперты организации ожидают сохранения негативных факторов, приведших к такому сокращению, и в 2016 г.
Экспорт пангасиуса столкнулся с уменьшением спроса и низкими ценами на большинстве рынков, что вызвало сокращение стоимости на 10,4% – до 1,58 млрд. долларов. Кроме того, препятствиями для вьетнамской рыбы стали высокие требования качества на рынках западных стран и санкции в США, связанные с антидемпинговыми пошлинами.
Поставки вьетнамской продукции из водных биоресурсов в США и ЕС упали до 318 млн. долларов (-5,6%) и 295 млн. долларов (-14,3%) соответственно. По мнению специалистов ассоциации, это стало результатом мировой экономической рецессии.
Как сообщает корреспондент Fishnews, сильнее всего снизился вывоз креветки. Он по-прежнему занимает 44% от общего экспорта морепродуктов из страны, но его стоимость в прошедшем году упала на 25% – до 3 млрд. долларов. Производители столкнулись с ростом издержек производства, ударившим по их конкурентоспособности на мировом рынке. Во Вьетнаме коэффициент эффективности производства креветки составляет от 33 до 40%, а у Индии и Индонезии он достигает 70%. Производство личинок во Вьетнаме в два раза дороже, чем в Индии, а стоимость кормов выше на 40%. В результате килограмм вьетнамской креветки обходится на 1-3 доллара дороже, чем у конкурентов.
Тем не менее эксперты ассоциации предполагают, что влияние договоров о свободной торговле, заключенных с Южной Кореей, Японией, ЕС и АСЕАН, могут привести к росту на 6,3% стоимости экспорта морепродуктов в 2016 г. – до 7,12 млрд. долларов. Соглашения способны стать главным преимуществом вьетнамских экспортеров перед их главными конкурентами из Индонезии, Таиланда, Филиппин, Эквадора, Аргентины и Индии.
Российская компания BIOСAD начала поставки высокотехнологичного препарата против рака во Вьетнам.
Продолжается реализация единственного в России проекта по экспорту отечественных высокотехнологичных препаратов против рака. Российская биотехнологическая компания BIOCAD первой в стране осуществляет проект по экспорту в ряд стран препаратов на основе моноклональных антител на сумму более 150 млн долларов.
В конце декабря 2015 года первая поставка пришла во Вьетнам. Страна получила высокотехнологичный препарат ритуксимаб для лечения рака крови. Это первый транш в рамках пятилетнего контракта. До этого вьетнамские пациенты могли рассчитывать только на швейцарский препарат производства «Ф. Хоффманн – Ля Рош Лтд» по более высокой цене, поэтому лечение было доступно не всем.
«Успех российского биоаналога ритуксимаба на международном рынке складывается из нескольких факторов. Препарат получил подтверждение высокого качества на базе масштабных международных клинических исследований, при этом его цена значительно меньше западных лекарств. Это открыло возможности для обеспечения тяжелобольных пациентов препаратом, который долгое время был недоступен из-за своей высокой стоимости», – рассказывает генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.
На сегодняшний день российской биотехнологической компанией BIOCAD заключены договоры со множеством партнеров из стран Южной и Юго-Восточной Азии. Это Филиппины, Малайзия, Индонезия, Таиланд и другие. Российские высокотехнологичные препараты для лечения рака, аутоиммунных заболеваний очень востребованы на мировом рынке. Они не уступают западным препаратам по эффективности и безопасности, но стоят значительно меньше.
Petronas сокращает расходы на $11,4 млрд
Petronas вынуждена сократить расходы на $11,4 млрд. Нефтяной госкомпании Малайзии пришлось поработать над новыми планами экономии, когда котировки сорта Brent упали ниже $30 за баррель. Программа сокращения капзатрат рассчитана на 4 года.
Petronas - крупнейший источник доходов страны. Треть годового бюджета Малайзии формируется за счет поступлений от этой компании. И здесь можно провести вполне очевидные параллели с некоторыми другими сырьевыми экономиками.
Текущий бюджет Малайзии верстался исходя из $48 за баррель Brent, что уже вызывает ностальгию. На следующей неделе премьер-министру Наджибу Разаку придется представить парламенту план секвестра. Вслед за Petronas расходы будет вынуждено сокращать и правительство. Компания уже предупредила: дивиденды, полагающиеся государству, придется урезать сразу на 40%.
Малайзия - второй крупнейший экспортер нефти и природного газа во всей Юго-Восточной Азии. И, как это бывает при низких котировках углеводородов, беда не приходит одна. Национальная валюта - ринггит - стремительно падает. Намечается политическая нестабильность на фоне коррупционного скандала в 1MDB (крупнейший государственный инвестфонд Малайзии).
До критического падения цен у Petronas были большие планы на будущее. Компания собиралась строить на юге страны комплекс из НПЗ и нефтехимических заводов стоимостью $16 млрд, а также развивать совместно с Канадой мощности по экспорту газа, что обошлось бы в $28 млрд. Теперь придется поумерить амбиции.
Признаки проблем в Petronas были заметны уже давно. Чистая прибыль падает четыре квартала подряд. Еще весной 2015 г. компании пришлось выпустить бонды на $5 млрд. Это стало рекордом не только для самой Petronas, но и крупнейшим выпуском облигаций в Азии за весь прошлый год. Видимо, даже при $60 за баррель Brent в Petronas понимали: без заемных средств уже не обойтись, а при дальнейшем падении придется жестко экономить.
Нефтяные госкомпании Таиланда, Индонезии и Вьетнама тоже сокращают расходы, как и во всем мире. По оценкам Wood Mackenzie, за 2 года падения цен на нефть глобальное урезание капзатрат составило $380 млрд, что в какой-то момент может привести к дефициту углеводородов.
Власти Боснии и Герцеговины, прежде чем подавать заявку на членство в Евросоюзе, должны выполнить два требования, заявил комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнес Хан.
"Боснии следует решить, по меньшей мере, два нерешенных вопроса перед тем, как подавать заявку на членство: это выполнение соглашения о стабилизации и ассоциации, а также внедрение механизма работы с нами", – сказал еврокомиссар журналистам в Брюсселе.
Соглашение о стабилизации и ассоциации между ЕС и БиГ, предусматривающее поэтапное создание зоны свободной торговли, подписанное в 2008 году, вступило в силу 1 июня 2015 года. В середине марта 2015 года Еврокомиссия заявила, что условия для вступления в силу соглашения выполнены, а для рассмотрения Брюсселем возможной заявки Сараево на членство в сообществе "будет необходим значительный прогресс в выполнении повестки реформ".
Вступление в силу соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС формально открывает Боснии и Герцеговине возможность для подачи официальной заявки на присоединение к ЕС.
Политолог, публицист, главный редактор журнала "Информпространство" Евгений Бень в эфире радио Sputnik напомнил о негативных последствиях, которыми обернулось для БиГ подписание соглашения об ассоциации с ЕС.
"В 2008 году было заключено соглашение Боснии и Герцеговины об ассоциации с ЕС. В результате этого соглашения произошли жесткие волнения сначала в городе Тузла, а потом по всей стране. И эти волнения были вызваны не идейными соображениями тех жителей, которые выступили "против". Тогда сложилась ситуация коллапса, поскольку Босния и Герцеговина при всей своей раздробленности и децентрализованности просто экономически не была готова к выполнению соглашения об ассоциации", – сказал Евгений Бень в эфире радио Sputnik.
По его мнению, в результате подписания соглашения об ассоциации с ЕС экономика Боснии и Герцеговины практически полностью "встала".
"Безработица зашкалила за 40% и до сих пор зашкаливает. Страна живет очень бедно. В стране три президента, три парламента. И не всегда они находят между собой общий язык. Ситуация экономически очень непростая, и уже опыт такой был. А в 2015 году соглашение об ассоциации и стабилизации вступило в силу. И тут ЕС, скорее всего, отдает себе отчет в том, что принятие страны в Евросоюз может быть только, если она реально стабилизирует ситуацию и взаимодействие между автономиями и городами. Поэтому ЕС теперь настоятельно требует выполнить два условия", – сказал политолог.
В целом перспективы вступления Боснии и Герцеговины в ЕС совсем не радужные, считает политолог.
"Если подходить с точки зрения общей картины стран Евросоюза, его требований – и правовых, и экономических, и финансовых – то шансы вступления в него Боснии и Герцеговины, по сути, нулевые. ЕС опасается повторения украинского сценария. Конфликтов в результате противоречий внутри страны и разрушения этого образования, созданного искусственно в 1995 году, чтобы избежать эскалации насилия и дальнейшего кровопролития", – заключил Евгений Бень.

«В России я ел борщ, пельмени и кулебяку»
Звездный повар Реза Махаммад о русской кулебяке, острой пище и кулинарной разнице между Индией и Ближним Востоком
Анна Лозинская
«Чили — не наш, но об этом уже никто не помнит» — «Стиль жизни» поговорил со звездным поваром Резой Махаммадом об индийской кухне, русской кулебяке и китайских пельменях и... больше не боится морозов.
Если вам холодно и неуютно, лучший способ согреться — вспомнить о том, как вам было хорошо два года назад, когда было море, пляж, пальмы, вода из молодого кокоса, ласси из манго и обжигающее красное карри, от которого горело во рту. Из-за курса рубля Индия от нас теперь дальше, чем обычно, — и от этого почему-то еще сильнее тоска по индийской кухне.
Индийских ресторанов в Москве до обидного мало. Вот почему мы так обрадовались, узнав, что в Москву приезжает Реза Махаммад — звездный повар, ведущий программ телеканала Food Network и владелец лондонского ресторана The Star of India. Словом, западное лицо индийской кухни. В Москве он дал мастер-класс по приготовлению курицы карри с кардамоном и признался «Газете.Ru», что никогда не хотел иметь отношение к кухне.
— Я попал в ресторанный бизнес случайно. Моего отца не стало, когда я был совсем молод, и я был вынужден взять на себя управление рестораном в Лондоне. Но по-настоящему я хотел стать музыкантом, концертирующим пианистом. Или заниматься модой, дизайном, изобразительным искусством, даже дизайном интерьеров — в общем, творчеством. Но и в ресторанном бизнесе мне удалось использовать элементы того, что меня всегда интересовало: я придумал, каким должен быть дизайн лондонского ресторана, какая музыка там должна быть.
В 80-е у меня был белый двухуровневый натяжной потолок, сейчас на потолке фрески в духе Ренессанса, напоминающие об Италии, о Вероне или Венеции. Мне всегда нравились визуальные искусства, для меня еда тесно связана с искусством. Все взаимосвязано: музыка, изобразительное искусство, еда — все это имеет отношение к органам чувств.
— Какое индийское блюдо ваше любимое?
— Сложно сказать, что я люблю больше всего: в Индии много разных регионов, и в каждом интересно что-то свое. Например, если вы поедете в Раджастан, вы обнаружите, что кулинарный стиль меняется там каждые 50 км. Все из-за ландшафта! Сначала вы в пустыне. Через мгновение оказываетесь в оазисе. Через 50 км — что-нибудь еще.
Изменяется пейзаж — изменяется и еда. Многие в Индии не едят мясо: 65% процентов населения — вегетарианцы.
Но оставшиеся 35% — это тоже очень много людей. Я вот люблю мясо, курицу, рыбу — но все зависит от региона. Мне нравится кухня Раджастана, Южной Индии, Хайдарабада.
— Почему, на ваш взгляд, индийская кухня так популярна в мире?
— Индия была одной из колоний Британии — думаю, поэтому первоначальную популярность индийская кухня приобрела именно в Великобритании. Она была популяризирована англичанами, которые долгое время жили в Индии, а потом вернулись. Это были люди, привыкшие к вкусу пряностей. А ведь специи вызывают привыкание, даже зависимость. Когда вы добавляете специи в блюдо, вы добавляете ему новое измерение, оно становится более интересным. У индийской кухни есть много родственников — двоюродных братьев, я бы сказал. Персидская кухня, кухня Ближнего Востока. Там тоже используются специи — но обращаются с ними по-другому, не так, как в Индии. Мы разогреваем специи в самом начале готовки, обжаривая их в масле, — так они раскрываются полнее, отдавая весь свой аромат маслу, рыбе, мясу, овощам, всему, что вы готовите.
— То есть разница между индийской кухней и кухней Ближнего Востока — в том, что вы обжариваете специи в начале готовки?
— Да. Вкусы, характерные для ближневосточной кухни, — более мягкие. Есть аромат, но вкус слабее. А в индийской кухне есть и аромат, и вкус пряностей, она более изысканная. Кстати, острый перец — продукт не индийского происхождения. Он не рос в Индии — сюда он попал благодаря португальцам, которые привезли его с южноамериканского континента в XVI веке.
— Индийская кухня изначально не была такой острой?!
— Нет! У нас был душистый перец, черный перец, но острого красного перца не было. Родина перца чили — африканские колонии Португалии, такие как Мозамбик и Ангола, и американские колонии. Но сейчас об этом никто не думает. Как только острый перец вошел в индийскую гастрономическую традицию, это стало выглядеть так, будто это мы выращиваем чили всю жизнь. Тогда индийская кухня и стала острой.
— И известна на весь мир именно своей остротой.
— Знаете, мне нравится острая еда, но я люблю, когда у нее есть не только острота, но и вкус. Когда перца слишком много, вы не чувствуете никаких других вкусов, острота перекрывает все на свете, так что чили нужно добавлять очень аккуратно.
— Нужно ли адаптировать индийские блюда к западному вкусу?
— В конце 60-х, когда я родился, а мой отец открыл в Лондоне ресторан, еда в этнических ресторанах на Западе подавалась как раз в адаптированном варианте. Но сейчас люди путешествуют гораздо больше, чем в 60-е, и я думаю, что сегодня вкус должен быть аутентичным. Единственное, что нужно, — это модерировать остроту блюд.
Нужно добавлять меньше перца, чем мы привыкли, чтобы человек мог почувствовать вкус и понять в точности, каким должен быть вкус того или иного блюда.
Когда ты привыкаешь к этим вкусам и ароматам, ты можешь прибавить перцу. Но нужна какая-то прелюдия. Так что моя позиция — сохранять аутентичность, но снижать остроту.
— Какие блюда неиндийской кухни вам нравятся?
— Я обожаю кухню Юго-Восточной Азии — Таиланда, Вьетнама, кухню Ближнего Востока, стран Средиземноморья. Я люблю, когда у блюд яркий вкус, интересная структура, цвет. Мне нравится, когда есть баланс кислого-сладкого-соленого-острого. Мне нравится, когда ароматы щекочут нервы, дразнят вкусовые рецепторы.
— Что вы уже попробовали в России?
— Я ел борщ, пельмени — я обожаю блюда из фаршированного теста и уверен, что у пельменей в России и в Китае общие корни. Вы знаете, что до путешествия Марко Поло в Китай в Италии не было спагетти и других видов пасты? Это он привез в Италию идею лапши.
— Русская кухня, наверное, не кажется вам такой уж яркой.
— В русской кухне специи тоже используются: имбирь, корицу, кардамон, гвоздику кладут в некоторые блюда. Сладкие. Это обычная история для всех западных стран: когда индийские специи попали в Европу, их стали использовать прежде всего именно для приготовления десертов. Но да, мне не хватает острых впечатлений.
Правда, есть одно блюдо, которое я обожаю, — это кулебяка.
Разные виды начинки из яиц, рыбы, риса, блинчики, которые их разделяют, тесто — обожаю! Я делал кулебяки в 80-е, когда учился в кулинарной школе. Божественная еда.
— Как вам удалось совместить барочный интерьер и музыку с традиционной индийской кухней?
— Они прекрасно сочетаются. Посмотрите на индийскую архитектуру, на дворцы, они украшены так же пышно, как здания эпохи барокко. А барочная музыка… Я ее обожаю! Телеман, Корелли, Манфредини, Локателли….
Рецепт от шефа: курица карри с кардамоном
Реза пускается в перечисление имен своих любимых композиторов и тем временем разогревает сотейник, льет туда растительное масло, бросает в горячее масло стручки кардамона и, дождавшись, чтобы они зашипели, отправляет туда же свежий измельченный имбирь, чеснок и лук. Добавляет чуть-чуть соли (он говорит, что так лук быстрее приобретет золотистый цвет) и быстро-быстро перемешивает, не переставая восхищаться ароматом. На сковороду продолжают радугой сыпаться пряности — молотый кориандр, острый перец чили, куркума перемешиваются с луком, и Реза успокаивает этот пожар тремя столовыми ложками воды.
К смеси добавляются порезанные помидоры и зеленый чили, от одного вида которого становится жарко.
Остается перемешать — и выпаривать воду, чтобы помидоры, лук и пряности превратились в густой соус. Соус непременно нужно попробовать — и добавить в него соли и сахара, чтобы получился тот самый остро-кисло-сладкий вкус, который отличает многие блюда Азии. В ярко-красный соус выкладываются куриные грудки, порезанные крупными кусками. Осталось влить на сковороду еще воды, чтобы она покрыла курицу, перемешать и оставить готовиться под крышкой на медленном огне. Готовую курицу Реза посыпает свежей кинзой. Куда же без нее в индийской кухне!
Мировой экспорт рапсового шрота в 2015/16 МГ может снизиться до пятилетнего минимума
Согласно прогнозу экспертов Oil World, мировой экспорт рапсового шрота снизится в текущем сезоне до пятилетнего минимума – 5,56 млн. тонн, что на 0,61 млн. тонн уступает прошлогоднему показателю и на 1,14 млн. тонн – рекордному уровню 2013/14 МГ.
Отмечается, что причиной снижения объемов торговли указанной продукцией в мире станет уменьшение мирового производства рапсового шрота. При этом большую часть продукции заменит соевый шрот на фоне его высокого предложения на мировом рынке.
Так, эксперты ожидают, что экспорт продукции из Индии уменьшится в 2015/16 МГ до 400 (996) тыс. тонн, ЕС – до 335 (397) тыс. тонн, Украины – до 155 (174) тыс. тонн, тогда как из Канады увеличится до 3,75 (3,62) млн. тонн, ОАЭ – до 375 (330) тыс. тонн, России – до 240 (239) тыс. тонн.
Аналитики прогнозируют значительное уменьшение импорта рапсового шрота в текущем сезоне в Южную Корею, Таиланд, Вьетнам и Бангладеш. В частности, импорт продукции в Южную Корею составит 410 (499) тыс. тонн, Таиланд – 300 (357) тыс. тонн, Вьетнам – 170 (244) тыс. тонн, Китай – 90 (142) тыс. тонн, США – 3,42 (3,5) млн. тонн.
На МКАД построят съезд к Вьетнамскому культурно-деловому центру
Выдано разрешение на строительство дополнительного съезда с МКАД, который будет вести к Вьетнамскому культурно-деловому центру с гостиницей «Ханой-Москва», сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
«Инвестор построит новый съезд на собственные средства», - уточнил О. Антосенко.
Раньше посетители подъезжали к центру по новому проезду с улицы Ротерта, отметили в Мосгосстройнадзоре.
Вьетнамский деловой центр возвели в 2013 году в районе 94-го км МКАД на пересечении Ярославского шоссе с улицей Ротерта.
Комплекс включает торговые площади, офисы, гостиничные номера, зону отдыха и развлечений, а также подземный паркинг для посетителей.
В гостинице «Ханой-Москва» оборудовано 648 номеров на 1098 мест. Здесь также есть деловой центр, ресторан, спортивно-оздоровительная зона.
Навстречу VII съезду ТПК
Константин Асмолов
В преддверии нового съезда трудовой Партии Кореи, который пройдет в 2016 году после более чем 30-летнего перерыва, мы слышим множество предположений о том, зачем Ким Чен Ыну этот съезд и что на нем ожидается. – Сделаем свой прогноз, попутно объясняя, как вообще делаются прогнозы, особенно в условиях ограниченной информации: реальных данных о внутренних раскладах пхеньянской элиты нет, и потому любые рассуждения о «противостоянии ближнего круга и военных технократов», на самом деле являются спекулятивными.
Во-первых, сразу отметим, что серьезный аналитик крайне редко говорит, что событие точно случится или точно не случится, – он имеет дело с вероятностями и пытается прогнозировать некий суммарный вектор, который складывается из воздействия множества факторов, причем любой прогноз на будущее включает вероятность того, что к существующим трендам давления добавится новый, связанный или не связанный с Его Величеством Случаем.
Во-вторых, когда политолог сталкивается со слишком широким спектром вероятностей, и не имеет возможностей без неких дополнительных вводных предугадать ход событий, он идет по пути наименьшего сопротивления, используя метод «трех сценариев». Ведь почти в любой ситуации можно наукообразно сказать, что есть три варианта развития событий. Все изменится в одну сторону (допустим, хорошую); все изменится в другую сторону (допустим, плохую); все остается плюс-минус как есть. Это дает хорошую вероятность того, что один из прогнозов сбудется, и при любом изменении ситуации аналитик может сказать: «А я же говорил!». Но хороший аналитик отличается тем, что на определенные вопросы он может дать качественный ответ «у меня не хватает данных», не занимаясь вместо этого общей болтологией и высасыванием теории из пальца. «Я знаю, что ничего не знаю, (но внимательно наблюдаю за ситуацией и жду развития событий)».
Потому и мы постараемся отойти от практики сферической болтовни и попытаемся реконструировать то, на основании чего могут быть сделаны прогнозы и какие именно это будут прогнозы.
Теперь к делу. Съезд партии отличается от партконференции тем, что включает в себя некую обязательную программу, вокруг которой и начинает складываться определенная интрига. На съезде партии обычно должны приниматься программные документы (устав и собственно программа; они могут несильно изменяться, но, как минимум, происходит их переутверждение), а также происходят выборы или перевыборы партийного руководства.
Некоторые элементы съезда можно предсказать точно. Например, то, что будут внесены изменения в устав, и они будут связаны с тем, что к вечному президенту Ким Ир Сену уже добавился вечный генсек Ким Чен Ир. Де-факто это уже есть, но в программные документы этот момент надо вносить на съезде, ибо, хотя главный пост Ким Чен Ына – это «руководитель Государственного Комитета Обороны», в партийной иерархии он является не генеральным, а первым секретарем.
Кроме того, ожидается определенное кадровое обновление. Значительная часть высшего партийного руководства или умерла, или находится в очень преклонном возрасте, и вряд ли способна исполнять свои обязанности с физической точки зрения. Этим людям, вероятно, надо будет найти замену. Провести кадровое обновление. Интрига скорее заключается в том, каким именно будет состав – будет ли это умеренное обновление, когда 80-летних заменят 60-летние, либо речь пойдет о большем присутствии во власти людей молодых, пусть и необязательно ровесников Ким Чен Ына.
Во время интронизации Ким Чен Ира существовали так называемые «группы трех революций», в которых талантливая молодежь из ровесников молодого Кима проходила партийную обкатку, и выходцы из этого поколения впоследствии становились его опорой. Однако Ким Чен Ира вводили во власть почти 30 лет. У нынешнего руководителя такого времени не было, но можно заметить, что, хотя некоторые западные политологи ожидали, что тридцатилетний руководитель будет скорее церемониальным правителем, исполняющим волю властных стариков, с таковыми Ким разобрался более или менее решительно.
Но это не отменяет вопроса о том, как велико количество молодых партработников, которые являются кадрами, ориентированными лично на молодого Кима. Неясно, объявлялся ли специальный партийный набор.
Что касается изменений в программе, то, понятно, что они назрели. Конечно, нужен документ, который должен зафиксировать текущие представления о месте ТПК и КНДР в изменившемся с 1980 года мире. Но здесь существует две точки зрения, которые стоит назвать смелой и осторожной.
Сторонники смелой интерпретации полагают, что на съезде Ким Чен Ын провозгласит некий принципиально новый курс, который будет в значительной мере отличаться от курса отца и деда. Мера этого отличия обычно определяется фантазиями политолога и его политическим или идеологическим бэкграундом, но обычно приходят к выводу о том, что Ким открыто заговорит о реформах по китайскому или вьетнамскому образцу или разработает конструктивную программу взаимодействия с Южной Кореей.
В основе подобных смелых интерпретаций лежит следующая предпосылка. Ким Чен Ир мог затягивать реформы, понимая, что на его век стабильности хватит, молодой Ким, если он рассчитывает провести ближайшие тридцать лет на посту руководителя КНДР, вынужден что-то менять до того, как ситуацию сменят неподвластные ему обстоятельства. И, поскольку с точки зрения подобных специалистов, «главным приоритетом северокорейской политики является сохранение правящего режима», этот режим может активно меняться, лишь бы удержаться на плаву. Некоторые даже договариваются до того, что Ким объявит о готовности свернуть ядерную программу и ориентируются при этом на историю режима в ЮАР, где режим отказался от дальнейшего развития ядерной сферы, когда стало понятно, что в ближайшем будущем власть белого меньшинства разрушится.
Сторонники осторожной интерпретации обращают внимание на то, что любое первое лицо не обладает полной самодержавностью. Действие любого руководителя страны можно сравнить с ездой по горному склону. Он может выписывать разные кульбиты, но движение вверх по склону или вбок ему недоступно. Северная Корея как довольно жесткая идеократия налагает дополнительные ограничения. Внук Ким Ир Сена и сын Ким Чен Ира (и это очень важная составляющая его легитимности) не может пойти на действия, которые в той или иной мере подрывают или затеняют авторитет великих руководителей. Это означает, что российская или китайская составляющая реформ, в которых предыдущий руководитель страны (Сталин или Мао) обвинялся в ереси, после чего декларировалось возвращение к истокам, ему недоступно. Даже репрессированный Чан Сон Тхэк не тянет на стрелочника номер 1, хотя не исключено, что на него спишут какую-то часть причин текущих проблем, благо, объем его власти в сочетании с коррумпированностью, позволяет это сделать, не сильно притягивая ситуацию за уши.
Затем надо помнить, что Ким Чен Ын очень серьезно относится к своей роли руководителя страны. Этим он совсем не похож на образцового диктатора из комиксов, для которого власть – это не ответственность, а возможность жить в свое удовольствие. Это означает, что если диктатор, ставящий на первое место свое личное благосостояние обычно рассматривает вариант, при котором в критической ситуации у него есть возможность сбежать с награбленным и вести частную жизнь где-нибудь подальше от новой власти, перед Ким Чен Ыном такой альтернативы не стоит. Но это же означает, что он должен хорошо рассчитывать ситуацию, исключив из возможного будущего тот вариант развития событий, при котором проведение реформ вызовет процессы, выходящие из-под его контроля. Молодой Ким достаточно представляет себе внешнеполитический контекст, чтобы учиться и на опыте постсоветского пространства, и на уроках «арабской весны».
Поэтому радикальных действий ожидать не стоит. Возможно, то, что давно существует де-факто, будет легализовано де-юре. Возможно, будут придуманы новые названия, объясняющие существующие тренды. Но вряд ли надо будет ожидать декларированной смены курса.
Несколько более конкретно можно будет говорить после того, как в первые дни января в центральных газетах КНДР будет опубликована новогодняя речь Ким Чен Ына. Это уже стало традицией, и в данном выступлении лидер КНДР как бы очерчивает контуры ведения будущего на ближайший год и ставит некоторые задачи. Сравнивая эту речь с предыдущими, анализируя особенности риторики, языковые маркеры, мы можем сделать прогноз о будущем съезде с большей степенью вероятности.
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 1 по 15 января 2016 г.
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 1 января по 15 января 2016 г. в мире зафиксировано 196 вспышек особо опасных болезней животных.
Очаги африканской чумы свиней (АЧС) отмечены в Украине (3), Польше (2), Литве (6), Эстонии (76) и Латвии (53).
Ветеринарные службы Ирана и Южной Кореи сообщили о вспышках ящура (по 1).
Вспышки высокопатогенного гриппа птиц продолжают регистрировать в Тайване (10), во Франции (6), Нигерии (23), Гонконге (1) и Вьетнаме (4).
Новые очаги блютанга (КЛО) выявлены во Франции (9).
Слабопатогенный грипп птиц зарегистрирован в Великобритании (1), которая ранее была благополучна по данному заболеванию.
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных.
Россия и Гонконг договорились о начале обсуждения вопроса зоны свободной торговли между Гонконгом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Сегодня мы договорились с гонконгской стороной о начале обсуждения вопроса о зоне свободной торговли. Мы оптимистично смотрим на перспективу подписания соглашения в будущем", — сказал Дворкович на площадке Asia Society в Гонконге. Позже он сообщил журналистам, что Гонконг заинтересован в создании ЗСТ.
Ранее в понедельник вице-премьер заявил, что Россия готова к обсуждению этого вопроса.
ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Желание создать ЗСТ с ЕАЭС ранее выразили уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия.
Парламент Македонии большинством голосов принял отставку премьера страны Николы Груевского и решение о самороспуске, которое вступит в силу 24 февраля. О решении было объявлено по итогам парламентского заседания в Скопье вечером в понедельник.
"(Правящая партия) ВМРО-ДПМНЕ и (партия этнических албанцев) ДУИ подали письменное заявление с требованием о самороспуске Собрания,… решение вступит в силу 24 февраля. Досрочные парламентские выборы пройдут через 60 дней – 24 апреля", — сообщает телеканал a1on.mk.
Из 109 присутствовавших на заседании парламента депутатов "за" соответствующее решение проголосовали 72, один — "против", еще шесть воздержались. Тридцать депутатов от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) покинули зал во время голосования.
Ранее лидер СДСМ и главный оппонент бывшего премьера Груевского — Зоран Заев выступил противником апрельского голосования. По его мнению, за оставшееся время невозможно подготовить парламентские выборы в Македонии с точки зрения непредвзятого освещения кампании в СМИ и проверки избирательных списков. Ранее он неоднократно указывал на тысячи фиктивных зарегистрированных избирателей.
В мае 2015 года противоречия между сторонниками Заева и Груевского привели к парламентскому кризису и массовым уличным протестам в македонской столице. Им предшествовал коррупционный скандал, когда оппозиция обнародовала материалы, компрометирующие министров из правящей партии. Стороны весной вступили в переговоры при активном участии еврокомиссара Йоханнеса Хана и послов Великобритании и США в Македонии.
Рабочий визит Аркадия Дворковича в Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики.
Заместитель Председателя Правительства принял участие в Азиатском финансовом форуме – 2016 в Гонконге. «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона остаются наиболее перспективными с точки зрения экономического роста», – заявил вице-премьер в своём выступлении на пленарном заседании форума на тему «Азия: формирование новой парадигмы роста». Аркадий Дворкович отметил, что в последние годы сотрудничество между Россией и Гонконгом в различных сферах стало более интенсивным. Улучшение инвестиционного климата и упрощение условий ведения бизнеса – ключевые приоритеты деятельности российского Правительства. Россия последовательно снимает барьеры для финансового сотрудничества со странами АТР. Аркадий Дворкович напомнил, что в прошлом году завершились переговоры о создании зоны свободной торговли. «Мы недавно заключили первое соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским союзом и Вьетнамом, сейчас ведём переговоры с Израилем. Мы готовы обсуждать этот вопрос с Гонконгом», – сказал Заместитель Председателя Правительства.
В рамках визита Аркадий Дворкович принял участие в церемонии подписания Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы между Правительством Российской Федерации и Правительством САР Гонконг КНР.
Также в рамках визита Заместитель Председателя Правительства посетил Гонконгскую фондовую биржу, где провёл встречу с её исполнительным директором Чарльзом Ли. С российской стороны во встрече приняли участие председатель правления ПАО «Московская биржа» Александр Афанасьев, представители федеральных органов исполнителей власти и бизнеса. Чарльз Ли сообщил, что Гонконгская фондовая биржа сняла ограничения на проведение на этой площадке листинга компаний, инкорпорированных в России, и поприветствовал выход российских компаний на биржу.
Заместитель Председателя Правительства встретился с представителями китайских и гонконгских компаний и членами клуба «Азиатское сообщество». Аркадий Дворкович отметил, что у России большие надежды на расширение сотрудничества со странами АТР. В частности, интерес может представлять взаимодействие с членами ЕАЭС – это наиболее удобный формат, пояснил вице-премьер. Аркадий Дворкович добавил, что если будут совместно развиваться проекты АТР и ЕАЭС, «они будут работать от Атлантического до Тихого океанов». «У нас много различных возможностей, идей. Вам не надо ждать, а надо приходить и реализовывать свои проекты, чтобы не опоздать», – призвал вице-премьер.
Аркадий Дворкович также провёл переговоры с главой администрации Гонконга Леунгом Чун-ингом, министром торговли и экономического развития Грегори Со, главным министром администрации Кэрри Лэм, министром финансов Джоном Цангом и министром по финансовым услугам и казначейству Кей Си Чаном.
В ноябре 2015 г. импорт офисной мебели в Японию снизился в годовом исчислении на 18%, об этом сообщает министерство финансов страны.
По сравнению с октябрем объемы импорта увеличились на 4%. Основными экспортерами этого сегмента продукции остаются Китай и Португалия, совокупно обеспечивающие около 70% зарубежных поставок, далее следуют Тайвань и Польша. Кроме того, импорт офисной мебели из Германии в ноябре 2015 г. более чем в два раза превысил объемы предыдущего месяца.
Импорт кухонной мебели в Японию в ноябре 2015 г. вырос в годовом исчислении на 20%, но снизился на 5,5% по сравнению с октябрьскими значениями. Страны Юго-Восточной Азии обеспечили около 80% зарубежных поставок.
Объем импорта мебели для спальни в Японию в ноябре 2015 г. был на 23% выше, чем годом ранее. Китай доминирует в этом сегменте — его доля составляет 58%, далее следует Вьетнам (27%).
Обезьянье царство в условиях рынка
Автор: Павел КВИТКО.
Сегодня вьетнамский город Нячанг и его окрестности — весьма популярное место отдыха россиян. И это оправданно. В этой части Вьетнама — самый стабильный климат, только два месяца в году бывает дождливая погода. Длинная гладь песчаных пляжей. И масса мест, которые стоит посетить, когда устанешь загорать на берегу моря.
НЕКОТОРЫЕ из них, такие, как Океанографический музей или Кафедральный католический собор, известны ещё со времён французского колониализма. Другие — порождение периода перехода к рыночным отношениям, когда, как известно, всё выставляется на продажу и ценится лишь то, что приносит прибыль. Период этот начался во Вьетнаме в конце 1980-х годов.
К таким своеобразным успешным бизнес-проектам относится Остров обезьян (символа нынешнего года), расположенный в Южно-Китайском море километрах в двадцати от нячангского берега. Ежедневно несколькими рейсами отправляются на остров катера с туристами. Здесь действительно живёт большая колония, порядка полутора тысяч, обезьян — символа нового, 2016 года, которые свободно расхаживают по острову, без опаски подходят к туристам, берут из их рук еду, а иногда и сами залезают в сумки, воруя то, что им приглянется.
Есть на острове и помещение для цирковых представлений, где опять-таки главные актёры — обезьяны, которые показывают акробатические этюды и другие номера, вызывающие улыбки зрителей. Немаловажную роль играет хлыст дрессировщика, заставляющего животных делать то, что им далеко не всегда хочется.
Обезьяны содержат довольно большую армию людей: лодочников, обеспечивающих подвоз туристов, дрессировщиков, владельцев кафе, а их на острове немало, продавцов орехов и чипсов, которые идут на подкормку приматов и стоят здесь в два-три раза дороже, чем на берегу. Тем не менее цены на все товары и услуги невысокие, вьетнамцы традиционно довольствуются небольшой долей прибыли, поэтому и посещение Острова обезьян никогда не бывает для туристов разорительным, а впечатлений хватает надолго.
Что до эксплуатации братьев наших меньших или ближайших сородичей человека в животном мире, то это мы, европейцы, так видим. Вьетнамцы же, как бы они ни относились к эволюционной теории Дарвина, считать себя родственниками обезьян точно не хотят.
Миссия невыполнима
Автор: Александр ДРАБКИН. Политический обозреватель «Правды».
Соединённые Штаты уже более семидесяти лет строят однополярный мир, ими управляемый. Результат не оправдывает ожиданий. Но работа продолжается — за время конструирования глобального доминирования в США выросли поколения, одержимые идеей миссионерской роли своей страны «в этом скверно устроенном мире».
Рузвельт не хотел «служить полицейским на Балканах»
Очевидно, нелепо было бы утверждать, что все американцы — империалисты и потому сражаются во многих уголках земли за глобальное торжество своего гегемонизма. Один из ветеранов президентского журналистского пула, имевший возможность наблюдать разных хозяев Белого дома, рассказывал мне об эпизоде, связанном с Франклином Рузвельтом. В начале 1945 года, обсуждая со своими военно-политическими советниками ситуацию в Южной Европе, он резко бросил: «Я не хочу служить полицейским на Балканах». Тогда некоторые специалисты предлагали использовать американские войска для закрепления позиций США в Греции и Турции. Это позволило бы нейтрализовать коммунистическую Югославию и существенно ослабить позиции СССР в восточном Средиземноморье. Рузвельт не хотел ссориться со Сталиным и решил в балканские дела не вмешиваться. Что и было выполнено.
Однако через полтора года после смерти Рузвельта его преемник Гарри Трумэн обнародовал внешнеполитическую доктрину (своего имени), в соответствии с которой Греция и Турция были превращены в американские военные плацдармы для боевых действий против СССР и его союзников. В Турции разместили ракеты США, нацеленные на южные районы Советского Союза. А в 1999 году вооружённые силы США нанесли мощнейшие авиационно-ракетные удары по Югославии, что привело к полному разрушению этой влиятельнейшей балканской страны. «Американский мир» укрепился в Южной Европе.
По-корейски это будет так…
Доктрина Трумэна не ограничилась балканским регионом. В 1950 году войска США вместе с боевыми частями их союзников, прикрываясь голубым флагом ООН, вломились в Северную Корею. Эта небольшая и очень бедная азиатская страна имела огромное геостратегическое значение для осуществления глобальных гегемонистских планов Вашингтона. Она располагается вблизи границ КНР и СССР, что было очень важно для планирования будущих ударов по мировой коммунистической системе. Об этом нелишне напомнить сейчас, когда мировые СМИ нагнетают истерию по поводу испытания в КНДР водородного оружия.
Советский Союз не использовал право вето при обсуждении корейского вопроса в Совете Безопасности ООН, что легитимизировало американское вторжение на Корейский полуостров 65 лет назад. Некоторые наши друзья в Пхеньяне были шокированы таким решением. Но корейские лидеры прекрасно понимали, что Советский Союз ведёт тяжелейшие политико-дипломатические бои на Западе. Базу антисоветского идеологического фронта составили доктрина Трумэна и фултонская речь Черчилля. Они знаменовали собой переход от антигитлеровского союзничества к «холодной войне» — жалкому суррогату настоящего мира. Это был трудный и опасный период в истории всего человечества.
Основы такого развития событий были очевидны, ещё когда воины антифашистской коалиции плечом к плечу сражались с «коричневой чумой». Уже тогда Черчилль приказал складировать и ремонтировать трофейное оружие вермахта, чтобы в случае войны с СССР раздать его пленным немецким военнослужащим. Заметный эпизод, характеризующий ситуацию, произошёл на одном из греческих островов, где гарнизон вермахта был пленён и разоружён английским десантом. Немцы покорно дожидались своей судьбы за колючей проволокой. Однако, когда на острове появились греческие партизаны-коммунисты и быстро прижали британское воинство к береговой полосе, в Лондоне вспомнили о пленных немцах. Англичане их спешно построили в боевые порядки, вернули оружие и бросили в бой против плохо вооружённых коммунистических партизан. Грекам пришлось отступить. Англичане отпраздновали победу.
Очень напугал Запад парад Победы, который провели в центре Берлина, в Тиргартене, войска антифашистской коалиции. Англичане, французы и американцы вывели на торжественный марш скромные контенгенты недавно вышедших из боёв частей. А Георгий Константинович Жуков приказал двинуть на парад 200 новеньких тяжёлых танков ИС, которые только-только, в обстановке строжайшей секретности, были доставлены в Берлин с Урала. По оценке военных специалистов, эта стальная колонна при поддержке закалённых, обстрелянных частей Красной Армии могла бы дойти до Мадрида за шесть дней. Союзникам было над чем подумать.
Ким Ир Сен о том времени вспоминал так:
— Андрей Александрович Жданов (во время встречи в Москве) спросил меня, в какой помощи нуждается корейский народ в борьбе за государственное строительство после освобождения? Я ответил ему, что Советский Союз вёл войну с Германией в течение четырёх лет, а впереди — большая война с Японией. Где вы найдёте силы, чтобы помочь нам?.. Мы надеемся на политическую поддержку Советского Союза и хотели бы, чтобы Советский Союз впредь активно поддерживал нас на международной арене…
«Жданов остался доволен моим ответом», — добавил корейский лидер.
Суровая поступь народа-воина
Сейчас, когда на Дальнем Востоке того и гляди полыхнёт атомная война, когда американцы перебросили с базы на Гуаме тяжёлую бомбардировочную авиацию, способную нанести ядерный удар по Северной Корее, а корабли ВМС США (в том числе и новейшие подводные лодки) группируются у берегов КНДР, многие аналитики задаются вопросом: как оказалось, что небольшая, находящаяся под международными санкциями страна стала реальной опасностью для сверхмощной Америки? Ответ нашёлся простой: во всём виноваты Россия и Китай. Они вроде бы осуждают испытания водородной бомбы в Корее. А на самом деле снабжают КНДР всем необходимым для формирования сверхмощной армии. По такой схеме Пхеньян находится в вассальной зависимости от Москвы и Пекина. И когда нужно, создаёт опасное глобальное напряжение, пугая американцев и их союзников.
Мне довелось много лет писать о корейских делах. И берусь утверждать, что война, которую народ КНДР ведёт уже семьдесят лет за свою свободу и независимость, — это корейская война, а не действия марионеток. В своих мемуарах Ким Ир Сен, рассуждая о том, что он называл «провалом социализма в Восточной Европе», писал так: «Руководители стран Восточной Европы больше верили Советскому Союзу, чем своим народам. Почти все страны Восточной Европы были освобождены советскими войсками. И, ориентируясь на Советский Союз, они строили социализм по советскому образцу. Низкопоклонство у них укоренилось столь глубоко, что, если советские руководители произносили «А», и они тут же говорили «А». И если в Москве шёл дождь, они у себя ходили под зонтами. Одна из причин провала социализма в Восточной Европе кроется как раз в низкопоклонстве». И делал однозначный вывод: у нас такого не будет.
Ким Ир Сен не путал дружбу с низкопоклонством. Он вспоминал: «В связи с предстоящей операцией против Японии много времени приходилось отводить на определение направлений боевых действий наших отрядов внутри Кореи и на координацию наших оперативных планов со всеобщей подготовкой войны СССР против Японии».
Корейские коммунисты были настроены решительно. «В связи с предстоящим последним, решительным боем мы направили много малых отрядов и боевых групп в пределы Кореи. Всем партизанам, народным вооружённым отрядам и организациям сопротивления нами было дано задание: после полного разгрома противника ликвидировать органы колониального господства, взять под охрану жизнь и имущество народа, создать органы партии и народной власти», — вспоминал Ким Ир Сен. В его душу глубоко запала совместная работа на Дальнем Востоке с маршалами Советского Союза К.А. Мерецковым, А.М. Василевским, Р.Я. Малиновским. Особо он выделял встречу в Москве с Г.К. Жуковым.
Партизанские отряды и боевые группы корейских коммунистов полностью владели информацией о боевых действиях, наносили чувствительные удары по японским империалистам. Партизанский командир Ким Ир Сен за мужество и умелые боевые действия был награждён советским боевым орденом Красного Знамени.
Ким Ир Сен до последних дней своей жизни остался мужественным воином. В день своего восьмидесятилетия он сказал, что ни одна ядерная держава не подвергалась нападению. Это значило, что КНДР бросит все силы, чтобы обезопасить свой народ от происков любого агрессора. И не случайно в день столетия Ким Ир Сена в Пхеньяне приняли решение осуществить космический запуск — Северная Корея ворвалась в закрытый клуб ракетно-ядерных держав. Сейчас к дню рождения Ким Чен Ына осуществлено испытание термоядерного оружия — в КНДР есть что защищать, есть кому защищать и есть чем защищать.
29 июля 1953 года «Правда» напечатала статью выдающегося советского публициста и писателя Ильи Григорьевича Эренбурга. Эти строки, написанные более шестидесяти лет назад, удивительно актуальны и сейчас:
«Сегодня впервые спокойно спали матери Кореи. Сегодня впервые за долгие годы люди в Пекине, в Калькутте и в Лондоне, в Москве и Париже, развернув газеты, не увидели страшных сообщений о кровопролитии в Корее, о сожжённых городах, о горе выжженной земли. Это хороший день для всего человечества и это победа мира…
Я хочу прежде всего преклониться перед мужеством патриотов Кореи, которые с редкой самоотверженностью отстаивали право на свою жизнь, на человеческое достоинство. Позавчера господин Даллес с гордостью, которую вряд ли кто-нибудь сочтёт уместной, пересчитывал, сколько погибло мирных жителей Кореи. Он говорил о том, что потеряла за годы войны Северная Корея. Он не вспомнил, что сберегла эта страна ценой великих жертв: свободу…
Сейчас, припоминая два года трудных переговоров, три года грозных боёв, мы можем с благодарностью вспомнить обо всех усилиях, направленных для окончания кровопролития…
Поединок между миром и войной не кончен. Тёмные силы не разоружены. Они могут ещё попытаться возобновить войну в Корее. Возможно, что где-нибудь в другом месте силы войны попробуют взять реванш за неуспех в Корее. Они приложат все силы, чтобы подогреть «холодную войну», чтобы помешать переговорам, чтобы держать народы в постоянной тревоге. Если им захочется заработать лишний миллиард, они попытаются перегнать кровь Вьетнама в доллары. Если в их природе — жечь, они найдут ещё и дома, и города, которые будут пылать. Силы войны не побрезгуют ничем, только чтобы помешать народам жить в мире, торговать друг с другом, как того требует и солидарность людей, и человеческая совесть…»
А пока у самых границ России барражирует американская военно-воздушная мощь с ядерным оружием на борту, внизу, в глубинах корейских скал, изготовились к ответному удару северокорейские ядерные ракеты — у Пхеньяна есть всё необходимое, чтобы стереть с лица Земли как минимум половину Калифорнии. Сумеет ли при этом Россия остаться в стороне? Сомнительно. Более вероятно, что от драки с гарантированным самоуничтожением не сможет уклониться никто, если Америка не откажется от ориентации на призрачную миссию доминировать в мире.
Рост рынка кофе в Объединенных Арабских Эмиратах в течение следующих четырех лет превысит показатель в 30%.
В течение ближайших четырех лет рынок кофе в ОАЭ может стать свидетелем стремительного роста, превышающего 30% от актуального показателя. Тенденция связана с тем, что страна начинает выступать в качестве ключевого звена в глобальной цепи поставок кофе.
Кроме того, следует обратить внимание на внутренний спрос. Согласно данным онлайн-ресурса Zagat, в ОАЭ зарегистрировано более 4000 чайных и кофеен на сегодняшний день, и 82% населения потребляют кофе каждый день. Euromonitor International утверждает, что в 2014 году внутренний показатель потребления кофе в ОАЭ составил $121 млн.
По оценке экспертов компании Vitaimax Trading LLC, страна находится в центре региона, на долю которого приходится 8% глобального потребления кофе, что оценивается в $6,5 млрд. К 2030 году этот показатель может увеличиться на треть.
Такой прогноз не оказался сюрпризом для старшего вице-президента отдела управления выставками и мероприятиями в Dubai World Trade Centre (DWTC) Трикси ЛохМиранд. Она утверждает, что кофе — это не просто напиток для Ближнего Востока, но неотъемлемая часть культуры, времяпрепровождения и ведения бизнеса.
“Добавьте к этому рост населения региона и ожидаемый бум в гостиничном секторе ОАЭ в преддверии Expo 2020, и перспективы становятся очевидны”, — сказала она.
В DWTC с 21 по 25 февраля этого года пройдет 21-я сессия крупнейшей в мире выставки, посвященной рынку питания и гостеприимства — Gulfood. Трикси рассказала о том, что предстоящее мероприятие прольет свет на некоторые аспекты международной торговли кофе. Из числа ведущих стран-производителей на Gulfood-2016 будут присутствовать делегации из Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Колумбии, Эфиопии, Индии и Мексики. Что до главных импортеров, на выставку прибудут представители кофейного рынка США и Японии. Участие в шоу примут более 200 специалистов из производственных и торговых компаний со всего мира, имеющих прямое отношение к рынку кофе.
Экипаж эсминца «Быстрый» по пути в китайский порт Шанхай провел комплекс корабельных боевых учений в рамках отработки курсовой задачи К-2.
В ходе мероприятий боевой подготовки экипаж эскадренного миноносца ТОФ провел тренировки корабельных боевых расчетов по поиску и уничтожению условной подводной лодки, отражению воздушного налёта условного противника и ракетный удар главным комплексом по морской цели с условными электронными пусками морского оружия.
Кроме этого были проведены учения по борьбе за живучесть корабля.
Подразделения морской пехоты, находящиеся на кораблях и судах отряда в период боевой службы провели тренировки, отработав различные сценарии противодействия террористическим угрозам.
Отряд кораблей ТОФ под командованием контр-адмирала Александра Юлдашева вышел из Владивостока 2 ноября 2015 года и взял курс в порт Вишакхапатнам (Республика Индия), где с 6 по 12 декабря совместно с индийскими ВМС принял участие в военно-морском учении «Индра Нэви-2015», морская часть которого состоялась в Бенгальском заливе.
По пути во Владивосток отряд кораблей ТОФ 9 января посетил порт Дананг и взял курс в порт Шанхай, куда планируют зайти 17 января с неофициальным визитом.
Пресс-служба Восточного военного округа
США отказываются признавать, что они сами создали себе врагов по всему миру, поскольку их богатство зависит от промышленности, работающей на войну и терроризм, уверен обозреватель The Washington Times Брюс Фейн.
"Благосостояние в триллионы долларов, огромная власть и социальный статус скрываются за нашим военно-промышленно-террористическим комплексом. Он процветает на вечной войне и выдуманных страхах опасности и угрозы существованию", — пишет автор.
Фейн приводит в пример слова американского писателя Эптона Синклера о том, что сложно убедить человека в чем-то, если его доход зависит от непонимания этого.
США стремятся к власти ради власти, как и другие империи-предшественники. Начав с войны за независимость, они продолжили войной за союзников в Первой мировой, затем стали сами придумывать себе "союзников", как это было с Вьетнамом, Кувейтом или Сомали. Наконец, Вашингтон пришел к войне ради войны и оказался не в состоянии определить победу над международным терроризмом, считает обозреватель WT.
США не понимают, что сами создают себе врагов своим бесконечным "безвозмездным" вмешательством. По словам Фейна, если бы американцы не разворошили "осиное гнездо", их никто не атаковал бы.
"Соединенные Штаты были бы куда свободнее, богаче и в большей безопасности, если бы мы вывели все наши войска с Ближнего Востока и разместили бы их дома, чтобы защищать наши границы, наши берега и наше небо", — пишет Фейн.
Вскормленное и питаемое комплексом военно-промышленного терроризма государство должно прекратить поставки оружия и любой негуманитарной помощи региону и положить конец своему военному присутствию там, уверен автор.
Украинцы, вьетнамцы и россияне составляют большинство среди иностранных граждан, постоянно проживающих в Чехии, сообщил в субботу пражский сайт Novinky. При этом он ссылается на документ, подготовленный республиканским МВД для обсуждения в предстоящий понедельник на заседании правительства Чехии.
"Число иностранных граждан, постоянно проживающих в Чехии, с каждым годом растет, — говорится в сообщении. – В настоящее время большинство среди 458 тысяч иностранцев составляют граждане Украины – 104,5 тысячи человек, Вьетнама – 56,6 тысячи человек и России — 34,8 тысячи человек".
Границу в 5 тысяч человек превышают еще граждане США – 6,2 тысячи, а также граждане Монголии, Казахстана и Молдавии.
В документе МВД сообщается, что опыт западноевропейских стран показывает, как важно сопровождать пребывание иностранцев в стране необходимыми и своевременными интеграционными мерами. "В ряде государств континента политики, приглашавшие для работы в стране иммигрантов, ошибочно полагали, что они со временем вернутся домой. "Этого не случилось, и уже в 1990-е годы государства Западной Европы столкнулись с серьезными проблемами в отношениях с иностранцами", — говорится в докладе МВД.
В документе отмечается, что в Чехии никаких серьезных проблем во взаимоотношениях между коренным населением и прибывшими иностранными гражданами до сих пор не наблюдалось. Однако в 2015 году в здешнем обществе возникло определенное разделение в отношении к иностранцам, в основном, в связи с постигшим Европу миграционным кризисом, отмечают авторы документа. Усилилась дискуссия о миграционной политике и проблемах совместного проживания с иностранцами.
Согласно анализу МВД, иностранные граждане, постоянно проживающие в Чехии, более всего ценят общественную свободу, меры безопасности и заботу об охране окружающей среды. Гораздо меньшее внимание они уделяют местной культуре, редко ходят в кино и театры, читают книги на чешском языке. "Поэтому можно сделать вывод, что иностранцы предпочитают чешской культуре скорее цивилизационные завоевания здешнего общества", — делают вывод авторы документа МВД.
Александр Куранов.
America’s Military: They Simply Can’t Be Trusted
Gordon Duff
This week President Obama, while riding around in his classic 1963 Chevrolet Corvette with comedian Jerry Seinfeld, set the tone for his last year in office.
“How many world leaders do you think are just completely out of their mind?” Seinfeld asks.
“A pretty sizable percentage,” Obama answered.
Obama’s personal list starts with Netanyahu, Merkel, Cameron and Erdogan, long before he gets into the dozens of tinpot dictators that come to mind along with those who might well say the same thing about Obama himself.
What the world doesn’t see, not unless they read between the lines, is the secret brotherhood between Obama and Putin, who share far more than many guess. The secret phone calls and continual impromptu meetings between the two, orchestrating the Iran and Syria settlements, and much more, so much more, have taken place for a variety of reasons. That both see most world leaders are malignant narcissists, total nutcases is what cemented one of the great secret friendships of all time.
There is another reason, one far more threatening to world events. Obama doesn’t trust the American military. He named Chuck Hagel, now “moved on with life,” as his Secretary of Defense and General Martin Dempsey as his Chair for the JCOS. They were chosen precisely because they share Obama’s view of the military, as does Vice President Biden as well, that America’s military leaders are mental cripples, delusional, paranoid and morally repugnant.
Let’s take a quick look at what America’s military is actually doing or what it may well be doing. We know now that the American invasion of Iraq was based on intelligence so phony that any child could have figured it out. However, those who spoke out at the Pentagon were fired, all of them, and replaced by “true believers,” and by that we mean corrupt, insane and ambitious.
Since 2001, there has been nothing else in the Pentagon but the corrupt, insane and ambitious.
Here are some things we know:
The US used large conventional nuclear weapons during the initial attack on Iraq and has used them more than a dozen times, both illegal neutron weapons and MRR (minimum residual radiation) tactical nuclear weapon in both Iraq and Afghanistan.
The American drone campaigns, then and now, have consistently targeted civilians, weddings, funerals, hospitals, schools, in a terror campaign based on the tactics formulated by Britain’s head of “Bomber Command,” during World War II, Sir Arthur Harris.
The US Navy, 5th Fleet, between 2005 and 2007, was tasked by President Bush (43) with staging false flag attacks to begin a war in Iran and Russia. They were blocked by honest Pentagon and State Department officials, who have since been murdered or who have gone into hiding.
The US military involvement in Europe, particularly under the guidance of NATO Commander Breedlove, whose delusional pronouncements on imaginary Russian invasions have gone beyond the embarrassment stage, is highly suspect for its support of not only neo-fascist movements but terrorist groups as well.
The US bombing campaign and the US military effort to aid Iraq seem to take “two steps backward” for every step forward, perhaps to the point of the US military actually being on the wrong side, aiding ISIS, resupplying ISIS.
Then again, America’s training programs in Jordan and Turkey, both CIA and military, which have trained exclusively ISIS and al Qaeda fighters and kept them resupplied with TOW missiles, could be taken as absolute proof of treason in the Pentagon.
Then again, we hear the rumors, Navy SEALS hunting Russian and Iranian advisors in Syria, US and Israeli officers commanding ISIS units, an assertion that is now being substantiated, along with broad US complicity in the downing of MH17, a Russian airliner over Sinai and a Russian bomber over Syria, or are these rumors?
Let’s take a look at a few anecdotal issues that may help put American military thinking in perspective. I served in the US military in Vietnam, in a Marine special operations unit. There was a general consensus that America was clearly on the wrong side in Vietnam. Stating otherwise would make eyes roll. The South Vietnamese government was brutal, corrupt and illegal based on the Paris peace accords of 1954 and everyone knew it.
Americans who fought the war did so knowing it was wrong and, at least those who were not brain dead, did so in hopes that the Cold War would end and there would be no more useless bloodbaths such as Vietnam, one that killed off a generation of Americans.
That thinking, predicated on the belief that world politics were just that, “politics” and not as President Kennedy had pointed out, prior to being murdered, secret societies and organized crime, proved to be flawed.
The wars continued, each more corrupt, more vacuous than the next until the United States eventually became so discredited that no sane person could see America as anything other than the inheritor of the Soviet mantle in the struggle for not just world domination but enslavement of mankind.
Does this language seem a bit stretched, overstated and, perhaps, harsh? Were you to see, on a daily basis, what I see, page upon page of intelligence reports and government communications, you would know I only write this with the greatest reluctance. There is no joy in it.
I am assured by my COS, Colonel James Hanke, that within the American military community there is an ever-growing resistance movement. I remember meeting a group of flag officers in Garmisch-Partenkirchen, Germany after 9/11. We were at the Marshall Center for a meeting but in order to talk, walked across the street to the Artillery Kaserne, meaning “the grocery store.”
There we talked in front of the meat and cheese counter, facing outwards so we could see who was listening. Other meetings took place at the bowling alley next to the old Patton Hotel, a wonderful place, long since abandoned.
Let’s take the clock back further, back to Reagan’s first year in office. I was at a meeting in Miami between former members of the Garde Nationale, the Nazi death squads of the Somoza regime in Nicaragua and the US Army’s advisory group operating in Honduras.
The US “backed” contras fighting in Nicaragua were actually 100% paid mercenaries, much like ISIS, trained, armed and led by Americans. I sat with maps in front of me showing infiltration routes into Nicaragua while our “Garde” friends passed on lists of those to be killed, all communists they said, “Infrastructure” and “cadres.”
The lists included teachers, nurses and, in more than one instance, personal grudges. The Americans in the room were lapping it up. I remember the Special Forces colonel sitting next to me. I stopped the meeting and took him out of the room. He was buying into all of it, perhaps out of a need to relive the “glories” of Vietnam, or how those imagined “glories” seemed more than a decade later, the real memories of the horrors long suppressed in Pollyannaism.
Someone then said, “If we want to do what is needed, perhaps we can start by killing half the people in the room we just left.” Maybe it was me that said it, maybe not, I just don’t remember anymore.
Today these meetings are going on around the world. American military commanders in Turkey, Ukraine, Romania, Latvia, Poland and a dozen other places as well, all sitting in rooms being told who should live or die based on the opinions of terrorists, petty criminals and rabid monsters.
There is a daily briefing of world news the Pentagon uses called the Early Bird. Quite often the lead articles that are instilled into the collective delusional belief base at that bastion of military thinking come from this publication. On many occasions, not a few but many, articles are selected for Pentagon consumption that were in fact written and published in order to become part of what one might call an “imaginarium.”
You see, when the Pentagon read hoax stories of sarin gas attack by the Damascus government, later proven to have been staged by Turkish intelligence aided by the CIA, gas produced at an American facility in Tbilisi, Georgia, the lie lived and the truth never got through.
The truth was never in the Early Bird.
If you stop someone in the Pentagon and ask them when Russia invaded the Ukraine and how many tank divisions are there, waiting to attack Western Europe, they will have an answer. That answer won’t be; “Are you friggin’ nuts.” They will take out their phones and show you photos of the Russian tanks, photos long proven to have been a decade old, long exposed as a hoax.
Do this, ask someone in the American military how many angels can dance on the head of a pin. Do it, please. Then you will understand how much I have understated here.
Then look at the list of candidates running for President. How lonely will Putin be when there is no one to stand between Russia and the lunatics that run the American military?
Использование иранского порта Чабахар выгодно для афганских предпринимателей
Вице-президент торгово-промышленной палаты Афганистана Хан Джан Алокозай в интервью агентству ИРНА в Кабуле заявил, что вопрос о размещении афганских инвесторов и предпринимателей в порту Чабахар с целью организации импортно-экспортных поставок товаров представляется весьма важным. Использование порта Чабахар позволит сократить маршрут для доставки грузов афганскими предпринимателями примерно на 800 км по сравнению с вариантом использования пакистанского порта Карачи.
По словам Хана Джан Алокозая, Афганистаном с целью использования порта Чабахар открыт специальный банковский счет, а Иран предоставил афганским инвесторам земельный участок площадью около 50 тыс. кв. м, и на данный момент в названном иранском порту уже разместились порядка 60-ти афганских предпринимателей.
Хан Джан Алокозай подчеркнул, что использование порта Чабахар имеет большое значение не только для Ирана и Афганистана, но и для всего региона. Индия, например, торгует со странами Центральной Азии через Пакистан и сталкивается при этом с разными вызовами, поскольку Исламабад создает для Дели определенные проблемы. В этой связи Индия также весьма заинтересована в использовании иранского порта Чабахар.
Вице-президент ТПП Афганистана напомнил, что объем товарооборота между Афганистаном и Ираном в 2010-2011 гг. превышал 2 млрд. долларов, а затем этот показатель сократился. Причем сокращение объема товарооборота наблюдалось не только в торговле с Ираном, но и в торговле с другими странами.
5 причин интереса террористов к Индонезии
Индонезия - один из важнейших игроков не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире.
В нашей стране Индонезия воспринимается как одно из самых экзотических туристических направлений. Однако мало кто знает, что с экономической точки зрения Индонезия играет важную роль как в регионе, так и в мире.
Именно поэтому террористические атаки, которые были совершены в столице Индонезии, могут иметь очень серьезные последствия не только для страны, но и для всего региона.
Напоминаем, что утром 14 января 2016 г. серия взрывов произошла в индонезийской столице Джакарте. По первоначальным данным, озвученным представителями индонезийских властей, жертвами террористической атаки стали как минимум семь человек. Как сообщили некоторые СМИ, среди погибших — сотрудник Организации Объединенных Наций.
Позже представитель полиции известил общественность и журналистов, что из семи погибших жертвами теракта являются лишь трое человек, остальные четверо — это террористы. Среди погибших — граждане Индонезии и Канады. Ранения получили еще 20 человек, среди которых граждане Австрии, Нидерландов, Германии и Алжира.
Несомненно, теракты в столице Индонезии не могут не отразиться на экономической ситуации в стране, и мы решили предположить, какие именно последствия будут иметь террористические атаки, а кроме того, рассмотреть основные факторы, обеспечивающие экономическое развитие страны.
Население
Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира. Население Индонезии составляет, по оценкам 2014 г., 253 609 643 человека. Это четвертая в мире по численности населения страна — она уступает лишь Китаю, Индии и Соединенным Штатам Америки.
Понятно, что страна с огромным населением, подавляющее большинство которого исповедует ислам, обладающая колоссальным экономическим потенциалом и фактически являющаяся региональной державой, не может не привлекать внимание религиозных фундаменталистов.
Средняя плотность населения составляет около 124 человека на 1 кв. км, при этом население распределено крайне неравномерно: 57,5% индонезийцев проживает на острове Ява, который составляет менее 7% территории, в результате чего этот остров является одним из самых густонаселенных мест планеты (более 1 тыс. человек на 1 кв. км).
За весь период независимого развития Индонезии для нее был характерен достаточно высокий прирост населения, несколько снижающийся с 1980-х гг. в результате реализации государственной программы планирования семьи.
Темп прироста населения составляет 1,069% (110-е место в мире) при рождаемости на уровне 18,1 (104-е место в мире) и смертности на уровне 6,1 (155-е место в мире).
По прогнозам профильных экспертов ООН, в ближайшие десятилетия темпы роста населения в Индонезии будут постепенно снижаться и, достигнув своего максимума в 2055 г. (295 млн человек), население Индонезии начнет уменьшаться.
Возрастная структура населения типична для развивающихся стран: главной особенностью является высокая доля молодёжи — средний возраст жителя Индонезии составляет 28 лет.
27,3% индонезийцев моложе 15 лет, 66,5% — в возрасте 15—65 лет и 6,1% — старше 65 лет. Таким образом, в стране большая часть населения – это граждане трудоспособного возраста.
Если говорить об уровне безработицы, то с 2005 г. он постоянно снижается. По количеству трудоспособного населения Индонезия занимает 5-е место в мире.
Нефтегазовая промышленность
Сырая нефть и природный газ являются самыми важными природными ресурсами для экономики Индонезии, и они уже долгое время являются одними из крупнейших экспортируемых товаров.
Основа экономики — добыча и переработка нефти и газа на Суматре, Яве, Калимантане и в западной части Ириан-Джая.
Крупнейшей из национальных компаний является государственная группа Pertamina, контролирующая добычу и переработку нефти. Компании принадлежит шесть нефтеперерабатывающих заводов в городах Балонган (Западная Ява), Чилачап (Центральная Ява), Баликпапан (Восточный Калимантан), Думай (Риау), Плаю (Южная Суматра) и Касим (Западное Папуа).
Запланировано строительство ещё двух современных нефтеперерабатывающих заводов — в Балонгане (совместно с Kuwait Petroleum) и в Тубане, Восточная Ява (совместно с Saudi Aramco). Часть сырой нефти экспортируется для переработки на заводах соседнего Сингапура.
По данным BP, общие разведанные запасы нефти в Индонезии составляют 3700 млн баррелей на конец 2014 г. Добыча нефти – 852 тыс. баррелей в сутки.
Индонезия была членом ОПЕК в 1962—2008 гг. и вышла из нее 1 ноября 2008 г. До этого она была единственным азиатским членом ОПЕК, не относившимся к странам ближневосточного региона, и единственным членом этой организации, импортирующим нефть.
В конце прошлого года Индонезия восстановила свой статус члена ОПЕК, до этого с 2009 г. она считалась наблюдателем.
Если говорить о природном газе, то объем доказанных запасов газа в стране, по данным BP, составляет 101,5 трлн куб. м.
При этом в 2014 г. в стране было добыто 73,5 млрд кубометров газа. Индонезия является экспортером газа – в 2014 г. было экспортировано 9,5 млрд куб. м трубопроводного газа и 21,7 млрд куб. м СПГ.
Основные страны, в которые направляется экспорт энергоносителей из Индонезии, это соседние страны – Япония, Сингапур, Китай, Южная Корея, Индия, Малайзия.
В секторе добычи нефти и газа в стране работают компании Chevron Pacific Indonesia, Total, Santos, Sugih Energy, Energi Mega Persada.
К сожалению, учитывая непростую ситуацию в сфере безопасности в стране, нефтегазовая инфраструктура может стать объектом для новых террористических атак.
А так как на нефтегазовую промышленность приходится значительная доля ВВП, то это может крайне негативно сказаться на экономической ситуации в стране.
Туризм
Индонезия известна своим идиллическим островом Бали, умиротворяющими пейзажами и вулканическими древними храмами.
Согласно оценкам экспертов, около 10 млн иностранных туристов посетили государство в 2015 г.
Правительство Индонезии отменило визовые требования для туристов из 84 стран, и работает над тем, чтобы ввести безвизовый въезд еще ряду стран в стремлении привлечь больше туристов.
Правительство вкладывает много средств в развитие туризма, делая ставку прежде всего на зарубежных посетителей. Вкладываются средства в модернизацию и развитие гостиничного сектора и соответствующей инфраструктуры, а также на популяризацию национальных туристических объектов.
В стране располагаются 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди них – Храм Боробудур, Храм Прамбанан, Национальный парк Комодо и другие.
С 2007 г. в стране отмечается стабильный рост количества зарубежных туристов, прибывающих в страну. Среди зарубежных туристов значительную часть составляют граждане соседних стран – Сингапура, Китая, Японии, Малайзии и Австралии.
Однако Индонезия является также популярным направлением и у туристов европейских стран. Так, в последние годы растет число туристов из Нидерландов и Германии.
Тем не менее, после террористической атаке в Джакарте, столице Индонезии, в туристические агентства стали звонить обеспокоенные туристы. Часть туристом отменяют визит в эту страну, сдают билеты на самолет и отменяют отдых.
Министерство туризма Индонезии подтверждает, что в течение следующих месяцев ожидается, что туристический поток в эту страну сократится в связи с атакой террористов-смертников.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство — исторически основная отрасль местной экономики — давая чуть более 14% национального ВВП, обеспечивает занятость весьма значительной части населения — более 38%. При этом его доля и в структуре ВВП, и с точки зрения занятости постепенно снижается.
Основной сельскохозяйственной отраслью является земледелие. Обрабатываемые земли составляют около 13% территории страны — таким образом, по их площади Индонезия занимает 7-е место в мире.
По производству многих сельскохозяйственных культур страна занимает лидирующие места в мире: рис (3-е место в мире), кокосы (1-е место в мире), кукуруза (4-е место в мире), бананы (6-е место в мире) и многие другие.
Большое значение также играет рыбная промышленность. Индонезия с 2009 г. входит в топ-5 лидирующих стран по улову рыбы в мире. Основные промысловые виды: тунец, макрель, сардина, морской окунь, групер, креветки. При этом по объемам производства с ним практически сравнялось интенсивно развивающееся рыбоводство.
Основные разводимые виды: тилапия, карп, гурами, креветки, широко практикуется разведение жемчуга.
Террористические атаки, которые были совершены в Джакарте 14 января, вряд ли окажут существенное влияние на сельское хозяйство в стране. Однако если ситуация с безопасностью не улучшится, то объектами атак могут стать сельскохозяйственные объекты, так и транспортная инфраструктура, что может негативно сказаться на развитии сельского хозяйства в стране.
Торговые отношения с Россией
Согласно данным, которые предоставил Центр международной торговли Москвы, Индонезия занимает 27-е место в импорте России, а российский экспорт в Индонезию находится на 67-й позиции.
Экспорт
Объем экспорта России в Индонезию не очень высок, за первые 10 месяцев 2015 г. он составил всего $372,6 млн, по данным ФТС. Для сравнения, за аналогичный период 2014 г. объем экспорта был более чем в два раза выше – $796 млн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом объем поставок из России в Индонезию снизился на 53,2%.
Основными товарами экспорта в Индонезию стали следующие:
- минеральные удобрения ($142 млн)
- продукты неорганической химии ($2,9 млн)
- каучук, резина и изделия из них ($2,3 млн)
- органические химические соединения ($1,5 млн)
- пластмассы и изделия из них ($1,1 млн)
Кроме того, значительную долю экспорта занимают полуфабрикаты из железа, продукты целлюлозно-бумажной промышленности, радиоактивные элементы.
Индонезия занимает 6-е место среди стран, в которые Россия экспортирует хлорид калия (после Китая, Бразилии, США, Индии и Малайзии), и 5-е место среди стран, в которые Россия экспортирует эпсилон-капролактам (после Китай, Тайваня, Индии и Малайзии).
Индонезия занимает 2-е место среди стран, в которые Россия поставляет асбест (уступая Индии).
По объему экспорта из России минеральных удобрений Индонезия занимает 4-е место после США, Малайзии и Канады.
При этом Индонезия – ведущий покупатель бумаги и картона из России.
Индонезия занимает 4-е место по поставкам из России семян кориандра и 1-е – по поставкам древесной сульфитной целлюлозы.
Импорт
Если говорить об импорте, то за первые 10 месяцев 2015 г. объем импорта из Индонезии составил $1,256 млрд. Объем импорта также снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.: за первые 10 месяцев 2014 г. он составил $1,353 млрд, таким образом снижение объема импорта составило 7,2%.
Основными продуктами импорта стали:
- пальмовое масло ($411 млн)
- кокосовое масло ($64,5 млн)
- кофе ($52 млн)
- чай ($27,5 млн)
- какао ($70,5 млн)
- жиры и масла растительного и животного происхождения ($28,7 млн)
- рыба и ракообразные ($9,4 млн)
- орехи ($6,7 млн)
- другие пищевые продукты ($2,8 млн)
- продукты переработки овощей, фруктов, орехов ($2 млн)
- соки, экстракты, шеллак ($1 млн)
- готовые продукты из мяса и рыба ($1 млн)
Кроме того, Россия импортирует из Индонезии обувь из резины, электроутюги, буксиры, велосипеды, куртки, оборудование.
Так, по импорту велосипедов в Россию Индонезия занимает 6-е место после Китая, Белоруссии, Дании, Чехии, Италии.
6-е место занимает Индонезия и по поставкам в Россию широковещательных радиоприемников (после Китая, Кореи, Германии, Испании и Таиланда).
5-е место занимает Индонезия по импорту в Россию обуви на резиновой подошве, уступая Китаю, Италии, Вьетнаму и Турции. А так как торговля России с Турцией постепенно сворачивается, у Индонезии появляются существенные шансы нарастить поставки в Россию.
По поставкам пальмового масла в Россию Индонезия занимает лидирующее положение. Следующие за ней Нидерланды поставляют почти в 10 раз меньше по общему объему поставок. Кроме того, Индонезия входит в топ-5 стран, поставляющих в Россию чай, вместе с таким государствами, как Шри-Ланка, Индия, Кения, ОАЭ.
По поставкам кофе в Россию Индонезия занимает 3-е место, уступая Вьетнаму и Бразилии.
3-е место у Индонезии и по поставкам акриловых полимеров, она уступает Германии и Японии.
Кроме того, Индонезия является важным поставщиком курток в Россию, включая лыжные куртки, ветровки, штормовки и т. д. По этой позиции Индонезия занимает 4-е место после Китая, Вьетнама и Бангладеш.
4-е место у Индонезии и по поставкам буксиров в Россию. По объему поставок страна уступает Испании, Канаде и Японии.
А вот по поставкам какао в Россию Индонезия занимает ведущую позицию. Единственным достойным конкурентом Индонезии является соседняя Малайзия, занимающая 2-е место по поставкам какао в Россию.
1-е место занимает Индонезия и по поставкам в Россию каучука. По поставкам растительных жиров и масел Индонезия уступает только Малайзии и занимает 2-е место. 2-е место она занимает и по поставкам в Россию утюгов, уступая только Китаю.
Кроме того, Индонезия – ведущий поставщик в Россию рыболовных судов.
Военно-техническое сотрудничество
Нельзя не упомянуть торговлю военным оборудованием. По некоторым данным, в период с 2010 по 2012 гг. Россия поставила в Индонезию 10 истребителей типа Су, 10 вертолетов Ми-35, 14 вертолетов Ми-17, 17 боевых машин пехоты ТМП-3Ф, 48 бронетранспортеров БТР-80А и 9 тыс. автоматов Калашникова АК-102. Важно отметить, что речь идет не только о покупке, но и об обслуживании, и обучении индонезийских военнослужащих. Точные суммы по подобным контрактам, как правило, не раскрываются.
Кроме того, Россия и Индонезия планируют подписать контракт на поставку в эту азиатскую страну партию танков Т-90 и систем залпового огня "Смерч".

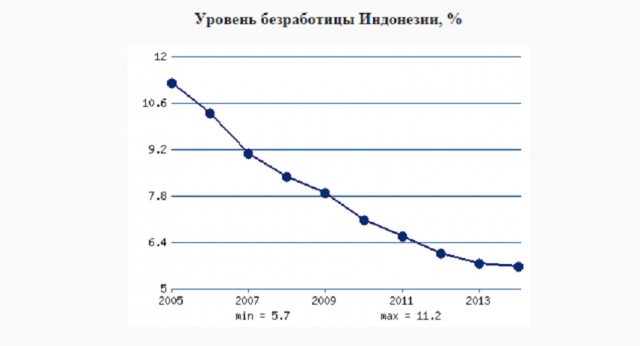
В понедельник Владимир Путин дал интервью немецкому изданию Bild, в котором изложил свои взгляды на ситуацию в мире и на политику США. Во вторник Барак Обама выступил в конгрессе США с традиционным ежегодным (и последним в качестве президента) обращением "О положении страны", в котором, в свою очередь, прошелся по России. Наконец, в среду состоялся телефонный разговор двух президентов, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии и украинский кризис.
Судя по публикациям в СМИ, Обама — и в ходе выступления в конгрессе, и в разговоре с президентом России — сохранял обычную для него безапелляционность. А его обращение к нации — это как раз тот случай, при котором вспоминается известное выражение: "Юпитер сердится, значит, он не прав".
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку
Барак Обама, безусловно, не Юпитер. Однако его традиционные эскапады по поводу возможного, целесообразного, а также необходимого применения Соединенными Штатами военной силы в международных делах вновь повисли в воздухе. За ними нет ни логики, ни желания опереться на нормы международного права, ни, как я полагаю, уверенности в своей правоте.
Осуждая "нерациональное" применение силы (здесь Обама приводит в качестве примера участие США в войнах во Вьетнаме и Ираке), американский президент отстаивает тезис о необходимости её "РАЦИОНАЛЬНОГО" применения, опираясь на один единственный аргумент: "Америка — лидер XXI века". При этом под лидерством Обама понимает, как это видно из текста его выступления в конгрессе, не моральное, интеллектуальное или даже политическое лидерство, но лидерство военное. Лидерство, по его мнению, означает "рациональное применение военной силы и правильное ведение мирового сообщества за собой".
Но что значит "рациональное применение силы"? Это её применение, как в Ливии, как на Донбассе или как в Сирии, где взращенные и поддерживаемые западными спецслужбами исламисты сотнями казнят своих "оппонентов"? И что значит — "правильное ведение за собой"?
"Когда речь идет о какой-либо важной международной проблеме, то люди по всему миру не обращаются к Москве или Пекину. Они зовут нас", — утверждает Барак Обама. Вопрос: с чего он взял, что люди обращаются со своими проблемами к США как к лидеру, а не бандитскому главарю, узурпировавшему право разрешать споры на подконтрольной территории?
Большинство стран мира вынуждены обращаться к США уже потому, что этого гиганта невозможно обойти любому сколько-нибудь значимому государству. Ведь если какое-то государство что-нибудь значит, то к нему непременно будут претензии со стороны США, не терпящих никаких иных значимостей, кроме своих.
Да, США — сверхдержава с самой сильной экономикой, с самой оснащенной армией, с самыми объемными банковскими авуарами. Но причем здесь лидерство, если речь идет попросту о силе? "Мягкая сила", затем "умная сила" — все это именно из американского лексикона. Хотя сегодня впору говорить о "дурной силе". Современные США — это, похоже, тот случай, когда применима пословица "Сила есть, ума не надо".
"Как мы будем лидером в мире без того, чтобы быть его полицейским?" — формулирует Барак Обама один из своих риторических вопросов. И эта фраза выдает Госдеп с головой. Навязчивое лидерство США в мире обусловлено прежде всего тем, что они и есть главный мировой полицейский. Со своими 650 военными базами в 130 странах мира США стали настолько тотальны, что многие государства действительно готовы признать дядюшку Джо своим как бы лидером — другого выбора у них просто нет.
Очные и заочные споры Юпитера с Прометеем
Со своей стороны Владимир Путин никогда не продвигал тезис о претензиях РФ на исключительное или особое участие в мировых делах. Его главные месседжи (многополярный мир, уважение государственных суверенитетов и приоритет международного права) прямо противоположны тем, что продвигает Барак Обама.
Вот и в интервью Bild в ответ на вопрос корреспондента о стремлении Обамы навязать России самоощущение региональной державы президент РФ отметил, что "попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке ? ошибочная позиция".
Впрочем, даже если согласиться с тем, что Россия — региональная (допустим, евразийская) держава, то и в этом случае РФ вряд ли претендует на "исключительность", допустим, в рамках Евразии или какого-либо иного региона. Напротив, российский президент, да и другие уполномоченные выступать от имени РФ должностные лица неизменно подчеркивают равнозначность и равноправность любых государств Евразии и мира независимо от их военной мощи, размеров территории и каких-либо иных показателей.
Интервью в Bild российского президента выдержано в миротворческом и миролюбивом духе. "У нас есть общие угрозы, и мы стремимся к объединению усилий всех государств мира для борьбы с этими угрозами", — утверждает Владимир Путин.
Кстати, если учесть, что США являются сегодня атакующей стороной во всех мировых и региональных конфликтах (в том числе — и на границах с РФ), а Россия, напротив, — сторона обороняющаяся, вынужденная защищать свои интересы в ответ на атаки с Запада, то у России объективно куда больше оснований выдвигать претензии к США, чем у последней к РФ. Но получается наоборот: Владимир Путин жаждет позитивного сотрудничества, а глава США рассуждает о необходимости "рационального" применения военной силы.
Более того, Обама в принципе не следит за своей риторикой и совершенно индифферентно применяет по отношению к действиям своей страны такие понятия, как "захват" и такие словосочетания, как "мы занимаемся оккупацией разваливающихся стран" или "мы помогаем Украине защищать её демократию" — посредством военной помощи.
Адвокат дьявола перед судом истории
Так почему Обама из выступления в выступление отстаивает тезис об американской "исключительности"? Только ли по причине уверенности в том, что Юпитеру позволено всё?
Полагаю, что это происходит как раз-таки от нарастающей слабости США, а также от слабости позиции самого Обамы, который, получив Нобелевскую премию мира, не только не обеспечил мир на планете, но содействовал прямо противоположному — системной трансформации мироустройства под войну всех против всех.
В период от Трумэна до Буша-младшего США решали свои вопросы традиционно и понятно — прямой военной силой. При Обаме в мире произошли или начали происходить фундаментальные деконструкции: легализация международного терроризма и глобальных теневых бизнесов, реконструкция нацизма в Европе и переход Запада от политики двойных стандартов к прямой подмене библейских ценностей какими-то принципиально другими.
Именно при Обаме Ближний Восток погрузился в хаос, именно при нем Запад — впервые после Второй мировой войны — решился на прямой военный вызов России (в Грузии и на Украине), и именно при нем начинается погружение в хаос всей Европы.
Барак Обама без самоиронии утверждает: "Опросы показывают, что наша репутация лучше, чем когда я был избран на эту должность". Но тогда почему половина американцев сегодня недовольна внешней политикой США? Обама уверен, что жизнь в США (за время его правления) стала безопаснее. Но тогда почему Фергюсон становится в США нормой?
Видимо, осознавая свою ответственность (а точнее — плоды безответственной политики Госдепа), Обама пытается выступить адвокатом самого себя, стремясь доказать, что при нем не было крупных ошибок, как это случилось с его предшественниками в том же Ираке и Вьетнаме. Но зато при нем якобы было немало достижений (Иран, Куба), и даже провалы (с Украиной, Сирией и ИГ) он выдал за достижения.
По факту Обама всеми силами ретуширует (для потомков) свое провальное правление и хочет представить дело так, что при нем США стали еще сильнее, еще могущественнее. Но, помилуйте, тот, кто действительно силен, не нуждается в том, чтобы убеждать в этом окружающих с помощью потока слов.
Владимир Лепехин
Вьетнам инициировал специальное защитное расследование в отношении импортируемых полуфабрикатов и отдельных видов готовой продукции из легированной и нелегированной стали
25 декабря 2015 г. Антимонопольной службой Министерства промышленности и торговли Вьетнама инициировано специальное защитное расследование в отношении импортируемых во Вьетнам полуфабрикатов и отдельных видов готовой продукции из легированной и нелегированной стали, лома, арматуры и прутков из железа и нелегированной стали. Товары классифицируются по кодам товарной номенклатуры Вьетнама 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.
Заинтересованным производителям и экспортерам предоставляется возможность в течение 30 дней с даты начала расследования (т.е. до 24 января 2016 г.) представить свои комментарии. Позиции сторон принимаются в письменной форме на электронный адрес Антимонопольной службы Вьетнама: thanhlk@moit.gov.vn и quynhpm@moit.gov.vn, либо по факсу (84 4) 22205003.
Для получения более подробной информации обращаться в Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России: 8(495) 651-77-13.
Экспорт нефти ESPO из нефтеналивного порта Козьмино в 2015 году составил 30,4 млн тонн, что на 5,5 млн тонн больше, чем в 2014-м.
Основными получателями нефти в 2015 году стали: Китай – 14,7 млн тонн (48,3%), Япония – 8,7 млн тонн (28,7%), Ю. Корея – 3,2 млн тонн (10,5%). В направлении США, Сингапура и Новой Зеландии отгружено по 0,7 млн тонн (2,3%), Филиппин – 0,6 млн тонн (1,9%), Таиланда – 0,5 млн тонн (1,6%), Тайваня – 0,3 (1%), Малайзии 0,2 млн тонн (0,8%). Впервые получателем партии нефти ESPO из порта Козьмино стал Вьетнам – 0,1 млн тонн (0,3%).
Всего за шесть лет с момента ввода в эксплуатацию трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий Океан и ООО «Транснефть – Порт Козьмино» (28 декабря 2009 года) через дальневосточный терминал Транснефти экспортировано более 123 млн тонн нефти.
В 2016 году из порта Козьмино в страны Азиатско-Тихоокеанского региона планируется отгрузить порядка 31 млн тонн нефти, что на 0,6 млн тонн превысит показатель 2015 года.
С целью увеличения мощности ООО «Транснефть – Порт Козьмино» совместно с ФГУП «Росморпорт» проводит работы по реконструкции подходной дамбы и дноуглублению акватории причала №2, что позволит принимать у обоих причалов танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн. Увеличение пропускной способности терминала будет также обеспечено благодаря строительству новых резервуаров для хранения нефти в резервуарном парке порта.
Спрос на ИННАвации
Тамара ЦЕРЕТЕЛИ, Кировская область
Киров, бывшая Вятка. Улица Карла Либкнехта — крестного сына Маркса. Дом 129. Здесь находится фабрика «Весна», вот уже 70 с лишним лет выпускающая игрушки. Предприятие настолько преуспевает, что его изделия, по версии «Детского мира», входят в десятку самых популярных новогодних подарков для малышни.
В 1942 году в городе на реке Вятке основали артель по изготовлению игрушек. Казалось бы, не самое подходящее занятие для военных лет. На самом деле ничего удивительного — просто в Киров эвакуировали не только крупные заводы и ленинградскую Военно-морскую медицинскую академию, но и ребятню. Для них оборудовали около 250 детских домов. И открыли фабрику игрушек — война войной, а занимать малышей чем-то надо.
Артель возникла не на пустом месте. Вятская земля всегда славилась ремесленниками. В XIX веке они делали кукол, крошечную мебель и посуду, деревянные сабли и ружья, погремушки, волчки, миниатюрные ветряные мельницы... В начале ХХ столетия наловчились изготовлять кукол «с натуральным голосом» — на европейский манер, а также паровозы, автомобили и швейные машинки — естественно, из дерева. Но самой известной вятской игрушкой была, конечно же, дымковская, которой эти края славятся вот уже двести лет.
Революция на промысле сказалась не лучшим образом. Старый мир рухнул, игрушечный — тоже. Частники отныне не приветствовались, да и прежние поделки носили характер не пролетарский, а очень даже буржуазный. Но талант в карман не спрячешь — на местных рынках продолжали появляться изделия для самых маленьких. В конце концов возникла сначала одна артель надомников, потом вторая. Игрушки стали более «правильными» — тракторы, комбайны, молотилки, прочая сельскохозяйственная техника. А также танки, пушки, тачанки и броневики — правда, без Ленина.
С началом войны промысел ликвидировали. Но уже спустя год было принято решение «считать организационно-оформленной новую артель по выработке детской игрушки». К концу 1942-го на предприятии работал 41 сотрудник, сорок из них — женщины. Они считались надомницами — свободных цехов в городе не было, все заняли эвакуированные заводы. С этого времени и принято отсчитывать историю фабрики, ставшей впоследствии «Весной».
Первые ассортиментные перечни включали 33 наименования. Некоторые из них ласкают слух: кот Пупа, заяц-клоун, гном ватный, яблоко большого и малого размера...
Когда-то продукция фабрики имелась чуть ли не в каждой советской семье. Конкурентов у нее было немного — да и то все родные, отечественные. Нынче куклам — именно на них специализируется «Весна» — приходится соревноваться то с гламурными Барби, то с Дракулаурами — на лицо ужасными и бог знает какими внутри. А также с наборами «Собери монстра» и прочими детскими товарами, «вдохновленными фильмами ужасов и классическими историями о чудовищах».
На этом фоне толстощекие пупсы кировской фабрики выглядят более чем традиционно. Некоторые граждане на интернет-форумах обзывают «весенние» игрушки «совком»— иные куклы и вправду очень похожи на своих советских предшественниц. Хотя именно эти, классические, пользуются наибольшим спросом — то ли человечнее всех остальных, то ли просто вызывают щемящее чувство ностальгии. В музее взрослые посетители впадают в элегический ступор, увидев знакомые экспонаты. Дальше обычно следуют трогательные рассказы: «У меня был такой же пупс, только в синем чепчике!»
«Таких же» кукол «Весна» делает и сегодня. Например, пластмассовую Инну выпускают уже несколько десятилетий. Прически и наряды кировская красотка меняет как перчатки. С новым образом она получает и очередной номер, в результате выходят почти тронные имена: Инна вторая, Инна сорок девятая… Эта барышня — какое бы число ей ни присваивали — одна из самых популярных.
Вообще, на недостаток внимания здешние куклы не жалуются — в девках не засиживаются, то есть на складе не залеживаются. А с наступлением экономического кризиса — тем более. Стоит ли платить баснословные деньги за иноземную красавицу, рассудили родители, если кировская Анастасия или Милана стоит в разы дешевле и по качеству не уступает. К тому же и румяна и бела. Конечно, европейская «подданная» и фраз больше говорит, и вообще напичкана всякой электроникой — тут вятским до них далеко. «Но интерактив кукле не всегда нужен, психологи так говорят», — рассуждают на фабрике. Правда, «Весна» тоже старается идти в ногу с прогрессом — в скором времени собирается выпустить модель, которой можно будет управлять с помощью смартфона. Например, закачать сказку, рассказанную мамой.
Основную конкуренцию здешним игрушкам составляет не «интерактивная» Европа, а дешевая Поднебесная. Если кукла Инна в интернет-магазине стоит в районе тысячи рублей, то китайская модница — всего несколько сотен. Дело в сырье: скажем, «Весна» использует итальянское волокно для волос, глаза закупает в Испании, некоторые виды тканей — в Арабских Эмиратах. Хотя и в Иваново тоже. Фабрика и рада бы пойти исключительно по пути импортозамещения, но не всегда удается. Например, волокно раньше приобретали российское, но покупатели засыпали жалобами — куклы у вас хорошие, только локоны не расчесываются. Пришлось искать другие кудри. А вот звуковые устройства используют китайские — те оказались не только дешевыми, но и качественными.
Царит интернационал и на рынке сбыта. Здешние игрушки уже продаются — или вот-вот появятся — в Армении, Казахстане, Белоруссии, Вьетнаме. Хотят в Кирове замахнуться и на старушку Европу — в конце концов, там полно бывших соотечественников. А в Америке нашу продукцию, считай, уже знают: в 2009 году, во время визита Барака Обамы в Москву, ему подарили «Русскую красавицу» — куклу «Весны» в национальном наряде. Одежда была вышита вручную. Правда, реакция гостя в Кирове неизвестна — изготовить сувенир предложила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, ее представители и увезли презент в столицу...
Российские дети любят «весенние» игрушки. На фабрику то и дело привозят кукол «на лечение». «Весна» своих не бросает — оказывает первую медицинскую помощь. Заменит голову, ногу, руку. Или почистит — хозяева иногда так разукрасят, что и родные сборщики не узнают. Еще несчастных часто стригут. А то и купают, чего не выдерживает ни одно звуковое устройство, и куклы потом не могут вымолвить ни слова...
Если соберетесь на фабрику зимой — например, на экскурсию — запасайтесь коньками. Добираться до «Весны» приходится по льду — улицы Кирова в данный момент представляют собой сплошной каток. Сочувствующее местное население советует скользить в аптеку: за лейкопластырем на тканевой основе. С его помощью кировчане спасаются при гололеде — наклеивают на подошвы и осторожно семенят.
Но шоу того стоит. На неподготовленного зрителя сотворение «людей» производит неизгладимое впечатление. Стройные ряды глазных яблок — прямо перепелиные яйца. Сложенные в ящиках ноги. Прочие фрагменты тел. Крутящиеся в печах головы. Их подогревают, чтобы стали мягче и легче было прошивать на машинках.
На сегодня «Весна» выпускает около 500 видов кукол — всего более миллиона экземпляров в год. И останавливаться на этом не собирается. Кризис кризисом, а детство никто не отменял.
6 трендов туристического рынка: как будут путешествовать россияне в 2016 году?
Эксперты выявили главные тенденции в туристических предпочтениях российских путешественников, проанализировав порядка 90 млн запросов на авиаперелёты из России в период 2014-2016 гг.
Самостоятельные, бюджетные и оригинальные – такими будут поездки россиян в 2016 г., по данным туристического метапоиска Momondo.
Тренд на внутренние путешествия: еще есть, куда расти
Быстрее всего растет спрос на внутренние путешествия. В целом за 2015 год популярность маршрутов по России выросла на 49% (Представлен чистый спрос, за вычетом роста посещаемости туристического метапоиска Momondo - Ред.), а международных рейсов – только на 5%. Например, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. интерес российских туристов к Сочи увеличился на 67%, к Симферополю – на 61%. Согласно предварительным данным по запросам на перелёты из России на 2016 г., эти города занимают четвертое и шестое место в топ-50 востребованных направлений. Укреплению этого тренда способствуют колебания на валютном рынке, более низкие по сопоставлению с зарубежными цены и развитие туристической индустрии в регионах, которое продолжится и в будущем году. В свою очередь Ростуризм предложил стимулировать россиян отдыхать в своей стране с помощью социального налогового вычета, который позволяет вернуть часть суммы за организацию отдыха. В случае принятия эта мера откроет ещё больше возможностей для освоения российских просторов.
В поиске бюджетных альтернатив
Поток туристов из России в подорожавшие города Европы из-за экономической ситуации сокращается. К примеру, востребованность перелётов в Париж в 2015 г. по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 39%, в Барселону – на 30%, в Вену – на 28%, в Рим – на 23%, а в Берлин – на 22%. По мнению специалистов momondo, такой вектор сохранится до тех пор, пока стабильность на валютном рынке не восстановится, и россияне не адаптируются к новому уровню цен. При этом российские туристы не готовы совсем отказываться от прогулок по полюбившимся им атмосферным европейским улочкам. Так что перспективными становятся более бюджетные направления Восточной Европы: интерес к Будапешту увеличился на 17%, к Варшаве – на 14%.
Падение спроса на перелеты в Европу:
Париж - 39 %
Барселона - 30%
Вена - 28%
Рим - 23%
Берлин - 22%
Продолжает расти популярность стран ближнего зарубежья, которые привлекают
наших соотечественников ценами, вкусной кухней и интересными историческими достопримечательностями. Особенно востребованными становятся Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. спрос на поездки в Тбилиси увеличился на 33%, в Кишинёв – на 29%, в Ереван – на 17%, в Баку – на 16%. Данная тенденция, по прогнозам Momondo, только усилится в 2016 году.
Рост спроса на перелеты в страны ближнего зарубежья:
Тбилиси - 33%
Кишинев - 29%
Ереван - 17%
Баку - 16%
Стремление россиян провести отпуск на побережье не ослабевает. Причем поскольку экономичный отдых в Турции и Египте пока под большим вопросом, укрепляют свои позиции другие пляжные курорты. По прогнозу Momondo, особенно в ближайший год будут востребованы бюджетная Болгария, которая собирается снизить визовый сбор для россиян, и безвизовые Израиль, Черногория и Кипр. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. спрос на путешествия в Бургас вырос на 40%, в Тиват – на 34%, в Ларнаку – на 28% и в Тель-Авив – на 11%. Также в прошлом году увеличилась популярность Греции: интерес к Салоникам поднялся на 14%.
Подтверждает стойкую любовь наших соотечественников к морю и востребованность российских курортных направлений. К примеру, Анапа прибавила число поклонников на 46%, а Геленджик – на 44%.
Выборы «нового Таиланда»
Пляжный отдых привлекает российских туристов не только летом, но и зимой, поэтому им давно интересны экзотические азиатские направления. Примечательно, что неизменно популярный у россиян Таиланд постепенно теряет свои позиции и отходит на второй план. Так, в 2015 г. спрос на авиарейсы в Пхукет снизился на 17%, в Бангкок – на 30%, а в Патайю – на 41%. Зато перелёты в ланкийский Коломбо и вьетнамский Нячанг стали востребованнее на 10% и 22% соответственно.
Многие туристы отправятся в самостоятельное плавание
Ещё один важный тренд, который перейдёт из 2015 г. в 2016 г., – увеличение среди жителей России количества путешественников, которые исследуют мир без помощи туристических фирм. По сравнению с 2014 г. в 2015 г. число россиян, путешествующих самостоятельно, выросло на 20%. В частности, это связано с тем, что многие туристические агентства вынуждены были покинуть рынок, или их деятельность была скомпрометирована. Плюс отдельное бронирование отелей и авиабилетов зачастую обходится дешевле турпакета, что в сложившихся реалиях особенно важно многим туристам. Кроме того, такой вариант отдыха позволяет самим составлять увлекательный и нередко более обширный маршрут и бывать в красивых и мало исхоженных местах.
«Представленные тренды, по всей вероятности, сохранятся и в 2016 г. Также стоит отметить, что, по данным ежегодного исследования Momondo (Исследование проведено туристическим метапоиском Momondo на основании 12,6 млрд пользовательских запросов по всему миру - Ред.), по ряду международных направлений значительно просела глубина бронирования – во многом в связи с валютными колебаниями. При этом на внутренних маршрутах, которые менее зависимы от конъюнктуры финансового рынка, сроки бронирования остались на уровне 2014 г. Практичным путешественникам можно посоветовать приобретать билеты по России в среднем за 55 дней до даты отправления – так можно сэкономить до 12% средств. А минимальная цена на зарубежных рейсах из российских аэропортов фиксируется в среднем за 45 суток, что позволяет снизить затраты примерно на 19%», – комментирует Ирина Рябовол, представитель туристического метапоиска Momondo в России.
|
Топ-15 зарубежных направлений, которые, по прогнозам momondo, будут популярны среди россиян в 2016 году |
||
|
Направление |
Рост спроса в 2015 г. по сравнению с 2014 г. |
Самое бюджетное время года для авиаперелёта из Москвы, по данным «Обзора цен»momondo |
|
Бургас, Болгария |
40% |
Январь (18.01-24.01) |
|
Тиват, Черногория |
34% |
Февраль (08.02-14.02) |
|
Тбилиси, Грузия |
33% |
Март (14.03-20.03) |
|
Кишинёв, Молдавия |
29% |
Ноябрь (07.11-13.11) |
|
Ларнака, Кипр |
28% |
Январь (25.01-31.01) |
|
Нячанг, Вьетнам |
22% |
Сентябрь (26.09-02.10) |
|
Ереван, Армения |
17% |
Октябрь (17.10-23.10) |
|
Будапешт, Венгрия |
17% |
Октябрь (17.10-23.10) |
|
Баку, Азербайджан |
16% |
Июль (18.07-24.07) |
|
Салоники, Греция |
14% |
Декабрь (05.12-11.12) |
|
Варшава, Польша |
14% |
Апрель (11.04-17.04) |
|
Тель-Авив, Израиль |
11% |
Январь (25.01-31.01) |
|
Коломбо, Шри-Ланка |
10% |
Май (23.05-29.05) |
|
Неаполь, Италия |
10% |
Февраль (08.02-14.02) |
|
Нью-Дели, Индия |
7% |
Май (16.05-22.05) |
При составлении рейтинга были проанализированы порядка 90 млн поисковых запросов на перелеты из России в 2014-2016 гг., сделанных в период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2015 г., представлен чистый спрос, за вычетом роста посещаемости туристического метапоиска.
О некоторых итогах работы ФГБУ «Брянская МВЛ» за 2015 год.
ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» в 2015 году проводило работу по всем направлениям работы Россельхознадзора, в том числе ветеринарной диагностике, исследованию продукции, почвы, по карантину растений, определению качества семян, зерна, продуктов его переработки.
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности выполнены в полном объеме.
За прошедший год в Учреждение поступило более 150 тысяч различных материалов, по которым проведено более 440 тысяч исследований различных видов. Учреждением выявлено 20,8 тыс. положительных проб, получено порядка 35 тысяч положительных результатов.
Более половины всех проводимых Учреждением исследований пришлось на ветеринарную диагностику, около 20 % — на карантин растений, еще четверть — на исследование качества и безопасности продукции животного и растительного происхождения, кормов. Доля исследований по другим видам деятельности (экспертиза зерна и продуктов его переработки, экспертиза семян, исследование почвы) от общего числа составила около 4 %.
За 2015 год общий процент выявляемости (отношение количества положительных результатов от общего числа исследований) составил 8%, что на 1% больше, чем в 2014 году.
Высокий профессиональный уровень коллектива референтного центра Россельхознадзора позволяет эффективно решать поставленные задачи. Доказательством тому служит успешное участие в 2015 году в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ), организованных как национальными, так и международными координаторами. Исследования проводились по определению химических, физико-химических, молекулярно-биологических, радиологических показателей качества и безопасности пищевой продукции, кормов, почвы, идентификации карантинных и не карантинных объектов, посевных качеств семян, по диагностике заболеваний животных.
За 2015 год ФГБУ «Брянская МВЛ» приняло участие в 306 раундах по 565 исследованиям. Из 283 обработанных результатов 275 приемлемые (удовлетворительные), 1 — сомнительный.
Успешное участие в МСИ Подтверждает достоверность испытаний, проводимых в ФГБУ «Брянская МВЛ».
Для осуществления деятельности учреждение имеет необходимые лицензии, сертификаты и аккредитацию. В I квартале 2015 года Испытательный центр, Орган по сертификации продукции и услуг ФГБУ «Брянская МВЛ» прошли процедуры аккредитации на новый срок, подтверждения компетентности с расширением области аккредитации в Федеральной службе по аккредитации. В течение года было подтверждено и продлено действие лицензии на выполнение работ с микроорганизмами 2-4 групп патогенности, гельминтами 3-4 групп патогенности и лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
В январе 2015 года ФГБУ «Брянская МВЛ» получило сертификат аккредитации Немецкого органа по аккредитации DAkkS на работу в гибкой область аккредитации (flexibility of scope of accreditation). А в декабре 2015 года, при очередной инспекционной проверке со стороны DAkkS, учреждение подтвердило свою компетентность в соответствии с требованиями международного стандарта ICO/IEC 17025:2005 в заявляемой области аккредитации и работы в рамках гибкой области.
Гибкая область аккредитации — это наивысшая степень доверия к ФГБУ «Брянская МВЛ» со стороны DAkkS. Она дает право учреждению без отправления уведомления и получения предварительного согласия DAkkS проводить свободный выбор стандартных и эквивалентных методов испытаний, выполнять работы по модификации, разработке и доработке методов испытаний, тем самым расширять свою область аккредитации.
Сейчас идет работа по очередному подтверждению компетентности и расширению областей аккредитации Испытательного центра и Органа по сертификации продукции и услуг ФГБУ «Брянская МВЛ» в Федеральной службе по аккредитации.
В течение всего года в рамках инспектирования предприятий Брянской области, намеренных экспортировать животноводческую продукцию, а также с целью ознакомления с организацией работы по контролю качества и безопасности продукции, ФГБУ «Брянская МВЛ» неоднократно посещали делегации из Республики Беларусь, Азербайджана, Ирана, Киргизии, Армении, Вьетнама, Китайской Народной Республики.
Сотрудники ФГБУ «Брянская МВЛ» систематически повышают и поддерживают свой профессиональный уровень, обучаясь на различных курсах, посещая семинары, научно-практические конференции. За 2015 год 64 сотрудника учреждения повышали свою квалификацию, из которых 52 сотрудника обучались в РФ (ФГБУ ЦНМВЛ г. Москва, ФГБУ ВНИИКР г. Москва, Европейский Учебно - Консультационный Центр г. Санкт-Петербург и другие.). 12 сотрудников стажировалиь за пределами России, в том числе в Республике Беларусь, в Литве, в Чешской республике.
Также за прошедший год Учреждением приобретен ряд нового современного лабораторного оборудования для проведения биохимических, микробиологических и патоморфологических исследований.

Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Обсуждались результаты работы Агентства в 2015 году и задачи на текущий год, в частности реализация «Национальной технологической инициативы», развитие системы подготовки кадров на основе международных стандартов и пути улучшения делового климата.
* * *
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за работу в прошедшем году. Вы предложили ряд интересных идей, системные проекты, смогли объединить вокруг них деловые круги, экспертов, представителей гражданского общества, да и с органами власти поработали достаточно эффективно. Налажено взаимодействие и с новыми институтами, такими как Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, корпорация развития малого и среднего бизнеса. Должен отметить, что такое широкое сотрудничество помогает добиваться практических результатов в интересах всей экономики страны.
В прошедшем году при вашем активном участии в целом выполнены «дорожные карты» «Национальной предпринимательской инициативы», серьёзно изменились законодательная и нормативная базы. Объективным механизмом оценки правоприменения на местах, в субъектах Российской Федерации, по поддержке бизнеса стал Национальный рейтинг инвестиционного климата.
Важно, что вы организовали контроль со стороны предпринимателей за качеством исполнения принимаемых нормативных актов, прежде всего на уровне регионов и муниципалитетов. Убеждён, результаты таких проверок должны быть открытыми для всего общества, для граждан, и, безусловно, это будет помогать улучшать деловой климат и в дальнейшем и – что важно – станет действенным антикоррупционным механизмом.
Отмечу весомый вклад Агентства в развитие системы подготовки кадров на основе международных стандартов. Важным событием считаю завоевание права проведения в 2019 году в Казани мирового первенства, мирового чемпионата по рабочим профессиям, которое, как уже говорил, должно послужить хорошим стимулом для развития всей системы отечественного профессионального образования, повышения престижа рабочих профессий.
Рассчитываю, что и в наступающем году – уже, так скажем, наступившем году – Агентство будет активно участвовать в реализации наших общих стратегических задач, обозначенных в Послании Федеральному собранию.
На что хотел бы обратить внимание, уважаемые коллеги.
Первое: важнейшее условие динамичного развития страны – это, конечно, расширение свободы ведения бизнеса, свободы предпринимательства. Хочу ещё раз повторить: многие барьеры в федеральном законодательстве сняты. И сейчас принципиально важно обеспечить грамотное применение принятых уже решений, норм, и прежде всего, конечно, на местах, распространить на всю страну лучшие практики [работы] с предпринимателями.
Задача Агентства – содействовать формированию в регионах по–настоящему эффективных, современных, мыслящих управленческих команд, которые понимают запросы бизнеса, видят в предпринимателях ключевых партнёров в развитии экономики страны и в развитии экономики в субъектах Российской Федерации.
Просил бы Агентство создать, как мы уже об этом говорили и сейчас только с Андреем Рэмовичем [Белоусовым] обсуждали это, развивать центр обмена лучшими практиками [госуправления и формирования инвестиционного климата]. Я знаю, что вы договорились сделать это на базе Академии госслужбы, в виде постоянно действующего семинара, можно сказать. Надо попробовать, и нужно, конечно, запустить этот механизм, нужно, чтобы он заработал по–настоящему.
Второе. Вы начали серьёзный, значимый проект – «Национальную технологическую инициативу». Совместно с экспертным, научным сообществом, с бизнесом сформулированы конкретные шаги по развитию ряда перспективных направлений. И сейчас важно строго выдержать сроки, консолидировать ресурсы, в том числе и институтов развития.
Далее. Вчера на совещании с членами Правительства обстоятельно говорили и о разработке современных профессиональных стандартов, внедрении на их основе новых образовательных программ. И здесь нужно ориентироваться на самые передовые международные требования.
В этой связи нужно и дальше повышать роль чемпионатов по рабочим и инженерным профессиям, проведения таких конкурсов как ключевых инструментов оценки качества отечественной системы подготовки кадров.
В Послании уже говорилось о необходимости сформировать национальную систему таких чемпионатов, как «Молодые профессионалы», которая бы включала и соревнования для ребят более младшего возраста – от 10 до 17 лет. Хотелось бы сегодня услышать ваше мнение на этот счёт, какие есть здесь идеи, предложения, как идёт работа по развитию новой модели дополнительного образования для школьников.
Давайте поговорим обо всём этом подробнее. Слово Андрею Сергеевичу Никитину. Пожалуйста.
А.Никитин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены наблюдательного совета! Добрый день!
Хотелось бы начать с результатов, с проектов. Порядка 300 проектов за всё время работы находится в АСИ, по 200 из них уже есть конкретные, абсолютно измеримые реальные результаты. Хочу привести только три примера.
Первый в России частный судостроительный завод в Ленинградской области. Люди к нам обратились, там никогда не было такого опыта, не было законодательства. Завод на сегодня построен, десять судов он выпускает, размером до 100 метров, в год. Портфель заказов до 2018 года уже сформирован.
Проект немножко из другой области – это проект «Универсариум». Он вообще родился на форсайт-флоте АСИ в 2012 году. Там собрались энтузиасты и договорились сделать российский аналог Coursera – российскую систему электронного образования. Сегодня это работающая компания, 25 ведущих вузов с ней сотрудничают, 600 тысяч сертификатов выдано на прохождение обучения. То есть полностью живая, работающая, мощная система.
И очень интересные социальные проекты, которые я бы хотел привести в пример. Это проект ресоциализации детей, вступивших в конфликт с законом. Оказалось, что дети, которые находятся под следствием, дискриминированы в части права на получение образования. К нам обратился один благотворительный фонд, руководство ФСИН нас полностью поддержало. Сегодня уже утверждён порядок получения такими детьми высшего или дистанционного образования, и готовятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. То есть мы этот вопрос снимем.
Здесь хотел бы отметить роль нашего нового директора «Социальных проектов» Светланы Витальевны Чупшевой. Она не так давно Вами назначена, но сумела, с одной стороны, темп сохранить, с другой стороны, быстро выйти на конкретные, уже понятные результаты.
По «Национальной предпринимательской инициативе» Ваше поручение выполнено. Все те документы, которые должны быть приняты во исполнение «дорожных карт», на 95 процентов приняты, по большинству из них уже началась реализация. Это видят и российские предприниматели, и международные эксперты, в том числе эксперты Всемирного банка.
Но на самом деле самое главное впереди. Главное сейчас – это оценка правоприменения, корректировка того, что может происходить, того, как это должно работать. Здесь Артём Аветисян этим занимается, «Клуб лидеров», деловые объединения. Но также мы с предпринимательскими объединениями увидели, что есть какие–то вещи, которые мы не закрыли на первом этапе.
Это, например, подключение к газовым сетям, подключение к коммунальным сетям – бизнес об этом тоже говорит. И на совещании у Дмитрия Анатольевича Медведева в конце года договорились, что мы тоже эти вещи будем делать и тоже по ним уберём все административные барьеры.
Национальный рейтинг в этом году будет уже третий. В том году мы увидели, как по всей стране – где–то больше, где–то меньше – сократились административные барьеры: получение разрешения на строительство, подключение к сетям. Мы рассчитываем, что это будет и в этом году, и мы рассчитываем, что это будет сделано гораздо быстрее. Для чего?
Мы в этом году две больших новации реализуем. Первая – то, о чём Вы говорили, – это центр обмена лучшими практиками, центр обучения. В конце года он начал работать, здесь мы с Академией народного хозяйства, с Сергеем Ильичём Воробьёвым этой темой занимаемся. Тысяча человек прошла через него, примерно по десять от каждого региона: вице-губернаторы, министры, мэры крупных городов, и они смогли ознакомиться с лучшими практиками наших лидеров в области инвестклимата. Выступали министры из Татарстана, других регионов, где это действительно умеют делать хорошо.
Но кроме этого мы в этом году запускаем электронную систему онлайн-образования и контроля над изменениями инвестклимата. Что это даст? Все «дорожные карты» регионов, по которым они собираются сокращать свои административные барьеры, будут загружены в эту электронную систему, и можно будет не раз в год, а ежедневно видеть, как какой регион снимает свои административные барьеры. Можно будет понять, где кому что–то мешает, они смогут через эту систему обратиться к другому региону, посмотреть лучшие практики. То есть мы рассчитываем, что всё это очень ускорит наше движение, этот процесс.
Кроме того, эту систему можно будет использовать и в других направлениях. Например, та система «Молодые профессионалы», система обучения, о которой Вы говорите, здесь важно, чтобы колледжи у нас менялись. Сейчас Союз рабочих профессий разрабатывает модельный стандарт современного колледжа.
Мы его также можем загрузить в эту систему, подключить всех 85 региональных министров труда, они сделают свои планы, и мы в течение года будем видеть в каждом регионе каждый колледж, где он сейчас, куда он идёт, когда он будет готов готовить специалистов по международным стандартам. То есть такая система будет, довольно важная и интересная.
Кроме этого мы усиливаем свою систему общественных представителей в регионах. Помимо представителей в округах мы хотим, чтобы в каждом регионе у нас было минимум три человека: кто–то из лидеров бизнеса будет нашим общественным представителем по инвестклимату, кто–то из лидеров образования и науки – нашим представителем по этой теме, кто–то из социальных лидеров, соответственно, по социальной. Прошу такой подход поддержать.
Но также мы видим, что в регионах есть лучшие практики, не только связанные с инвестклиматом. Например, в Кировской области придумали систему страхования от сердечно-сосудистых заболеваний. Человек платит небольшие деньги, но если он заболевает, то он уже все лекарства, всё лечение получает бесплатно.
Они несколько лет её применяют, получили бюджетный эффект и существенное снижение инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Я абсолютно уверен, что подобного рода практики есть в каждом регионе: два, три, пять хороших управленческих решений, которые можно было бы масштабировать на всю страну. Мы готовы их собрать, готовы продумать систему этого масштабирования и просим поручить нам такую работу. На следующем набсовете мы доложим, как это можно делать.
И, наверное, последнее, о чём хотел сказать, – это «Национальная технологическая инициатива». Действительно, мы неожиданно получили результаты по тем «дорожным картам», которые уже приняты Правительством в прошлом году. Важно здесь нам не потонуть в бюрократии и бумагах. Это достаточно серьёзный и сложный проект. Дмитрий Песков о нём тоже подробно расскажет.
Спасибо за внимание. Доклад окончен.
В.Путин: Спасибо.
Артём Давидович, пожалуйста.
А.Аветисян: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
В этом году АСИ отметит своё пятилетие. За это время направление «Новый бизнес» оказало поддержку более ста компаниям.
Когда мы начинали свою работу, некоторые эксперты и журналисты с иронией задавали вопрос: как можно поддерживать проекты, не имея каких–либо фондов, финансовых инструментов? Говорю с полной уверенностью: можно. Более того, снятие административных барьеров позволило некоторым компаниям не только запустить производство и расширить его, но со временем выйти на зарубежные рынки.
Владимир Владимирович, если помните 2012 год, Вы были в Красноярске. Мы тогда проводили открытый экспертный совет. Тогда один из проектов, который мы отобрали, это компания «Интра», город Санкт-Петербург. Эти ребята придумали уникальную технологию инновационного ремонта трубопроводов. Причём они их ремонтируют без остановки производства.
Так вот, мы их отобрали. У них были определённые барьеры, связанные с Ростехнадзором. Мы эту работу наладили. Что дальше произошло? За это время они увеличили выручку в шесть раз, и эти деньги, всю прибыль, они вкладывали в производство. Построили новый завод и уже сейчас экспортируют свою продукцию, которая помогает справляться с этим ремонтом, в Казахстан. В этом году выходят на рынок Узбекистана и Азербайджана и в ближайшее время начинают сотрудничество со странами БРИКС. Это наглядный пример, что у каждого предприятия есть шанс не только преуспеть на нашем рынке, но и выйти на международные рынки.
Владимир Владимирович, Вы много говорили о том, как важно сейчас наращивать для средних несырьевых компаний экспорт. Вот такой механизм поддержки средних несырьевых компаний мы разработали и уже внедрили и Ваше поручение выполнили в этой части. Мы совместно с ВЭБом, РЭЦом [Российский экспортный центр], РФПИ запустили механизм «инвестиционного лифта». Сейчас он пока функционирует как четырёхстороннее соглашение – это тестовый режим. Но, несмотря на то что это «пилот», две из пяти отобранных компаний уже пробили брешь на зарубежных рынках: на рынке Африки и Ирана. В Гамбию и Сенегал уже с середины этого года будут поставляться российские автобусы и медицинские лаборатории.
Более того, удалось подписать соглашение в декабре, и компания, которая называется «Бакулин Моторс Групп» (во Владимире в середине года открывается завод), выходит на рынок Ирана. Там сейчас идёт масштабное обновление общественного транспорта. Им нужно 17 тысяч газомоторных автобусов. Они в эту программу уже заходят.
Ещё один пример – это компания из Татарстана «Интерскол». Она тоже к нам обратилась в 2012 году. Они производят электроинструменты. Компания в несколько раз увеличила свою выручку, сейчас конкурирует с такими гигантами, как Makita и Bosch, и, собственно, выходит на рынок Объединённых Арабских Эмиратов (тоже в декабре подписано соглашение). В любом случае механизм мы сейчас тестируем, ближе к концу года будет понятно, как он работает и нужно ли его оставлять в таком режиме – четырёхстороннего соглашения – или каким–то другим образом его структурировать.
Безусловно, мы сейчас акцентируемся на поддержке компаний, которые выходят на экспорт, и не забываем о компаниях, которые работают здесь. Как правило, это небольшие компании. Например, «ОФК-КАРДИО» – компания, которая разработала тесты для определения ранней диагностики инфаркта миокарда. В декабре удалось запустить завод полного цикла по производству таких тестов. Эти тесты уже сейчас продаются и на станциях скорой помощи, и в обычных аптеках.
И в завершение доклада хочу сказать об одном проекте, над которым мы ещё продолжаем работать и не завершили. Это компания из Крыма, которая занимается производством молока. Мы им сейчас помогаем расширить производство и увеличить ассортимент продукции. Она находится в Красногвардейском районе полуострова. Мы считаем, что это важно, потому что сейчас потребности в молоке не покрываются производителями где–то на 50 процентов.
Теперь перейду к «Национальной предпринимательской инициативе», точнее, к её мониторингу. Мы с коллегами из «Клуба лидеров», из «ОПОРЫ России», из «Деловой России», РСПП и ТПП проводим регулярно контрольные закупки. Они позволяют определить, насколько реально меняются условия бизнеса в стране. Могу сказать, что результаты есть. К примеру, недавно отменили круглую печать. Теперь не нужно пользоваться круглой печатью, и предприниматели сказали спасибо.
Но спустя время они начали говорить другие выражения, я здесь по понятным причинам цитировать их не буду. Что же произошло? Дело в том, что Роструд выпустил письмо, копия у меня на руках, что теперь работодатели обязательно должны заверять печатью трудовые книжки. А кто этого делать не будет, того накажут, штраф – 50 тысяч рублей. Мы, кстати, надеемся, что это будет в ближайшее время исправлено. Контрольные закупки позволяют такие вещи выявлять и быстро исправлять.
Последние контрольные закупки, та тема, которая крайне важная и крайне актуальная, и о ней говорят предприниматели, мы даже с ВЦИОМ провели исследование, – это доступность кредитов. Мы провели исследование, как я уже говорил, 87 процентов предпринимателей назвали эту проблему ключевой. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что ЦБ в последнее время снижает ставки. Но фактически малому и среднему предпринимателю взять кредит меньше чем под 19 процентов достаточно сложно. Мы этот вопрос обсуждали в созданной недавно корпорации по развитию малого и среднего бизнеса, у нас есть определённые идеи, как оптимизировать эту работу, корпорация передаёт в «МСП Банк».
Собственно, если, Владимир Владимирович, Вы не возражаете, мы тогда подготовим конкретные предложения и представим.
Спасибо за внимание.
В.Путин: Спасибо.
Дмитрий Николаевич, пожалуйста.
Д.Песков: Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы в прошлом году концентрировались на двух задачах, которые должны в среднесрочной перспективе дать нашей стране инструменты устойчивого долгосрочного роста.
Первое – это рост производительности труда через подготовку кадров, и второе – это подготовка к опережающему росту на принципиально новых рынках. То есть те проекты, которые у нас брендировались как WorldSkills и «Национальная технологическая инициатива».
Обе задачи от нас потребовали использования быстрых, дешёвых, эффективных методик прогнозирования. Мы вырастили внутри Агентства собственный метод, он за последние два года начал широко использоваться не только у нас в стране, но и в целом ряде других стран. С нами работает Международная организация труда. По нашей методике сегодня реформируется система подготовки кадров во Вьетнаме, в Армении, в Тунисе, в Зимбабве, в отдельных проектах в Люксембурге. Даже инженеры Apple, которые придумывают новые поколения этих устройств, используют методику, разработанную в Агентстве.
Мы начали активно внедрять это в рамках БРИКС. Фактически с этим методом мы готовы браться за любого рода стратегические задачи и прогнозирование, кроме цены на нефть, это методу неподвластно, с этим мы не справимся.
По WorldSkills. Александр Николаевич вчера рассказывал Вам о промежуточных результатах, не буду здесь повторяться. Чемпионаты быстро развиваются: в прошлом году это 30 региональных чемпионатов, 4 тысячи участников, 4200 экспертов. Фактически это мастера производственного обучения и преподаватели вузов, колледжей и крупных компаний, центров их подготовки. Через систему чемпионатов мы меняем принципиально подходы к подготовке кадров в этих компаниях. Самый лучший пример, где мы собрали всё это вместе, это в Екатеринбурге – чемпионат хай-тек, где более ста промышленных компаний, 30 холдингов со всей страны соревновались.
Хотел бы показать, у Вас есть рядом такая табличка. Если помните, год назад была табличка, где были регионы, а у Вас там на первой странице – это крупнейшие российские промышленные холдинги и уровень подготовки в соотношении с мировым уровнем по ключевым компетенциям хай-тека. То есть красное – плохо, жёлтое – поприличнее, зелёное – очень хорошо.
Зелёного нет, но самое жёлтое – это победитель чемпионата, это команда «Росатома», то есть Сергей Владиленович [Кириенко] лично возглавил изменения этой системы, год они работали и сегодня начали менять именно подходы, ориентируясь на то, что «Росатому» надо строить свои предприятия за рубежом и, соответственно, требования к подготовке кадров очень высокие.
Минпромторг нас горячо в этой работе поддерживает, даже несмотря на то, что по «Ростеху» у нас самые низкие результаты, то есть система подготовки кадров как таковая на месте практически отсутствует, но коллеги сейчас начали быстрые изменения вместе с нами о том, как эту систему сконфигурировать.
Если посмотрите следующую страницу, это на конкретном примере. Победитель «Лучший сотрудник по сварке» – компанию «Росатом» представляет Александр Дуймамет, он получил миллион рублей приза как лучший российский специалист по хай-теку, в Волгодонске работает. Это то, как он выполняет задания. Вы видите, что по двум направлениям это хороший, высокий мировой уровень, а, например, радиограмма или зрительная оценка проваливается. После этого «Росатом» берёт и меняет в своих системах подготовки и переподготовки именно эти кусочки: где–то электроника или токарная работа на станках с ЧПУ, некоторые виды технологических операций мы в принципе производить не умеем, но именно такого рода работа нам позволяет это делать.
На следующий год, в соответствии с Вашим поручением, у нас 16 крупнейших предприятий, как частные, так и государственные, проводят свои уже отраслевые чемпионаты, меняют систему подготовки. И через год, в октябре, мы снова замерим эти результаты, то есть сможем понять, насколько уменьшился наш разрыв. Вот эта часть, которую мы брали как мировые практики, но, работая с детьми, мы ушли далеко вперёд. Кроме того, мы впервые в мире сделали такую компетенцию, называется «Навыки будущего», по навыкам, которых сегодня ещё нет, но которые очень востребованы.
Например, первое в мире соревнование по нейропилотированию, когда дети силой мысли управляют роботизированными устройствами. Реверсивный инжиниринг, когда берётся деталь, которую мы не понимаем, из чего она сделана, анализируется её состав, делается аналогичная, но с лучшими тактико-техническими характеристиками. Эту работу ведёт группа Боровкова. По той же методике сегодня делается проект «Кортеж». И много-много таких вещей мы смогли вместе собрать в общую систему.
Мы считаем, что здесь мы достигли очень высоких результатов. Не по собственному мнению, а потому, что в Екатеринбурге был доктор Хуберт Ромер, это глава WorldSkills Германии и сейчас WorldSkills Европы. Посмотрев на то, что мы делаем, он сказал, что он пишет доклад в Правительство Германии о том, что в перспективе Германия может потерять лидерство в подготовке рабочих кадров для новых отраслей. То есть это такая внешняя оценка нашего результата. И тех, кто смотрит на это скептично, я приглашаю приехать в Екатеринбург в следующем году (Андрей Рэмович был в этом) и, что называется, посмотреть на месте вживую.
Мы выиграли общими усилиями с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], с Правительством борьбу за Казань. Мы понимаем, что это нельзя делать просто чемпионатом, что мы в рамках этой работы и должны эту систему подготовки кадров для новых отраслей выше мирового уровня развернуть. Да, это амбициозные цели. Мы считаем, что они достижимы.
Единственная серьёзная проблема сейчас состоит в том, что в бюджете не заложено средств на это, а если мы не профинансируем эту работу уже в этом году в ближайшее время, то Россия не сможет выполнить международные обязательства и нам придётся от чемпионата отказаться, потому что там значимый блок именно международных обязательств.
Здесь просим Вашей поддержки, потому что довольно странно – сначала выиграть, а потом не вести эту работу. Суммы значительные, но не запредельные. Например, зимняя Универсиада, которая будет проходить в то же время, масштаб влияния на экономику, с нашей точки зрения, на порядок больше. Это тот блок, который касается нашей работы с кадрами.
В области «Национальной технологической инициативы» мы действительно пошли немножко быстрее ожидаемого темпа. Создан организационный механизм, Дмитрий Анатольевич Медведев и президент Совета модернизации её ведут; Андрей Рэмович и Аркадий Владимирович [Дворкович] являются сопредседателями группы.
По аналогии с НТИ созданы рабочие группы, которые возглавили крупные технологические предприниматели. Первые пять «дорожных карт» сейчас в стадии согласования. «Дорожная карта» по здравоохранению с подходами в области информатизации, нейрогенетики, других изменений, которые присутствуют в части (Алексей Репик возглавляет), уже прошла первые тяжёлые, но быстрые согласования с Минздравом.
Двигаемся хорошо, но здесь хотелось бы поговорить о сути того, что мы увидели за этот год. Мы понимаем, что входим в относительно стабильную ситуацию в ближайшие 20 лет. То есть у нас будет тяжёлая геополитика, у нас будут низкие цены на энергоносители, и мы будем переживать не самый лучший инвестиционный климат, и мы будем переживать стремительную технологическую революцию. Вот эти четыре фактора являются одновременными и являются фактором такого консенсуса по поводу того, что нам предстоит.
Фактически мы видим в рамках НТИ ключевой базовый технологический пакет, который будет перестраивать практически все отрасли – от государственного управления и питания до военной сферы, финансовой сферы, здравоохранения и так далее и тому подобное.
Хороших русских слов пока нет, но сочетание больших данных, глубокого обучения и того, что называется Blockchain, то есть возможность отследить любого рода транзакции на любом расстоянии с любым количеством агентов, которые в этом участвуют, революционизирует фактически все сферы. То есть что происходит? Если раньше вы покупали автомобиль, и этот автомобиль у вас просто ездил как кусок железа, то сейчас вы покупаете сервис, ваш автомобиль сам учится входить в поворот, он умеет и учится ездить без вас, и все автомобили, которые проданы конкретным производителем, объединяются в самообучающуюся сеть. Это по факту то, что происходит уже сейчас.
В той политике импортозамещения, которую мы сегодня проводим, эти факторы в принципе не учитываются ни в каком виде – в отраслевых стратегиях, в энергетических стратегиях, – факторы, требующие немедленных шагов по созданию систем промышленного хранения энергии рядом с мегаполисами. Мы в какой–то степени страдаем синдромом выученной беспомощности по этому поводу, и мы не очень готовы к амбициозным задачам.
Обсуждая с курирующим заместителем министра одну из карт, как раз по беспилотникам, я говорил: «Смотрите, вот у нас пассажирский дрон, который будет человека перевозить так же, как такси, он близок». Мне этот очень умный, очень ответственный профессиональный чиновник говорит: «Это же, во–первых, не в ближайшие десять лет, а во–вторых, я за это садиться не хочу, в ближайшее время не вижу на горизонте этого». Мы говорим: «Нет, это всё случится гораздо раньше».
И неделю назад китайцы действительно на выставке промышленной электроники показывают уже это решение, полностью аналог, как, помните, в фильме «Гостья из будущего». Там летали на таких маленьких кругленьких штучках. Вот ровно такая же: нажал кнопку, тебя из точки «А» в точку «Б» переместили. Вот здесь не хватает амбициозности. Она есть у инженерных команд и ещё больше – у команд чиновников.
Здесь нам нужна, безусловно, поддержка в первую очередь даже не финансовая, а идеологическая, на то, чтобы развернуть общество в эту сторону. Потому что смотрите… Мы пережили десятилетие сытости, до начала десятых годов. Мы сейчас переживаем такое десятилетие угроз.
Эти базовые мотивации людей, они очень сильные, но сытость надоедает, угроза притупляется, нужна ещё мечта. Нужна мечта, нужен вызов, нужны масштабные задачи, которые общество, власть, бизнес могли бы создавать вместе и работать над их преодолением. Потому что когда есть мечта, потом появляется гордость за результаты. Мы в рамках НТИ пытаемся выработать экономическую политику опережающего роста на новых рынках в двадцатые годы. Фактически это наш фокус. За нами довольно быстро стали следовать и государственные структуры, «Ростех» полностью переписал стратегию дословно – как опережающий рост на новых рынках. То есть мы видим, что эти идеи откликаются, но есть два очень значимых фактора.
Первое. Большие государственные компании слишком сложные, слишком медленные, для того чтобы на этих рынках расти. Мы видим, что на них успеха добиваются маленькие инженерные компании, где мало менеджмента и где есть амбиции на то, чтобы сделать больше чем необходимо. Мы эти компании видим, у них есть сейчас уникальные результаты. У нас есть компания «Геоскан» из Санкт-Петербурга. Смотрите, она делает беспилотники и съёмку с них – электронный кадастр.
Я цифры просто приведу. Вот они отсняли город Ноябрьск – 46 квадратных километров. Стоимость по сравнению с традиционными методами дешевле в 20 раз – чем вертолётом. Вертолёт – 600 тысяч рублей за квадратный километр, а дрон – 30 тысяч рублей. Нашли 110 гектаров незадекларированных площадей, стоимость их 3 миллиарда рублей только по одному крошечному кейсу, арендная плата – 56 миллионов рублей в год за это, которые получает государство, стоимость – 3,5 миллиона рублей всей работы. Мы готовы брать такого рода задачи, делать их очень дёшево и эффективно. Взять, сделать цифровую модель Крыма, которая будет очень чётко иметь этот самый кадастр, который будет нам всё это дело показывать.
У нас есть такие компании, как «Нейроботикс», – очень амбициозные, Вы их видели год назад на ЦНИИТОЧМАШ, они показывали как раз управление мыслью ряда структур, потому что здесь грань между военными и гражданскими решениями очень прозрачная. У нас есть компания «Атлас», основанная нашими студентами, которая делает первую в России систему генетического секвенирования. Можно не обращаться к американцам, делать это у нас. У нас есть компания «Сканэс», которая делает средства дистанционного зондирования Земли. «Даурия Аэроспейс» – частная космонавтика, «Таврида Электрик», в конце концов, великолепно растёт на рынках энергетики. Они все сейчас собрались в НТИ, но нужна в первую очередь идеологическая поддержка, для того чтобы они двигались вперёд.
Добиваются результатов в медиа. Мы понимаем, здесь очень важно медийное совмещение. Российская компания «Анимаккорд», которая делает мультипликационный сериал про Машу и Медведя, знаете, сейчас обошла «Дисней», и одна её серия, которая называется «Маша и каша», впервые в истории миллиард просмотров в интернете одной серии достигла, эксплуатируя российские архетипы, с одной стороны, а с другой стороны, новые технологии.
Очень важная вещь. Мы понимаем, что к этим двадцатым годам у нас вырастает новое поколение суперталантливых ребят, которых мы называем пси–поколением, поколением суперинженеров. Это те, которые в детских технопарках, о которых Светлана Витальевна будет рассказывать, в «Сириусе» работают. Но если они в 2019–м, в 2018 году придут в вузы, которые не изменятся к этому времени, то ребята из «Сириуса» будут там инопланетянами. И здесь нам необходимы очень сильные действия, для того чтобы эти организационные изменения в системе подготовки уже университетов и высшего образования сделать.
Если сделаем, у нас появляется отличный шанс в двадцатые. Почему? Потому что другой тренд развития роботизированных производств отменяет извечное российское проклятье, то, что мы не умеем делать массово, хорошо управляемое производство потребительских товаров. Потому что они роботизируются, и становится всё это делать гораздо проще – уходят посредники.
Ставка получается в первую очередь на таланты, а талант – это то, что может позволять преодолевать плохие институты. Российская история – это история поддержки талантов, которые работают в очень плохом институциональном климате и в тяжёлой геополитической ситуации. Мы хотим эту ставку делать именно на инженерные команды, на таланты, на быстрый рост.
Риск – это риск излишнего контроля и слишком сильное понятие безопасности. Государство пытается сразу контролировать все новые рынки. Появился рынок онлайнового образования, выросли на нём частные компании – Министерство образования быстро сделало такую «монопольку» из восьми ведущих вузов, которая вытесняет их с рынка искусственными средствами и административным давлением.
На других рынках. Сегодня, если мальчик из Иркутска сделает деревянную модель самолётика, ему необходимо будет получить регистрацию в Росавиации, сертификат типа лётного судна и удостоверение пилота беспилотного летательного аппарата. Нам необходим баланс между интересами безопасности, мы понимаем, что они должны быть, и интересами развития. Должна быть какая–то точка, в которой этот баланс обеспечивается. Мы с Правительством, Андрей Рэмович нам помогает, работаем над этим, но это наша пока проблемная точка, мы пока организационного механизма здесь не выработали.
Ещё раз: мы понимаем, что нам нужна мечта. У нас есть российские инженеры, предприниматели и таланты, которые готовы браться за амбициозные задачи. Нам важны даже не деньги, а поддержка и обеспечение государством им этих самых амбициозных задач, и тогда у нас могут двадцатые годы пройти совершенно по–другому.
В.Путин: Спасибо большое.
Светлана Витальевна, прошу.
С.Чупшева: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены наблюдательного совета!
Владимир Владимирович, разрешите поблагодарить Вас за оказанное доверие. Вы поручали нам запустить новую модель дополнительного образования, основной задачей которой как раз и является вовлечение большего количества детей в научно-техническую сферу. У нас сегодня, к сожалению, цифры по допобразованию в НТИ – это четыре процента деток, которые посещают учреждения, занимаются инженерными такими специальностями. Цифра критически мала, для того чтобы мы обеспечили кадровым потенциалом национальную технологическую инициативу. Мы в этом году хотим увеличить процент деток, занимающихся инженерными специальностями, до 10 процентов.
Мы совместно с ведущими техническими отечественными нашими вузами – МФТИ, МАМИ – разработали, я считаю, уникальные новейшие программы. У нас таких не было в системе допобразования. Это по нейротехнологиям, нанотехнологиям, геоинформатике, антихакинг, беспилотники, биотехнологии, адаптированные именно для детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Очень важно, что помимо популяризации инженерных специальностей в рамках – мы назвали их детскими технопарками «Кванториум» – этих учреждений они получают ещё навыки лидерства, умение работать в команде, ставить самостоятельно задачи и, по сути, в игровой форме занимаются инженерными специальностями. Очень важно, что они решают не просто какие–то виртуальные задачи, а уже сегодня мы с нашими крупнейшими ведущими госкомпаниями, такими как ОРКК, «Роскосмос», ОАК, КамАЗ адаптируем для детей настоящие взрослые технологические задачи. И уже сегодня у нас дети в детских технопарках решают задачи по раннему прогнозированию цунами.
Здесь мы работаем с Дальневосточной академией наук, со школой «Роснано». Они проектируют самообучающихся роботов, которые с поверхности Луны добывают гелий–3, который должен заменить собой углеводородную экономику. Детки уже проектируют в развитии коптеров, которых они научились собирать.
Летающее крыло из композитов по техническим характеристикам где–то в три раза лучше коптера с точки зрения встречного ветра и большей скорости, и грузоподъёмности. И конечно, когда дети решают настоящие взрослые задачи, здесь повышается мотивация и интерес.
Те опросы, которые мы проводили среди родителей в 60 субъектах Российской Федерации, 70 процентов родителей очень заинтересованы в обновлении инфраструктуры в системе дополнительного образования и в направлении, чтобы они могли отдать детей именно в научно-техническое творчество, в новейшие специальности, очень заинтересованы, чтобы будущее детей было связано с инженерными профессиями, которые будут востребованы в новой экономике.
Мы очень благодарны Рустаму Нургалиевичу и губернатору Ханты-Мансийского автономного округа госпоже Комаровой, потому что именно они в конце 2015 года открыли первые научно-технические станции для деток в Набережных Челнах, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. У нас уже первые дети обучаются на новейшем оборудовании мирового уровня. Очень важно, что в этих технопарках есть и российское оборудование, которое отвечает современным запросам.
Детей, скажу честно, нельзя оттуда увести в конце рабочего дня, им всем очень нравится, глаза горят. Мы были на открытии как раз в Набережных Челнах с Рустамом Нургалиевичем. Дети вообще нас не замечают, они занимаются резьбой лазером, запускают беспилотники, и это очень радует, потому что действительно у нас появятся не юристы и экономисты, а будущие инженеры и учёные.
В.Путин: Юристов и экономистов не обижайте, они тоже нужны пока ещё.
С.Чупшева: Конечно. Но очень важно, чтобы дети имели такую возможность, причём не только в центрах регионов, в мегаполисах, а из глубинки, потому что очень много талантов, я считаю, как раз из глубинки у нас появилось, имели возможность получить такое образование и получить возможность обучиться таким программам.
У нас такое негласное согласование с главами субъектов, что детки из детских домов также имеют возможность обучаться в этих технопарках. У нас на этой неделе более 80 детей в Ханты-Мансийске пять часов провели в технопарке, и договорились, что они регулярно будут также приходить на такие обучающие программы. Это тоже очень важно. В этом году мы планируем обучить 10 тысяч деток, вовлечь, провести через эти программы.
Очень остро стоит, Владимир Владимирович, кадровый вопрос преподавателей, кто будет обучать в этой новой системе дополнительного образования. Проехав по регионам, посмотрев бюджетные учреждения, некоммерческие организации, оказывающие такие услуги, знаете, некоторые дети – поговорив с детьми, кто там занимается, – на голову, а то и на две уже обогнали своих преподавателей. Здесь нам важно сейчас привлечь из технических вузов аспирантов, студентов, которые могли бы быть такими наставниками в этих технопарках для детей. Также разговаривали с руководством госкомпаний. Они готовы направлять лучшие свои инженерные кадры для наставничества и преподавателей в технопарках, а также мастер-классов для детей в этих технопарках.
Безусловно, Владимир Владимирович, если поддержите, всё–таки чтобы у нас больший круг госкомпаний, предприятий, лидеров отрасли сотрудничали сейчас с нашими детскими технопарками именно по формулированию технологических задач на новейшие разработки. Мы считаем, что здесь есть потенциал, и даже надеемся, что у нас будут какие–то запатентованные новые разработки именно детьми в детских технопарках.
Мы хотим, чтоб у нас был дух соревновательности между детьми в детских технопарках. Здесь помимо участия и в российских олимпиадах, соревнованиях, безусловно, мы будем участвовать и в международных соревнованиях. Но у нас сегодня есть такая проблема, если можно её так назвать, – те всероссийские олимпиады, которые проводятся приказом Минобра, у нас в основном ориентированы на предметы, которые сегодня в школах представлены.
В связи с чем мы теряем детей 9–го, 10–го, 11–го классов, потому что они все заточены на то, чтобы получить больше баллов при сдаче ЕГЭ для поступления в вузы, а нам бы хотелось, чтобы появились олимпиады, такие кросс-специальности по нанотехнологиям, робототехнике, нейротехнологиям, чтобы дети, которые выигрывают в этих олимпиадах, соревнованиях также получали баллы, которые бы учитывались при поступлении в технические вузы. Владимир Владимирович, если поддержите, мы бы тоже с Минобром, Правительством Российской Федерации проработали, потому что действительно это очень важно.
Мы в этом году планируем открыть более десяти таких технопарков в субъектах Российской Федерации, очень много запросов. Сергей Иванович в Ульяновской области готов тоже в этом году открыть такую научно-техническую станцию и ряд других субъектов. Мы надеемся, что это станет доступным для всех детей. Очень важно, что здесь приходят также частные инвестиции, частные инвесторы на эти площадки.
Владимир Владимирович, тоже хотели обратиться с просьбой, если поддержите. Сегодня технопарки финансируются из бюджетов субъектов Российской Федерации, также на этот год предусмотрены в рамках федеральной целевой программы средства у Минобра именно на оснащение современным оборудованием технопарков, там операционную деятельность уже либо операторы берут на себя, либо субъекты. И так как мы здесь решаем серьёзную задачу кадрового потенциала для НТИ, если позволите, мы бы проработали с Правительством Российской Федерации, чтобы 10 процентов от бюджета НТИ направлялось именно на проекты, связанные с подготовкой кадров в детских технопарках. Мы готовы здесь проработать с Правительством Российской Федерации этот вопрос. Если можно будет. Там специально созданная рабочая группа. Здесь проводятся экспертизы проектов, именно связанных с подготовкой кадров. Поэтому мы по установленной процедуре готовы проработать.
Другая у нас инициатива и поручение было по разработке новой модели индивидуального подхода и сопровождения инвалидов техническими средствами реабилитации. Тоже мы провели опросы инвалидов в ряде субъектов Российской Федерации. Безусловно, есть улучшение сегодня в оснащении ТСР и индивидуальном подходе. Но более 50 процентов инвалидов всё–таки до конца не понимают саму систему предоставления ТСР государством, а также компенсации, если они самостоятельно покупают ТСР. Не знают вообще о тех технических средствах реабилитации, инновационных в том числе, какие сегодня существуют в мире, а также на российском рынке, для того чтобы инвалиды могли не просто сидеть дома взаперти, а пользоваться инфраструктурой, теми благами, которые у нас сегодня есть в стране, и иметь возможность продолжать работать, это очень важно.
У нас сегодня порядка 12,5 миллиона людей с ограниченными возможностями по здоровью, и только 20 процентов из них трудоустроены. А в европейских странах такой показатель составляет более 50 процентов. Конечно, мы заинтересованы не просто в штамповке ТСР таких пассивных, как инвалидных колясок, а это должны быть инновационные технические средства реабилитации, которые позволят человеку вернуться на работу, а тем более профессионалу и эксперту в своей области.
Мы провели анализ российских производителей ТСР. Честно скажу, картина неутешительная. У нас сегодня рынок ТСР достигает доли импорта 60–90 процентов по многим направлениям, но есть точки роста, где уже компетенции и разработки, действительно, там доля рынка 20–30 процентов именно российских производителей по слухопротезированию, по протезке, есть новейшие прототипы сейчас современных экзоскелетов, бионических протезов. Мы выбрали порядка шести таких проектов российских производителей, которые готовы поддержать в этом году, если наблюдательный совет тоже поддержит эти проекты. Они связаны именно с разработкой инновационных технических средств реабилитации, которые позволят как раз людям с особенностями по здоровью максимально интегрироваться в современное общество и жить полноценной жизнью.
Очень важно также решить вопрос именно с информированием. Сегодня прорабатываем с Правительством, с Министерством труда Российской Федерации информационную систему «Единое окно» по предоставлению информации для инвалидов как раз по возможностям государства по оснащению техническими средствами реабилитации, по компенсациям, вообще по ТСР, которые существуют в мире и у нас, которые могут приобрести инвалиды самостоятельно.
Мы хотим запустить онлайн-систему заказов ТСР. Здесь готовы сотрудничать с нашей информационной системой именно производителей технических средств реабилитации как российские, так и зарубежные. Очень остро стоит вопрос по обучению пользованиями ТСР в регионах инвалидами и индивидуальному подбору технических средств реабилитации.
Мы сегодня с рядом субъектов Российской Федерации прорабатываем возможность открытия таких центров индивидуального подбора и сопровождения, где будет представлена вся линейка ТСР по разным видам заболеваний и ограничений по здоровью. Здесь в одном, по сути, центре любой человек с такой потребностью может прийти, выбрать и подобрать, индивидуально под него изготовят ТСР, будут специальные медицинские сотрудники, которые обучат пользоваться им.
Очень важно, что у нас сегодня в системе предоставляется ТСР, но не предоставляется услуга по его гарантийному сопровождению и ремонту. Здесь по многим позициям, не по всем, Владимир Владимирович, остаётся такой запрос. Здесь очень важно, чтобы производители, пусть даже платно, но могли такую услугу оказывать инвалиду, потому что в принципе очень многие готовы платить самостоятельно. Просто понимать, где эта точка входа, где то место, где можно получить такую услугу.
По обучению. Здесь мы тоже на площадке РГСУ договорились подготовить специалистов для протезирования, потому что здесь тоже есть вопросы. Здесь с ректором РГСУ есть понимание, как двигаться и каких специалистов привлекать в эту сферу.
Владимир Владимирович, тоже остро стоит вопрос по производству подгузников российского производства, потому что эта ситуация с курсом, где мы, по сути, на сто процентов зависим от иностранных производителей, были сбои в обеспечении социальных учреждений этими средствами – абсорбирующим бельём.
Здесь тоже отобрали несколько российских производителей, которые готовы открыть производство именно белёной целлюлозы, распушённой, которая необходима для производства памперсов. У нас уже есть несколько проектов, мы сегодня структурируем финансовую модель, привлекаем и организуем финансирование, уже по одному из проектов есть одобрение кредитного комитета и отобрана площадка в Вологодской области. Мы надеемся, что уже к концу этого года мы сможем говорить о запуске первого российского производства белёной целлюлозы и догнать рынок, долю рынка России хотя бы до 20 процентов нашего российского производства.
Владимир Владимирович, если поддержите наши проекты, будем очень признательны и готовы будем доложить потом о результатах.
Спасибо Вам большое.
В.Путин: Коллеги, кто хотел бы что–то добавить?
Р.Минниханов: Я коротко хочу сказать, что по всем проектам мы активно работаем. Хотел бы проинформировать о трёх проектах. Это, конечно же, большой проект по направлению «Автонет» – беспилотный автомобиль, здесь работа идёт. Разработчик – КамАЗ и российская компания, она станет в ближайшее время резидентом «Иннополиса», в принципе всё там идёт. Но пока вся работа идёт за счёт средств КамАЗа и за счёт этого разработчика. Там, в бюджете, по Вашему поручению, деньги предусмотрены. Просьба, наверное, всё–таки распределение делать через отраслевые федеральные министерства. Это будет быстрее и эффективнее.
Второй вопрос – на самом деле я даже не ожидал, что дополнительное образование, детский технопарк… Если будет такая возможность при посещении КамАЗа, я хочу Вас пригласить, показать не здания, не сооружения, а технологии, которые там запущены. Ведь специально АСИ представило нам инструкторов, которые обучили наших 18 человек, и они работают совершенно по новой технологии. Где–то 400 детей у нас. Курирует эту тему тоже КамАЗ. Мы хотим к этой работе привлечь вузы и наши крупные компании. Второй такой детский технопарк мы хотим открыть в этом году на площадке «Иннополис», думаю, их будет несколько.
И третий вопрос, очень важный для нас. По Вашему поручению, с Вашей поддержкой WorldSkills будет в России, работа идёт. Главный объект, где будут происходить эти события, – это выставочный комплекс. Мы приступили, работы идут, мы с этой задачей справимся. Но очень важно, конечно, не только провести хорошо, но и победить. Поэтому то, что коллега рассказал, нам очень много ещё надо работать, чтобы достичь такого уровня. Нам нужны межрегиональные центры подготовки. Для нас поручение дано по IT–направлению, кому–то – по машиностроению, но оно всё равно потребует средств. И мы готовы вложиться, но без федеральной поддержки эту задачу не решить, поэтому мы будем активно работать.
В.Путин: Как там наши ребята на гонке?
Р.Минниханов: Не очень пока…
В.Путин: Перевернулась машина, да?
Р.Минниханов: Одна перевернулась; у одной машины есть шанс быть в призах. Мы поехали на новых двигателях «Либхерр», но пока не доведено, переживаем.
В.Путин: Если переживаете, значит, доведёте.
Р.Минниханов: Доведём.
В.Путин: Успеха им пожелайте. Работа у них тяжёлая.
Р.Минниханов: Спасибо большое за то, что Вы смотрите, интересуетесь. Доведём обязательно.
В.Путин: Пожалуйста.
А.Репик: Уважаемый Владимир Владимирович!
В продолжение доклада Дмитрия Пескова хотел коротко обозначить ещё один важный момент, касающийся национальной технологической инициативы. Хотя НТИ у нас и нацелено в достаточно далёкое будущее, но у неё уже сейчас есть практическое измерение с точки зрения задачи, которую могут решать исполнительные власти в интересах технологической модернизации и диверсификации экономики.
В частности, одна из задач – продвижение выгодных для российских производителей правил регулирования на мировых рынках, то есть то, что в мире называют smart regulation – умное мотивирующее регулирование. Наши конкуренты этим пользуются очень активно.
Как вы знаете, в конце прошлого года завершились переговоры по созданию Транстихоокеанского партнёрства. Все эксперты отмечают беспрецедентный уровень договорённости именно не в вопросе снижения пошлин, а в вопросах национального регулирования. Например, там предполагается запрет требовать размещения персональных данных на территории своей страны. Это понятно, что регулирование в интересах американских IT–компаний. То есть такое прямое лоббирование.
Планируется создание спецкомитета ТТП [Транстихоокеанского партнёрства] по развитию и продвижению рыночных ценностей, то есть опять же удобного для США регулирования фактически. Но всё–таки и Транстихоокеанское партнёрство, и планируемое трансатлантическое в основном нацелено на существующие отрасли и рынки. А у нас сейчас есть возможность работать на опережение и, соответственно, там, где регулирование ещё не навязано, продвинуть те инициативы, которые выгодны России, российским производителям.
Поэтому в этой связи я бы просил обратить внимание, и, может быть, было бы правильно скоординировать усилия Правительства по продвижению наших интересов через площадки АТЭС, ШОС, АСЕАН, БРИКС, «Группы двадцати», в конце концов, именно с повесткой Национальной технологической инициативы. То есть в виде аккуратного продвижения российских стандартов и правил сначала в декларации, а потом уже на практике в двустороннее взаимодействие, ровно так, как действуют наши конкуренты. И тогда у нас есть шанс, что и работа с персональной медициной, генетическими заболеваниями, российскими системами навигации окажутся не догоняющими, а по–настоящему своевременными и опережающими.
В.Путин: Спасибо, Алексей Евгеньевич.
Да, пожалуйста.
С.Морозов: Спасибо огромное.
Владимир Владимирович, хотел бы обратить внимание на то, что в последнее время очень много говорят о достаточно сложном финансовом положении регионов. Звучат уже реплики о том, что, возможно, стоит пересмотреть бюджеты.
Я бы хотел сказать о том, что у нас на самом деле, на мой взгляд, достаточно много внутренних возможностей в регионах не используется надлежащим образом. Я веду разговор о том, что в Ульяновской области мы приступили к подготовке большого проекта, связанного с изменением системы управления регионом. Она вся у нас создана была ещё в советское время под совершенно другую численность, под совершенно другие задачи. И если вы посмотрите внимательно, то увидите, что там стоит районный центр, есть районные администрации и в соседнем здании есть городская администрация. Люди выполняют одни и те же функции крайне неэффективно. Всё это приводит к огромным расходам, которые мы с вами несём.
Например, в Ульяновской области мы где–то в пределах более двух с лишним миллиардов рублей тратим только на содержание регионального уровня чиновников. Мы посмотрели, создав у себя в регионе совет по реформам, центр управления реформ, мы имеем все потенциальные возможности сэкономить порядка около 500 миллионов рублей, которые мы могли бы направить на развитие региона.
Я бы хотел попросить у Вас получить одобрение на проработку такого проекта, связанного с изменением системы управления регионом совместно с АСИ, совместно с Андреем Рэмовичем. И, если Вы позволите, где–то в марте–апреле мы могли бы доложить этот проект Вам.
В.Путин: Давайте, конечно.
Что ещё? Прошу.
Г.Греф: Владимир Владимирович, что касается первого вопроса – это утверждение отчёта по достижению целевых показателей за 2015 год. Мне кажется, что надо немножко изменить систему, потому что здесь ковыряться в выполнении каждого KPI не имеет смысла, но нам нужно чьё–то независимое заключение о том, что соответствующие KPI достигнуты. Деньги серьёзные потрачены, но нужно понимать, достигнут соответствующий KPI или нет. Я предлагаю на следующий год, 2015 год уже поздно, наверное, но, может быть, и 2015–й всё–таки имеет смысл посмотреть более внимательно, но в будущем такую систему выработать, чтобы кто–то мог проверять качественное исполнение показателей и достижение соответствующих целей.
Второе. В первом же решении – это утверждение целевых показателей деятельности АСИ на 2016 год. Было сказано, что АСИ уже пять лет, уже ребёнок начинает не только ходить, но и думать, и надо бы, чтобы эти KPI?s были осмысленными. Потому что KPI?s – это показатели измерений достижения целей. Цели для меня являются загадкой. Цели мы не утверждаем, но мы утверждаем KPI?s. Это типичная болезнь любой начинающей организации, которая у себя пытается внедрять такого рода инструменты.
Но мне кажется, что нужно сначала по каждой из задач, я их пометил, получается их пять, может быть, их можно сделать шесть или семь, я не знаю, как угодно структурировать, но нужно обозначить, что нужно не KPI?s утверждать, а цели. И тогда можно будет, во–первых, ранжировать все цели, вес им давать. У нас все цели одинаковые. Если у нас шесть целей, то, соответственно, вес каждой цели 15 с копейками процентов, или всё–таки есть главные цели.
Потом, как только мы поймём, какие цели, мы поймём, что нам нужно сделать для достижения этой цели. Проведение конкурса журналистов и так далее – вряд ли это цель, это средство достижения какой–то другой цели, но надо понимать, является ли это мероприятие лучшим для достижения этой цели. Поэтому, мне кажется, вторая часть первого вопроса – утверждение соответствующих KPI?s на 2016 год, есть предложение сначала сформулировать чётко цели, их приоритизировать, и под них уже поставить соответствующие KPI?s, а потом мы поймём, какие мероприятия нужно проводить, чтобы эти цели достигать. Две вещи.
Соответственно, третья часть – это выплата вознаграждений и премий. Мне кажется, что нужно это делать, конечно, по результатам достижения соответствующих KPI?s. Так как у нас нет отчётов о достижении KPI?s, сегодня, во всяком случае, можно рядовым сотрудникам, наверное, и платить, а вот весь менеджмент должен быть чётко завязан на то, что появится оценка достижения ими KPI?s, и только после этого, наверное, можно заплатить соответствующие премии или не платить.
И по бюджету на следующий год. Мне кажется, прежде чем утверждать бюджет, он увеличивается на 13 процентов, всё–таки нужно провести дискуссию по каждой статье. Бюджет представлен в виде одной странички сметы. Что там внутри зарыто, мы не понимаем. Конечно, нам бы хотелось увидеть более подробную историю, что там внутри, с учётом того, что мы всё–таки до конца не понимаем, какие цели на 2016 год.
Поэтому, может быть, либо поручить это кому–то, может быть, создать какой–то орган внутри наблюдательного совета, чтобы он мог утверждать по мере того, как будут понятны цели, поставлены KPI?s, и после этого можно будет под это подвести бюджет. Можно будет понимать: бюджет должен быть больше, меньше, насколько он должен быть увеличен и так далее.
И последнее. Мне кажется, что Агентство стратегических инициатив… мы всё время говорим о том, что там инвестиционный климат, прозрачность повышаем и так далее – все документы с пометкой «строго конфиденциально», включая отчёт о работе. Я не хочу говорить о его объёме, конечно, он очень маленький по объёму, но он точно не должен быть «строго конфиденциальным», он должен быть публичным, наверное. Что тут скрывать, все эти вещи абсолютно общественно полезны, и, наверное, нужно, наоборот, пытаться это популяризировать, не «строго конфиденциалить», это точно.
И последнее. Конечно, то, что я вижу в части работы – часть работ действительно очень полезная, очень хорошая – то, что я вижу, делается по направлению рабочих специальностей Дмитрием Песковым, и то, что он сейчас говорит в отношении новых инициатив. То, что он сказал сейчас, впервые услышал, в том числе по технологии блокчейн. Мне кажется, что это то, где у нас может быть конкурентное преимущество. Нам бежать следом совершенно бессмысленно – мы не догоним. А вот блокчейн – это та технология, которая имеет шанс вообще перевернуть все сферы: сферу государственного регулирования, вообще сферу государства в целом, финансы – все до одной сферы.
Так случилось, что один из русских парней, который живёт за границей, мне сказали, что у ребят есть контакт с ним, – очень интересный парень. Может быть, создание центров компетенций по такого рода технологии – это может быть как раз очень правильная история для АСИ. Это как раз то будущее, которое можно потрогать, потому что занятия инвестиционным проектом, построим ли мы ещё одну фабрику по доению коров – это, конечно, точно не нашего уровня задача. А такого рода точечные проекты, которые могут дать прорыв во всех отраслях, это, наверное, достойная задача.
Всё, что касается воспитания, профессионального воспитания детей, мне кажется, тоже очень правильная история. Конечно, они не смогут охватить всю Россию, но создать несколько точек по стране, технологию, обучить ключевых людей, создать то, что может быть масштабировано потом по стране уже и Правительством, и регионами, – это, мне кажется, очень правильная и очень хорошая задача. Такие инициативы, мне кажется, очень правильно поддержать, и мы всячески тоже готовы их поддерживать.
Спасибо большое.
В.Путин: Пожалуйста.
А.Никитин: Уважаемый Владимир Владимирович! Герман Оскарович!
У нас есть трёхлетняя стратегия, которая утверждена уже год назад, и все цели, конечно, там указаны. Те KPI, которые мы сейчас даём, они все находятся в рамках утверждённой набсоветом стратегии, то есть никакого противоречия здесь между целями и KPI, безусловно, нет, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы с удовольствием поддержим любое более глубокое участие членов нашего набсовета в аудите наших целей, наших результатов, и это здорово, это даст нам обратную связь. Поэтому здесь мы готовы с радостью поддержать и внешний аудит, и участие представителей Сбербанка в этой работе.
В.Путин: Может быть, если за конкретными KPI?s не видно конкретных целей, а они обозначены где–то в общей стратегии, может быть, каждый раз это следует конкретизировать. И тогда это придаст, может быть, большую остроту всей работе и возможности её более точно проконтролировать, имею в виду необходимость достижения соответствующих результатов.
Коллеги, спасибо вам большое ещё раз. Я не буду повторяться в той части, которая была сказана во вступительном слове. Хочу только вас поблагодарить за работу. Давайте мы договоримся таким образом. Мы сейчас ещё с коллегами увидимся, переговорим подробнее, но нужно будет, конечно, обобщить всё, что здесь было сказано, особенно в ходе дискуссий, учесть это и при выстраивании задач на ближайшую перспективу, на этот год, соответствующим образом обработать. И утвердим как раз после того, как вы всё представите после анализа сегодняшней дискуссии.
Большое спасибо.
О предстоящей реорганизации «силового» блока КНР
Владимир Терехов
Состоявшееся 24-26 ноября 2015 г. заседание Центрального военного совета (ЦВС) КНР, который является высшим органом управления всеми вооружёнными силами одной из ведущих мировых держав, окажет существенное влияние не только на развитие внутренних процессов в Китае, но и на окружающую политическую обстановку. Значимость этому мероприятию придало также программное выступление на нём лидера страны Си Цзиньпина.
Несмотря на скудость доступной информации, речь, видимо, идёт о качественных подвижках в характере военного строительства КНР в целом и, в частности, в организационной структуре, а также системе управления основной компоненты “силового” инструмента страны, то есть Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Следует отметить, что процесс постепенного отхода от доктрины “народной войны” с массовой армией в сторону строительства относительно компактных, профессиональных и современно оснащённых вооружённых сил наметился в КНР давно. Естественным образом он сопровождал и являлся следствием как быстрого экономического и технологического развития Китая, так и снижения вероятности крупномасштабного военного вторжения на его территорию.
Однако потенциал этого относительно плавного процесса, вероятно, близок к исчерпанию, а накопившиеся проблемы потребовали решительного вмешательства руководства страны.
О том, что НОАК находятся в преддверии серьёзных перемен, стало ясно уже во время торжественных мероприятий, прошедших 3 сентября 2015 г. в Пекине по случаю 70-летия окончания войны на Тихом океане.
Выступая на состоявшемся тогда военном параде, Си Цзиньпин заявил, что сухопутные силы страны будут сокращены на 300 тыс. военнослужащих, а общая численность НОАК снизится до 2 млн человек. Сам же парад был призван продемонстрировать тренд на повышение качественных характеристик вооружённых сил страны.
Вполне вероятно, что в качестве одного из побудительных мотивов, подтолкнувших китайское руководство не откладывать далее процесс реорганизации “силового” блока, послужило исследование корпорации RAND “Незавершенная военная трансформация Китая: оценка слабостей Китайской Народно-освободительной армии (НОАК)”, опубликованное в том же 2015 г.
Вообще, следование в КНР определённым тенденциям в американском военном строительстве отмечается давно. Так, по мнению некоторых экспертов, комментировавших высказывание Си Цзиньпина на параде 3 сентября, содержание и цели предстоящей реформы в военной сфере КНР отчасти напоминают так называемый “закон Голдуотера-Николсона” 1986 г. Цель последнего заключалась в упрощении, ликвидации лишних звеньев и дублирования в системе управления американскими вооружёнными силами. Закон был разработан под влиянием анализа некоторых итогов участия США во Вьетнамской войны.
Отмечавшаяся ранее (в связи с опубликованием другой близкой по теме работы) “фирменная” научная добросовестность RAND характерна и для исследования “слабостей” НОАК. Оно должно было обратить на себя внимание в КНР уже потому, что авторы изучили сотни источников, прежде всего, доступных китайских. Так, отмечая очевидный и быстрый прогресс КНР во всех аспектах военного строительства, авторы посчитали сохраняющим актуальность и тезис о “двух несоответствиях” китайских вооружённых сил (темпов модернизации и достигнутого военного потенциала), высказанный ещё в 2006 г. бывшим президентом КНР Ху Цзиньтао.
Работа RAND базируется на 16-и “критически важных” исходных предположениях относительно важнейших внутренних и внешних аспектов дальнейшего развития китайской государственности. Так, предположение №1 гласит, что “КПК сохранит лидерские позиции” во всех аспектах внутренней жизни страны, включая контроль над НОАК. Согласно предположению №15, “не произойдёт каких-либо изменений в китайско-российских отношениях или стратегическом курсе России”.
В конце исследования обсуждается вопрос о том, как может отразиться на его результатах ошибочность тех или иных исходных предположений. Например, относительно того же пункта №15 говорится, что в случае сохранения китайско-российских отношений, но “деградации отношений России с США, а также их союзниками по НАТО до точки, после которой Вашингтону придётся усилить своё присутствие в Европе”, китайские оценки международной ситуации могут претерпеть существенные изменения по сравнению с теми, которые закладывались авторами исследования.
Количество и весомость упомянутых исходных позиций, неполнота и недостаточная достоверность исходной информации не позволили авторам работы предлагать её выводы в качестве окончательных, на основе которых можно было бы предпринимать некие практические действия. Предлагается рассматривать её, скорее, в качества “повода для дискуссий”.
Едва ли можно сомневаться в том, что подобная “дискуссия” на крайне важную для КНР тему в связи с работой RAND состоялась в среде китайских экспертов. Более того, можно предположить, что итоги этой дискуссии неким образом были учтены в ходе ноябрьского заседания ЦВС КПК. Тем более что основной вывод данного исследования нынешних “слабостей” китайской военной машины, проделанного ведущей американской аналитической корпорацией, выглядит достаточно очевидным и вполне соответствует упомянутому тезису Ху Цзиньтао о “двух несоответствиях”.
В самом общем виде главный итог работы сводится к констатации недостатков в области организационной структуры, системы управления военной машиной в целом, уровня оперативной согласованности между видами вооружённых сил, отставания от передовых достижений в области “информатизации” управления боевыми действиями в реальном масштабе времени.
В связи с этим уместно напомнить, что требования по качественному изменению во всех указанных аспектах военного строительства, а также использования вооружённых сил составили основу концепции так называемой “Революции в военном деле” (РВД), которая обсуждалась на рубеже 70-80-х годов в СССР по инициативе начальника Генштаба Советской Армии маршала Н.В. Огаркова.
Спустя 20 лет аналогичная дискуссия (со ссылкой на “советский опыт”) прошла в среде американских военных экспертов.
Видимо, та же концепция РВД в современной и специфически-китайской “упаковке” закладывается теперь в основу нового этапа военного строительства КНР.
Обращают на себя внимания внутренние и внешнеполитические аспекты ноябрьского заседания ЦВС КНР. По единодушному мнению комментаторов, одним из важнейших мотивов этого мероприятия стала необходимость повышения контроля со стороны партийного руководства над “силовым” блоком страны в условиях нарастания как внутренних, так и внешних проблем страны.
Из вторых особое значение приобретает задача исключения каких-либо элементов авантюризма и нерасчётливых действий в Южно-Китайском море. Здесь в последнее время руководство КНР пытается решить крайне сложную задачу совмещения таких противоречивых целеустановок, как военное подкрепление претензий на 80% акватории ЮКМ и установление конструктивного формата отношений с соседними странами.
Пока такое совмещение не очень получается, поскольку упомянутые соседи открыто ищут помощи от (как выражаются в КНР) “внерегиональных сил”. Каковые (прежде всего США, но вполне вероятно и Япония, а также Индия) совсем не прочь предоставить подобную “помощь”.
Ситуация, складывающаяся в ЮКМ, высвечивает один из основных трендов современного этапа военного строительства КНР, обусловленный резким повышением значимости военно-морской компоненты НОАК.
В этом плане примечательным стало объявление через месяц после заседания ЦВС о начале строительства второго авианосца, который, видимо, будет близок по характеристикам к уже существующему авианосцу “Ляонин” (бывший “Варяг”, прошедший существенную модернизацию).
Судя по комментариям китайских экспертов, в отличие от первого авианосца, который используется ВМС КНР главным образом для получения навыков эксплуатации совершенно новых систем морских вооружений, второй уже будет выполнять практические задачи по обеспечению национальных интересов на море.
По мнению тех же экспертов, в ближайшие годы КНР необходимо располагать тремя авианосцами с обычными силовыми установками типа “Ляонин”. После приобретения опыта по их эксплуатации, Китай приступит к строительству авианосцев с ядерными силовыми установками, которыми сегодня располагают только США.
В целом же можно констатировать, что наметившиеся тенденции в модернизации “силового” блока КНР вполне соответствуют как резко возросшему статусу страны на политической арене, так и современным мировым трендам в военном строительстве.
Кто и зачем взломал почту главного разведчика США Джеймса Клэппера?
В ночь с 12 на 13 января ленты западных информагентств выдали новость о том, что некий хакер взломал интернет-аккаунты директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера. Генерал-лейтенант ВВС в отставке, ветеран войны во Вьетнаме и заслуженный 74-летний военный функционер не уследил за своими девайсами. В итоге под ударом оказался его личный телефон, почта его и супруги, а также странички в социальных сетях. Близкое к американским военным кругам издание Stars and Stripes сообщает, что на данный момент неизвестно, использовал ли хакер методики социального инжиниринга или нет.
Помимо взлома электронных ресурсов, хакеры настроили переадресацию звонков с домашнего номера Клэппера на телефон организации «Движение за свободу Палестины». Это не очень известная некоммерческая организация, которая базируется в Эль-Черито, штат Калифорния, и выступает против политики Израиля в отношении палестинцев. На сайте организации сообщается, что они аккредитованы в ООН и оказывают консультационную поддержку палестинцам по вопросам защиты прав человека, торговли и перемещения.
Пока сложно сказать что это: простое хулиганство или спланированная акция. Тем более что американское издание Motherboard, основываясь на собственных данных из специализированных чатов и форумов, сообщает, что за атакой стоит некий юный хакер из группировки «Crackas With Attitude» или сокращенно CWA. Они известны тем, что в октябре прошлого года «выпотрошили» почту директора ЦРУ Джона Бреннана. Причем тогда хакеры заявили, что взломать почту такого человека может даже 5-летний ребенок. Федеральное бюро расследований после этого объявило, что всем госучреждениям необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.
Версий как минимум две: первая — неосторожность старенького в общем-то разведчика или, что более правдоподобно — его возрастной супруги, и второй — спланированная провокация, исполненная под прикрытием юных хулиганов.
В пользу первого варианта говорят сразу три вещи. Во-первых, это взлом домашнего телефона и переадресация звонков в малоизвестную палестинскую неправительственную организацию. Во-вторых, это взлом почты жены Клэппера, в которой могло содержаться большое количество приватной информации, раскрывающей особенности личной жизни семьи главы разведсообщества США. И, наконец, в-третьих — информация о том, что хакер передал журналисту Лоренцо Франчески-Биккераю скриншоты личной страховки и контактной книги Клэппера.
Трудно представить, что глава Национальной разведки США, даже имея Iphone с iCloud и т. д., хранил в нем какую-то важную информацию, потому что у чиновников его уровня однозначно есть средства шифрованной связи для переговоров и переписки. Другое дело — подробности личной жизни, неофициальные контакты и другая информация, которая может пригодиться заинтересованным лицам для давления или каких-то расследований. В конце концов, не стоит забывать, что существуют и другие претенденты на столь высокий пост.
Практика также показывает, что родные и близкие чиновников такого уровня ведут непубличный образ жизни и считают, что находятся в безопасности. Отсюда и пренебрежение элементарными правилами, вроде сложных паролей или спам-фильтров. А тот факт, что в западных СМИ довольно часто упоминается обозначение «пранкер» в контексте взлома почты Клэппера, говорит, что были использованы именно методики социального инжиниринга.
Скажем, на почту немолодой уже Сью Клэппер пришло письмо, в котором содержался файл с зашитым в него вредоносным кодом. Она из благих побуждений открыла этот документ или ссылку и вот уже на ее компьютер автоматически установился вирус. Доступ к остальным ресурсам семьи разведчика был лишь делом техники.
Как видно, оплошности в области кибербезопасности, незнание базовых основ «кибергигиены» влечет за собой крайне неприятные последствия как на личностном уровне (кому будет приятно читать свою переписку в Сети), так и на уровне национальной безопасности.
Станислав Котерадзе, эксперт по кибербезопасности
Дешевая нефть: Саудовцы думали получать сверхприбыли, но угодили в собственный капкан
Цены на бензин и дизельное топливо упали не так низко, как котировки на нефть, и переработчики с сетями АЗС зарабатывают сейчас в три раза больше, чем еще год назад. Из-за этого уже разгорелся скандал в Великобритании. Авторитетная общественная группа FairFuelUK обвинила переработчиков и владельцев АЗС чуть ли не в сговоре. «При каждой заправке автомобилисты переплачивают в среднем пять фунтов», — заявил основатель группы Говард Кокс. По его словам, маржа АЗС, например, традиционно составляла три пенса за литр. И за год только она выросла до 9. Таким образом, 37 миллионов британских автомобилистов за одну заправку переплачивают 185 миллионов фунтов ($ 266 млн).
Утверждения FairFuelUK подтверждают и данные американского нефтяного гиганта ExxonMobil. Только за девять месяцев прошлого года его прибыль от добычи нефти снизилась на 71%, а от переработки и продажи готовых продуктов выросла вдвое. Любопытно, что сверхприбыли «даунстрима», очевидно, учитывали и в Саудовской Аравии, затевая нефтяную войну с американской добычей за долю на рынке. В последние годы Эр-Рияд вел тихую, но масштабную экспансию на мировом рынке переработки. Сегодня главная государственная нефтяная компания «Сауди Арамко» владеет долями перерабатывающих заводов в США, Китае и Южной Корее, а за последние два года построила у себя три мега-комплекса. На уже существующие мощности «Сауди Арамко» отправляет более 20% добываемой нефти — более 2 миллионов баррелей в сутки.
Еще год назад аналитики инвестиционного банка Barclays Capital говорили о том, что Саудовская Аравия меняет свою стратегию в нефтяном бизнесе, чтобы компенсировать падение нефтяных цен продажей уже готовых и более дорогих продуктов. Кроме того, по мнению специалистов, таким образом можно привязывать все большие объемы добываемой нефти к конкретным перерабатывающим мощностям. Основной упор делался на Азии. Очередной мега-комплекс саудовцы планируют построить во Вьетнаме.
Впрочем, «подкладка» из сверхприбылей от переработки все равно не спасает сейчас саудовских шейхов. Эр-Рияд начал ценовую войну за нефть, чтобы отстоять свою долю на рынке и нанести сокрушительный удар по добыче сланцевой нефти в США. Но просчитался в сроках и в том, как низко может упасть цена. По идее Саудовской Аравии, все должно было быть просто, как во время нефтяного кризиса в 1980-х. Королевство увеличивает добычу, цена падает, а высокая себестоимость сланцевой нефти делает ее извлечение нерентабельным. В итоге миф об американском чуде рушится, погребает под собой сотни добывающих компаний, цены на нефть снова становятся высокими, а Саудовская Аравия оказывается «в шоколаде». На деле получилось не совсем так. По крайней мере, процесс оказался более длительным, чем рассчитывали. По сравнению с 1980-ми ситуация на мировом нефтяном рынке сильно изменилась и саудовцы не учли многие факторы.
Сегодня половина добывающих сланцевую нефть в США компаний находятся на грани или в стадии банкротства. Однако и они сдаваться не намерены, спасаясь долгосрочными кредитами и страховками. По данным американской энергетической госадминистрации EIA, к февралю добыча сланцевой нефти снизится почти на миллион баррелей в сутки по сравнению с тем, что было год назад. А это — лишь 20% нынешней добычи. Поэтому с крахом американского чуда придется еще подождать. Саудовская Аравия заканчивать нефтяную войну при этом не намерена. Проигрыш будет означать, что Эр-Рияд потеряет статус и позиции геополитического игрока.
Многие аналитики отмечают, что Королевство желает не просто ударить по добыче сланцевой нефти. В Саудовской Аравии настроены отбить желание у инвесторов вообще когда-либо вкладывать средства в ее разработку где-либо в мире. При этом в Эр-Рияде, планируя нефтяную войну, не учли не только то, что компании по добыче сланцевой нефти окажутся более живучими. Саудовцы потеряли контроль над самими ценами, и они рухнули так низко, что крупнейший нефтеэкспортер сам оказался на перепутье.
Сегодня многие аналитики прогнозируют, что в течение всего года цена на нефть будет держаться в районе $ 30 за баррель. Плюс-минус десять долларов. Наверняка в Саудовской Аравии хотели бы, чтобы котировки на нефть были выше, но для этого нужно снижать добычу, а на потерю доли рынка аравийцы ни за что не пойдут. Вместе с ними не собираются снижать добычу и остальные страны-производители топлива. Его объемы сегодня превышают спрос, хранилища заполнены, а прогнозы по развитию экономики Китая, который является основным потребителем «черного золота», не самые радужные. Кроме того, с Ирана планируют снять санкции, и в Тегеране уже обещают «выбросить» на рынок дополнительные несколько миллионов баррелей нефти в сутки. Все эти факторы едва ли приведут к росту цены на нефть, которая сейчас не устраивает большинство добывающих стран и компаний, и отложат его на неизвестное время.
Как отмечают западные аналитические агентства, запаса прочности при нынешних ценах на нефть у Саудовской Аравии хватит на год-два. Сегодня Эр-Рияд по разным мотивам не может снизить высокие социальные обязательства внутри страны и прекратить военные кампании, которые ведет на Ближнем Востоке. Поэтому бюджет страны остается почти таким же, как и при цене 100 долларов за баррель. В итоге только в прошлом году на покрытие его дефицита Королевству пришлось достать около 100 млрд из своих резервов в $ 600 млрд. И, судя по всему, этого все равно недостаточно.
На прошлой неделе заместитель наследного принца, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил британскому изданию The Economist, что Эр-Рияд планирует продать часть госкомпании «Сауди Арамко». Она является крупнейшей в мире и в случае выхода на биржу будет оценена более чем в триллион долларов. Источник агентства Reuters, однако, уточнил, что речь идет не о самой компании и добыче нефти, которые являются столпом благополучия Саудовской Аравии и инструментом ее геополитических игр. По его словам, Эр-Рияд продаст доли в дочерних предприятиях, которые занимаются переработкой. На фоне падающих цен на нефть они приносят сверхприбыли, но, как оказалось, не такие, чтобы вытащить крупнейшую арабскую монархию из собственного капкана, в который она сама и угодила.

Затяжная азартная игра
Российская интервенция в Сирии и ее последствия для Ближнего Востока
Мустафа Эль-Лаббад – директор Центра региональных и стратегических исследований Аль-Шарк (г. Каир).
Резюме Благодаря подавляющему преимуществу в воздухе, Россия изменила баланс сил в Сирии. Но это достижение трудно конвертировать в успехи на земле. Чтобы добиться своего, Москва критически нуждается в поддержке Ирана, а в определенной степени и Израиля.
После вторжения США в Ирак в 2003 г. баланс сил в регионе, где Багдад традиционно играл роль геополитического противовеса Тегерану, резко изменился. Присутствие американских войск в Ираке в 2003–2011 гг. помешало формированию новой региональной системы во главе с Ираном и Турцией, поскольку Соединенные Штаты не позволили Ирану заполнить образовавшиеся ниши в Ираке, а Турции – вторгнуться в иракский Курдистан. Однако взрыв арабской весны в 2010–2011 гг. совпал с выводом войск США из Ирака, и на Ближнем Востоке снова образовался вакуум власти – в таких масштабах, каких еще не знала современная история.
Арабская весна вскрыла структурные изъяны в Ираке и Сирии (12 млн сирийских и 5 млн иракских беженцев) и спровоцировала гражданские войны в Ливии, Сирии и Йемене. Также обострилась конкурентная борьба Турции и Ирана. Каждая сторона претендовала на то, чтобы стать моделью развития для Туниса, Египта, Ливии. Это соперничество еще обострилось, когда «весна» перекинулась на Сирию, где Иран поддерживал правящий режим, а Турция – вооруженную оппозицию.
Баланс, как его видели раньше
В годы холодной войны США внесли вклад в создание противовесов на Ближнем Востоке и примыкающих к нему областях. Индия против Пакистана, Эфиопия против Сомали, а внутри Большого Ближнего Востока – Иран против Ирака, Израиль против арабских стран. СССР воздействовал на эти региональные двухполюсные соотношения, поддерживая с разной степенью преданности и усердия одну из сторон. Логика заключалась в формировании системы, в которой сравнительно равные по силе страны не дают друг другу возможности стать «ведущей региональной державой». Впоследствии эта конструкция поэтапно разрушилась. Сначала из-за превосходства Индии над Пакистаном, а Эфиопии – над Сомали. Затем Иран взял под контроль Ирак, Израиль же давно и бесповоротно превзошел арабские страны по военному потенциалу.
Вскоре после подписания ядерного соглашения «три плюс три» Обама пожелал добавить в число союзников Иран – наряду с Турцией, Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Оправдайся ставка Обамы, Вашингтон смог бы контролировать регион из-за океана. Это позволило бы ему завершить смену приоритетов в направлении Азии, где США собираются конкурировать в Южно-Китайском море с усиливающимся Китаем, создавая новые противовесы Пекину в лице Японии, Тайваня, Южной Кореи, Вьетнама и других стран Восточной Азии. В последние два года Соединенные Штаты сколотили международную коалицию для борьбы с ИГИЛ, координируя усилия с действиями в небе истребителей-бомбардировщиков государств Персидского залива и иракских войск на суше. Цель состояла в том, чтобы побудить самых разных конкурирующих между собой региональных игроков поучаствовать в борьбе с ИГИЛ не только в Сирии и Ираке, но и за их пределами для создания нового баланса сил. Согласно этому плану, разные акторы, действующие на Ближнем Востоке, будут сдерживать друг друга под присмотром США, а им в таком случае не придется осуществлять сухопутную операцию.
Россия считает воплощение в жизнь американского плана ударом по ее международным амбициям. Путем военной интервенции в Сирии Москва решила вынудить Тегеран занять более приемлемую для нее позицию. Стратегическая заинтересованность России в Иране, по сути, предполагает две взаимоисключающие вещи. С одной стороны, Россия не желает, чтобы трения между Вашингтоном и Тегераном привели к военному противостоянию, потому что Иран – главный партнер России на Ближнем Востоке (помимо Израиля). С другой стороны, Москва пытается не допустить существенного улучшения отношений между США и Ираном, поскольку это могло бы привести к стратегическому договору между ними. В этом случае Россия лишится доступа к Персидскому заливу и «теплым морям». Видя обостряющуюся региональную конкуренцию между Тегераном и Тель-Авивом, Россия помогла Ирану двигаться параллельным курсом с Израилем. Прежде чем начать сирийскую кампанию, Путин провел в Москве встречу с Нетаньяху и де-факто договорился о разделении сирийского неба.
Говоря языком геополитики, Россия начала интервенцию в Сирии, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после вывода американских войск из Ирака, а также чтобы нарушить планы Соединенных Штатов по продвижению своих интересов в регионе.
Россия, Турция и Иран в геополитическом контексте
В годы холодной войны и Турция, и Иран сыграли важную роль в геополитической осаде СССР. Анкара контролировала проливы Босфор и Дарданеллы, а Тегеран – Ормузский пролив в Персидском заливе. Доступ России к морским путям зависит от этих стран. Их претензии к России уходят корнями еще в царские времена. Этот факт был главным мотивом, по которому шахский Иран и Турция стали союзниками США и тем самым внесли вклад в падение Советского Союза. Так им было проще справиться с историческими угрозами, связанными с Москвой.
Распад СССР избавил Турцию и Иран от советской угрозы. После холодной войны Турция осталась в НАТО, а Тегеран начал сближаться с Москвой, поскольку вступил в конфликт с Западом после Исламской революции 1979 года. Страны треугольника Россия–Турция–Иран очень подозрительно относятся друг к другу в силу исторического опыта и никогда не могли прийти к общему пониманию или координации усилий. Более того, Турция и Иран всегда находились по разные стороны баррикад, если не считать непродолжительного периода холодной войны, когда они оказались союзниками Запада против СССР. Этот период закончился с падением шаха в 1979 году. С учетом соперничества двух стран в последние пять веков и короткого периода сотрудничества между ними можно предположить, что Тегеран и Анкара – противоборствующие стороны.
Примечательно, что исторически конфликт между Турцией и Ираном обостряется при двух условиях. Во-первых, отсутствие великих держав на Ближнем Востоке (исторический опыт с великими имперскими державами, такими как Португалия, царская Россия, Англия и США). Во-вторых, технологическое превосходство Турции над ее южными соседями или превосходство Ирана над Ираком – можно привести множество примеров, начиная с древней истории. Оба условия были налицо в конце сентября 2015 г. перед началом российской интервенции в Сирии.
Расчеты России
Военные успехи сирийской оппозиции весной и летом 2015 г. поставили под угрозу существование сирийского режима. Американо-турецкое соглашение в июле 2015 г., позволившее ВВС США использовать военно-воздушную базу Инджирлик для нанесения ударов по ИГИЛ, заставило Россию задуматься. Будут ли Соединенные Штаты использовать эту базу исключительно для борьбы против ИГИЛ или расширят свою деятельность для ударов по сирийскому режиму, как это было в 2011 г. в Ливии? Кроме того, прямую угрозу для России представляет относительная географическая близость к Ближнему Востоку и присутствие в ИГИЛ джихадистских группировок из республик Северного Кавказа и стран Центральной Азии. Оценки угроз в Москве отличаются от тех, которыми руководствуются США и их западные союзники. Кроме того, Путин был обеспокоен тем, что Турция, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива могут убедить Обаму принять более жесткие меры против сирийского режима.
С другой стороны, после подписания ядерного соглашения между Ираном и «три плюс три» 15 июля 2015 г. Москва держала в уме возможность того, что американцы могут стремиться к падению Асада, чтобы переломить тенденцию к установлению иранской гегемонии. Хотя Обама воздержался от прямой военной интервенции против сирийского режима, Путин не видел достаточных гарантий того, что американцы не передумают. Но появление российских военно-космических сил исключило возможность нанесения американцами ударов по силам официального Дамаска.
Сегодня все указывает на то, что Россия намерена надолго оставить своих военных в Сирии: количество, качество и масштабы российских вооружений выходят далеко за рамки объявленной войны с терроризмом. Укрепление обороны сирийского побережья дает России идеальные перспективы на востоке Средиземного моря и отличную позицию для влияния на расклад сил на Ближнем Востоке. Политические издержки и риски показались Москве вполне приемлемыми, поскольку она отслеживала политику США на Ближнем Востоке на протяжении последних лет и почувствовала желание Вашингтона вывести армейские подразделения из этого региона после создания там новой системы сдержек и противовесов. Что же касается рисков усугубления экономических санкций против России, то опыт доказывает, что Москва готова их терпеть, если видит достаточные геополитические выгоды для себя.
Российский план политического решения в Сирии
Путин знает, что авиаудары по сирийской оппозиции ограничены по времени и зависят от достижения политического решения. Россия также понимает, что переговоры о политическом урегулировании могут потерпеть крах, поскольку требуется согласие всех участвующих в конфликте сторон. Москве нужна общая платформа с Вашингтоном для диалога о судьбах своего «ближнего зарубежья». С другой стороны, США для политического решения не обойтись без России, Ирана и сил, поддерживающих режим. Чем больше Америка нуждается в Москве на сирийских переговорах, тем убедительнее российская геополитическая логика и тем выше шансы использовать эти рычаги для давления на Соединенные Штаты. Таким образом, присутствие российской армии в Сирии позволяет Москве сохранить свое место на Ближнем Востоке и в Северной Африке в случае провала переговоров. В обозримом будущем российское присутствие не позволяет надеяться на свержение режима Башара Асада военными средствами, что обернулось бы колоссальным политическим уроном для России. Кроме того, дислокация ее ВМС и ВКС на средиземноморском побережье подкрепляет позицию Москвы на переговорах.
Башар Асад дает российским военным «козырь» легитимности для продолжения операции, поэтому русские будут защищать его до достижения приемлемого для всех решения. Москва начала ощущать на себе давление после того, как Турция сбила российский военный самолет. Военные успехи на суше до последнего времени не соответствовали превосходству России в небе. Определенную роль в этом, вероятно, сыграло использование сирийской оппозицией американских противотанковых ракетных комплексов TOW. Следовательно, если сирийская оппозиция получит доступ к современным средствам противовоздушной обороны, она сможет нанести ощутимый урон и российской авиации.
России нужно такое политическое решение, которое обезопасит ее интересы и в то же время удовлетворит противоборствующие стороны в регионе. Этим объясняется, почему на венских переговорах обсуждали «переходный период», на протяжении которого нынешний президент Сирии Башар Асад сохранит свои позиции. Путин хорошо понимает, что после пяти лет гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч сирийцев и вынудившей миллионы мирных жителей покинуть родные места, Асад не может оставаться у власти бесконечно. Россия отказывается принять предварительное условие относительно отставки сирийского президента, но готова обеспечить, что по истечении переходного периода он уйдет, не подвергаясь судебному преследованию.
Расчеты США
С точки зрения Вашингтона, переговоры без предварительных условий – слишком большой подарок России. Не требуя немедленного ухода Асада, они хотят четко ограничить срок его пребывания у власти: полгода, год или полтора. В соответствии с этими условиями Вашингтон заинтересован в расширении формата переговоров, чтобы они стали международной встречей, а не диалогом Москвы и Вашингтона, как желала Россия. Примечательно, что, несмотря на возражения сирийской оппозиции, США пригласили к участию Иран, чтобы обострить споры между Москвой и Тегераном по поводу того, кто должен играть главную роль в Сирии и у кого в руках окажется «козырная карта режима». Вашингтон знает, что Россия и Иран координируют свои усилия, но он отдает себе отчет в том, что их интересы не всегда будут совпадать.
Теоретически у Вашингтона были следующие варианты.
Первый – не предпринимать никаких серьезных действий, способных склонить чашу весов на суше в ту или иную сторону. В случае продолжения военных операций сирийский режим при поддержке России и Ирана способен победить оппозицию, и это положит конец гражданской войне.
Второй – союз с Ираном и сирийским режимом для борьбы с ИГИЛ, особенно после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Этот выбор чреват большими издержками в смысле негативной реакции ближневосточных союзников США. Более того, подобный подход трудно продавить в Белом доме, и такая позиция существенно снизит шансы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.
Третий – американские ВВС начинают атаковать сирийский режим, а на суше объединенные турецко-саудовские войска наступают вплоть до свержения Асада. Обама никогда не рассматривал такую возможность на протяжении пятилетней гражданской войны в Сирии, даже когда Дамаск нарушил все «красные линии». Российская военная интервенция сделала такой выбор маловероятным, так как это означало бы прямую военную конфронтацию между Соединенными Штатами и Россией.
Четвертый – непрерывная поддержка вооруженной оппозиции, что приведет к затягиванию гражданской войны и истощению ресурсов Москвы. Этот вариант подразумевает множество подвариантов – от недопущения того, чтобы превосходство России в воздухе превратилось в завоевания на суше, до продолжения военных операций против ИГИЛ вместо предоставления сирийского неба России, как это происходит сейчас. Кроме того, США могли бы действовать более агрессивно, снабдив сирийскую оппозицию ПЗРК, чтобы она начала охоту за российскими истребителями.
Можно предположить, что Вашингтон остановится на последнем из вариантов, поскольку это расширяет поле его дальнейших действий, будь то планирование приемлемого политического урегулирования или руководство военной эскалацией через доверенных лиц.
Выводы
Выбор в пользу продолжения конфликта – скользкий путь, потому что всегда очень трудно предсказать исход. Однако за внешним хаосом стоит попытаться разглядеть порядок и понять, какие тенденции мог бы вызвать к жизни сирийский кризис для создания противовесов на Ближнем Востоке и в мировом порядке.
Путь к окончательному урегулированию представляется долгим. Мы видим в Сирии переполненный театр военных действий, где участниками затяжного конфликта являются местные, региональные и мировые игроки. Меняющийся военный расклад в разных городах и областях всегда может быть обращен вспять противниками, стремящимися создать благоприятные исходные условия для политического торга. Даже окончательное урегулирование конфликта неизбежно создаст новые региональные противовесы. Российский вызов США также будет измеряться по конечному результату.
В сирийской гражданской войне есть три измерения: мировое, региональное и местное. В заключение обсудим первые два, поскольку происходящее может многое изменить в глобальном раскладе сил, тогда как логика местных вооруженных формирований не столь важна.
1. Гражданская война не закончится после нескольких встреч и раундов переговоров. Политическое урегулирование потребует больше времени, поскольку конкурирующие стороны всегда будут пытаться обратить баланс «на земле» в свою пользу.
2. Сирийская армия даже с помощью России и Ирана не способна успешно подавить оппозицию и завершить войну. С другой стороны, оппозиционные фракции не в состоянии свергнуть режим Асада вот уже пять лет, а после российского вмешательства это будет еще труднее. Вряд ли военное противостояние выявит победителя.
3. В небе над Сирией уже тесно, поскольку ее воздушное пространство поделено многими державами – Россия, Соединенные Штаты, Франция, Израиль, Турция, в последнее время к ним присоединились Великобритания и даже Германия. Деэскалация в небе, на которую рассчитывает Путин, не может быть гарантирована. Об этом свидетельствует нежелание США и региональных государств, таких как Турция и Саудовская Аравия, признавать российское превосходство в небе. Уничтожение российского бомбардировщика возле сирийской границы может стать прецедентом. Повторение Афганистана – маловероятный сценарий для Москвы, но исключить его нельзя.
4. Территория Сирии уже поделена между разными акторами (правительственные войска, «Хезболла», шиитские подразделения Ирака и Афганистана, Свободная сирийская армия, ИГИЛ, «Аль-Нусра», «Ашар Эль-Шам», бригады Фатих и др.). Если взглянуть на военную карту, то можно увидеть, что на востоке Сирии в настоящее время доминирует ИГИЛ, запад – от Латакии на побережье и южнее до Дамаска и Эс-Сувейды – контролируется правительством с отдельными очагами сопротивления внутри этой территории. На севере курды занимают четыре зоны, простирающиеся от границы с Сирией и Ираком до Кобани с вакуумом посередине. «Зона безопасности», предложенная Турцией, призвана разорвать целостность территорий, находящихся под контролем курдов.
5. Политическое урегулирование логично выльется в перераспределение сил между действующими лицами, религиозными течениями, этносами и полевыми командирами.
6. Даже если удастся добиться политического решения, вряд ли мы увидим единую Сирию с центральным правительством и аппаратом власти. Более вероятно разделение на автономии.
7. С учетом трансграничных племенных, этнических и религиозных связей соседей в Леванте и мозаичной структуры иракского и ливанского обществ расчленение Сирии вызовет эффект домино в Ираке и Ливане, поскольку внутренние конфликты в этих странах вызваны практически тем же религиозным расколом и разногласиями.
8. В свою очередь, с этими последствиями будет трудно справиться в краткосрочной перспективе, и они отражают комплексный характер гражданской войны в Сирии. Речь не только о Сирии, но и обо всем Леванте и его новых структурах.
9. Региональные альянсы на Ближнем Востоке очень подвижны, а власть и сила раздроблены, и сирийская гражданская война в этом смысле не стала исключением. Турция и Саудовская Аравия жаждут уравновесить влияние Ирана, свергнув режим Асада. Помимо этой общей цели, между двумя нынешними союзниками существуют многочисленные разногласия и соперничество. Асад – хороший связующий компонент и раздражитель для укрепления альянса Турции и Саудовской Аравии. Обе суннитские державы стремятся стать лидерами в регионе. Турция хотела бы видеть в Дамаске умеренную исламистскую фракцию, такую как «Братья-мусульмане», тогда как Саудовская Аравия предпочла бы более радикальные альтернативы. Противоречия выйдут на поверхность, как только Асад будет отстранен от власти.
10. Анкара, по-видимому, преуспеет в создании «безопасной зоны» на севере Сирии вдоль границы с Турцией, а также в укреплении пояса своего влияния от Алеппо до Идлиба. Создание зоны безопасности во многом будет зависеть от альянса Турции с Вашингтоном. Воображаемая «безопасная зона», предлагаемая Анкарой, призвана нарушить целостность курдских территорий. Но растущая роль курдов в Сирии по окончании гражданской войны представляется неизбежной, поскольку они уже контролируют области компактного расселения вдоль турецкой границы.
Если к автономной курдской провинции в Сирии добавить иракский Курдистан, то курдский фактор просто невозможно игнорировать в новой структуре Леванта. Это вызов Турции, с которым ей непросто будет справиться.
11. Саудовская Аравия стремится перекрыть сухопутное сообщение между Ираном и Ливаном, чтобы уменьшить влияние Ирана. Для этого нужно, чтобы ее союзники и впредь контролировали территории в Восточной Сирии, граничащие с западным Ираком и населенные преимущественно суннитами. Включение этих земель, в настоящее время контролируемых ИГИЛ, в состав укрупненного Хашимитского Королевства Иордания – не столь уж маловероятно. Это произойдет, если на смену ИГИЛ здесь придет другая группа, лояльная Саудовской Аравии и признанная мировым сообществом. Главное препятствие для подобного исхода – духовное родство ваххабизма и ИГИЛ.
12. Иран в настоящее время вынужденно заключил союз с Россией, чтобы удержать преимущества в Сирии. Урегулирование, вытекающее из нынешней ситуации – не катастрофа для Ирана, поскольку сирийский режим контролирует «полезную Сирию», то есть стратегические области на западе – от Латакии на побережье и на юг до Дамаска, а также некоторые окрестности на юге до Эс-Сувейды с несколькими очагами сопротивления внутри этой территории. Если сирийская армия с помощью России и Ирана продолжит географическую экспансию до конца войны, Иран сохранит влияние на значительной части сирийской территории. Иран доминирует в Ираке и Ливане, и подобный исход в Сирии сведет к минимуму тот факт, что смена режима Асада сократит возможность Тегерана контролировать Дамаск.
13. У Израиля свое видение будущего порядка в Сирии. Разделенная и ослабленная Сирия едва ли может представлять для него угрозу. Велика вероятность того, что урегулирование в Сирии будет гарантией того, что Иран или преданные ему силы не смогут превратить ее территорию в антиизраильский фронт. Правительство Нетаньяху попытается использовать ситуацию для «откусывания» Голанских высот, оккупированных с 1967 г., попытавшись на этот раз добиться международного признания их статуса как северной территории Израиля.
14. Для России сирийская кампания подобна азартной игре с непредсказуемым исходом. Вакуум власти на Ближнем Востоке и уход Соединенных Штатов вдохновили Москву на этот шаг. Цель России – достичь после политического урегулирования в Сирии взаимопонимания с США по разным вопросам – может оказаться недостижимой. Нарушение баланса сил в Сирии с помощью превосходящей военно-воздушной мощи может быть чем-то существенным, но России совсем не обязательно удастся претворить превосходство в воздухе в преимущества на суше. Россия в большей степени зависит от поддержки Ирана и в меньшей – от сотрудничества с Израилем, чтобы склонить чашу весов в региональном раскладе сил в свою пользу и получить однозначное превосходство над Турцией и Саудовской Аравией. Иран сблизился с Россией в контексте нынешнего конфликта, но явно не намерен ограничиваться сотрудничеством исключительно с ней. Израиль – стратегический союзник США, поэтому координация его действий с Москвой в Сирии ограничена по времени и масштабу. С другой стороны, Турция – член НАТО и важный партнер европейских стран в решении кризиса с беженцами. Саудовская Аравия – мощная держава в финансовом плане, способная долго поддерживать оппозиционные суннитские группировки в Сирии. Ее влияние на мировом рынке нефти бесспорно, и она может умышленно занижать цены на нефть, а это тяжелый удар для российского бюджета.
15. Несмотря на все оговорки, сомнения и соображения относительно исхода азартной игры, затеянной Москвой, нелогично было бы полагать, будто действия России в Сирии продиктованы исключительно стремлением добиться политического урегулирования и получить козырь на переговорах с США по другим вопросам. Давайте проигнорируем все вышеупомянутые сомнения и оговорки и даже предположим, что Россия настоит на своем в переговорах о политическом урегулировании. Кроме того, будем исходить из того, что удастся достичь международного сотрудничества в борьбе с ИГИЛ и мировым терроризмом. Скажет ли Россия в этом случае: наша задача выполнена, прощай, Сирия?!
Нет никаких гарантий, что с трудом завоеванные преимущества не будут утрачены в случае самоустранения Москвы. Это означает, что России придется надолго остаться на сирийском побережье. В этом случае необходимо дать ответ на следующие вопросы: как быть с обустройством Сирии после окончания военных действий? Кто будет финансировать восстановление экономики и кто получит выгодные подряды? Как будет обеспечиваться безопасность окружающих областей? Как управлять запасами природного газа вдоль сирийского побережья? Какие газопроводы и маршруты поставок газа из Ирана или Катара пересекут границу Сирии? Легких ответов на эти вопросы нет и быть не может.

Высшее благо подобно воде
Как сделать ЭПШП пространством совместного развития
Вань Цинсун – доктор политических наук, научный сотрудник Центра по исследованию России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай).
Резюме Для Экономического пояса Шелкового пути разумным выбором является метод проб и ошибок, то есть узнавание партнеров посредством совместных проектов. Создание же новых региональных механизмов сотрудничества чревато конфликтами в регионе.
Данная статья представляет собой выдержки из научной работы, удостоенной годовой премии Шанхайской ассоциации по исследованию России, Центральной Азии и Восточной Европы за 2015 год. Автор выражает директору профессору Фэн Шаолею и другим коллегам искреннюю благодарность за огромную помощь при написании данной статьи.
Выступая в Казахстане 7 сентября 2013 г., председатель КНР Си Цзиньпин предложил концепцию «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП), в основе которой – инновационная модель взаимодействия. Она позволяет укрепить экономические связи, углубить сотрудничество и расширить пространство для развития. Заявление нового лидера о будущей политике Китая в Евразии стало сигналом к мобилизации всестороннего экономического взаимодействия между Пекином и евразийскими странами, а также важным посланием Центральной Азии и всем регионам, примыкающим к «Шелковому пути».
Идея немедленно вызвала бурные дискуссии и в самом Китае, и в мире. Чтобы не порождать недоразумений в международном сообществе, инициативу еще предстоит систематизировать. По мнению автора, ЭПШП может рассматриваться как новая открытая модель регионального или трансрегионального сотрудничества и стать важным экспериментом создания механизма взаимодействия между Западной Европой, Восточной Азией и Центральной Евразией. Это непростая задача для внешней политики Китая.
Дискуссии в мире и в Китае
В Астане были сформулированы пять основных направлений: 1) укрепление координации государств региона в политической области; 2) интенсификация строительства дорожной сети; 3) развитие торговли путем ликвидации торговых барьеров, снижения издержек торговли и инвестиций; 4) увеличение валютных потоков за счет перехода на расчеты в национальных валютах; 5) расширение прямых связей между народами. Тем не менее изначально идея не нашла всесторонней поддержки ближайших соседей ни на официальном, ни на экспертном уровне.
В России, например, китайскую инициативу поначалу просто проигнорировали. Позже известный российский дипломат, первый спецпредставитель президента Российской Федерации по делам ШОС Виталий Воробьёв высказал на страницах этого журнала мнение, что разработка идеи Си Цзиньпина носит не системный, а скорее пристрелочный характер, а по тону больше напоминает самовнушение. Он задал ряд острых вопросов: «имеет ли эта идея “за спиной”, опять же под “брендовым” прикрытием, утилитарный посыл обретения дополнительных возможностей для решения все более острой для Китая внутренней и внешней задачи? Подразумевает ли реализация идеи появление институциональных межгосударственных инструментов? Или расчет на создание увязанной с Китаем подвижной конфигурации автономных зон с либерализованными торгово-экономическими режимами, такими как Евразийский союз, намечаемые Транстихоокеанское и Трансатлантическое партнерства? Какими вообще могут быть критерии, позволяющие относить конкретные начинания, объекты и мероприятия, многосторонние или двусторонние, к предметному воплощению идеи формирования ЭПШП? Как расшифровать заявленный Пекином принцип “общей выгоды” применительно к торгово-экономическим связям, которые пронизаны острой конкурентной борьбой? Или все же имеется в виду совсем иное – акцент на создании своего рода мировоззренческой платформы, которая стала бы идейно-философским обрамлением адаптации исходных принципов мирного сосуществования к ведению дел на международной арене?».
Эти вопросы действительно волнуют многие страны, и перед китайскими властями стоит серьезная задача систематизировать и конкретизировать инициативу ЭПШП. Над этим работают многочисленные китайские официальные мозговые центры. Первым результатом стал документ «Видение и действия, направленные на продвижение совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века», опубликованный 28 марта 2015 г. Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством иностранных дел и Министерством коммерции КНР. Документ имеет огромное значение как для системного развития самого Китая, так и для международного сообщества в целом. В нем оба проекта, морской и наземный, объединили в мегапроект «Один пояс – один путь», указаны пять принципов его реализации: содействие развитию транспортной и прочей инфраструктуры, снятие таможенных и нетарифных барьеров для торговли, заключение сети соглашений о зонах свободной торговли (ЗСТ), более широкое использование национальных валют в торговых расчетах, а также укрепление гуманитарных контактов. Однако четких планов и конкретных шагов по реализации мегапроекта в документе нет. Все еще предстоит составить список проектов и предложить привлекательные условия сотрудничества странам, через которые пойдет «Шелковый путь».
Эксперты предложили свое понимание того, что такое ЭПШП и как сделать его привлекательным и жизнеспособным. Во-первых, новая масштабная заявка на реализацию глобальных инфраструктурных проектов. Во-вторых, большая стратегия мирного подъема. В-третьих, новая линия экономической кооперации и развития Китая. В-четвертых, перспектива сотрудничества и развития для сопредельных стран и регионов. В-пятых, практика нового типа дипломатии. И наконец, способ реконструкции международного порядка в Евразии.
До сих пор нет единого мнения о том, к чему прежде всего относится ЭПШП – к сфере геополитики, экономического сотрудничества, дипломатии либо это вообще замах на комплексное возрождение китайской нации. Ученые стремятся обобщить инициативу и считают, что она должна включать страны Европы и Африки, даже всего мира, став механизмом не только расширения экономического сотрудничества и сооружения инфраструктуры, но и развития дружественных отношений с соседями. Следует признать, что расплывчатость проекта, его существа и целей будет оказывать негативное влияние на китайские внешнеполитические практики. Чем быстрее будут разрешены непроясненные вопросы, тем меньше останется пространства для праздных рассуждений, спекуляций и домыслов.
Вне всякого сомнения, Китаю следует уделить этому пристальное внимание. Директор института социального развития стран Европы и Азии при исследовательском центре развития Госсовета КНР Ли Фэнлинь отметил перспективы интеграции российского и китайского проектов.
Как реализовать огромный потенциал
Инициатива Экономического пояса Шелкового пути пока не опирается на теоретические основы. Существующие теории международного и регионального сотрудничества, а также практики стран с переходной экономикой не вполне пригодны для Евразии. Необходима теоретическая поддержка регионального сотрудничества и развития межгосударственных отношений в целом.
Прежде всего нужно задуматься о содержании интеграционной схемы. Обобщая существующие практики, можно выделить по крайней мере три модели.
Первая из них – объединение развитых стран. Наглядный пример – ЕС. Европейская интеграция началась в 50-х гг. прошлого века и имеет несколько аспектов: экономический, политический, дипломатический и военный. Новизна заключается в переходе от сотрудничества к настоящему наднациональному сообществу. Страны-участницы, последовательно проходя этапы развития интеграции, включая ЗСТ, таможенный союз, единое экономическое пространство, экономический союз, шаг за шагом построили наднациональные органы управления. Иными словами, государства Евросоюза должны ломать традиционные границы современного национального государства и передать часть суверенитета, чтобы установить наднациональной механизм регулирования. Эта смелая попытка направлена на создание новой нормы международного и регионального сотрудничества. ЕС реально функционирует и обеспечивает поступательное развитие всех стран единой Европы. Европейский союз стал наиболее успешной и привлекательной моделью региональной интеграции. Одни пытаются стать его членами, другие следуют его примеру.
Вторая модель – интеграция между развивающимися странами. Ее относительно успешным воплощением служит АСЕАН. После окончания холодной войны ассоциация постепенно переходила от сотрудничества в области политики и безопасности к экономическому взаимодействию и в конечном итоге добилась больших успехов в продвижении региональной интеграции. Значение АСЕАН заключается в содействии региональному сотрудничеству с помощью так называемого «пути АСЕАН» (The ASEAN Way). Это понятие обозначает особый подход стран Юго-Восточной Азии к межгосударственному сотрудничеству и основывается на принятии ими основных поведенческих норм, включая достижение консенсуса путем детальных и терпеливых, официальных и неформальных переговоров, а также уважения суверенитета всех государств-членов. Такой подход направлен скорее на избежание конфликтных ситуаций как в отношениях между самими странами объединения, так и в его отношениях с внешними игроками. При этом некоторые ученые отмечали и оборотную сторону – стремление к обязательному консенсусу замедлило создание институтов и снизило их эффективность.
Третья модель – гибридная, с элементами первых двух типов. Например, Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Три государства – Соединенные Штаты, Канада и Мексика – работают вместе, чтобы разрушить традиционные представления, идеологические препоны, дискриминационные политики в отношении развивающихся стран. Они пытаются превратить североамериканскую зону свободной торговли в типичную кооперативную региональную организацию экономической интеграции Север–Юг. НАФТА не только положило начало использованию ЗСТ для продвижения сотрудничества, но и имеет огромный демонстрационный эффект.
Можно ли применить описанные модели к ЭПШП? Следует учесть реальное положение вещей в Евразийском регионе. Во-первых, уровень социально-экономического развития стран Евразии далек от ЕС, и большинство государств с переходной экономикой еще не завершили строительство современного национального государства. Поэтому они очень чувствительны к вопросам национального суверенитета, и им трудно повторить путь Евросоюза. Во-вторых, хотя ЗСТ стала важным стратегическим выбором для углубления сотрудничества во многих частях мира, конкретная ситуация неодинакова, особенно если это касается Китая и стран СНГ и ШОС. Напомню, что Китай еще в 2003 г. предложил программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС, и на второй встрече премьер-министры утвердили эту программу. В ней, в частности, говорится: «До 2020 года государства – члены ШОС будут стремиться к максимально эффективному использованию региональных ресурсов на взаимовыгодной основе, содействовать созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий». Однако торгово-экономические связи между государствами ШОС в основном до сих пор осуществляются на двустороннем уровне. Для экспертов давно не секрет, что страны СНГ и ШОС в целом негативно относятся к китайскому предложению по двусторонней или многосторонней зоне свободной торговли. Они беспокоятся, что ЗСТ с Китаем разрушит их промышленность и сельское хозяйство, обернется огромными экономическими потерями. Если бы целью ЭПШП было создание зоны свободной торговли, результат легко себе представить.
Подтверждение тому – Совместное заявление Российской Федерации и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути», принятое на саммите в Москве 8 мая 2015 года. В документе говорится о начале переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и о рассмотрении долгосрочной цели продвижения к зоне свободной торговли между ЕАЭС и Китаем. Иными словами, документ фиксировал готовность отложить чувствительный вопрос о создании ЗСТ на будущее. Сейчас в Евразии нет благоприятных условий для создания ЗСТ между развитыми и развивающимися странами, поэтому гибридная модель тоже не подходит.
Некоторые дефекты имеет и интеграционная модель АСЕАН. В их числе, например, низкая эффективность механизма управления, рыхлость институтов, однако принципы консенсуса и консультации между странами полезны для строительства ЭПШП.
Что касается Транстихоокеанского партнерства (TТП), то оно ломает традиционный торговый режим, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения о свободной торговле, охватывающего все товары и услуги. Наибольшее внимание привлекает механизм урегулирования споров между инвесторами и государством (ISDS), который предоставляет частным инвесторам право подавать в суд на государство за нарушение TТП. С помощью этого механизма иностранные инвесторы получают возможность оспаривать любые регулятивные или директивные меры государства, если считают, что они нарушают право доступа на рынок или ведут к снижению инвестиционной стоимости. По всей видимости, это приведет к сокращению законодательной деятельности и даже бросит вызов национальному суверенитету. Западные индустриальные страны создают региональную организацию нового типа, чтобы вернуть себе контроль над мировым торговым порядком. Очевидно, что такая модель сотрудничества не подходит для большинства государств в Евразии, к тому же они не готовы принять все критерии ТТП. Поэтому ЭПШП в обозримом будущем не будет следовать стандартам TТП.
Таким образом, имеющиеся образцы региональной интеграции не подходят ЭПШП. В отличие от региональной интеграции в традиционном смысле (создание наднациональных институтов и формирование эксклюзивного регионального таможенного союза) и нового типа интеграции, представленного ТТП с его высокими стандартами, ЭПШП должен основываться на принципах единогласия путем детальных и терпеливых переговоров, равноправия, уважения суверенитетов всех государств и невмешательства во внутренние дела.
На фоне эрозии глобализации и распространения новой волны регионализации ЭПШП должен позиционироваться как новая модель регионального сотрудничества и обоюдного выигрыша.
После кризиса 2008 г. в международных отношениях происходят глубокие изменения, обостряется конкуренция между великими державами. Последствия спада продолжают сказываться, идет медленное восстановление мировой экономики, назревает новый раунд глубокой перестройки правил международной торговли и инвестиций. С одной стороны, процесс глобализации сталкивается с новым сопротивлением; с другой – происходит бурное развитие региональной интеграции. При этом на региональном уровне выявились многочисленные противоречия и факторы нестабильности.
После окончания холодной войны США как единственная сверхдержава стремятся предотвратить любой вызов своему господству. Америка рассматривает КНР в качестве условного противника, постоянно создает и укрепляет «кольца окружения» нашей страны, что напрямую отражается на безопасности Китая. На фоне бурного развития КНР Соединенные Штаты активизируют политику в АТР, чтобы сохранить статус сверхдержавы. В ноябре 2011 г. администрация Барака Обамы выдвинула концепцию «тихоокеанского разворота» (Pacific Pivot) и объявила о возвращении США в Юго-Восточную Азию, а также о вмешательстве в проблемы Южно-Китайского моря.
В военно-политической сфере американский «тихоокеанский разворот» связан с дальнейшим и более активным переоснащением сил ВМС и ВВС, развертыванием системы ПРО в регионе, развитием различных форматов сотрудничества в сфере безопасности с новыми и старыми региональными союзниками (Япония, Республика Корея) и партнерами (Филиппины, Вьетнам). Китай все больше ощущает политическое и силовое давление США, в особенности в связи с эскалацией напряженности вокруг спорных районов Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Американский фактор играл значимую роль в дестабилизации отношений Китая с его южными и восточными соседями.
По словам главы исследовательского фонда «Стратфор» Джорджа Фридмана, одной из важнейших стратегических целей Соединенных Штатов является недопущение возникновения в Евразии сверхдержавы, способной объединить население и ресурсы континента. Появление подобного тяжеловеса могло бы в корне изменить глобальный баланс сил, подорвав американское лидерство. В связи с этим конечный императив доминирующей державы США состоит в том, чтобы не допустить появления соперника в Евразии. Для этого надо поддерживать раздробленность Евразии, существование там такого количества враждебных друг другу держав, какое только возможно. Эта долгосрочная стратегия наталкивается на возрождение России. Поэтому нетрудно понять, почему кризис на Украине резко обострил конкуренцию между Соединенными Штатами и Россией. Вне всякого сомнения, противоречия в американо-российских отношениях оказывают негативное влияние на стабильность и мир в Евразии и не только.
Решение президента Обамы вывести войска из Ирака и Афганистана не покончило с многолетним конфликтом в регионе. Кроме того, в конце сентября 2015 г. Россия в первый раз после распада Советского Союза направила воздушно-космические войска за пределы постсоветского пространства для проведения военных операций в Сирии против «Исламского государства» и глубоко втянулась в ближневосточные дела. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему неустойчива, и за короткое время это вряд ли изменится.
Мировое экономическое развитие после финансового кризиса полностью не вышло из стагнации, традиционный торговый протекционизм восстанавливается. США пытаются переписать правила многосторонней торговли и инвестиций, в обход Всемирной торговой организации (ВТО) продвигая свои инициативы Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Американцы также предприняли усилия для активизации диалога со странами АСЕАН в экономической области в рамках программы «Расширенного экономического вовлечения США – АСЕАН» (U.S. – ASEAN Expanded Economic Engagement, E3) для того, чтобы разработать глобальные торговые правила нового раунда. В указанных группах почти исключено участие быстроразвивающихся стран во главе с Китаем и Россией.
5 октября 2015 г. в Атланте (США) достигнуто соглашение по Транстихоокеанскому партнерству между 12 странами. TТП – один из важнейших приоритетов политики США в АТР, он считается большой внешнеполитической победой президента Барака Обамы. Этот существенный прорыв означает, что индустриальные страны Запада ускоряют темпы создания нового типа региональных организаций на основе рыночного сотрудничества высокого уровня. Несомненно, TТП не только играет направляющую роль в развитии нового типа многосторонних и двусторонних форм экономической кооперации, но и бросает вызов будущему региональному взаимодействию. Нельзя полностью исключить возможность жесткой конкуренции как внутри региона, так и между регионами.
Китай не может строить ЭПШП по этому принципу и подключаться к жесткой региональной конкуренции, он должен предлагать новую открытую модель регионального сотрудничества и обоюдного выигрыша.
В-третьих, ЭПШП может позиционировать себя как новую модель межрегиональной интеграции. Особое внимание следует уделить тому, как избежать конфликтов между различными региональными механизмами сотрудничества. 7 мая 2009 г. Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство». Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине предлагалась свободная торговля, либерализация визового режима и европейское будущее, чтобы обеспечить региональную безопасность и разрешение конфликтов на территории сопредельных стран и регионов. В то же время Россия прилагала усилия для присоединения соседей к Евразийскому экономическому союзу.
Формально между Москвой и Брюсселем нет непреодолимых противоречий относительно развития на территории сопредельных стран и регионов. Тем не менее конкуренция между интеграционными проектами привела к серьезному кризису на Украине. По мнению Михаила Троицкого и Самуэля Чарапа, фундаментальная причина обостряющейся враждебности между Москвой и Брюсселем заключается не в геополитическом или цивилизационном противоборстве, а в известном феномене «дилеммы интеграции». Перед ней оказывается государство, воспринимающее в качестве угрозы своей безопасности или благополучию интеграцию соседей в недоступные для него самого экономические организации или военные блоки. Дилемма интеграции возникает в первую очередь вследствие закрытости этих объединений. Для государств, которые исключены из интеграционных инициатив, открытых соседям, интеграция превращается из взаимовыгодного процесса в игру с нулевой суммой. Проявить умеренность при выборе ответа на действия других международных субъектов сложно, поскольку правительства исходят из наихудших предположений относительно мотивов и целей этих субъектов. Подобные допущения часто становятся причиной эскалации, особенно когда возможности коммуникации между государствами ограничены. Негативные последствия для всех участников возрастают на каждом новом витке конкуренции.
ЭПШП также сталкивается с проблемой дублирования структур региональной интеграции. Китай не может повторить ошибки ЕС и России. Более разумным выбором является активный поиск новой модели межрегионального или трансрегионального сотрудничества. Она призвана предоставить платформу и эффективные механизмы для своевременного диалога и плодотворного взаимодействия, чтобы проекты региональной интеграции могли не только адаптироваться к разнообразию социально-экономического развития в Евразии, но и выйти за рамки региона с большей открытостью.
ЭПШП как целесообразный выбор развития Китая
С начала проведения политики реформ и открытости Китай был сторонником и инициатором региональной кооперации и уже добился на этом пути значительных успехов. Тем не менее как новый игрок в мировом сообществе КНР все еще отстает от стран-передовиков в области регионального сотрудничества.
На наш взгляд, ЭПШП может рассматриваться как долгосрочное направление, определяющее развитие Китая. Если это только «концепция», она, наверное, не может адекватно отражать ряд практических шагов, которые Китай уже сделал для содействия региональному развитию. Если это «стратегия комплексного развития», еще предстоит определить краткосрочные и долгосрочные цели, а также пройти сложный путь взаимодействия с заинтересованными государствами, чтобы в конечном счете получить взаимовыгодные результаты.
В ближайшей перспективе разумным выбором является метод проб и ошибок – узнать партнеров путем совместных проектов. Вместо того чтобы создавать новые региональные механизмы сотрудничества, приводящие к возникновению конфликтов, Китай должен постепенно продвигать свой проект. Древний китайский мудрец Лао Цзы сказал: «Высшее благо подобно воде. Вода благоволит всему сущему, но – ни с кем не соперничая». ЭПШП, как текущая вода, может распространяться повсюду, избегая конфликтов с существующими механизмами сотрудничества и преодолевая инерцию мышления «победитель получает все». Реализация зависит от переговоров по конкретным проектам и подписания двусторонних или многосторонних соглашений.
До сих пор Западная Европа и Восточная Азия, расположенные на противоположных концах Евразийского континента, имели относительно хорошие условия и возможности для развития, однако Центральная Евразия сталкивается с многочисленными трудностями и проблемами из-за неблагоприятных условий окружающей среды. Продвижение трансрегионального сотрудничества на Евразийском континенте можно рассматривать как долгосрочную фундаментальную линию в будущем ЭПШП. Если Евразия обретет возможности для всестороннего развития, это будет выгодно всем евразийским странам как самостоятельным субъектам, активно участвующим в региональных процессах. Инициатива ЭПШП может считаться вкладом китайского народа в содействие региональному развитию, но продвижение нового межрегионального сотрудничества будет длительным и трудным процессом. Успех во многом зависит от того, сможет ли Китай надлежащим образом разрешить ключевые внутренние и внешние проблемы в области политики и экономики, максимально учитывая потребности заинтересованных стран. Только при таком подходе все страны региона справятся с многочисленными проблемами и реализуют огромный потенциал развития, вместо того чтобы тратить ценное время и ограниченные ресурсы на соперничество друг с другом.

Без паники
Что на самом деле означает Транстихоокеанское партнерство
Сергей Афонцев – доктор экономических наук, заведующий Отделом экономической теории ИМЭМО РАН, содиректор Научно-образовательного центра по мировой экономике ИМЭМО РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор МГИМО (У) МИД России.
Резюме Анализ текста соглашения о Транстихоокеанском партнерстве приводит к выводу, что по состоянию на осень 2015 г. и Россия, и Китай не были готовы ни подписать его, ни предложить участникам переговоров аргументы, которые побудили бы их изменить формат.
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) имеет все шансы стать переломным моментом в развитии процессов регионального экономического сотрудничества. После того как улеглась первая волна и восторгов, и гневных филиппик в адрес соглашения о его создании, имеет смысл задать главный вопрос – в чем состоит его подлинная новизна для мировой экономики и политики?
За последние годы мы стали свидетелями целой серии региональных инициатив – от стремительного по историческим меркам формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), основанного на принципах глубокой интеграции, до активно обсуждаемого Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТТИП) и продвигаемого Китаем «зонтичного» проекта «Один пояс – один путь» («Новый Шелковый путь»), сопряжение которого с проектом ЕАЭС стало одной из приоритетных тем российской внешней политики и экспертных дискуссий в 2015 году. В чем специфика ТТП на фоне всех этих инициатив?
С одной стороны, речь идет о формальном статусе соглашения о ТТП в сравнении с другими соглашениями, направленными на интенсификацию регионального экономического сотрудничества. С другой стороны, необходимо разобраться со степенью «преемственности» и «новаторства» механизмов управления глобальными экономическими процессами, основа которых была заложена этим документом. В конечном итоге именно от эффективности функционирования соответствующих механизмов будет зависеть как судьба самого ТТП, так и влияние, которое оно окажет на будущее процессов формирования региональных экономических объединений – и на будущее мировой экономики в целом.
Ответ на вопрос о формальном статусе соглашения может показаться обескураживающе тривиальным. Несмотря на громкое название «партнерство», ТТП представляет собой стандартный региональный экономический блок, построенный по принципу «зона свободной торговли плюс» (ЗСТ+), т.е. предполагающий устранение большинства ценовых и количественных барьеров во взаимной торговле товарами (собственно режим ЗСТ), дополненное развернутым набором мер по либерализации торговли услугами, инвестиционно-технологического сотрудничества, гармонизации стандартов и т.п. В этом отношении ТТП мало чем отличается от других блоков, основанных на принципе ЗСТ+ – таких, например, как НАФТА или Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Как и они, ТТП опирается на нормы ВТО, сохраняет свободу рук стран-участниц в экономических отношениях с третьими странами и не претендует на углубление интеграционных процессов в регионе через создание таможенного союза или общего рынка.
Перечисленные обстоятельства имеют принципиальное значение. На сегодняшний день формат ЗСТ+ является доминирующим при создании региональных блоков в рамках модели, которая получила название «нового регионализма». Характерными чертами данной модели являются преобладание экономических мотивов при разработке и заключении соглашений, низкий уровень институционализации, сохранение высокой степени автономии национальных правительств при принятии решений в рамках регионального блока и полной автономии – при выстраивании экономических отношений с третьими странами, а с точки зрения членства – участие государств со значительными различиями в уровнях экономического развития. Именно эти различия играют определяющую роль в сдерживании углубления интеграции в рамках модели «нового регионализма». При доминировании экономических мотивов взаимодействия у стран, несхожих по уровню экономического развития (а значит, и по структуре вызовов, стоящих перед национальными экономиками), отсутствуют стимулы к использованию единого таможенного тарифа в торговле с третьими странами (т.е. от формата ЗСТ+ перейти к формату таможенного союза), не говоря уже о более глубокой гармонизации норм регулирования процессов, протекающих в национальной экономике.
Антиподом «нового регионализма» является модель «глубокой интеграции» (она же «традиционная», или «европейская»), которая предусматривает последовательное прохождение основных ступеней интеграционного взаимодействия (от ЗСТ через таможенный союз и общий рынок – к экономическому и валютному союзу, предполагающему введение единой валюты, а в предельном случае – к политическому союзу). Данная модель предполагает более выраженную роль политических мотивов интеграции, высокую степень институционализации принятия решений, передачу их на наднациональный уровень и скоординированную политику развития сотрудничества с третьими странами (в т.ч. применение единого таможенного тарифа в торговле с ними). Важной предпосылкой успеха данной модели является близкий – и достаточно высокий – уровень экономического развития государств-членов, позволяющий им, с одной стороны, вырабатывать общие ответы на общие вызовы, а с другой – обеспечивать высокий уровень торгово-инвестиционного взаимодействия внутри блока. Неудивительно, что единственным региональным блоком, успешно развивающимся по модели «глубокой интеграции», длительное время был Европейский союз, а проблемы, с которыми он столкнулся в последнее десятилетие, многие исследователи небезосновательно ассоциируют с нарастанием гетерогенности стран-членов в результате последовательных волн расширения за счет менее развитых государств континента.
В условиях почти десятикратного разрыва в уровнях ВВП на душу населения между США и Вьетнамом (52,1 и 5,4 тыс. долларов по паритету покупательной способности в 2014 г.) неудивительно, что модель «нового регионализма» в наибольшей мере подходит для ТТП. Как и другие соглашения в рамках, основанных на данной модели региональных блоков, соглашение о ТТП не противоречит нормам ВТО и не предъявляет странам-участницам каких-либо требований, несовместимых с их обязательствами перед данной международной организацией. В этом отношении нет оснований полагать, что функционирование ТТП каким-то образом подорвет или обесценит принципы ВТО. Как показывает опыт, значимые риски для ВТО гораздо чаще создают проекты «глубокой интеграции» – особенно тогда, когда ставки пошлин, предусмотренные единым таможенным тарифом, оказываются выше ставок, принятых странами при вступлении в ВТО. Данную проблему, в частности, придется решать в рамках ЕАЭС после того, как к нему присоединились Киргизия и Армения, которые при переходе к ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС будут вынуждены в ряде случаев нарушить свои обязательства по максимально допустимому уровню импортных таможенных пошлин, принятые при вступлении в ВТО. Попутно заметим, что разрыв в уровне ВВП на душу населения между Россией и Киргизией (7,3 раза) лишь немногим меньше, чем между США и Вьетнамом, что может дать повод для размышлений о том, является ли формат интеграции ЕАЭС оптимальным с точки зрения дальнейшего развития экономического сотрудничества на постсоветском пространстве.
Новые ориентиры глобального экономического управления
Если с формальной стороны соглашение о ТТП не несет в себе ничего принципиально нового, то содержательно оно представляет собой беспрецедентный шаг вперед, значение которого выходит далеко за рамки вопросов регионального экономического сотрудничества. Соглашение накладывает дополнительные требования по сравнению с обязательствами, связанными с членством в ВТО, а также охватывает широкий круг регуляторных вопросов, которые в настоящее время к компетенции ВТО не относятся. Именно в этом смысл опасений, что ТТП может лишить ВТО ведущей роли в регулировании мировой торговли. Представляется, впрочем, что более правомерным было бы говорить о появлении новых ориентиров в регулировании глобальных экономических процессов, на которые ВТО (и другим международным экономическим организациям) неизбежно придется оглядываться в будущем. О каких же новшествах идет речь?
Во-первых, соглашение о ТТП предусматривает радикальное усиление защиты прав интеллектуальной собственности (т.н. режим ТРИПС+). С одной стороны, это отражает ведущую роль активов, основанных на интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, программное обеспечение, медиапродукты и т.п.), в современных процессах международной торговли (особенно торговли услугами) и трансграничного инвестирования. С другой – соответствует реальным проблемам региона, где весьма вольное (выражаясь дипломатично) отношение к объектам интеллектуальной собственности традиционно представляет весьма болезненную проблему для правообладателей.
Во-вторых, в рамках ТТП предусмотрен беспрецедентно высокий уровень защиты прав инвесторов, которые в числе прочего получили возможность в случае возникновения спорных ситуаций с правительствами суверенных государств обращаться в международные судебные инстанции, находящиеся вне национальных юрисдикций. Отношение к этим нововведениям демонстрирует радикальную поляризацию – от приветствий в адрес окончания эры «безнаказанных конфискаций частных активов безответственными правительствами» до эмоциональных протестов против «триумфа международных корпораций над общественными интересами». О последствиях принятых решений можно будет судить только по прошествии нескольких лет (в частности, на основе реальной судебной практики), но уже сейчас можно сказать, что благодаря повышению гарантий защиты инвесторов страны ТТП имеют все шансы кардинально упрочить позиции в международной конкуренции за инвестиционные ресурсы.
В-третьих, соглашение о ТТП стало первым региональным блоком, где в контекст вопросов экономического регулирования включены экологические и трудовые стандарты. Наиболее важное значение имеет прямой запрет использовать заниженные стандарты в соответствующих областях для создания искусственных преимуществ (например, за счет низкого уровня заработный платы в отраслях, где запрещена деятельность независимых профсоюзов) и обеспечения инвестиционной привлекательности (например, за счет отсутствия действенной системы штрафов за загрязнение атмосферы и водных ресурсов). За введение соответствующих норм уже давно выступали не только бизнес-субъекты, действующие на территории экономически развитых стран, но и экологические и гуманитарные НПО по всему миру. ТТП впервые сделало их предложения реальностью.
Число регуляторных сфер, где благодаря соглашению о ТТП были сделаны значимые шаги вперед, можно перечислять долго – от электронной торговли и механизмов обмена информацией до либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией, от торговли финансовыми услугами до поддержки малого и среднего бизнеса. Однако в качестве четвертого из ключевых новшеств ТТП хочется упомянуть не их, а нечто менее очевидное – а именно виртуозный уровень «расторговки» вопросов, представляющих интерес (либо, наоборот, вызывающих опасения) для отдельных участников ТТП. Действительно, по четкости согласования интересов стран-членов ТТП на сегодняшний день не имеет себе равных, что обеспечило, в частности, неожиданно быстрый прогресс в разработке и подписании соглашения (еще год назад большинство экспертов были убеждены, что ТТИП между США и ЕС будет создано быстрее, чем ТТП, однако на практике все оказалось наоборот).
Основа успеха переговоров по ТТП заключается в тесной увязке уступок конкретных государств странам-партнерам со встречными выгодами, полученными в ответ. Логика подобных сделок прослеживается как в вопросах внутриотраслевой торговли (наиболее яркий пример – либерализация торговли автомобилями между США и Японией), так и в более сложных межсекторальных цепочках уступок и выгод, отслеживание которых порой напоминает распутывание сюжетных линий детективного романа (как в случае Вьетнама, покладистость которого в сфере экологических и трудовых стандартов, защиты инвесторов и интеллектуальной собственности щедро «оплачена» встречными уступками в вопросах доступа на рынки, торговли текстильной продукцией и продолжительности переходного периода, в течение которого страна может сохранять прежний режим регулирования отдельных аспектов экономической деятельности). Анализ логики соответствующих переговорных сделок применительно к конкретных странам и регуляторным сферам представляет собой предмет самостоятельной статьи, однако даже беглый взгляд на содержание тематических разделов соглашения о ТТП и страновых обязательствах свидетельствует не в пользу ходульного утверждения о том, что оно «отвечает исключительно интересам США». Выгоды от ТТП будут носить взаимный характер – в противном случае соглашение никогда не было бы подписано.
Во многом данное обстоятельство объясняется тем, что для Соединенных Штатов ТТП является частью более широкого стратегического плана, связанного с укреплением американского лидерства в управлении международными процессами. Известное высказывание президента Барака Обамы о том, кто должен – и кто не должен – «писать правила глобальной экономики», исчерпывающим образом объясняет готовность США к заключению переговорных сделок с партнерами по ТТП (которые, в свою очередь, руководствуются исключительно экономическими интересами и готовы признать претензии американцев на лидерство – за соответствующую плату). Неудивительно, что главным бенефициаром таких сделок (а по мнению ряда экспертов – и главным бенефициаром ТТП в целом) стал Вьетнам, который, как предполагается, благодаря ТТП может быть «вырван» из сферы стратегического влияния Китая. Соответствующие рассуждения, однако, относятся к странам – членам ТТП. А как быть с теми, кто остался «за бортом»?
Тяжело ли быть аутсайдером?
Тот факт, что две значимые экономики АТР – Китай и Россию – не пригласили к участию в переговорах по ТТП, часто рассматривается как основание для обвинения проекта в закрытости и конфронтационности. В то же время нельзя не отметить, что многие критические стрелы, выпущенные с китайской и российской стороны в адрес соглашения о ТТП, на самом деле бьют мимо цели.
Во-первых, закрытость обсуждения, о которой так много говорилось в последние месяцы, на самом деле отражает стандартную практику международных торговых переговоров – достаточно вспомнить многолетние консультации о присоединении России к ВТО, которые тоже регулярно обвиняли в «кулуарности и закулисности». Консультации по созданию ЕАЭС, равно как и переговоры вокруг торговых соглашений Китая (например, соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, подписанного в июне 2015 г.), также трудно назвать эталоном открытости и транспарентности. И неспроста. Утечка информации в ходе переговоров может стоить дорого, порой заставляя начинать заново обсуждение вопросов, согласие по которым было почти достигнуто.
Во-вторых, сетования на то, что «Китай и Россию не пригласили на переговоры», очевидным образом игнорируют саму природу переговоров, о которых идет речь. В отличие от переговоров по широким вопросам политики и безопасности, торговые консультации по определению проходят с участием только тех сторон, которые намерены подписать итоговые договоренности. Анализ текста соглашения о ТТП неизбежно приводит к выводу, что по состоянию на осень 2015 г. ни Россия, ни Китай не были готовы ни поставить подпись под этим текстом, ни предложить фактическим участникам переговоров аргументы, которые побудили бы их изменить формат соглашения. В этих условиях приглашение России и Китая фактически означало бы приглашение «прийти, чтобы уйти» – вариант, с имиджевой точки зрения гораздо более болезненный для обеих стран по сравнению с фактически реализованным сценарием под кодовым названием «Нас не позвали».
Наконец, в-третьих, нередко можно услышать, что заключенное соглашение наносит России и Китаю (как и другим аутсайдерам) экономический ущерб ввиду того, что произведенные ими товары и услуги окажутся в странах ТТП в менее привилегированном положении. Здесь, однако, необходимы две важные оговорки. С одной стороны, потенциальные привилегии по доступу на рынок в рамках ТТП имеют цену в виде жестких обязательств (защита инвесторов, экологические и трудовые стандарты и т.п.), в принятии которых ни Россия, ни Китай с самого начала не были заинтересованы. С другой стороны, эффект реориентации торговли (переключение торговых потоков на рынки партнеров в ущерб внеблоковым странам) представляет собой стандартное следствие заключения региональных торговых соглашений, для борьбы с которым на сегодняшний день не существует ни эффективных механизмов, ни – что главное – международно-правовых оснований. Сколь бы досадным данное обстоятельство ни было для стран-аутсайдеров, оно выполняет важную функцию в международной системе, не позволяя аутсайдерам торпедировать не устраивающие их интеграционные инициативы (легко представить себе, сколько желающих нашлось бы противодействовать ЕАЭС со ссылкой на ущерб третьим странам!). Действовать уговорами или протестами тоже нет смысла – чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о попытках России добиться учета своих экономических интересов в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Если добрую волю не готовы проявить даже ближайшие торговые партнеры России, ожидать ее от ведущих экономик АТР тем более не приходится.
Какая реакция возможна на вызовы, возникшие в связи с созданием ТТП? Для России присоединение к этому региональному блоку в ближайшие годы невозможно ни политически (в контексте приоритетной ориентации на построение «многополярного мира»), ни экономически – с учетом усиления протекционистских тенденций и стратегии импортозамещения. Важно, что нормы соглашения о ТТП распространяются только на экономические отношения между странами, подписавшими его, но не на их отношения с третьими государствами. Это означает, что Россия будет иметь возможность продолжать сотрудничество с членами ТТП, опираясь на сформированную ранее правовую базу двусторонних отношений.
Что касается Китая, то, если рассматривать исключительно экономическую (или, скорее, технократическую) сторону вопроса, весьма вероятно, что в течение 3–5 лет китайское руководство решит начать переговоры о присоединении к ТТП для интенсификации реформ в национальной экономике, подобно тому как в свое время для достижения той же цели были использованы переговоры о присоединении к ВТО. Однако, если оставить в стороне технократические иллюзии, то нельзя не признать, что участие Китая в проекте управления международными экономическими процессами, инициированном США и открыто позиционируемом ими как альтернатива китайскому влиянию в АТР, относится скорее к области политико-экономической фантастики.
С высокой степенью вероятности можно ожидать, что ответ Пекина будет связан в первую очередь с попытками форсировать собственные региональные инициативы – благо их в арсенале китайского руководства достаточно. Наиболее амбициозный проект Китая, предполагающий создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), на сегодняшний день является и самым малореалистичным. Приходится признать непреложный факт: после создания ТТП любой проект экономического сотрудничества, претендующий на «общерегиональный» характер в масштабах АТР, так или иначе будет ориентироваться на стандарты ТТП, и, как следствие, едва ли сможет стать его альтернативой. Более перспективными являются «менее инклюзивные» проекты в формате трехсторонней ЗСТ Китай–Япония–Южная Корея, а также форматы АСЕАН+3 и АСЕАН+6 (который в Китае предпочитают именовать «Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство»). Наконец, остается еще проект «Новый Шелковый путь», который, хотя и не предусматривает формирования полноценного регионального блока, призван дополнять «тихоокеанские» инициативы Китая западным вектором экономической экспансии.
В отличие от Китая, у России вариантов активного реагирования на ТТП существенно меньше. С одной стороны, у России нет собственных проектов развития многостороннего сотрудничества в АТР. На протяжении последних пяти лет (фактически со времен подготовки саммита АТЭС во Владивостоке) Россия выражала готовность участвовать в обсуждении возможных подходов к либерализации торговли и инвестиций в регионе, но не предлагать проекты соответствующих соглашений и бороться за их подписание. Нынешнее «нарастание позитива» в адрес АТЗСТ отражает скорее желание «дружить против ТТП» и не отменяет тот факт, что Россия на сегодняшний день не готова подписывать многосторонние соглашения о свободной торговле со странами АТР. В этих условиях вполне логичным представляется отказ президента Владимира Путина от поездки на саммит АТЭС в ноябре 2015 г. – после подписания соглашения о ТТП у АТЭС в принципе аннигилировалась стратегическая интеграционная повестка, которую имело бы смысл обсуждать с участием российского президента.
С другой стороны, в условиях острого экономического кризиса и резкого падения объемов внешней торговли (российский экспорт в страны АТЭС в январе-октябре 2015 г. сократился на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, падение импорта оказалось еще больше – 35,2%), вопросы реализации региональных инициатив, требующих многолетней кропотливой подготовки, явно уступают краткосрочным проектам, обещающим быстрый политический эффект. В этих условиях сложившееся в последние годы обыкновение не оставлять ни одного мало-мальски значимого международного вызова без мгновенной реакции Москвы может сыграть с нами злую шутку. Это относится и к прозвучавшему в начале декабря призыву Путина «вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании возможного экономического партнерства». Сторонникам буквального истолкования данного призыва полезно помнить, что в случае ТТП за словом «партнерство» скрывается соглашение о создании регионального блока в формате ЗСТ+, предполагающего в первую очередь максимальную либерализацию торговли товарами. С кем из партнеров по ШОС и АСЕАН мы готовы подписать такое соглашение – большой вопрос. И решаться он должен на двусторонней, а не многосторонней основе – подобно тому, как в 2015 г. был решен вопрос о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Поддержка российских инвестиций для создания на территории Вьетнама конкурентоспособных производств, работающих на рынки ТТП – вот лучший ответ России на появление нового регионального блока. А на будущее – можно подумать и о заключении соглашений о свободной торговле с другими странами ТТП, например, с Сингапуром и Малайзией, которые, в числе прочего, могут оказаться полезными партнерами по технологическому сотрудничеству в условиях режима экономических санкций.
Что же касается самого ТТП, то лучшей стратегией по отношению к нему является наблюдение и оценка применимости его опыта в интеграционных проектах, реализуемых с участием России. В конце концов, нет ничего негативного в том, что нас не позвали на переговоры по соглашению, которое мы в любом случае не готовы были подписывать. Мы чужие на этом празднике жизни – но никто не мешает нам наблюдать салют и запоминать приемы, которые, возможно, пригодятся при организации нашего собственного праздника.

Мегарегиональный вызов
В поисках выхода из торговых лабиринтов новой эпохи
Алексей Портанский – кандидат экономических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.
Резюме В мире нет игроков, которые стремились бы избавиться от Всемирной торговой организации. Предстоит долгий процесс гармонизации между многосторонним форматом ВТО и региональными либо мегарегиональными форматами (ТТП и ТТИП).
Современная глобальная экономика не так часто балует новостями, которые разом меняют привычную картину и приковывают всеобщее внимание. Масштабные перемены обычно растягиваются на десятилетия, как, например, появление на мировой экономической арене на рубеже ХХ–XXI веков новых лидеров в лице Китая, Индии, Бразилии. В минувшем 2015 г. как раз произошли события, воздействие которых на мировую экономику и торговлю скорее всего будет ощущаться в ближайшие годы.
ТТП: стандарты и правила нового уровня
Новость из Атланты 5 октября 2015 г. – завершились переговоры между 12 странами АТР о создании Транстихоокеанского партнерства – стала сенсацией (никто не ожидал, что все произойдет так быстро), приковала всеобщее внимание и заставила говорить об изменениях в глобальной экономике. И они действительно грядут через пару лет, когда закончится процесс ратификации соглашения по ТТП, если учесть, что на нынешних участников будет приходиться около 40% мирового ВВП и 30% мировой торговли. К тому же эти доли, вероятно, увеличатся, ибо о намерении присоединиться к ТТП на начало декабря прошлого года заявили уже пять стран.
ТТП стало первым реализованным торговым соглашением нового формата, именуемого мегарегиональным – МРТС (Megaregional Trade Agreement – MRTA). Его подписали 12 государств: Австралия, Бруней, Новая Зеландия, Вьетнам, Сингапур, США, Канада, Чили, Япония, Мексика, Малайзия, Перу. Другим МРТС, торгово-экономический вес которого обещает превзойти аналогичные показатели ТТП, может стать Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) между США и ЕС, переговоры по которому продолжаются. Ведущая роль в обоих партнерствах принадлежит Соединенным Штатам. Наконец, третьим МРТС является Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП) между Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и Новой Зеландией. В нем видится некий «китайский противовес» ТТП, хотя ряд стран одновременно участвуют и в том, и в другом формате.
О Транстихоокеанском партнерстве сказано и написано уже немало, хотя текст соглашения еще предстоит детально проанализировать. Но уже очевидно, что это договоренности совершенно нового типа, содержащие самые высокие из известных сегодня в международной торговле стандарты и нормы, которых пока нет в ВТО, в том числе правила инвестирования, современные трудовые стандарты, нормы по защите окружающей среды и пр.
Реализация ТТП – один из основных пунктов в повестке администрации Обамы. При этом Вашингтон открыто указывает на свою лидирующую роль в проекте: говоря о ТТП весной 2015 г., президент Обама подчеркнул, что США не могут позволить таким странам, как Китай, писать правила глобальной экономики. Отсутствие КНР среди участников свидетельствует, что одна из важнейших его целей – сдерживание Поднебесной. Разумеется, прямым текстом Вашингтон никогда не говорил, что путь в ТТП для Китая закрыт. Осенью 2015 г. госсекретарь Джон Керри даже официально пригласил Пекин, а также Москву присоединиться к партнерству. Однако еще до этого громкого заявления Вашингтон однозначно давал понять Пекину, что для участия в ТТП ему необходимо пройти через предварительные договоренности с Вашингтоном, что выглядело унизительно для второй в мире экономики.
Сдерживание Соединенными Штатами Китая в регионе выходит за торгово-экономические рамки и включает военно-стратегический аспект, который обусловлен особым положением Южно-Китайского моря (ЮКМ). Ежегодно через его акваторию перемещается товаров более чем на 5 трлн долларов, что составляет четверть мировой торговли. Из стран Восточной Азии по водам ЮКМ идут контейнеровозы с промышленной продукцией, а с Ближнего Востока в обратном направлении движутся танкеры с нефтью и сжиженным газом. Южно-Китайское море можно считать самой напряженной в мире и важнейшей для глобальной экономики океанской трассой. Для Китая данный район – чувствительная артерия, через которую проходит около 60% его внешней торговли. Стремясь усилить контроль над акваторией ЮКМ, Пекин использует, в частности, практику расширения территориальных вод путем создания искусственных островов. В ответ военные корабли США демонстративно нарушают вводимые китайской стороной запреты – минувшей осенью американский флаг в ЮКМ продемонстрировали атомный авианосец «Теодор Рузвельт» и боевой ракетный корабль «Лассен». Обеспокоенность Пекина присутствием в ЮКМ Седьмого флота, способного перерезать его торговые коммуникации, привела к серьезному обострению отношений между Пекином и Вашингтоном.
Однако даже в условиях прямого давления с использованием военной силы Китай сохраняет самообладание и проявляет сдержанность, думая прежде всего о будущем своей экономики, а не о демонстрации готовности дать военный отпор Америке.
ТТИП: интрига сохраняется
ТТИП обещает быть еще более внушительным по своему торгово-экономическому потенциалу – его доля в мировом ВВП составит порядка 50%, а в мировой торговле – около 40%. Побудительным мотивом для начала переговоров о зоне свободной торговли между ЕС и США стало отсутствие прогресса на многосторонних переговорах Дохийского раунда в рамках ВТО. На очередном саммите в ноябре 2011 г. лидеры Соединенных Штатов и Евросоюза приняли решение о создании рабочей группы для поиска путей активизации экономического роста и конкурентоспособности. В феврале 2013 г. эта рабочая группа представила рекомендации о «всеобъемлющем» торговом соглашении, получившем название «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство».
Но ТТИП – это не только торговля. По словам официального представителя Госдепа Виктории Нуланд, ТТИП – это больше чем торговое соглашение, это политическая и стратегическая ставка, которую обе стороны совместно делают на будущее. Брюссель на словах разделяет такой подход, однако на практике время от времени заявляет о своих озабоченностях и невозможности компромиссов по целому ряду вопросов.
Переговоры между США и Евросоюзом о создании ТТИП начались в июле 2013 года. Их конечной целью является упрощение доступа на рынки для товаров и услуг и создание таким образом крупнейшей зоны свободной торговли между двумя самыми важными экономическими регионами мира. Другими двумя ключевыми моментами стали Комплексное соглашение по защите инвестиций, включая так называемый орган урегулирования споров между инвестором и государством (ISDS), призванный стимулировать иностранные инвестиции, а также Совет по взаимодействию в сфере регулирования. Предполагается, что TTИП станет самым комплексным и масштабным региональным соглашением по либерализации торговли, и, как следствие, будет оказывать существенное влияние на мировую торговлю. Безусловно, ТТИП сможет обладать внушительным потенциалом, однако это достоинство не избавляет его от возможных рисков.
Общая цель TTИП – способствовать динамике развития, занятости и росту благосостояния по обе стороны Атлантики. Для Вашингтона партнерство является частью американского плана удвоения экспорта и ускорения восстановления экономики после кризиса. Вполне вероятно, что дальнейшее международное разделение труда и специализация способны снизить производственные затраты компаний, а значит и цены, одновременно повысив производительность. В конечном счете могли бы вырасти и доходы домохозяйств. Дополнительное позитивное воздействие на благосостояние может оказать рост прямых иностранных инвестиций и расширение выбора товаров и услуг.
Общественная реакция весьма неоднозначна, весной 2015 г. в ряде европейских стран прошли манифестации против ТТИП. Впрочем, протесты и жаркие дебаты на разных уровнях – это нормальное для демократий явление. Один из важнейших уроков европейской интеграции как раз и состоит в том, что любые важные решения наднационального характера должны непременно проходить стадию широких общественных обсуждений, частью которых можно считать и уличные акции. Только после этого принимаемые решения становятся прочными, и никто не попытается их потом оспаривать. На постсоветском пространстве этот урок усвоен плохо – каких-либо основательных дебатов по евразийскому Таможенному союзу, в общем-то, не проводилось. В результате сегодня в Евразийском экономическом союзе то и дело всплывают проблемы, которые следовало решить на более ранних этапах.
Многие аналитики прогнозируют благоприятное влияние ТТИП на динамику роста, занятость и благосостояние как в США, так и в Евросоюзе в зависимости от степени либерализации торговли. Однако имеются и исследования, предсказывающие целый ряд негативных последствий, в частности, для Европы.
Наиболее часто приводимые данные независимых исследований сводятся к следующему: ежегодный рост экономики ЕС увеличится на 120 млрд евро, экономики Соединенных Штатов – на 90 млрд евро, остальных экономик мира – на 100 млрд евро. Согласно предварительным расчетам, американский экспорт должен возрасти на 4,58%, импорт – на 3,11%, соответственно экспорт Евросоюза вырастет на 3,17%, импорт – на 2,02%. ВВП США увеличится на 0,37%, ЕС – на 0,28%. Кроме того, ТТИП может способствовать созданию 2 млн рабочих мест в мире. Тем не менее в 2014–2015 гг. в странах Евросоюза нарастала волна критики ТТИП, вызванная опасениями засилья американских компаний, роста безработицы и неприятием американских стандартов регулирования в целом ряде секторов.
Нельзя исключать, что в действительности все может сложиться иначе, чем описывается в прогнозах. Безусловными бенефициарами станут транснациональные корпорации. А вот в какой степени выиграют частные домохозяйства, сказать заранее трудно – по крайней мере опыт двух таких известных объединений, как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и Общий рынок ЕЭС, дает основания предположить, что прогнозируемое положительное воздействие на рост благосостояния зачастую преувеличено. Весьма негативную картину последствий создания ТТИП для Евросоюза представил в 2014 г. американский Университет Тафтса (Tufts University). Европа, говорится в исследовании, может столкнуться с целым рядом нежелательных эффектов, среди которых: снижение через десятилетие чистого экспорта, а также ВВП; снижение доходов работающих и числа рабочих мест; снижение объема собранных правительствами налогов; возникновение дисбалансов и финансовой нестабильности. Эти результаты выглядят явным диссонансом с прогнозными моделями, полученными внутри ТТИП.
Важнейшим, если не главным, приоритетом ТТИП является гармонизация и устранение нетарифных барьеров, ибо тарифные барьеры в торговле между Евросоюзом и Соединенными Штатами и так давно уже существенно снижены – в ЕС они не превышают 5%, а в США – 3,5%. По данным исследований, около 80% прогнозируемого роста благосостояния будут получены в результате гармонизации, взаимного признания или ликвидации регулятивных положений, стандартов и норм. Главная сложность – как отличить избыточные регулятивные нормы от действительно необходимых. Эксперты признают, что в сфере регулирования сохраняются риски. Во многих областях регулятивные подходы Евросоюза и Соединенных Штатов серьезно различаются. Так, в ЕС преобладает принцип предосторожности в сфере защиты потребителей и окружающей среды, в соответствии с которым товары (например, химикаты и продукты питания) либо производственные процессы (например, метод гидроразрыва пласта при добыче сланцевой нефти) разрешаются исключительно на основании научного подтверждения их безопасности для здоровья или окружающей среды. В США все иначе: на товары или производственные процессы не накладывается специальных ограничений, пока их опасность не будет доказана.
Американские регулятивные нормы не желает принимать даже ближайший партнер Вашингтона в Европе – Великобритания. Регулятивные различия – не единственное противоречие между сторонами. Брюссель не готов жертвовать своими стандартами в области здравоохранения, социальной политики и пр. Об этом достаточно ясно и твердо заявляет главный переговорщик с европейской стороны – нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, уточняя, в частности, что вопросы продовольственной безопасности и защиты персональных данных не подлежат обсуждению. ЕС жестко противостоит возможному ограничению юрисдикции национальных судов в связи с обсуждаемым режимом разрешения споров инвесторов и государства и учреждением структуры по разрешению таких споров (ISDS) по образу уже созданной в ТТП.
Серьезные проблемы и противоречия сохраняются и в традиционных сферах, таких как торговля товарами. Так, в феврале 2015 г. Евросоюз обратился в Орган по разрешению споров ВТО с жалобой на Соединенные Штаты по поводу несправедливых, с точки зрения Брюсселя, рекордных в истории правительственных субсидий корпорации «Боинг». Следует заметить, что противоречия между сторонами относительно поддержки гражданского авиастроения продолжаются не менее 10 лет.
Другая сфера глубоких разногласий между Старым и Новым Светом – торговля ГМО, где экспансия американских компаний опять-таки наталкивается на более строгие нормы ЕС. Показательна позиция премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, заявившего в середине прошлого года, что правительство не допустит, чтобы сделка по ТТИП подорвала благосостояние и регулятивные стандарты Соединенного Королевства.
Очевидно, приведенные разногласия являются главной причиной закрытости переговорного процесса по ТТИП (что вызывало критику со стороны различных общественных сил в странах ЕС) и неясности сроков его завершения. Между тем в конце прошлого года представители американской администрации заявляли, что документ по ТТИП должен быть подписан до истечения мандата президента Обамы. Такие утверждения, однако, представляются чересчур смелыми. Во всяком случае при нынешнем уровне и числе противоречий между сторонами финальный документ должен содержать весьма внушительный список изъятий. Пойдут ли Вашингтон и Брюссель на такой вариант? Маловероятно. Значит, интрига пока сохраняется.
И тем не менее, несмотря на справедливую критику нынешнего состояния ТТИП, следует исходить из того, что данный проект так или иначе, позже или раньше, но воплотится в жизнь. И к этому лучше готовиться заранее. Ряд стран, в частности, Турция, Грузия, Молдавия и некоторые другие, уже заявили о своем интересе к партнерству и желании наладить взаимодействие, когда оно будет реализовано. Список таких стран наверняка будет расти.
Как реагировать на мегарегиональные вызовы?
Каким образом Россия должна позиционировать себя по отношению к таким новым вызовам глобальной экономики, как ТТП и ТТИП? Прежде всего к ним не стоит относиться предубежденно, загодя критикуя и осуждая. В этом плане хорошо бы учесть некоторые уроки прошлого. В 1947 г. СССР по ряду экономических и политических причин не стал участником Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественника ВТО, инициировав в 1949 г. создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Но уже в 1979 г. Москва твердо решила, что присоединяться к ГАТТ необходимо. Тем временем наше отставание от процессов, происходивших в рамках ГАТТ, уже стало весьма ощутимым и в дальнейшем только нарастало. В 1991 г. СЭВ был распущен. Став членом ВТО в 2012 г., Россия до сих пор не преодолела то отставание. Другой пример также относится к послевоенному периоду и связан с процессами европейской интеграции. Официальная советская пропаганда квалифицировала создание европейских сообществ ни много ни мало как явный признак углубления общего кризиса капитализма. Сегодня над этим можно посмеяться, однако используемые ныне для нападок на ТТП и ТТИП аргументы вызывают аналогии с прошлым.
Кстати, было бы полезно в этой связи обратить внимание на реакцию Китая. Несмотря на явный антикитайский контекст ТТП, а также прошлогоднее обострение отношений с США, Пекин заявил о готовности искать пути сближения с партнерством. Похоже, это как раз тот здоровый и оправданный прагматизм, который не грех позаимствовать.
ТТП открыто для присоединения государств и таможенных территорий, которые уже являются членами АТЭС, поэтому формально Россия имеет право войти в него. Однако реализовать это право будет не так просто. Согласно содержащейся в документах партнерства процедуре, кандидат должен принять прописанные в ТТП обязательства, а также иные условия, которые согласовываются с начальными участниками партнерства. В последней части этого предложения после запятой как раз и могут таиться те особые условия, которые, вероятно, захотят предъявить и России, и Китаю. Нечто подобное мы помним по длительным переговорам о присоединении России к ВТО – механизмы в целом схожи. Однако в случае с ТТП все может оказаться сложнее и с большим элементом субъективизма.
Уместно между тем задаться вопросом: готова сегодня Россия к участию в ТТП, если бы, предположим, ее пригласили туда сейчас на максимально возможных благоприятных условиях? Ответ – нет, по чисто экономическим причинам. Условия данного партнерства вырабатывались без России, т.е. без учета ее интересов. Принятые в ТТП нормы и правила во многих сферах гораздо либеральнее норм ВТО, как, например, в отношении импортных таможенных пошлин, либо их просто еще нет в ВТО, как, например, правил для инвестирования, положений о трудовых стандартах и др. Поэтому для начала необходимо внимательно проанализировать все положения соглашения о ТТП, что позволит в будущем выработать соответствующую стратегию и тактику взаимодействия с ним. То же самое справедливо и в отношении ТТИП с уточнением, что здесь надо постоянно следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Брюсселем, чтобы в дальнейшем можно было определить разумные и приемлемые формы взаимодействия с этим партнерством.
Теоретически существует и другой вариант стратегии в условиях новых вызовов, созданных мегарегиональными форматами ТТП и ТТИП. Таковым мог бы стать «симметричный ответ» в виде формирования экономического партнерства между ЕАЭС, странами-членами ШОС и АСЕАН. Такую идею, в частности, высказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию (2015). В первом приближении идея выглядит вполне здравой. Вопрос – насколько формирование подобного партнерства нынче реалистично.
Для инициирования консультаций по вопросу создания такого партнерства весьма желательно (если не сказать необходимо) исходить из экономической привлекательности созданной у себя интеграционной группировки. Является ли таковым на сегодняшний день ЕАЭС?
После распада СССР Москва стремилась создать на постсоветском пространстве мощную интеграционную группировку, которая могла бы быть сравнима по весу с основными геоэкономическими центрами, такими как США, ЕС, Восточная Азия. Однако задача оказалась существенно сложнее, чем представлялось вначале. Евразийский экономический союз, начавший функционировать с января 2015 г., далеко не в полной мере оправдал первоначальные надежды и замыслы. Помимо того что его запуск произошел в условиях серьезного экономического спада в России и западных санкций, между членами объединения не только не исчезают, но постоянно возникают новые торгово-экономические противоречия. За первое полугодие 2015 г. более чем на четверть снизился торговый оборот внутри ЕАЭС. Ухудшается структура взаимной торговли за счет значительного сокращения взаимных поставок машин, оборудования, транспортных средств, металлов и металлоизделий. До прошлогоднего спада (в 2014 г.) общий внешнеторговый оборот ЕАЭС составил около 1 трлн долларов, что на порядок ниже аналогичного показателя стран ТТП.
Это не означает, что ЕАЭС вовсе не обладает привлекательностью для потенциальных партнеров, – создана, к примеру, зона свободной торговли с Вьетнамом, планируются аналогичные соглашения с другими странами. Однако все это еще не позволяет рассчитывать на серьезный рост торгово-экономического потенциала ЕАЭС+ в обозримой перспективе и приближение к показателям ТТП.
Что касается привлечения партнеров из ШОС и АСЕАН, то здесь вряд ли можно ожидать активного интереса. Китай очевидно озабочен поиском подходов к взаимодействию с ТТП; кроме того Пекин намерен играть ключевую роль в проекте РВЭП. Часть стран АСЕАН уже вошла в ТТП, часть изъявила желание сделать это.
Вывод очевиден: надо адаптироваться к реальности и искать пути выгодного взаимодействия с ТТП.
Можно понять стремление политиков и дипломатов дать «симметричный ответ» на создаваемые без России мегарегиональные партнерства путем инициирования собственного проекта. Но не факт, что его удастся реализовать. Между тем Россия и Китай уже договорились о переводе идеи сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути в практическую плоскость – в мае 2015 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали соответствующее совместное заявление. Если идея будет успешно претворяться в жизнь, это и может стать реальным ответом ТТП.
Возвращаясь к глобальному аспекту проблемы, можно с уверенностью предположить, что мегарегиональные торговые соглашения типа ТТП и ТТИП существенно превзойдут известные ранее региональные/преференциальные договоренности по доле в мировой торговле. По общим оценкам, на ТТП будет приходиться около 30%, на ТТИП в случае его успеха – 40% и более, а обе группировки вместе, вероятно, охватят не менее 65% мирового обмена товарами и услугами. Это обстоятельство чревато серьезными последствиями для действующих в международной торговле правил, каковыми сегодня являются главным образом нормы ВТО. ТТП и ТТИП будут задавать свои правила и нормы. А с учетом объема торговых обменов, на которые эти правовые нормы будут распространяться, они неизбежно столкнутся с нормами и правилами ВТО или же новые нормы появятся там, где они на многостороннем уровне пока просто отсутствуют. При этом нормы МРТС будут, с одной стороны, более либеральными, а с другой – более жесткими и конкретными по сравнению с правилами ВТО. Это уже вызывает озабоченность многих участников международной торговли.
Вероятно, в ближайшие годы начнутся интенсивные дискуссии вокруг сопоставления правовых норм ВТО и МРТС. Однако при этом речь не идет, как полагают некоторые, о неизбежном подрыве ВТО – в мире нет серьезных игроков, которые строили бы подобные планы. Общее видение решения проблемы заключается в постепенной гармонизации между многосторонним (ВТО) форматом, с одной стороны, и региональными/преференциальными и мегарегиональными форматами (ТТП и ТТИП), с другой. Насколько длительным и безболезненным окажется этот процесс, сказать сегодня не представляется возможным. Зато с достаточной уверенностью можно утверждать: ТТП и, вероятно, в недалеком будущем ТТИП – объективные реалии глобальной экономики и торговли, которые нельзя игнорировать, а потому необходимо искать пути взаимодействия с ними, чтобы в очередной раз не отстать от поезда.

О мечтах и стратегиях
Национальная специфика и глобальная ответственность: российский опыт
В.П. Лукин – доктор исторических наук, профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики».
Резюме Реакцией на поглощение нового политического мышления старой вестфальско-версальско-ялтинской практикой стала волна антизападного ожесточения в России. Разрушительная для долгосрочных интересов, активизирующая инстинкты масс.
С недавних пор наши общественно-политические дискуссии постоянно вращаются вокруг двух макропроблем. С одной стороны, мы с каким-то болезненным надрывом пытаемся отыскать в прошлом, а, следовательно, в настоящем и будущем, некую трансцендентальную национальную специфику. Уникальность выводится буквально из всего: от первых ростков российской государственности до масштабных и противоречивых сдвигов ХХ века и начала нынешнего столетия.
За что ни возьмись, отовсюду, по мнению наших «специфистов», хитро подмигивая, выглядывает исконно-посконное Лукоморье: «Там чудеса, там леший бродит». В общем, все не так, как у других, а значительно лучше. А если и не лучше, то это тоже к лучшему.
Собственно, это самоощущение (или его циничная имитация) и является стержнем той самой «национальной идеи», которую давно уже прилежно ищут, но найти не могут. При этом хорошо известно, что акцентирование национальной уникальности и «особости» присуще практически всем национальным (государственным) общностям. И чувство это обостряется, когда метафизический экстаз самолюбования призван отвлечь внимание от серьезных и не поддающихся быстрому решению проблем вполне практического свойства. Экзальтация самобытности – верный симптом того, что дома не все в порядке.
Таким образом, пафосное рекламирование самобытности – это отнюдь не самобытное чувство. Скорее самобытным является полное отсутствие такого чувства. Практически каждая страна ощущает себя в чем-то существенном не такой, как остальные. Как-то в Люксембурге я спросил у одного местного коллеги, в чем он видит основное отличие его страны от соседних государств, например, от Германии. Он после некоторого раздумья ответил: «У них там грязнее». Чего больше в этом суждении – перцепции или реальности, мне неясно до сих пор. С нашего угла зрения весьма чисто и там и там. А значит, суждение сие похоже на перебор, который в этой области не просто смешон, но и опасен.
С другой стороны, мы все в разное время переболели страшным недугом различного рода одномерно глобалистских концепций, где безжалостно стираются различия, не вписывающиеся в магистральную абсолютную идею. И смыслом бытия провозглашается окончательное и бесповоротное торжество этой самой идеи. Такие идеи, овладевая массами, становятся материальной силой, разрушительной, крушащей все на своем пути, в том числе и массы, охваченные этой идеей.
Такими были вожделения всех мировых империй в период их наивысшего расцвета. Как и мечтания французских и германских воинствующих глобалистов соответственно в XIX и XX веках. В России эти грезы воплотились в XX столетии в концепции «мировой социальной революции», становление которой сопровождалось ожесточенными спорами тактического свойства: достигнуть берега, где живут «без Россий и без Латвий», посредством раздувания вселенского мятежа или путем кавалерийско-танкового продвижения Красной армии «от тайги до британских морей».
Сейчас на наших глазах набирает силу еще одна глобальная целеустановка – создание или воссоздание всемирного исламского государства. Уяснить, в какой мере эта конструкция совместима с классическим исламом – дело бесконечное и бесплодное. Вспомним, когда по миру триумфально продвигалась, овладевала массами и становилась материальной силой идея «Коммунистического манифеста» насчет неизбежности всемирной диктатуры пролетариата, трудно было представить, во что она воплотится на просторах гулаговской России или в джунглях полпотовской Камбоджи. Важно, что идея нынешняя, подобно своим предшественницам – свежая, она «зажигает» представителей различных стран и культур, жестко мотивирует их жизнь и самореализацию, включая готовность к самопожертвованию. Так бывало со многими глобальными начинаниями – наваждениями, овладевшими «человеческим материалом» в различные эпохи.
Конечно, как и ее предшественницы, эта новейшая идеологическая пандемия исчезнет с лица земли, и новые исламистские «комиссары в пыльных шлемах» из политического актива перейдут в исторический пассив. Но какой ценой? Особенно учитывая, что приобретение оружия массового уничтожения в наше время становится вполне мыслимым делом для носителей подобных мировоззрений.
На мой взгляд, обе схематично обрисованные выше тенденции: экзальтация специфичности и экзальтация глобализма без границ – являются главными опасностями для позитивного, стабильного развития мировой политики. А это означает, что в повестку дня должны быть включены неспешные, но упорные поиски приемлемых для всех параметров поведения, в рамках которых нащупывается, формируется и постоянно уточняется соотношение между национальным суверенитетом, защитой специфичности каждой страны и принципом глобальной ответственности, четко зафиксированным в базовых международно-правовых документах и реализуемым в практической политике.
Соединенные Штаты: двойной перегиб
Элементы глобальной ответственности могут переместиться из области риторики в сферу реальных международных отношений, только если наиболее влиятельные государства проявят стремление ограничить свои интересы во имя нахождения баланса с интересами других, руководствуясь формулой одного из отцов разрядки конца 60-х–70-х гг. прошлого века Ричарда Никсона: «Живи и жить давай другим». К сожалению, в последние десятилетия эта формула одного из самых успешных и эффективных во внешнеполитической сфере американских президентов была основательно забыта на его родине. США сейчас стали весьма колоритным представителем «двойного перегиба» как по линии глобализации, так и в плане специфичности.
Скажу сразу, я занимался изучением этой великой и замечательной страны значительную часть своей жизни, побывал во многих ее уголках, от Вашингтона до глухой провинции среднего Запада, и отношусь к ней в целом с большой симпатией. Злобные и невежественные антиамериканские вопли по каждому удобному и неудобному случаю мне глубоко безразличны, ибо, как правило, имеют отношение не к Соединенным Штатам, а к психологии авторов: например, к банальному лизоблюдству и карьеризму в сочетании с комплексом неполноценности.
Однако в коллективном массовом подсознательном Америки (и, как следствие, в ее политическом поведении – как во внутреннем, так и во внешнем) есть черты, вызывающие чувство стратегического опасения. Я имею в виду глубоко укорененное, почти религиозное ощущение особости и уникальности, веру в некую глобальную миссию, которую должна реализовать именно эта страна – во что бы то ни стало и невзирая ни на что.
Какая же это глобальная миссия? Ее можно было бы охарактеризовать одним словом – демократия. Именно так скажет любой американец, если ему задать этот вопрос.
Однако не все так просто. Однажды в начале 90-х гг. прошлого века в одном из глубинных районов США я зашел в магазин, чтобы купить сувениры для друзей в Москве. Симпатичная пожилая продавщица поинтересовалась, откуда я родом. Я ответил, что из России. Тут лицо ее озарилось приветливой улыбкой, и она стала говорить, как здорово, что Россия теперь демократическая страна. «У нас есть президент, и у вас теперь тоже есть президент. У нас – первая леди и у вас – первая леди. У нас Конгресс, и у вас – Конгресс. Теперь мы не враги, а друзья».
Так мною был выявлен ген американского мировосприятия. Жить по-демократически – означает жить по-американски. Американцы могут время от времени менять точку зрения насчет того, что значит жить по-демократически. Например, они долгое время были ярыми сторонниками свободы иммиграции, сейчас на границе с Мексикой построена стена, защищающая от прилива мигрантов с юга. Но эти детали остаются за пределами американского самоощущения.
Нормы для человечества должны быть не абсолютно неизменными, а абсолютно – американскими. Другие страны должны понимать, что жить по-американски означает – жить правильно, и в идеале «хорошие парни» во всем мире должны этот образ жизни имитировать.
Одно из последних наглядных проявлений такой генетики – проблемы, связанные с ЛГБТ. Долгое время американский мейнстрим был решительным противником нетрадиционных браков. Но в 2015 г. Верховный суд незначительным большинством голосов (4 против 3) утверждает возможность заключения таких союзов. И тут же американский президент заявляет, что США будут бороться за то, чтобы ЛГБТ-браки были узаконены во всем мире. Иными словами, абсолютная истина найдена, потому что она начала реализовываться на американской территории.
Существует два вида действия в Соединенных Штатах гена глобальной безответственности.
Вариант 1: Мы будем делать все, что считаем нужным, поскольку на то воля Божья, и именно мы призваны ее интерпретировать. Другие пусть присоединяются к нам. Если захотят – хорошо. Нет – хуже для них. Будем действовать в одиночку. Это – современное проявление американского изоляционизма, характерное для президентства младшего Буша.
Вариант 2: Мир должен стать демократическим. Мы – идеальная демократия. А значит демократическая коалиция должна возглавляться Соединенными Штатами и действовать на основе разработанных ими планов и методов. «Союзникам» по мере надобности раздаются отдельные поручения. Любая попытка предложить иное построение коалиции – проявление враждебности к США, а значит к демократии.
Оба постулата серьезно препятствуют формированию глобальной ответственности. Нужны время, терпение и сдержанность для того, чтобы в Америке осознали: в формирующемся глобальном мироустройстве коалиция «хороших парней» невозможна и немыслима в виде авианосца, за которым, беспрекословно выполняя сигналы с его борта, следуют весельные шлюпки. При этом совершенно очевидно, что прочное долговременное мироустройство невозможно без Америки, без ее активного и конструктивного участия. Преодоление комплекса собственной уникальности и совершенства, растущее понимание того, что в современном многополярном мире американские национальные интересы надо терпеливо согласовывать с интересами других важных субъектов мировой политики – это и есть та самая глобальная ответственность, без которой мир не будет надежным и безопасным местом обитания. А значит, и американские интересы не будут надежно обеспечены.
Но это невозможно без разумного самоограничения, основанного на понимании самими американцами изменений, происшедших в мире за последние полвека. Баланс между защитой собственных национальных интересов и глобальной ответственностью в Вашингтоне пока не найден, и это может стать драматической помехой для строительства миропорядка на обозримую перспективу.
Китай и Индия: грани самоограничения
Значительно лучше с этим чувством в последние десятилетия обстоит дело у второй по совокупной мощи и влиянию страны – Китая. Между тем еще в 60-е и 70-е гг. эта великая держава вызывала огромные опасения своей непредсказуемостью и идеологической одержимостью. Ситуация на грани конфликта с СССР, затем военный «урок» непокорному Вьетнаму были симптомами тяжелой болезни страны с разрушенной экономикой и глобальными авантюрными леворадикальными притязаниями.
Величие Дэн Сяопина в том, что он и его коллеги смогли развернуть эту огромную и крайне сложную державу и направить ее на путь коренной модернизации. При этом удалось совместить многовековые и многослойные культурно-исторические традиции с императивами конца ХХ – начала ХХI веков. Во главу угла положен тезис о необходимости упорно и скромно работать над созданием новой экономики, учиться, а не учить, и, главное, обуздать (по крайней мере на серьезный стратегический срок) свои немалые внешнеполитические амбиции. А всю внешнюю политику подчинить решению неотложных, острейших внутренних задач.
За истекшие три с половиной десятилетия Китай, не утеряв ни в коей мере независимости и суверенитета, сумел улучшить отношения со всеми без исключения странами, от которых зависит развитие экономики. Даже вопросы, находящиеся, по мнению Пекина, на стыке внутренней и внешней политики (Гонконг, Тайвань, китайско-индийский пограничный конфликт и т.д.), решались не в режиме конфликтного пиара, а спокойно, поэтапно, в расчете на длительную стратегическую перспективу.
В итоге в настоящее время КНР обладает существенно большими, чем прежде, возможностями для реализации внешнеполитических проектов, хотя до сих пор не спешит в сложных, кризисных ситуациях лезть вперед, расталкивая всех локтями. Так или иначе, в переломный исторический период Дэн и его последователи сумели найти баланс, явно нарушенный в 1960-е гг., между уникальностью Китая и глобальной ответственностью, обеспечивающий в условиях в целом благоприятной международной обстановки рывок из прошлого в будущее. И все это достигнуто при жизни одного поколения.
В не менее сложной ситуации оказалась Индия в первые годы после обретения национальной независимости. С одной стороны, эта великая древняя цивилизация не обладала (в отличие от Китая) ни многовековым опытом единой государственности, ни компактным культурно-этническим стержнем. К тому же, вступая в стадию суверенного развития, она оказалась разделена по религиозному принципу (Пакистан).
Но влияние Дели в мире сразу же после обретения Индией независимости поистине стало огромным в связи с тем, что она оказалась лидером так называемого «движения неприсоединения», что в условиях «биполярного мира» автоматически делало Индию одним из главных мировых игроков. Очень скоро, однако, стало ясно, что влияние в мире прочно и долговременно, только если оно подкреплено по меньшей мере некоторыми серьезными факторами, которые в совокупности предполагают достаточно высокий уровень внутреннего развития.
Путь осознания этого обстоятельства на индийском полуострове был сложным и даже драматическим. Однако он пройден, и Индия, резко ограничив глобальные неприсоединенческие усилия (благо биполярность мира ушла в прошлое), встала на путь строительства экономически быстро развивающейся ядерной державы, ориентирующейся не столько на глобальную, сколько на сугубо конкретную региональную дипломатию. И эта региональная дипломатия, в том числе и острые территориальные проблемы с Пакистаном и Китаем, отодвинуты на второй план и подчинены решению базовых проблем внутреннего развития, созданию мощного и экономически эффективного «центра силы». Так в Дели найден оптимальный баланс между стратегическими национальными интересами и участием в обширных глобальных проектах. Место Индии в мире сейчас менее заметно, чем прежде, но потенциально более весомо, ибо имеет более серьезные, чем прежде, долговременные предпосылки.
Сутью индийской политики последних десятилетий стала плавная корректировка в сторону равновесия между романтическим глобализмом и реальными внешнеполитическими потребностями и возможностями. В Индии вовремя осознали, что «глобализм на глиняных ногах» и реальная глобальная ответственность – вещи разные. И предприняли разумные меры к нахождению баланса между глобальной ответственностью и долгосрочными национальными интересами. При этом Индия демонстрировала, что разумное и соразмерное использование не только западных технологий, но и более широкого культурно-цивилизационного западного достояния (английский язык в качестве общенационального средства общения, парламентская демократия на вестминстерский манер) не только не ущемляет суверенитет, а напротив, в их «специфическом» случае укрепляет его, содействуя сохранению единства страны.
Между прочим, новомодное объединение БРИКС (куда входят некоторые из упомянутых выше стран) является важным дополнением, а иногда неплохой заменой чрезмерного центр-силового активизма. Большинство членов БРИКС – «по происхождению» развивающиеся страны. Их сверхзадача – догоняющее развитие. На этом пути они уже добились впечатляющих результатов и вряд ли чувствуют большое желание выпустить из рук синицу ради эфемерной возможности поймать в небе журавля. Сейчас, когда линия «стратегической передышки» и поглощенности решением серьезных долгосрочных внутренних задач вышла на первый план, члены БРИКС полагают, что, конечно, не союзнические, а более гибкие многосторонние партнерские отношения могут в рамках данной организации стать одним из проявлений глобальной ответственности при относительно малых издержках. При этом вряд ли уместно предаваться иллюзиям относительно возможности тотальной координации действий или поглощения в рамках БРИКС базовых стратегических устремлений стран-участниц. По большей части БРИКС – это форма, с помощью которой каждый участник стремится продвинуть далеко не одинаковые, но наиболее значительные для каждой из стран задачи. При этом чисто материальное неравенство сил участников проекта (имеющее тенденцию не нивелироваться, а, напротив, возрастать) не может не сказаться на эффективности его деятельности в обозримом будущем.
По волнам сверхидей
Знаменательный и поучительный путь проделала Германия – от национальной катастрофы к статусу великой державы, фактического лидера Европейского союза. То, чего не удалось достичь «железом и кровью» в XIX и XX веках, в основном достигнуто в последние десятилетия менее драматическими, но зато более современными методами. Восстановлено единство страны, и – что критически важно – без реанимации исторических страхов соседей. Это единство стало естественным итогом обретенного без лишнего шума ведущего экономического положения в Европе, что почти незаметно, плавно и не вызывающе открыло возможности для реализации политического потенциала. В Бонне, а затем в Берлине тщательно следили, чтобы осуществление долгосрочных национальных задач тесно увязывалось с региональной и глобальной ответственностью, чтобы, реализуя по максимуму новые возможности, не бередить исторические фобии. И эта линия оказалась продуктивной. Старая Германия на традиционных путях борьбы за величие потеряла все. Новая Германия, используя современные методы и строго соблюдая меру и баланс на каждом новом политическом зигзаге, не победила никого, но достигла в Европе почти всего, чего хотела.
Что касается нашей страны, то в настоящее время мы находимся на очередной развилке, во многом напоминающей ту, на которой стояли в начале прошлого века. Наше социальное нездоровье все отчетливее выливается в поиски существенной частью общества какой-то очередной «всепобеждающей» идеи.
На рубеже 1980-х – 1990-х гг. нас захватила горбачёвская идея «нового политического мышления». Слов нет – красивая и благородная. Глобальная и почти религиозная. К сожалению, сильно оторванная от реальностей нашего мира.
В реальном мире попытки реализовать идею нового политического мышления привели к стремлению наших партнеров вполне по-старому, односторонне и в свою пользу разрешить стоящие перед мировым сообществом проблемы. Так было с расширением НАТО. Так было с распространением их, а не общей, Европы. Реакцией на это поглощение нового политического мышления старой вестфальско-версальско-ялтинской дипломатической практикой стала, кроме всего прочего, волна антизападного ожесточения в России. Волна изоляционизма и исключительности. Эмоциональная, но, скажем честно, имеющая основания. И вместе с тем никоим образом не созидательная, а, напротив, разрушительная для долгосрочных интересов, активизирующая зачастую опасные инстинкты широких масс.
Эта волна иссякнет, как и все другие «сверхидейные» наваждения. Проблема, однако, состоит в следующем: наша элита должна найти в себе достаточно ресурсов, чтобы, вовремя и по-хорошему испугавшись, выработать и воплотить курс на спокойное и последовательное отстаивание национальных интересов не за счет, а, напротив, посредством укрепления режима многосторонней глобальной ответственности.
К счастью, это пока возможно, и проведение такой линии в жизнь совсем не обязательно окажется непопулярно, если будут скорректированы ошибки и иллюзии недавнего прошлого.
Как-то в беседе с одним японским политиком я услышал примерно следующее: «Япония потерпела катастрофу в середине ХХ столетия потому, что смешала воедино две разные вещи: мечту и стратегию». Японии удалось извлечь урок из своей ошибки. Как сказал поэт: ее «пример – другим наука».
Барак Обама выступил перед Конгрессом США со своим последним обращением на посту американского президента, в котором сделал ряд принципиальных заявлений по вопросам внешней политики. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются мировым лидером, но не "мировым полицейским".
"Мы не можем пытаться захватывать и перестраивать любую страну, которая попадает в кризис. Это не лидерство, это гарантия того, что мы увязнем, будем проливать кровь американцев и тратить средства, что в конечном счете нас ослабит. В этом урок Вьетнама, Ирака — и нам его пора было бы усвоить до настоящего момента", — сказал Обама.
Вместо этого, по его словам, США должны сосредоточиться на борьбе с "Исламским государством" (ИГ или ДАИШ — запрещена в России) и другими террористическими организациями. Для этого, убежден Обама, конгресс должен дать разрешение на применение Соединенными Штатами военной силы.
Обращает на себя внимание и то, что в адрес главных конкурентов Америки на мировой арене — России и Китая — из уст президента США на сей раз не прозвучало прямой критики, как это всегда было раньше, Обама упомянул их лишь вскользь. Однако Украину и Сирию он при этом назвал "государствами-клиентами России, которые ускользают из орбиты ее влияния".
"Вписать себя в историю"
Послание Обамы руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин назвал "прощальным". По мнению ученого, американский президент обозначил в нем все основные моменты своей политики, явно стремясь "вписать себя в историю в положительном образе". В то же время, считает он, Обама постарался показать себя и мастером компромисса, политиком, который находится в стадии эволюции.
"Призыв Обамы к конгрессу одобрить проведение наземной военной операции в Сирии, казалось бы, противоречит его же собственным принципиальным установкам восьмилетней давности на вывод американских войск из воюющих стран, на прекращение политики военной силы, на сокращение вооруженного вмешательства США в локальные конфликты. Таким образом, мы видим политика, который хочет остаться в истории самим собой, но реалистом, трезво оценивающим реальную действительность, а не каким-то идеалистом вроде Джимми Картера", — говорит аналитик.
Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, напротив, оценил послание Барака Обамы как "абсолютно беззубое, не содержащее изложения какой-либо внятной стратегии и понимания того, куда и как должна двигаться Америка в своей внешней политике".
"Какую внешнюю политику Обама готов был бы отстаивать и передать новой администрации, что правильно и что неправильно было в ней в период его президентства — к сожалению, из обращения это не видно. Он, по существу, ретранслировал все те установки, которые им были приняты ранее и которые вызывали много критики, в том числе и в самих Соединенных Штатах. Но его выступление не стало ответом на эту критику. Эту амбивалентность я назвал бы отсутствием ясной политической линии", — говорит эксперт.
Партнеры, союзники и мировое господство
Главным в выступлении Обамы стала декларация отказа США от роли "мирового жандарма". Однако при этом он утверждает, что Соединенные Штаты сохраняют за собой позицию мирового лидера, и все страны, нуждающиеся в помощи и защите, предпочитают обращаться к ним, а не к России и Китаю.
По мнению Александра Шумилина, в этом нет противоречия.
"Обама, по сути, предложил новую трактовку американского лидерства: лидерство, но не господство. Призывая конгресс разрешить использовать военную силу в Сирии, он мотивировал это необходимостью вместе с союзниками и партнерами попытаться остановить гуманитарные катастрофы и масштабное военное противостояние", — говорит он.
При этом Барак Обама, хотя и воздержался от прямой критики России, но сохранил негативное отношение к политике Кремля на Украине и в Сирии, считая ее обреченной на неуспех.
"Обама пока не видит в России союзника в решении сирийской проблемы, однако он видит в ней партнера, хотя и трудного. Трудного потому, что у каждой из этих стран своя шкала ценностей, и Обама это постоянно подчеркивает. Однако разные ценностные подходы в принципе не мешают двум странам в нужный момент объединять усилия для достижения общих целей", — говорит Шумилин.
Ничего принципиально нового президент Обама не произнес, в том или ином контексте все сказанное им сейчас уже звучало с самого начала так называемой коалиционной войны в Сирии, утверждает Дмитрий Данилов.
"После выхода США из Афганистана и Ирака ясно, что начать в одиночку какую-то новую масштабную военную операцию наземного типа было бы самоубийством для любой политической силы", — считает он.
Кроме того, по мнению ученого, Обама в очередной раз противопоставляет Америку другим центрам силы — Китаю и России. И в этом плане ему вряд ли удастся найти понимание не только у этих потенциальных партнеров, но и у таких, как Индия, Бразилия и других.
"Продолжение линии на исключительность Америки, противопоставление Соединенных Штатов другим центрам силы — все это отражает прошлые установки как самого Обамы, так и его предшественника Джорджа Буша-младшего, на критике которого Обама в свое время пришел к власти. Эти установки давно уже не работают", — говорит Дмитрий Данилов.
Курс на преемственность?
Обращения Обамы к конгрессу с призывами снять торговое эмбарго с Кубы и закрыть тюрьму для террористов в Гуантанамо, по мнению Дмитрия Данилова, свидетельствует о том, что он, с одной стороны, подтверждает верность базовым установкам своего президентства, с другой — демонстрирует, что не намерен формально выполнять свои обязательства в ущерб реальным интересам Америки. Причем, интересам — в понимании конгресса и большинства американского политического истэблишмента, а не самого Обамы.
С этой точки зрения, полагает эксперт, пожелания президента звучат именно как пожелания — то, к чему, по его убеждению, следует стремиться, но не то, на чем он намерен категорически настаивать.
Раскол в лагере демократов наметился уже давно, еще с тех пор, как администрацию Обамы покинула Хиллари Клинтон, напоминает Дмитрий Данилов. Экс-госсекретарь оставила пост, в частности, из-за несогласия с чрезмерной, по ее мнению, увлеченностью президента политикой отказа от применения силы в решении международных проблем, которую она склонна была расценивать как "мягкотелость" и "бесхребетность".
И сегодня демократы находятся в довольно сложном положении: Белый дом не представляет собой всю силу американского демократического крыла, и демократы вынуждены, с одной стороны, максимально сдерживать критику в отношении своей администрации, с другой — демонстрировать политическую поддержку президенту.
Это, конечно же, значительно ослабляет позиции Демократической партии накануне предстоящих в будущем году президентских выборов, полагает он.
Александр Шумилин считает, что обращение Обамы стало своего рода программным — не только для него самого на оставшийся год в качестве президента, но и для его преемника-демократа в случае победы партии на предстоящих выборах.
Ученый обращает внимание: риторика Обамы изменилась настолько, что в ней без труда различаются именно те направления политики, на которые указывала в своих выступлениях Клинтон. В ней стало намного меньше идеализма и значительно больше реалистических установок.
"Этим посланием Обама прокладывает путь своей возможной преемнице. Мало того, многое из сказанного им совпадает с программными установками республиканцев. В итоге Клинтон и центристы из Республиканской партии во многом будут играть на одном поле, и шансов у нее не меньше, чем у любого из кандидатов-республиканцев", — считает аналитик.
Владимир Ардаев, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Проклятие Powerball, или Приз в $1,5 млрд
Почему лучше не выигрывать лотерею Powerball
Артур Громов
Уже через несколько часов стартует очередной розыгрыш лотереи Powerball с рекордным джекпотом в размере $1,5 млрд, однако выигрыш может обернуться кошмаром для того, на чью голову свалится это богатство. Предательства друзей и близких, покушения, отравления, банкротство и наркомания — это лишь краткий перечень того, с чем приходилось сталкиваться новоявленным миллионерам. «Газета.Ru» отобрала самые жуткие истории, связанные с «проклятой» лотереей.
Джекпот крупнейшей американской лотереи Powerball увеличился до рекордных $1,5 млрд. Розыгрыш баснословной суммы состоится уже через несколько часов, а лотерейщики отмечают столь же рекордный, как и размер джекпота, спрос на билеты. Чтобы получить этот выигрыш, необходимо верно угадать номера пяти белых шаров плюс одного красного, который и носит название Powerball.
Самый крупный выигрыш в истории США на сегодняшний день составляет $656 млн: в 2012 году сразу три билета выиграли в лотерею Mega Millions, и приз пришлось поделить на троих. Максимальный для Powerball джекпот размером $590,5 млн был разыгран в 2013 году. Победительницей оказалась 80-летняя жительница Флориды Глория Маккензи. Пенсионерка купила билет лотереи за $2 в супермаркете: по словам женщины, счастливый билет ей достался после того, как стоявший перед ней в очереди мужчина «был настолько добр, что пропустил меня вперед».
Как и большинство победителей Powerball, женщина решила не растягивать на 30 лет получение выигрыша по частям и выбрала вариант немедленной единовременной выплаты. Если победитель решает забрать деньги сразу, то сумма выигрыша моментально становится меньше: от $1,5 млрд джекпота останется $930 млн, не считая налогов, которые разнятся от штата к штату. Как пишет The New York Times, во всех смыслах разумнее взять выигрыш по частям — в первую очередь, поскольку это намного выгоднее с точки зрения налогообложения. Но не менее важен и другой фактор: получение миллионов по частям может защитить победителя от самого себя.
По статистике, порядка 70% победителей лотерей оказываются на грани банкротства в течение семи следующих лет после выигрыша: сказываются бездумные траты и неумение обращаться с гигантским количеством денег. Уже ставшее вирусным видео как нельзя лучше резюмирует этот тезис: на вопрос журналиста о том, куда можно было бы потратить джекпот Powerball, участник лотереи отвечает: «На кучу шлюх и кокаин».
Однако это не единственная беда, которая может поджидать «счастливчика»: за Powerball уже давно закрепилась слава проклятой лотереи, и трагические истории некоторых ее победителей волей-неволей заставляют с этим согласиться.
Предательство близкого друга
47-летний житель Флориды по имени Абрахам Шекспир выиграл $30 млн в 2006 году и сразу же стал подвергаться нападкам друзей и родственников, требовавших от него деньги. Спустя некоторое время он повстречал девушку по имени Дорис (Ди Ди) Мур, которая заверила Шекспира в том, что она может спасти его от жадных родственников, если тот переведет деньги на ее счет. После того как победитель лотереи сделал это, он пропал без следа. Спустя около полугода тело Абрахама с двумя пулями в груди обнаружили закатанным в бетон на заднем дворе. В 2012 году Дорис Мур признали виновной в убийстве и приговорили ее к пожизненному сроку в тюрьме. Брат Шекспира Роберт Браун тогда рассказал «Би-би-си»: «Лучше бы я оставался бедняком» — эти слова Абрахам говорил постоянно».
Алкоголизм со всеми вытекающими
История жителя Западной Виргинии Джека Уиттэйкера интересна тем, что он уже был миллионером до того, как выиграл $315 млн в лотерее. Бóльшую часть денег мужчина потратил на благие цели: строительство церквей, христианские благотворительные фонды, деньги малоимущим семьям. Но затем жизнь Уиттэйкера начала распадаться на куски: он пристрастился к алкоголю, попал в суд за домогательство, стал жертвой двух крупных краж на $200 тыс. и $545 тыс., причем в последнем случае деньги были украдены прямо из его машины, припаркованной рядом со стрипклубом. Внучка Джека, получавшая от него $2,100 тыс. в неделю, умерла от передозировки наркотиками (как и ее молодой человек), а дочь Уиттэйкера погибла при невыясненных обстоятельствах. В недавних интервью Уиттэйкер признавался, что жалеет о том, что не порвал билет. «Мне не нравится то, кем я стал», — говорил мужчина.
Из грязи в князи и обратно
Жизнь наркомана и преступника Дэвида Ли Эдвардса круто поменялась, когда он выиграл $27 млн в 2001 году: мужчина сразу же купил особняк стоимостью $1,6 млн, частный самолет, три беговых лошади, фирму по производству оптоволокна, прокат лимузинов и в качестве вишенки на торте — Lamborghini Diablo за $200 тыс. Но старые привычки взяли свое: Эдвардс и его жена вернулись к наркотикам и не раз переходили черту закона за хранение запрещенных веществ. Спустя несколько лет бывший миллионер жил в гараже в окружении человеческих экскрементов, он скончался в хосписе в возрасте 58 лет.
Родственница-убийца
Житель Иллинойса Джеффри Дампьер, выигравший $20 млн в лотерее, задарил своих родных деньгами и подарками, но его золовке Виктории Джексон этого было мало. Спустя семь лет после победы в лотерее девушка и ее бойфренд похитили новоявленного миллионера и убили его. В настоящее время оба они отбывают пожизненные сроки.
Смерть от цианида
Клерк из Чикаго Уруж Хан выиграл скромный $1 млн, а уже на следующий день был найден мертвым. Вскрытие показало, что причиной смерти было отравление цианидом. Подозрение пало на ближайших родственников, однако никто так и не был привлечен к ответственности за убийство.
С блек-джеком и...
26-летний Майкл Кэррол потратил весь свой джекпот в размере $15 млн на вечеринки, кокаин, автомобили и девушек легкого поведения. Оставшиеся деньги он вложил в виллу в Испании, но как следует насладиться ей так и не успел: в 2006 году он попал за решетку за хранение наркотиков.
Выиграла дважды и потеряла все
Жительница Нью-Джерси Эвелин Адамс выигрывала миллионы два года подряд: в 1985-м и 1986-м и сразу же промотала все деньги на азартные игры. Остаток жизни она коротала в трейлере.
Брат на брата
Уилльям (Бад) Поуст Третий выиграл $16,2 млн, а уже спустя год был должен банкам $1 млн. Мужчина был вынужден объявить себя банкротом, но на этом беды не закончились: его собственный брат нанял киллера, чтобы убить Уилльяма. Впоследствии Поуст попал в тюрьму за то, что угрожал контролеру оружием, а к концу жизни жил на продовольственные талоны.
Кончил как Курт Кобейн
Билли Боб Харрел-младший за два года после выигрыша $31 млн в лотерее потерял все свои деньги, раздав их родственникам и на благотворительность. Но его щедрость обернулась против него: жена ушла от Билли Боба, и спустя некоторое время он пустил себе пулю в лоб.
Борьба с вампирами и эмоциональное банкротство
Даже те, кто не сходит с ума и не ударяется во все тяжкие после получения миллионов, сталкиваются с тяжелыми испытаниями — в первую очередь психологическими. Жительница Миссури Сандра Хэйс выиграла $224 млн и разделила деньги со своими коллегами по работе, но от тягот внезапного богатства это ее не избавило: «Мне пришлось терпеть алчность людей, пытающихся вытянуть из меня деньги, — это вызвало глубокую эмоциональную боль. Это были люди, которых я любила глубоко в душе, но они стали вампирами, пытавшимися высосать из меня жизнь».
Похожие переживания описывает жительница Лонг-Айленда Донна Миккин, ставшая победителем лотереи и выигравшая $34,5 млн. По словам девушки, лотерея сделала ее «эмоциональным банкротом», заставив ее постоянно беспокоиться о том, что люди думают о ней и как воспринимают ее поведение даже в самых обыденных ситуациях.
Одним словом, перед победителем Powerball, рискующим попасть в 1% (то есть стать одним из 1700 американских миллиардеров), стоит не только проблема выбора, какой остров купить для своей будущей виллы. К счастью, шансы сорвать весь джекпот меньше, чем быть пораженным ударом молнии: вероятность правильного определения всех шести заветных номеров составляет примерно 1 на 292 млн.
К северокорейскому «испытанию водородной бомбы»
Константин Асмолов
6 января 2016 года в 10 часов по пхеньянскому времени КНДР осуществила «испытание водородной бомбы». Вначале в районе северокорейского ядерного полигона было зафиксировано землетрясение силой в 5,1 балла. Затем по телевидению КНДР в специальном заявлении объявили, что была «успешно протестирована водородная бомба, созданная полностью из корейских технологий». Соответствующее заявление правительства было распространено практически сразу же после этого.
В заявлении, изобилующем характерной риторикой, было отмечено, что причиной проведения испытания является агрессивная политика США («в мире не было столь зловещей, жесточайшей и долгосрочной враждебной политики»), но при этом отмечено, что «испытание не оказало никакого негативного влияния на окружающую среду», а «КНДР, как ответственная ядерная страна, не будет применять ядерное оружие первой, если враждебные агрессивные силы не посягнут на наш суверенитет, и ни в коем случае не будет передавать средства и технологии ядерного оружия». С другой стороны, «пока США не откажутся полностью от своей враждебной политики в отношении КНДР, никакого прекращения разработки ядерного оружия и никакого отказа от него быть не может, даже если небо обрушится на землю».
По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км от поверхности. В ходе ядерных испытаний в 2013 году фиксировались подземные толчки такой же магнитуды. По данным южнокорейских СМИ, ядерное устройство могло быть взорвано на глубине 100 метров, где залегал очаг землетрясения. При этом, по сообщению Национальной службы разведки РК, ни Китай, ни Россия не были предупреждены о ядерном испытании.
Этот шаг КНДР ставит два основных вопроса: «действительно ли это испытание термоядерного оружия, повышающее северокорейскую угрозу» и «каковы были причины проведения испытания, каковы будут дальнейшие политические последствия этого шага». Разберем их по порядку.
Хотя тектоническая активность такого масштаба говорит о том, что взорвано нечто необычное, оценить мощность бомбы точно еще не получается, т. к. северяне, не желая нанести удар своей и чужой экологии, провели испытания на большой глубине, поэтому выхода радиоактивных изотопов надо ожидать с опозданием. Оценки мощности взрыва разнятся от 6 до 200 килотонн. Опять же возникает вопрос о количестве необходимого для взрыва водородной бомбы материала. Тех мощностей, которые известны, на первый взгляд, недостаточно. Не случайно Президент России Владимир Путин поручил провести мониторинг имеющихся данных, чтобы проверить заявления Северной Кореи об испытании водородной бомбы.
Большинство экспертов поставили под сомнение тот факт, что Пхеньян взорвал полноценную водородную бомбу (мощность слишком мала), но признали прогресс КНДР в части развития военных ядерных технологий. Возможно, это тестирование новой технологии; возможно, использование термоядерных реакций для повышения показателей; возможен т. н. бустинг с целью получить ту же мощность, но со значительно меньшим расходом плутония или урана (что позволит экономить на расщепляющих веществах и создавать больше ядерных зарядов), но не использование реакций синтеза как основного источника энергии взрыва.
Одна из версий заключается в том, что северяне частично выдали желаемое за действительное. Испытания касались так называемого инициатора – атомной бомбы, взрыв которой инициирует термоядерную реакцию. То есть у северян есть важный элемент для производства водородной бомбы, но это не говорит о наличии ее самой.
Вообще, с хорошей вероятностью это все-таки не бомба, а ядерное взрывное устройство. Разница между этими понятиями довольно высока. Потому что бомба предполагает тот уровень миниатюризации, при котором ее можно использовать в комплекте со средствами доставки, способными нанести удар где-то. Боевое же применение взрывного устройства сводится только к «заманить побольше врагов поближе к нему и взорвать его», и это важный момент для предотвращения излишней паники.
Почему? КНДР вряд ли применит ЯО первой. Даже если исходить из того, что первоочередной целью Ким Чен Ына является выживание его режима, ведение агрессивной войны – прямое политическое самоубийство: против нарушителя ядерного табу мировое сообщество сочтет адекватным любой ответ. Поэтому нельзя сказать, что ядерное испытание существенно повысило уровень северокорейской угрозы миру.
Иное дело, что политических последствий это не меняет. Если КНДР сказала, что она взорвала водородную бомбу, «отвечать» она будет за нее. А Белый дом уже осудил Северную Корею за нарушение резолюции Совбеза ООН, которая запрещает проведение любых ядерных испытаний – что атомной, что водородной бомбы. В похожей риторике высказалось и большинство союзников Америки.
Шаг, который сделал Ким Чен Ын, весьма рискованный. Во-первых, проведение ядерного испытания не может не вызвать дополнительное напряжение в отношениях с теми странами, которые не являются союзниками КНДР, но занимают нейтрально-поддерживающую позицию. Пекин устами агентства «Синьхуа» уже заявил, что «испытание водородной бомбы в КНДР идет вразрез с целью международного сообщества по денуклеаризации Корейского полуострова», и «стороны должны отказаться от конфликтного мышления, в кратчайшие сроки вернуться в русло решения споров путем диалога». МИД КНР также заявил решительный протест.
Во-вторых, это наносит КНДР своего рода удар по репутации. Новогодняя речь Ким Чен Ына не содержала упоминания о ядерном оружии и трактовалась многими как приглашение к диалогу. Соответственно, любители поговорить о непредсказуемости пхеньянского режима или даже о неадекватности северокорейского лидера получают факт, которым они могут попользоваться. Если характер режима настолько переменчив и импульсивен, какой смысл о чем-то с ним договариваться?
В-третьих, возникает вопрос о своевременности проведения испытаний. Ни в межкорейских, ни в корейско-американских отношениях не было заметного ухудшения, и даже любители объяснять подобные действия КНДР желанием получить побольше бесплатной помощи, могут заметить, что в этом году проблем с продовольственной безопасностью в КНДР меньше.
Тогда зачем сейчас? Возможно, приказ провести испытание был отдан после августовского обострения 2015 г., и к нынешнему времени его нельзя было отменить по чисто техническим причинам. Возможно, сыграл свою роль кризис на Ближнем Востоке.
Встречается мнение, что испытание имело целью подтолкнуть США к заключению мирного договора, означающего дипломатическое признание КНДР Соединенными Штатами. Если это так, Пхеньян проявил недальновидность. Во-первых, мирный договор еще ничего не значит, и даже дипломатические отношения не означают отсутствие напряженности. Поэтому надеяться на то, что после подписания мирного договора отношение США к КНДР радикально поменяется, неверно. Во-вторых, с учетом внутриамериканской реакции, это вызовет разве что падение рейтинга Обамы и укрепление позиции тех, кто считает, что с Севером надо разбираться жестче или, как минимум, не выглядеть слабаками. А для американской внешней политики это важно, потому что именно с такой мотивацией были введены войска во Вьетнам.
В любом случае нам стоит ждать «обязательной программы» – большого числа осуждений со всех сторон (в РК высказались и правящая партия, и оппозиция), новых резолюций СБ ООН и, вероятно, новых санкций, запрещающих ввозить в КНДР ресурсы и технологии, необходимые для термоядерного синтеза. При этом Москва и Пекин не могут не присоединиться к этому осуждающему хору, поскольку как члены «ядерной пятерки» они последовательно выступают за нерасширение ядерного клуба.
И хотя непонятно, насколько верны заявления южнокорейской разведки, определенное охлаждение отношений Северной Кореи с КНР и РФ весьма вероятно. Хотя бы на уровне приостановки или замораживания существующих совместных проектов: уровень экономического сотрудничества будет снижен частично в демонстрационных целях, частично – потому, что инвестировать в Север кажется рискованным. О большей мере недовольства Китая скажет то, насколько Пекин будет перекрывать приграничную торговлю, поставки энергии или линии снабжения.
С другой стороны, существует точка зрения, что реакция не будет такой острой. Во-первых, «попривыкли». Во-вторых, серьезные эксперты понимают, что ядерная риторика КНДР – это даже не шантаж, а действия типа «не тронь меня, а то хуже будет». В-третьих, в мире сейчас хватает точек напряжения, где вероятность негативного развития ситуации гораздо выше, чем в случае с Северной Кореей.
Как бы то ни было, лидер КНДР сделал рискованный ход и должен быть готов получить весь букет последствий. «Выстрелил ли он себе в ногу» или блестяще предвосхитил события, совершив важный прорыв, покажет время.
Listen Up, Socialist! An Open Letter to the Bernie Sanders Generation
Caleb Maupin
It used to be off-limits to talk the way we do. We can all remember when “capitalism” was synonymous with “good” in standard American English. In the mainstream mind, the word “socialism” only conjured up images of dictators and prison camps.
But then in 2008, the economy crashed. People like you and me starting waking up, asking questions, and looking for answers.
What woke you up? Was it seeing your neighborhood suddenly dotted with foreclosed homes? Was it having a relative lose their good-paying industrial job after their plant closed down? Was it those student loan bills that just kept coming? Was it leaving college and discovering you’ll never get a chance to have the kind of decent-paying job and living standard that once defined the American dream? Was it applying for food stamps, after being told your whole life that there was prosperity in America for all who worked hard?
It certainly helped that the Republicans called Obama a “socialist” constantly. If daring to show even the slightest concern about the decaying of the industrial Midwest and the crisis of low wages makes you a “socialist,” many people should be interested in becoming one.
Back in 2008 calling Obama a “socialist” was a way to slur him. Now Bernie Sanders, the Democratic Party front-runner, is calling himself a “socialist” as a way to attract supporters. Many of the most dedicated anti-Wall Street activists who occupied Zuccotti Park back in 2011 are now “feeling the Bern.” Sanders talks vaguely about “democratic socialism” on national television between rants against the wealthy financial oligarchy, and people love him for it.
Hating Wall Street and their system of global monopoly capitalism might be a new thing for you and me, but it’s not new for most of the world. The message of my letter is this: If you really want to fight Wall Street, you have to join up with the unfolding global revolution. Fighting the billionaire one percent means fighting racism and imperialism.
Wall Street and the Black Nation
If you’ve seen Michael Moore’s new movie Where to Invade Next, you’ve got to be perplexed. Why do working people in Europe have guaranteed healthcare, free education, and a much more humane society? Moore barely hints at the reasons. He shows workers’ rallies and demonstrations. He points out that people in Europe protest more and tend to be more involved in the political process.
Lack of political involvement is certainly part of our problem. We all know that too many people in the USA are tuned out of politics and tuned in to Kim Kardashian and the Real Housewives of New Jersey. But the problem is deeper than that.
What image immediately comes into your mind when you hear the phrase “welfare mother?” Despite the fact that the majority of women with children who receive government assistance are white, the image that has been burned into our minds and associated with the phrase “welfare mother” is that of an African-American woman. The manufactured perception that government programs only help “the others” has been key in duping people and destroying the US economy.
For the last four decades, while the incomes and living standards of all the working families in the United States have been dropping, the US media have convinced white people to direct their anger at African-Americans. They have convinced many to support cuts in social programs and the firing of government workers, believing that these things would only hurt African-Americans and Latinos.
Meanwhile, a huge police state is emerging. Our civil liberties are disappearing. Cops are killing people everywhere, and millions of people are locked in prison. The federal government is watching our every move, listening to our phone calls, and reading our e-mails. Yet many of us have been duped into going along with it by politicians who play up fear and racism and talk about “getting tough on crime.”
Racism has been the biggest barrier to social justice in the United States. The United States, unlike France or Germany, is not a nation. The United States is a country, and within it are both oppressed and oppressor nations. The primary way the ruling global elite has kept back the working families of all nations within the United States is by mobilizing the whites to oppress, despise, and beat down African-Americans.
The ruling financial elite has prevented struggles and rebellions from breaking out by utilizing white workers. Wall Street is very good at redirecting our rage and transforming us into foot soldiers they can use to beat down the Black and Chicano nations.
As the economy is crumbling, the middle class is destroyed, and youth are stuck in low-wage service sector jobs, we see this racism racket once again. Protesters are marching through the streets saying “Black Lives Matter” because the courts and society at large have given the police an unofficial license to kill Black youth. Armed rebellions are breaking out in places like Ferguson and Baltimore.
FOX news and Donald Trump are working hard to dupe us, like they have so many times before. They want to use the white working class as cannon fodder against the unfolding Black revolution. They want us burning mosques, cheering for George Zimmerman, hating immigrants, and waving American flags while they transform the entire country into a giant low-wage prison. Will we be suckers again? Or are we going to wake up and switch sides?
The Danger of Global War
Long before Bernie Sanders was calling himself a “democratic socialist,” Dr. Martin Luther King, Jr. was describing himself with such terms. Just before King was shot down, he started talking about poverty and the Vietnam War. He dared point out that US militarism around the world and the extreme poverty of people at home were absolutely linked.
King’s final speeches described how the forces that control the world, the big bankers, were oppressing and exploiting African-Americans at the same time they were slaughtering Vietnamese people. At the time of his death, King was daring to link the Ku Klux Klan and Pentagon as a singular apparatus of repression, and calling for an end to capitalism, the system based on profits.
In the days of MLK, the Black Panther Party, and Malcolm X, a lot of support for the Black freedom struggle came from outside of the country. The Soviet Union petitioned the UN to take action against Jim Crow segregation. Cuba broadcast “Radio Free Dixie,” urging African-Americans to rise up. Mao Zedong issued statements urging resistance to racism, and welcomed Black freedom fighters like Robert F. Williams and Huey Newton to China as heroes. The Democratic People’s Republic of Korea had a special relationship with the Black Panther Party. Many forces around the world understood that the fight against imperialism was linked to the Black freedom struggle in the United States.
The situation today isn’t much different. The Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, a country the US media is constantly telling us to hate, has openly stated: “We are opposed to the crimes of ISIS and the crimes of the Federal Police of the United States. They are both the same.”
While FOX news and CNN portray protesters and activists as dangerous criminals, TV networks like Russia Today and PressTV invite those who are protesting to tell their side of the story, and expose the horrors of police brutality and political repression routinely covered up by the Wall Street-owned US media.
It should be no surprise that at the same time that they are filling neighborhoods across the United States up with police checkpoints, cameras, and surveillance drones, they are building military bases in the Pacific Ocean and surrounding the People’s Republic of China. At the same time that they are rehearsing for civil war and martial law in the hills of Idaho (remember “Operation Jade Helm”), they are setting the stage for a confrontation with Russia.
Russia isn’t part of the Soviet Union any longer. There are plenty of wealthy capitalists there now. The Cold War is over, but US leaders still want a confrontation. Why? Putin has brought stability after the chaos that ensued during the fall of the USSR. The Russian economy is centered around exporting its publicly owned oil and natural gas resources. Russia is an emerging source of stability, competing with big bankers on the global markets.
That’s why in 2008, the US-aligned regime in Georgia attacked the territory of South Ossetia protected by Russian peacemakers, sparking a war. That’s why the democratically elected president of Ukraine was forcefully removed by a group of US-funded neo-Nazis and terrorists in 2014. That’s why US media is constantly telling us that Putin is a dictator, while at the same time the US is supporting and arming brutal regimes like the Kingdom of Saudi Arabia.
Libya is in ruins since the 2011 intervention. It once had the highest life expectancy on the African continent. Iraq is a mess. Saddam Hussein has been replaced by ISIS. Aside from the poppy fields and terrorist groups, Afghanistan is more impoverished and unstable than ever before. The “rescue missions” US leaders keep selling never seem to make anyone better off. The people in the Pentagon don’t care anything about human rights.
The dangerous war moves against Russia, like the racist repression of African-Americans and the rising police state at home, are about keeping the Wall Street criminals in control of the world. The fight against Wall Street is also a fight with the Pentagon, and it’s also a fight against police brutality and racism. The US government is not working to protect you and your family. It is bought and sold, working for a cartel of international bankers who have no loyalties of any kind. The World Bank, the International Monetary Fund, Wall Street, the London Stock Exchange; all the centers of economic power are under the control of a clique of Ayn Rand psychopaths. In the name of “neoliberalism” they have turned “might makes right” and “greed is good” into an ideology, and they want nothing to stand in the way of their profits. They glorify selfishness and individualism, and want to break down and destroy all communities, cultures, nations, and traditions. They want one global financial empire.
Venezuela, Iran, Russia, China, Cuba and Syria — all the countries the Pentagon is mobilizing to attack — have to one degree or another kicked these bankers out and taken control of their own economies. They have started developing independently, and the big bankers want to destroy them. In the US, Black nationalists like the New Black Panther Party, the Nation of Islam, the African People’s Socialist Party, and so many others want the same thing for African-Americans. They want self-determination and the right to build up and develop their own community. I say it’s time we embrace these forces. We have the same enemy. All those fighting for independence should be our friends.
What Kind of “Socialism” Do You Believe In?
There was a time when a lot of white people in the United States got something out of empire. Older folks often talk about the booming economy of the 1950s, the “good old days” made possible by the rise of US power after WWII. It used to be that while US leaders bombed places like Vietnam and Korea, and we waved the flag and cheered, some of us got houses, cars, TV sets and a high standard of living.
But that’s history! The domestic capitalism of the United States has been defeated by international finance. The bankers that run the world are driving the entire human race down. With the computer revolution, technology is advancing to astounding heights. Their social scientists are talking about “overpopulation” because they don’t need us anymore. A crisis of global migration has erupted. People are fleeing their homes across the world because the global economy no longer has room for millions of workers.
Because Russia and China have dared to say “no” to international capitalism, and continue to build themselves up with somewhat state-controlled economies, the danger of war is intensifying. These large countries sit at the center of an entire bloc that has rejected the dictatorship of the dollar. Many countries, with many different ideologies, are refusing to be part of the international financial dictatorship.
I don’t blame you for supporting Bernie Sanders. I could never vote for him because of his support for Israel’s crimes against the Palestinians, and his justification of drone strikes. But he’s probably the best option among the “serious candidates” on the ballot. The fact that his campaign is moving closer to the “Black Lives Matter” uprising, and talking more about racism, is a good sign. When Sanders talks against the billionaire financial elite, he is saying what all of us know in our bones: a group of ultra-rich people run the USA, and they are taking the country and the entire world in a very dangerous direction. Global capitalism is driving us toward fascism, poverty, and war, so many Americans have started exploring different concepts of “socialism.”
What concerns me most, my socialist friend, is what you are going to do after the 2016 elections are over. Is your belief in “socialism” going to stop on Election Day? Are you going to return to your normal life, sitting back while Wall Street pushes the human race closer towards disaster? Or are you going to keep fighting back, not just at the ballot box, but in the street?
And what is “socialism” going to mean for you? Is it going to be a more liberal version of Donald Trump’s “Make America Great Again”? Is it about trying to bring back the good old days when white people got bigger crumbs while the bankers plundered the world? Or is it about building something entirely new?
The Soviet Union is gone. The kind of “really existing socialism” that defined the Cold War is not coming back. But in the Bolivarian movement of Venezuela, the People’s Republics of Donbass, the Hezbollah-controlled areas of Lebanon, and the streets of Baltimore and Ferguson, something new is emerging. It’s not the “communism” we learned about in school. It doesn’t fit into the 20th-century political categories of left or right. Sometimes it is very religious or nationalistic. Often it draws deeply from traditions and cultures of peoples who are under attack and refuse to surrender. Whatever you want to call the emerging forces of resistance, they are our only hope for the future. Wall Street and neoliberal capitalism have failed, and their only hope for keeping power is in war and repression.
If you really want to fight Wall Street, you need to pick sides now. You need to think in global terms. Time is running out and the stakes are getting higher. The world is waiting for us!
Sarin Gas: The Guy Who Told Us So Is Now Telling Us This
Henry Kamens
The other day I said the following in an email to Gordon Duff, Editor in Chief of Veterans Today, an online journal for the intelligence community:
“I watched the interview programme with you and Kevin Barrett. See minute 4:15 However, you need to keep in mind that the Sarin gas story, broken by the Turkish MP and Russia Today, is old news, and much more is involved.
“One only needs to take a closer look at the PR in support of the bio weapons lab in Tbilisi, who is involved and who stands behind them. Let’s not forget that former US Senator Richard Lugar called it the “latest advancement in protecting Americans against global biological risks and how this and other labs identify and report potentially deadly pathogens before they can spread.” However, it does not stop there.
“Consider the players, aside from Bechtel National. CH2M Hill and Battelle, two of the main contractors to Bechtel and DoD, are still there conducting maintenance. Others in the project include the U.S. Army Medical Research and Material Command (MRMC) which claims it is backstopping international norms for bio security in Georgia’s national repository of infectious disease pathogens (bio weapons depot).
“I realise that you [Gordon] are tossing some red herrings “here and there” but in case push comes to shove keep this in mind. The push will come to shove sooner than later, with US policy unraveling in Syria and a massive bio attack imminent, and we may be able to stop yet another false flag. Gordon, it is time for us to go whole hog, take a step further.”
The history of this biolab has been well documented by New Eastern Outlook and Veterans Today columnist Seth Ferris and Georgia-based American journalist Jeffrey Silverman, amongst others. It has been well reported in the Georgian press too. Many have raised the same concerns about the organisations involved in this facility, and issues such as the fact that this so-called research lab has not produced a single piece of research, thereby apparently wasting millions of dollars. But its real importance lies in what it demonstrates merely by its presence.
If you want to know what US foreign policy consists of now, and will consist of in future, you should look at what is happening in this lab rather than the latest trouble spot. There’s not much you are allowed to see of course, but what I and others have have seen has been right all along, and only came about because of this lab. What the US is about to do now will equally be the product of this lab.
In plain sight
Officially the Central Public Health Reference Laboratory in Tbilisi, Georgia, opened on 18 March 2011 and promotes public and animal health through infectious disease detection and epidemiological surveillance. It was built by the United States Defense Threat Reduction Agency, a part of the U.S. Department of Defense, and has both Georgian and American staff.
I have copies of the original plans for the bio weapons lab and command and control centre. They were shared with me by a Turkish contractor in 2011, because he had safety concerns. I also have other documents, which were the basis of the 2013 story that “Veterans Today investigators in the Republic of Georgia, working with Russia media outlets and Press TV, have discovered a secret American-built weapons lab, designed by Bechtel Corporation, in Tbilisi, Georgia.”
The Turkish source who provided me the bulk of the documents had read one of my online articles on the subject. He asked to meet me and then handed over a pile which included the design plans. These confirmed all the information that I had on the lab—confirming my suspicions that bio weapons development was its real purpose.
He complimented me on how I had been able to find out so much about the project and told that me that I knew more than the managers did, or at least more than the managers would admit to knowing. I was told that it would be good to keep close records, as sooner or later there was going to be a new international scandal related to the lab. This is, in fact, exactly what is about to happen.
Pulling the other one
Some of us remember who was selling a cocktail of poisonous chemicals to Iraq in the 1980s, which were used to gas the Kurds. Georgian, American and European journalists have carefully researched the history of Anthrax for Export – and how Bechtel and other US companies sold Iraq the ingredients for a witches brew (The Progressive, April 1998).
This “research laboratory”, which is heavily guarded, warehouses weapons grade bio materials – as in bio warfare. It was built by Bechtel. In Georgia it has aroused a number of safety concerns, not merely because of what’s inside it but due to shoddy workmanship.
Of course, if anything leaks out of the plant, this shoddy workmanship will be very convenient. It has already served some of its purpose. An early VT investigation into this plant revealed that a female Turkish safety engineer had been fired after it become obvious that the welds in the stainless steel tubing (of bio stew vats) leaked. The steel structure of the entire building had to be reworked, which gave Bechtel the excuse to bring in a bio-maintenance engineer to backstop the so-called Technology Management Company (a Georgian front company) which has been hired to make the structure safe.
A multitude of “fly-in-and-fly-out” contractors then followed, supposedly to conduct turn-key certification, preventive and corrective maintenance on the duct system and laboratory equipment, etc. Most of what they actually did, especially their personal activities, is a poorly-kept secret which includes massive hidden cost overruns and social sheningans at the expense of the US taxpayer. As one source said – and excuse the language – “Outside contractors were brought in, in short “to clear up the fucking mess and to get fucked in the process.”
All this is very strange behaviour if we are to believe this is a public health laboratory. It implies callous disregard for public health. It does however make a lot of sense if it is a facility protected by officials who are using it to behave as officials tend to do – dump their problem people there and express it as a reward, whilst using its official status as a cover for nefarious activities. Look at the prominent politicians who end up in unelected jobs at the EU, particularly as Commissioners, and you will see that this is common practice.
Georgia is not only on a straight line between the US and everywhere bioweapons have been used in a conflict the US is involved in. It also inherited a number of biolabs from the Soviet Union, as did some other republics. Giving control of these to the US was one of the hidden clauses of the defence agreements these newly independent countries all signed with the US.
The Lugar lab is an updated version of the sort of lab local staff had already worked in, but now directly under US control. Although the new Georgian government claimed soon after it was elected in 2012 that it had taken it over, the US Department of Defense thinks otherwise, according to its website and several official statements. Of course the US still owns it – it does not want to have to bother with things like obtaining permission for what it intends to do.
Too bad to be true
The official reason for building a new lab in Georgia, rather than just taking over the old ones, was that new infectious strains, such as anthrax, were evolving in the wild amongst cattle herds in the rural regions of the country. Apparently the biolabs, and native public health facilities, weren’t able to investigate or do anything about this. This is hardly surprising, because this or any other lab would have published a paper on the subject by now, giving facts and figures and suggesting solutions, if such a thing were actually happening.
If there is anthrax in Georgian cattle it can be assumed that many people will come into contact with it, through being in proximity to the animals or eating them. Then, despite the lack of evidence, it can be assumed that if people have anthrax in their system this is how it got there. But of course anthrax is often used in bioweapons, including those currently being deployed in Syria, and on several occasions airlines have asked those ENTERING Georgia to fill in questionnaires about proximity to anthrax, so even Georgia tacitly admits that infected cattle are not the only source of any problem which might exist.
Some, including Jeffrey Silverman, have long claimed that the US government is using Georgia and its population as white rats. Biologiocal agents such as anthrax are not occurring spontaneously, the biolab is introducing them into the food chain to see what effect this has on people. The US has a track record of doing this, having experimented on its own population over the years whilst telling the unknowing victims they were part of – you’ve guessed it – a public health programme.
As Silverman says, “If the strains introduced turn out to be antibiotic resistant, ongoing research into viruses that eat bacteria, and attack such infections, can be quickly accessed. Whoever has such information controls the bio weapons battleground.”
Writing on too many walls
The US now thinks it has the information it needs to exert that control. How do we know? It has now been demonstrated that Turkey has used Sarin Gas on its opponents in Syria. It got this gas from somewhere, and NATO knows where all the bioweapons facilities are in its member countries. There isn’t any evidence so far to suggest this gas was manufactured in Turkey. But the Sarin Gas used in the false flag attack at al-Ghouta, Syria, in 2013 came from Georgia.
Silverman and Veterans Today exposed where the al-Ghouta gas came from at the time, they traced the shipment. Then no one wanted to listen. So I’ve asked him what we can expect next, and here’s what he had to say.
“The US wants a way out in both Syria and Turkey. It can’t be seen to be defeated or wrong, so it has to have a reason to leave which will preserve its self-image. The best option is a natural disaster. Either it can seed the clouds, as in Vietnam, or it can release pathological agents, which would oblige it to withdraw troops on safety grounds. Then Turkey and the Syrian opposition would have to sort out their own problems, for which the US could not be held responsible if there were officially no Americans in the country.
“The Tbilisi laboratory is located next to Tbilisi airport, which makes deliveries easy. There’s another in Kutaisi, Georgia’s second city, whose airport was upgraded to “international” status with the help of US contractors. Most of the deadly material – the stuff which can’t be readily shipped out of flights from Tbilisi in an emergency – is actually stored in Kutaisi. There is also a UK-owned biolab in the seaside town of Kobuleti, whose materials come in and go out by ship via the ports of the autonomous region of Adjara, which are controlled by Turkey under the agreement which ceded them to Georgia.
“Everything I’ve always said was going on in the Tbilisi biolab has been shown to have transpired. Just look at the unexplained spikes in certain infections in Georgia, the lack of research output from the lab, the beatings for those who get too close to it (one Norwegian journalist was attacked by five masked men for looking at it) and the histories of the contractors involved and the individuals employed there. I told you all that, and now I’m telling you this.
“Sarin Gas was only the beginning. Having treated Georgians as white rats the US, is about the use the Tbilisi lab to mount a deadly chemical or biological release, covering a wide area, to get it out of Syria and Turkey. The consequences may well be severe, for health, international relations, trade and many other things. But the US only cares about getting caught, not what it does to people, and that isn’t going to change unless we make it.”
Последнее выступление Обамы
Президент США выступил с ежегодным посланием к нации
Александр Братерский
Президент США Барак Обама выступил со своим последним ежегодным посланием к нации, заявив, что борьба с террористическими группами на Ближнем Востоке не носит характера «третьей мировой войны» и не угрожает «существованию нации». США он назвал самым мощным государством в мире. Комментаторы из прореспубликанских СМИ назвали речь президента «попыткой придать оптимизм стране, которая находится в нервическом состоянии».
Во вторник (ранним утром в среду по московскому времени) президент США Барак Обама в последний раз в качестве главы государства обратился к американскому народу с традиционным посланием, где рассказал об успехах и проблемах экономики страны, видении внешней политики США и их положения в мире.
Со следующим посланием будет выступать уже новый американский лидер, которого изберут в конце года.
Выступление с посланием — обязанность президента США. Первое послание произнес президент Джордж Вашингтон в 1790 году.
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Обама заявил, что, если конгресс «серьезно настроен на победу в этой войне», он должен дать разрешение на использование военной силы против запрещенного в России ИГ.
США уже больше года ведут боевые действия против исламистов на Ближнем Востоке, однако эти действия носят ограниченный характер, в то время как для полноценного военного вмешательства нужно разрешение конгресса США.
Конгресс, который контролируют республиканцы, не хочет пока давать президенту свое согласие, так как это может повредить Республиканской партии в год выборов.
Отметив необходимость борьбы с ИГ, американский лидер призвал американскую политическую элиту и общество не рассматривать ее как «третью мировую войну».
«Массы боевиков в кузовах грузовиков и люди с исковерканными душами, которые, сидя в своих домах, замышляют теракты, несут опасность для граждан и должны быть остановлены, однако они не несут угрозы нашему существованию», — подчеркнул Обама.
При этом он заявил, что США не должны «захватывать и перестраивать каждую страну, которая впадает в кризис». «Это не показатель лидерства. Это путь в трясину — проливать американскую кровь и транжирить наши богатства, что нас в конце концов ослабит», — сказал Обама, добавив, что необходимо помнить уроки Ирака и Вьетнама.
Как и во многих других своих важных речах, президент США заявил, что Америка является «самой мощной страной в мире». Однако привел в доказательство не экономические успехи, а силу американского оружия, отметив, что США тратят на оборону больше, чем все восемь ведущих государств мира, вместе взятых:
«Ни одна страна не осмеливается атаковать нас, понимая, что это путь к ее уничтожению».
Когда речь идет о вопросах международного значения, «люди мира не смотрят в сторону Пекина или Москвы — они обращаются к нам», сказал американский лидер.
По его словам, в сегодняшнем мире «нам угрожают не империи зла, а несостоявшиеся государства».
Говоря о России, президент США подчеркнул: несмотря на то что российская экономика «сокращается», Москва «продолжает вкладывать ресурсы в Украину и Сирию, видя, что эти государства уходят из-под ее влияния».
Стоит отметить, что на этот раз Обама дал более мягкие оценки состояния российской экономики, чем в своей прошлогодней речи перед конгрессом. Тогда он охарактеризовал российскую экономику как «разорванную в клочья».
Интересно, что, высказываясь об Украине, Обама употребил выражение «клиент России». Между тем в опубликованном перед выступлением тексте президентской речи этого выражения нет — оно стало импровизацией главы государства. Употребление слова «клиент», как будто речь идет о союзнике России, вызвало недоумение у экс-посла США на Украине Стивена Пфайфера, который назвал выражение, использованное американским президентом, «странной фразой».
Говоря об успехах американской экономики, Обама охарактеризовал ее как самую сильную в мире, заявив, что в США за два года создано 14 млн новых рабочих мест — это является высшим показателем с начала 1990-х.
Американский лидер призвал конгресс снять экономическое эмбарго с Кубы, дипломатические отношения с которой были восстановлены в прошлом году, а во внутриполитической части выступления негативно отозвался о состоянии политики в стране. В частности, заявил о необходимости «уменьшить влияние денег» в политике для того, чтобы «несколько семей и скрытые интересы не банкротили выборы». Обама также призвал положить конец такой практике нарезки политических округов, которая позволяет привлечь кандидатам большее количество сторонников, проживающих на той или иной территории. Подобную практику используют представители обеих политических партий.
Подобные пассажи из речи Обамы наверняка понравятся комментаторам российских федеральных каналов.
Стоит отметить, что Владимир Путин также любит говорить о проблемах внутренней политики США, когда иностранные журналисты задают ему вопросы о ситуации в России.
Обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон считает, что прощальное послание Обамы обращено прежде всего к человеку, которого он видит своим преемником на посту президента, — экс-главе Госдепа Хиллари Клинтон. «Приход к власти демократического кандидата — это императив для Обамы, так как республиканцы поклялись разрушить все, что он сделал, после того как возьмут контроль над президентством…» — отметил Коллинсон. В свою очередь, The New York Times пишет, что американский лидер своей финальной речью «хотел отполировать свои достижения».
Консервативный телеканал Fox отмечает, что Обама «пытается придать оптимизм стране, которая находится в нервическом состоянии».
А губернатор штата Южная Каролина, член Республиканской партии Никки Хейли, которая была выбрана однопартийцами для того, чтобы подготовить ответ на выступление Обамы, заявила, что действия президента резко контрастируют с его словами. «Мы сегодня стоим перед лицом серьезнейшей террористической опасности с момента 11 сентября, и этот президент либо не хочет, либо не может с ней справиться», — высказалась губернатор.
Филиппины решили модернизировать ВС.
Конгресс Филиппин попросил правительство страны (именно так, а не наоборот – прим. Военный Паритет) изучить возможность выделения 150 млрд песо (3,2 млрд долл США) для финансирования долгосрочного плана военной модернизации на фоне обострения обстановки в Южно-Китайском море, сообщает сегодня aseanmildef.com.
Планируется покупка новых фрегатов и корветов для флота с развертыванием в Западно-Филиппинском море (Южно-Китайское море), новые боевые средства должны обеспечить защиту потенциально огромных месторождений нефти и газа, которых страна рассматривает как «ключ к энергетической безопасности».
Каждый год через море проходят суда с товарами на сумму 5 трлн долл. Регион стал предметом напряженности в отношениях таких стран как Бруней, Малайзия, Китай, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.
В этом году Конгресс выделил 25 млрд песо для приобретения двух фрегатов, трех противолодочных вертолетов, шести самолетов огневой поддержки и вооружения для легких истребителей FA-50 южнокорейского производства. Министерство обороны Филиппин имеет амбициозный 15-летний план модернизации вооруженных сил на сумму 998 млрд песо (20,7 млрд долл), который должен помочь стране в военном отношении встать в один ряд с соседями в Юго-Восточной Азии.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























