Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
The Chinese Dream Plows Onward: The Truth About China’s Stock Market
Caleb Maupin
President Xi Jinping, representing the overwhelming sentiment of China’s huge population, has continued to crack down on corruption. His “Mass Line Campaign” involves punishing and halting the excesses of the booming Chinese market, and ensuring that the Communist Party keeps absolute control of the economy.
Xi Jinping has gone after some of the top officials in China who have been caught taking bribes, who are not fairly enforcing the law, or who are otherwise working in the service of profit-making institutions. Xi is firmly committed to the political ideas articulated by Deng Xiaoping during the early 1980s. As Xi makes clear in the many pages of his widely distributed book The Governance of China, capitalism exists in China only to advance the Communist Party’s goals of creating a prosperous society and strengthening “Socialism with Chinese Characteristics.” In accordance with the Deng Xiaoping Theory, capitalism in China will not be allowed to run rampant, and the needs of Chinese society as a whole will always come before the profits of capitalists, both foreign and domestic. Xi is moving to secure that the state sector of the Chinese economy remains dominant, and that the private corporations will remain tightly controlled and restricted.
This strategy of utilizing foreign capitalist investment to strengthen Chinese socialism has been cemented as the political line of the Chinese Communist Party since the early 1980s. However, during the late 1990s, the world has looked on to see factory owners and capitalists running wild throughout Chinese society. The widely told horror stories about the facilities owned by FoxConn and Honda, the routine bribery of government officials, and the endless groveling efforts to accommodate US and European corporations have all become a source of national outrage. The average Chinese person is furious about a pattern of corrupt betrayals of the 1949 revolution and its principles.
The Chinese Communist Party is tightly organized on a local level, with a network of local organizers in every community. Despite still upholding the unified practice of Democratic Centralism and presenting a unified vision in statements to the public, internally the Chinese Communist Party is full of divergent strategies and criticisms of current government policy. Figures like Bo Xilai, who use language more akin to the Mao era, have risen and fallen within the party strata. In society at large, beyond the party, there is a rise of Neo-Maoists and independent labor activists who seek to bring China more in line with the socialist vision its founders fought for.
The increasingly contradictory political and economic situation in the People’s Republic has been the synthesized in the rise of this leader whose common nickname is “the big boss.” Xi Jinping, a powerful political figure championing the over one billion working-class people in the country, declares “Mao Zedong Thought must be central in all things.” Speaking for the Communist Party he proclaims, “We have declared war against extravagance and wealth.” In speeches utilizing phrases pulled from The Little Red Book, Xi is forcefully pulling the private sector of the Chinese economy back under government accountability. Authority is centralizing, and the party’s practice is becoming more unified.
Xi’s controversial new national security law is a groundbreaking response to Western meddling in China’s affairs. The new law imposes political restrictions on foreign investment. Corporations that have worked to overthrow or weaken the Communist Party will be restricted and monitored in their investment activity. The law protects China from the methods of destabilization developed by George Soros, Samantha Power, and other agents of Wall Street. The law prevents Western investors and intelligence agencies from utilizing the tactic of funding NGOs and manipulating currencies in order to cause unrest. The law makes China safer than ever before from the methods utilized in the attacks on the former Yugoslavia, the Soviet Union, Libya, and Syria. The law works to effectively prevent any possible “color revolution” on Chinese soil.
With his sweeping anti-capitalist reforms, Xi Jinping is not only battling against US corporations and domestic profiteers. He also is battling against the right-wing of his own party who are reluctant to see their bureaucratic privileges restricted. Xi’s mass line campaign is exposing and punishing a deeply embedded cartel of Western bootlickers, who want to erase everything Mao and Deng ever wrote, except of course the beloved phrase “Too Get Rich is Glorious.” Xi’s crackdown on corruption is shaking the world, and the cartels in Wall Street and London, along with a few of their well-paid allies in Shanghai, want it to immediately cease.
What Caused the Crash?
The US press, functioning as the voice of its wealthy owners, declared the recent crash of the Chinese stock market to be the result of Xi Jinping’s policies. This response was predictable as Xi Jinping has long been subject to a demonization campaign in the Western press. For well over a year, The New York Times, The Wall Street Journal, and all other voices of the rich and powerful have been condemning Xi Jinping with words like “Stalinist,” “Neo-Maoist,” “Hardliner,” “Authoritarian,” “Dictator,” and every other political expletive they can muster.
Slipped into the heavy condemnations of Xi found in the US press are subtle admissions of his overall success. The achievements of Xi Jinping that scare his detractors the most are taking place beyond China’s borders. Xi Jinping’s vision of a “New Silk Road” involves the expansions of trade between Russia and China, including the construction of high-speed trains and a natural gas pipeline. Xi is pushing the Chinese state and corporations directed by it to expand their investments in countries like Pakistan and Nigeria.
The articles in the US press blaming Xi Jinping for the crash offer little explanation of why he is at fault. They simply quote voices from leading market- oriented Chinese think tanks blaming him, and further bemoaning his “centralization” of authority, especially in the economic field.
The Financial Times, a London newspaper which functions as a more serious publication of economic analysis, has admitted that the cause of the Chinese stock market crash wasn’t Xi Jinping’s regulations, but rather, a lack thereof. An article in the July 14th issue says that the cause of the crash was irresponsible practices from various “fund matching corporations.” The Financial Times writes: “Since they were not subject to regulation, fund-matching companies permitted higher leverage and lower barriers entry.”
The Financial Times also revealed another interesting tidbit of information. In the United States, 55% of the population is currently somehow invested in the stock market, and would be directly affected in the case of a financial crash. In China, less than 6% of the population is tied into the Stock Exchange. A crash on Wall Street would have exponentially larger consequences for the US than the recent crash has had in China. Despite its large private sector, Chinese society remains mostly insulated from fluctuations of the market.
Furthermore, even in the direct aftermath of the crash, China still reached its quarterly goal of 7% growth. The world was expecting that, finally, the crash and much heralded “slow down” that preceded it, would somehow dramatically halt the powerful juggernaut of China’s state-controlled economy. However, it didn’t happen. China still reached its quarterly 7% growth goal.
The Financial Times now reports that, “Emergency measures designed to curb market free fall in the Chinese Stock market last week apparently succeeded in stabilizing the market.” Essentially, less than a week after the dramatic financial episode, the Communist Part controlled economy has whipped the market back into order. The vast plans for government construction of trains, irrigation systems, and other modernizations are plowing ahead.
Escalation of Violence
The external attacks on China and its invincible economy have risen in recent months. Chinese officials recently arrested a number of Chinese Muslims who had been involved with Saudi-backed Takfiri extremist groups. China has already experienced a wave of stabbings and other horrendous ISIS-style killings. The suspicion that somehow the United States and Saudi Arabia are involved in fomenting extremism and terrorism among the China’s Islamic population is now basically confirmed.
The Trans Pacific Partnership, a trade deal that is loathed by progressive people on every continent, has new anti-Chinese economic stipulations. The US-aligned signatories in Asia such as the Philippines, Indonesia, and South Korea, will be required to set up further economic barricades against Chinese investment as part of this widely unpopular treaty.
The United States continues to accuse China of “Cyber Warfare” against the United States. The United States military has continued expanding its presence in the Pacific and in Central Asia. Recently, US airplanes created an incident by violating Chinese airspace.
Vietnam has joined with the United States in its regional anti-China campaign. The United States is utilizing a classic Cold War tactic, playing Communist Parties against each other, in order to further the aim of their mutual destruction.
Xi Jinping’s trademark policies are designed to rebuild the somewhat eroded links between the Chinese Communist Party and those who brought it into power. Xi is also gradually and subtly working to re-establish the international bonds that once made China the epicenter of a global explosion of anti-imperialism, in a time when Mao Zedong thundered, “Revolution is the main trend in the world today.”
The policies of the United States in China are self-defeating. The harder that international finance pushes its crusade against China, the stronger Xi Jinping and his New Silk Road will become. The two are directly linked.
На здании многофункционального комплекса «Ханой-Москва» планируется возвести надстройку, сообщил генеральный директор инвестиционной компании «Инцентра» Ле Чыонг Шон.
«Мы сейчас находимся в стадии проектирования нового объема на кровле торгового центра. Это будет надстройка над существующим торговым комплексом площадью 5 тысяч квадратных метров. Эти объемы будут запроектированы без колонн и с очень высоким потолком», - рассказал Л. Ч. Шон в интервью «Интерфаксу».
По его словам, надстройка появится летом следующего года.
«Внутри этих многофункциональных залов можно будет проводить общественные мероприятия, ярмарки, спортивные соревнования, мини-концерты», - добавил он.
Напомним, МФК «Ханой-Москва» открылся осенью 2014 года. Он расположен на севере Москвы, на пересечении МКАД с Ярославским шоссе. Это первый в России инвестиционный проект со 100-процентным участием вьетнамского капитала, направленный на культурное и экономическое сотрудничество двух стран. В состав многофункционального комплекса входят торговый центр, апарт-отель, офисные помещения, подземный паркинг и открытая автостоянка на 1000 мест.
Инвестор может построить эстакаду на Ярославском шоссе к весне 2016 года
Строительство эстакады с Ярославского шоссе к многофункциональному комплексу (МФК) «Ханой-Москва» планируется начать осенью этого года, сообщил генеральный директор инвестиционной компании «Инцентра» Ле Чыонг Шон.
«Градостроительный план развития транспортной инфраструктуры около многофункционального комплекса «Ханой-Москва» утвердили буквально весной этого года, и мы сейчас форсируем выполнение этого плана, который состоит из двух этапов», - рассказал Л.Ч. Шон в интервью «Интерфаксу».
По его словам, на первом этапе планируется строительство эстакады, которая ведет прямо с транспортной развязки Ярославского шоссе и МКАД на территорию комплекса.
«Вторая очередь - это заезд со стороны Ярославского шоссе, со стороны области, и выезд на МКАД, который делается в рамках реконструкции МКАД от Осташковского до Ярославского шоссе», - пояснил он.
Л.Ч. Шон отметил, что строительство эстакады планируется начать уже этой осенью.
«Эстакаду мы сдадим ранней весной следующего года. Что касается второй очереди, заезда с виадука (мостовое сооружение. - Ред.) Ярославского шоссе со стороны области и выезда на МКАД-Восток, то он будет делаться в период 2016-2017 годов. Это большой объем работы, который будет делать город в рамках реконструкции МКАД», - добавил генеральный директор компании.
Он также добавил, что рядом с комплексом будет построена дополнительная парковка на 350 машиномест.
Напомним, МФК «Ханой-Москва» открылся осенью 2014 года. Он расположен на севере Москвы, на пересечении МКАД с Ярославским шоссе. Это первый в России инвестиционный проект со 100-процентным участием вьетнамского капитала, направленный на культурное и экономическое сотрудничество двух стран. В состав многофункционального комплекса входят торговый центр, апарт-отель, офисные помещения, подземный паркинг и открытая автостоянка на 1000 мест.
Подсчет популяции тигров в Бангладеше неприятно поразил ученых
Животных осталось не более 100 особей, тигры в стране исчезают.
В последний учет тигров, ученые зафиксировали 440 особей. Теперь же их осталось не более сотни.
В граничащей с Бангладеш Индии, по оценке исследователей, сейчас насчитывается 2 тыс. 226 особей бенгальских тигров. Ученые полагают, что эта цифра преувеличена. По словам профессора зоологии бангладешского университета Jahangirnagar Мунирула Хана, новые данные подтвердили худшие опасения специалистов. По информации Всемирного фонда дикой природы, численность тигров во всем мире упала со 100 тыс. в 1900 году до цифры около 3 тыс. 200 в наши дни, сообщает Научно-популярный портал «Naked Science»
Бенгальский тигр является самым многочисленным из подвидов тигра — с количеством 1706 особей в Индии, 200 в Бангладеш, 140 в Пакистане, 155 в Непале, в 24 в Иране и в 67 в Бутане. Полностью истреблен в Афганистане.
Бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш — исторической Бенгалии. Panthera tigris также считается национальным животным соседней Индии.
Единый учебник по истории неделимой России – это шаг отчаяния
Рафаэль Хакимов: «Единый учебник по истории неделимой России – это шаг отчаяния»
Как школьный учебник, вокруг которого разворачиваются дискуссии, искусственно отделяет российскую историю от всемирных процессов
Концепция единого учебника истории не дает конкретных предписаний окончательному варианту учебника, она многие сюжеты формулирует весьма лапидарно, считает вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов. Например, записано «Куликовская битва» — и точка. В свете последних политических настроений учебник, считает автор «БИЗНЕС Online», будет выдержан в сугубо патриотическом тоне. Нетрудно догадаться, чему будем учить детей: гордости за русских,
На последней сессии Госсовета Татарстана прозвучала обеспокоенность по ряду проблем, в том числе и по единому учебнику истории. Под «единым» имеется в виду вся линейка учебников для всех классов и вузов. Вряд ли надо обманываться возможностью написания альтернативных учебников и пособий — альтернативы будут вокруг единых требований с вариациями методики преподнесения материала. Есть сведения, что учебники уже написаны, из них отобрали те, которые наиболее отвечают современной ситуации. Так что время выступлений закончилось, наступила пора действий.
Институт истории им. Марджани сделал все, что в его силах, добившись внесения существенных изменений в концепцию, однако мы можем только предлагать и не можем влиять на окончательное принятие решений. Следующий этап — дело политиков, депутатов, администрации. Когда я работал советником президента, то мог отслеживать оба этапа, именно так удалось предотвратить принятие Дня победы на Куликовом поле в качестве национального праздника России. Все документы были готовы, памятник в Тульской области покрасили, деньги были выделены, историки свои фантазии оформили в качестве великой победы русских над татарами, но... Этот облом мне долго поминали...
Концепция единого учебника истории не дает конкретных предписаний окончательному варианту учебника, она многие сюжеты формулирует весьма лапидарно, в общей форме. Например, записано: «Куликовская битва» — и точка. Никак не расшифровываются характер битвы, участники, результаты, иначе говоря, автор может произвольно описывать саму битву. В свете последних политических настроений учебник, надо полагать, будет выдержан в сугубо патриотическом тоне, тем более Куликовская битва не исключена из реестра побед русского оружия. Нетрудно догадаться, чему будем учить детей: гордости за русских, победивших якобы злых татар-завоевателей Святой Руси.
«Чему будем учить детей: гордости за русских, победивших якобы злых татар-завоевателей Святой Руси»
Перманентное возвращение к теме Куликовской битвы стало каким-то наваждением для официальных органов, будто наступило время реванша за несбывшуюся победу. В многочисленных официозных трудах, фильмах, царских, советских, современных учебниках пыталась сконструировать настоящую победу русских над татарами в то время, как на самом деле шло политическое соперничество за власть и, в частности, борьба за доступ к московскому рынку. С одной стороны выступила законная власть во главе с ханом Тохтамышем в союзе с Дмитрием Донским, с другой — узурпатор Мамай, объединивший татар, литовцев и западных русских на генуэзские деньги. Битва была между двумя влиятельными кланами, а не между русскими и татарами, причем Дмитрий Донской вообще возглавлял ордынские войска, состоявшие из русских, литовцев и татар (в то время любая конница, с любой стороны была татарской). Не было никакой победы русских над татарами просто потому, что она не предполагалась, такой задачи не ставилось, а были обычные (говоря сегодняшним языком) разборки. В этом вопросе надо просто успокоиться и не пытаться с помощью административного ресурса симулировать победу. Если бы произошла реальная победа, аналогичная Полтавской, то ее вспоминали бы так же редко, как шведское поражение, и не пытались возводить в ранг общенационального праздника.
Проблема единого учебника истории заключается в общей весьма ущербной установке на возникновение русской государственности у западных границ, т. е. на Украине и ее экспансии до Татарского пролива, в то время как всемирная история шла в обратном направлении с востока на запад. Учебник искусственно отделяет российскую историю от всемирных процессов, при этом нерусские народы выступают предметом покорения, а лучшие из них (т. е. немусульмане) в качестве добровольно присоединившихся. Задача состоит в исключении татарского фактора как государствообразующего в пользу эфемерного влияния дряхлой Византии. Даже сегодня идея Третьего Рима подспудно остается в подсознании авторов учебников, собственно, у них выбор невелик: или выстроить воображаемые истоки из некогда великой Византии, или признать ордынскую основу государства. На второе никто в ближайшие годы не решится. Татары еще надолго останутся в статусе основных врагов, хотя в реальной истории антагонистического русско-татарского противостояния не было. Даже межконфессиональное противостояние было относительно недолгим: между указами Петра I о христианизации и указом Екатерины II о веротерпимости. Последующая миссионерская деятельность не принесла видимых успехов. Относительная либерализация законодательства привела к так называемому «отпадению» татар, т. е. возвращению крестившихся под сень полумесяца.
«Полемика [по поводу учебника истории] в прессе больше касалась Отечественной войны, отношения к Сталину как победителю фашизма»
В ходе выработки концепции единого учебника наблюдалось редкое равнодушие со стороны республик. Ощущалась общая инерция субъектов, полностью полагавшихся на вертикаль власти. Поступило немало предложений от частных лиц, кое-что было явно красиво организовано. В дискуссии многие участвовали скорее по долгу службы, нежели по зову сердца. Полемика в прессе больше касалась Отечественной войны, отношения к Сталину как победителю фашизма, необходимости прославления царей, православия. Когда мы работали над концепцией, в комиссии были сотрудники РАН, московских вузов и Института истории им. Марджани, а также наблюдатель из Башкортостана. И всё!
Прятать историческую правду становится все труднее
Патриотизм портит мировую историю.
Уверен, что в учебнике все будет подчинено патриотическому воспитанию. Вроде бы этому трудно возражать, однако существует одно существенное НО. Невозможно заставить людей любить всю Россию в ущерб своей малой родине. Люди воспринимают патриотизм и историю сквозь призму своего рода, семейных корней, своей деревни, города, республики, иначе они становятся частью маргинальной среды. Никакой народ не смирится с унижением своих предков, языка и культуры, если даже при этом внешне проявит лояльность, то внутри затаит недовольство властью.
Сегодня прятать историческую правду становится все труднее. Я сам веду лекции и семинары в Казанском университете по курсу «Управление обществом» и вижу, как студенты готовятся к занятиям — они все ответы ищут в интернете, они не могут оторваться от своих iPhone даже во время лекций. Они сжились с интернетом, они живут в интернете. Конечно, с помощью экзаменов и ЕГЭ можно внедрить некие стереотипы. Школьное образование остается на всю жизнь ориентиром. Однако у людей неизбежно возникает масса вопросов по истории, когда они обнаруживают иную версию. Новый взгляд на, казалось бы, незыблемые факты формирует недоверие к официальной историографии. Сегодня трудно, как в советское время, контролировать идеологию. Нет соответствующих органов для цензуры, Российская академия наук потеряла свою координирующую функцию и с каждым годом теряет авторитет. Интерес ученых к татарской истории даже среди нетатар растет в геометрической прогрессии. Все это очень скоро вырвется наружу в виде популярных книг, блокбастеров, комиксов. Совсем недавно в разных странах были отсняты сериалы о Чингисхане, настал черед его потомков. И тогда учебники придут в прямое столкновение с массовой информацией об истории, общественное сознание окажется шизофренически расколотым. Власть потеряет свое происхождение.
«Совсем недавно в разных странах были отсняты сериалы о Чингисхане. Учебники придут в прямое столкновение с массовой информацией об истории, общественное сознание окажется шизофренически расколотым»
Самая опасная ложь — это истины, слегка извращенные.
При значительном различии официальных учебников от реальной истории со временем возникнет ситуация, когда экзамены по истории будут восприниматься как лицемерие. Подчинить этот процесс цензуре практически невозможно — для этого надо отключить интернет, спутниковое телевидение, закрыть границы, т. е. вернуться к сталинско-брежневскому режиму. Для того чтобы установить сталинский режим, для начала надо быть Сталиным, а не его бледной тенью. Террор Сталина уже не вернуть, такой идеологии, которая появилась на волне революции, уже никогда не воспроизвести. Патриотизм «НАШИХ» не идеология, а отчаянное желание победить какого-нибудь врага. Если нет истинных врагов, то их изобретают, но надуманные враги — плохой объект для мобилизации масс. Когда у патриотизма исчезнет объект для борьбы, он обернется против власти, он призовет к власти фашизм, конечно, не в нацистской форме, а по типу итальянского — без концлагерей, с символикой Третьего Рима, в мягкой русифицированной оболочке.
Конструктивизм поможет патриотам нарисовать события, символы побед, образы героев, даже придумает новые «традиции». Когда-то конструктивизм отражал реальность и пытался ее подправить, это было время наивных утопистов. К ХХ веку их время прошло, появился другой конструктивизм, наукообразный, принявший маску реальности. В форме революционной практики он был не так уж безобиден. Сегодня конструктивизм вообще не имеет отношения к какой-либо реальности, он формирует свою ирреальность в чистом виде, как симуляцию действительности. Было бы недальновидно относиться к конструктивизму как упражнению философского ума. Конструктивизм, соединенный с властью, становится опасной политической игрой. На примере изобретения «советского народа», «югославского народа» мы видели, чем это может закончиться.
Патриотизм, насыщенный историческими образами, в руках конструктивистов может стать новой доктриной с догмами по типу советского тоталитаризма. Приведем пример конструктивизма на первый взгляд безобидного, но с опасными последствиями. Известный теоретик национальной политики Валерий Тишков занимал не последнюю должность в правительстве и, будучи директором ведущего и весьма авторитетного Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН, выступал как идеолог нациостроительства, ратовал за создание «российской нации». Для него нация — семантико-метафорическая категория, которая «обрела в современной истории эмоциональную и политическую легитимность, но не стала и не может быть научной дефиницией» (Тишков В. А. Этнология и политика. — М., 2001. — С. 240). Говоря человеческим языком, для него народы, доросшие до современной высокой культуры, — это конструкции, созданные политиками, идеологами, государством. Тишков с сожалением констатировал: «Российская перепись населения 2002 года не выполнила свою основную миссию — создать народ для государства» (Тишков В. А. Реквием по этносу. М., 2003. — С. 226). Получается, что народы (в понимании автора это этнические общности) — итог работы политиков, но история говорит об обратном, государство всего лишь одна из форм жизнедеятельности народов. Поскольку для конструктивистов все народы являются изобретением политиков и идеологов, постольку вопрос решает административная власть по своему усмотрению, она национальную политику подстраивает под свои интересы, например, поставив цель создать «российскую нацию», что уже озвучили руководители страны. Как далеко это может зайти?
Для сравнения обратимся к высказываниям Бенито Муссолини, который писал в тех же выражениях, в тех же понятиях, что и современные конструктивисты: «Не нация создает государство, как это провозглашает старое натуралистическое понимание, служившее базой для публицистики национальных государств XIX века. Наоборот, государство создает нацию, давая волю, а, следовательно, действительное существование, народу, сознающему собственное моральное единство» (Бенито Муссолини. Доктрина фашизма с приложением Хартии труда. — Париж, 1938. — С. 15). Пока конструктивизм пребывает в лоне утопии, он безобиден, но как только он становится идеологией, соединенной с мощью государства и экономики, он может стать силой, опасной для общества.
Под словами Муссолини легко подписался бы Сталин. Муссолини пишет: «Государство невозможно ограничить задачами порядка и охраны, как этого хотел либерализм. Это не простой механизм, разграничивающий сферы предполагаемых индивидуальных свобод. Государство есть внутренняя форма и норма, дисциплинирующая всю личность и охватывающая как волю ее, так и разум. Его основное начало, главное вдохновение человеческой личности, живущей в гражданском обществе, проникает в глубину, внедряется в сердце действующего человека, будь он мыслитель, артист, ученый: это душа души». Ради этих задач фашизм, по доктрине Муссолини, «стремится к дисциплине и авторитету, проникающему в дух человека и там бесспорно властвующему». У Муссолини было достаточно исторических параллелей с тем, чтобы вдохновить народ на великие победы, он черпал материал из истории Римской империи. В речи перед депутатами 26 мая 1927 года Муссолини сформулировал свой известный принцип: «Всё в государстве, ничего против государства и ничего вне государства». Доктрина фашизма в итальянской версии может показаться чистенькой, но на практике она приводит к известным результатам нацизма. Однажды встав на путь превращения патриотизма в идеологию, можно легко впасть в прославление надуманной миссии государствообразующей нации.
Фетишизированная история соответствует индифферентной эпохе
История — это картинная галерея, где мало оригиналов и много копий.
Фетишизированная история вполне соответствует нашей индифферентной эпохе, времени замещения великих свершений симуляциями, миражами подлинных событий. Перестройка была попыткой с помощью новой революции трансформировать СССР в «Новую Россию», но она застряла на простом разграблении собственности, став лишь тенью подлинных революций. Сегодня уже нет ни возвращения к революции, ни контрреволюции, сегодня торжествует ТЕНЬ тени. Хрущев разоблачил Сталина на ХХ съезде КПСС, но не довел дело до конца, вслед за этим свергли Хрущева, но не вернулись к Сталину, а Ленина не поняли, наступил «застой». Сегодня избрали путь «застоя» с имитацией космической эры, но без первого полета спутника, первого полета человека в космос, без прорывных технологий, с имитацией спортивных достижений с купленными спортсменами, имитацией главного участника международных отношений в якобы многополярном мире с добротным ПИАРом, но без Громыко и Косыгина.
Чем можно размахивать сегодня? Во времена «застоя» хорошо срабатывают экскурсии в героическую историю, появляется ностальгия по легендарному прошлому, входит в моду ретро. Механизм такой тяги заключается в сопереживании реальным событиям, отсутствующим в настоящее время. Прошлое замещает настоящее благодаря своему напряжению, страстности, жестокости. Так, противостояние с США похоже на холодную войну, но без угрозы возникновения ядерной катастрофы. Возвращение Крыма напоминает времена Екатерины II, но без столетней войны за выход России к югу. Временный союз с Китаем напоминает эпоху торжества социализма во всем мире. Миражи исторических событий воспроизводятся с тем, чтобы впрыснуть адреналин в дряхлеющее тело, чтобы воскресить время, в котором были судьбоносные события, порой с революционным террором или сталинским насилием, но с реальной ставкой: жизнь или смерть. Вся предшествующая история воскрешается в беспорядке, как одна сплошная ностальгия: война, Сталин, фашизм, роскошь царской эпохи, дворцовые перевороты гвардейцев и революционная борьба — все эквивалентно нынешнему настроению и перемешивается с унылой восторженностью, в ослеплении фетишизированного ретро — все годится, только бы ускользнуть от этой застойной пустоты, от вымывания всяких ценностей под сурдинку патриотизма. Медиа с каждым днем повышает градус экшен, вся надежда на СМИ.
Однако медиа — это даже не театральная сцена, где хоть что-то разыгрывается, медиа — это лента, полоса, флешка, и мы не являемся больше даже зрителями всего этого: мы потребители информации. Мы живем в эру событий без причин и последствий, теорий без практики, имитации экспансии на краю воображаемой бездны. Нет больше даже руин знаний и культуры — сами развалины мертвы. Университеты — тени настоящих университетов. Религия десакрализована, она потеряла основное свое ядро — веру — и стала элементом сферы обслуживания, бизнесом в прямом смысле слова, а церковь просто «крышует». Вокруг нас лишь манекены персонажей былой сильной власти. Управление идет по инерции. Раньше союзниками Большой России — СССР были страны Восточной Европы, Китай, Вьетнам, Куба, сегодня ими стали непризнанные территории вроде Абхазии, Северной Осетии, Приднестровья, ДНР и ЛНР — тени каких-то государств. Ничего не доведено до логического конца, все лишь намек: на настоящую войну, на реальный суверенитет, на федерализм, на демократию, на рыночную экономику. Даже патриотизм стал без внутренней энергии, без Корчагиных, хотя с всеобщей поддержкой тех, кто лежит на диване и участвует в дискуссиях в интернете. «Лежачий» патриотизм нуждается в ожесточенной борьбе и громких победах, но без личного участия, с тем, чтобы война была где-то там, трагедия была локализованной и частной, не задевающей диванный уют. Жестокость революционной борьбы, жестокость сталинских репрессий, жестокость эксплуатации, жестокость власти и политического строя — это хорошо! Это ярко! Помогает вырабатывать адреналин... Сегодня этого не хватает, и это остро чувствуется! Но все должно происходить с кем-то и где-то, как в театре теней за экраном.
Сегодня повсюду торжествует искусственная историческая память, стирающая реальную память людей и стирающая людей из их собственной памяти. Единый учебник по истории неделимой России — это шаг отчаяния, когда нет надежды выработать позитивную идеологию. В этой грустной картине очень хочется надеяться, что есть просвет в лице Татарстана, который помнит правдивую историю, занимается настоящей экономикой, возрождает подлинную культуру, а не идет по пути подражания китчу — тени ТЕНЕЙ.
СТОП-КАДР. Комплексы С-75 защищают небо Вьетнама
Во время войны во Вьетнаме (1964-1975 годы) Советский Союз поставлял коммунистическому режиму Хо Ши Мина большое количество современных вооружений, в том числе средства ПВО, среди которых наиболее известны ЗРК С-75 (код НАТО SA-2 Guideline – букв. «управляемая линия», или «руководство» - прим. ВП).
Эти комплексы широко использовались для отражения налетов американской авиации на Ханой и Хайфон. Как сообщает en.wikipedia.org, почти все из 48 американских реактивных самолетов, сбитых над Вьетнамом в 1964-1965 годах, были уничтожены прибывшими во Вьетнам советскими расчетами. Всего за время войны СССР поставил Вьетнаму 7568 зенитных ракет всех типов, примерно 5800 было использовано в боевых действиях. По американским данным, к концу войны от северовьетнамских зенитных ракет было потеряно около 205 американских самолетов (по советским данным, северовьетнамские ЗРК сбили 350 самолетов – ВП).
Ресурс militaryfactory.com сообщает, что уже к 1965 году на территории «советской империи» и ее союзников (Soviet Empire and its satellite - ВП) было обнаружено более 1000 стартовых позиций С-75. Первым боевым успехом стало уничтожение американского разведывательного самолета RB-47 над Китаем (reconnaissance aircraft of the RB-57 type, destroyed in 1959 over China – ВП). Затем американские самолеты U-2 были сбиты над Советским Союзом (1960 год) и над Кубой (1962).
По другим данным, система ПВО Северного Вьетнама с помощью зенитных ракет сбила более 1300 самолетов, в том числе 54 стратегических бомбардировщика В-52 (нижний стоп-кадр ВП).
Индия и Монголия: духовные и стратегические партнеры
Марк Гольман
Связи между Индией и Монголией уходят корнями в глубь веков. Монгольские ханы и князья вели свою родословную от легендарных индийских царей – Чакравардинов. 2000 лет тому назад индийские монахи принесли на монгольскую землю учение Будды. И при правлении Хубилай хана (1260-1294 гг.) – правнука Чингисхана, буддизм стал государственной религией и вторично утвердился в Монголии в конце XVI – начале XVII вв. во многом благодаря деятельности индийских и тибетских проповедников и ученых. С того времени буддийская церковь и духовенство, ламы-монахи, многие из которых получали религиозное образование в Индии, вплоть до своего насильственного уничтожения прокоммунистическим режимом в конце 30-х гг. XX в. играли очень важную роль в истории монгольского общества.
Индия внесла большой вклад в процесс возрождения буддизма в Монголии после победы демократической революции 1990 г. Его по существу возглавил Чрезвычайный Полномочный посол Индии, известный религиозный деятель с высоким титулом хубилгана-перерожденца одного из индийских святых Бакула Ринпоче. 1 января 1990 г. в возрасте 73 лет он был назначен послом в Монголию и проработал на этом посту 10 лет, принимал самое активное участие в освящении святыни Храма Мэгжид Жансрайсиг – одного из главных храмов Улан-Батора – и во всех других крупных религиозных событиях в стране, построил на свои средства храм Багутхийд в столице Монголии и т.п. Благодарная память монголов хранит высокую оценку Джавархарлалом Неру роли Чингисхана в истории как «величайшего полководца всех времен и народов», а также активную поддержку Индией вступления МНР в ООН в 1961 г.
Индия была одной из первых великих держав, установившей дипотношения с Монголией в далеком 1955 г. Они активно развивались по политической линии, особенно после 1990 г. стороны неоднократно обменивались визитами на высоком уровне.
Но так сложилось, что первый в истории монголо-индийских взаимоотношений визит премьер-министра Индии состоялся совсем недавно. 16 мая 2015 г. в Улан-Батор с официальным государственным визитом прибыл глава правительства Индии Нарендра Моди – бизнесмен, реформатор и «политик нового поколения», как его окрестил журнал News Week.
Ему был устроен чрезвычайно торжественный прием с большой церемонией встречи на центральной площади столицы имени Чингисхана.
Выступая перед собравшимися с индийскими и монгольскими флагами и приветственными транспарантами, Н. Моди заявил, что «он счастлив приехать на Родину великой нации и передать монгольскому народу сердечный привет от его 1 млрд 250 млн друзей из страны духовного соседа».
Как отметил на этой же встрече Н. Моди, несмотря на то, что «между нами существуют большие пространственные и территориальные препятствия, я уверен, что наши двусторонние связи будут развиваться и в дальнейшем».
Эту же мысль он повторил в своей большой речи на торжественном пленарном заседании парламента Монголии – Великого Государственного хурала, которое состоялось в тот же день после деловых переговоров с премьером Н. Сайханбилигом. Открывая заседание, председатель парламента З. Энхболд с удовлетворением отметил, что традиционно дружественные монголо-индиские связи расширяются и развиваются по принципу полноценного партнерства в таких сферах, как культура, образование, информационная технология, возобновляемые источники энергии, промышленность и сельское хозяйство.
А главное – стороны решили продвинуть эти отношения до уровня стратегического партнерства.
Свою речь премьер Индии посвятил, в частности, подтверждению духовного родства Индии и Монголии. Индия является не просто третьим, а духовным соседом монголов. «Мы сумели доказать всему миру – сказал Моди, – что монголо-индийские связи, установленные нашим разумом и душой, могут преодолевать любые расстояния и любые преграды». «Интеллектуальное соседство – добавил он – это высшая форма общения между людьми». И индусы, и монголы разделяют общие демократические ценности и общую веру – буддизм, в которой эти ценности находят отражение. И это мощная основа для дальнейшего сближения». «Только объединившись мы сумели защитить друг друга от растущих новых киберопасностей» – закончил Моди.
Соответственно, в своем выступлении в парламенте, да и на пресс-конференции 18 мая, Моди говорил не только о духовных скрепах, объединяющих Индию и Монголию, но и о расширении сотрудничества в тех сферах, которые обозначил спикер парламента З. Энхболд и которые были расширены в ходе переговоров.
Было подписано 14 межправительственных и межведомственных соглашений, из которых особо выделяются соглашения о сотрудничестве между МИДами и между Советами национальной безопасности, о сотрудничестве в области культуры на 2015-2018 гг. и на международной арене на период 2016-2020 гг., соглашение о воздушном сообщении, о создании в Улан-Баторе Центра обучения в сфере кибернетической безопасности (премьер Моди принял участие в церемонии закладки фундамента под здание этого центра), а также совместной общеобразовательной средней школы.
Немалое значение имеют также соглашения о сотрудничестве в области традиционной медицины и гомеопатии, о сотрудничестве онкологических центров двух стран. Моди привез и передал определенное оборудование для монгольского центра и выразил готовность Индии предоставить свою технологию производства молочных продуктов, кашемира, шерстяных тканей.
В ходе переговоров Моди отметил, что экономические связи до сих пор были слабыми, но что богатство Монголии минеральными ресурсами станет движущей силой к их развитию. Он заверил, Индия готова сотрудничать с Монголией и в области ядерных исследований, и в развитии инфраструктуры, сельского хозяйства, легкой промышленности, здравоохранения, образования и других областях. И объявил о решении правительства Индии предоставить Монголии на льготных условиях заем в 1 млрд долларов для развития инфраструктуры и человеческих ресурсов. Моди принял участие в фестивале «Бэсрэг-наадом» в развлекательном центре «Чингисийнхурээ», во встрече с членами Монголо-индийского сообщества – общества дружбы.
Как видим, визит главы правительства Индии Н. Моди в Монголию был очень успешным и знаменательным по трем причинам:
это действительно был первый в истории двух стран визит такого ранга;
он позволил значительно расширить сферы взаимного сотрудничества, а главное – обозначил начало перевода монголо-индийских межгосударственных отношений на рельсы стратегического партнерства;
он еще больше сроднил Индию и Монголию в духовном плане.
Вне всякого сомнения, этот визит открывает качественно новый этап в многовековых связях двух стран, качественно новый этап в их сотрудничестве.
Израиль передал Иордании 16 ударных вертолетов «Кобра» для борьбы с ИГ
Как стало известно в четверг из американских источников, Израиль передал Иордании 16 списанных из состава АОИ ударных вертолетов «Кобра» для поддержки Хашимитскому королевству в отражении экстремистских атак, которое считается «Исламским государством» следующей целью. Об этом сообщает сегодня The Jewish Press со ссылкой на агентство Reuters.
Передача осуществлена в прошлом году и была одобрена Вашингтоном, который заплатил за ремонт и модернизацию вертолетов времен вьетнамской войны. Они были интегрированы в имеющийся парк вертолетов «Кобра» Королевских ВВС Иордании.
В конце 2013 года из-за бюджетных ограничений Израиль списал 33 вертолета AH-1 «Кобра» (в АОИ имели наименование "Tzefa" - ВП), их функции были возложены на две эскадрильи израильских AH-64 Apache. Парк «Кобр» старше «Апачей» и с ними произошло несколько катастроф. Они также более уязвимы от переносных зенитных ракетных комплексов.
«Эти вертолеты предназначены для обеспечения безопасности границ», сказал американский представитель.
Согласно данным Мирового экономического форума, Турция, несмотря на принимаемые ею антитабачные меры, оказалась одной из десяти самых курящих стран в мире. В списке стран, в которых зафиксировано наибольшее потребление табака в 2014 году, Турция заняла 8 место. Полный список выглядит так: Китай, Россия, США, Индонезия, Япония, Германия, Индия, Турция, Южная Корея, Вьетнам. Всего в 2014 году в мире было выкурено 5,8 триллионов сигарет.
Джумхурийет, 21.07.2015
ФГБУ «ВНИИКР» о случаях ввоза зараженной продукции с 13 по 19 июля 2015 года
Зараженные персики из Вьетнама уничтожены
В ручной клади пассажира, прибывшего в международный аэропорт "Домодедово" из Вьетнама, в партии персиков (1 кг, происхождение - Вьетнам) обнаружен карантинный для РФ объект – восточная фруктовая муха. Это подтверждено результатами энтомологических экспертиз, проведенных специалистами Московского филиала ФГБУ «ВНИИКР».
По информации Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям, зараженные персики уничтожены.
Вредоносность: Восточная фруктовая муха (Bactrocera dorsalis Hend) встречается на различных плодовых культурах: на яблоках, грушах, сливах, апельсинах, персиках, бананах, манго. Признаками повреждений плодов являются следы уколов яйцеклада насекомого. Отложенные под кожицу плода личинки мухи питаются мякотью плода.
23 июля 2015 года в рамках визита в Монголию российской делегации из представителей Росстандарта и Росаккредитации был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по аккредитации и Монгольским агентством по стандартизации и метрологии.
Меморандум, в числе прочего, предполагает обмен информационно-аналитическими материалами по вопросам аккредитации и изучение передовых практик работы, осуществление совместных программ обучения персонала и обмен специалистами. Документом также предусмотрена возможность участия представителей Росаккредитации и Монгольского агентства по стандартизации и метрологии в аккредитации и инспекционных надзорах организаций, проводимых на территории двух государств. Кроме того, в меморандуме закреплена принципиальная договоренность сторон о проведении совместной работы по созданию региональной ассоциации органов по аккредитации стран Евразийского региона.
Меморандум о взаимопонимании с Монгольским агентством по стандартизации и метрологии стал девятым подобным соглашением, заключенным Росаккредитацией. Ранее аналогичные документы были подписаны с Национальным агентством по аккредитации Украины, Национальным центром по аккредитации Республики Молдова, Кыргызским центром по аккредитации, Вьетнамским бюро по аккредитации, Институтом аккредитации Республики Македония, Словацкой национальной службой по аккредитации, Советом по качеству Республики Индия и Греческим органом по аккредитации.
Новую платформу для арктического шельфа построят на российских заводах.
Севастопольское Центральное конструкторское бюро «Коралл» приступило к проектированию стационарной ледостойкой платформы для добычи углеводородов на арктическом шельфе. Большая часть оборудования на ней будет российского производства.
«Не исключено, что отдельное оборудование придется закупать за рубежом, в связи с чем необходимо предусмотреть на стадии проектирования на случай продления санкций возможность замены поставщиков оборудования известных западных фирм на другие иностранные, например азиатские. ЦКБ уже проводит мониторинг», – сообщил главный конструктор ЦКБ Виктор Ленский.
Ранее российские компании, занимающиеся добычей углеводородов, закупали за рубежом готовые платформы. «И это при том, что в России есть опыт проектирования и строительства объектов, успешно работающих в ледовых условиях, включая арктические моря. В последние годы в России ведется большая работа по улучшению характеристик отечественного оборудования и доведению его до уровня мировых стандартов. Это относится и к техническим средствам морского исполнения», – заявил Виктор Ленский.
В настоящее время специалисты ЦКБ «Коралл» проводят встречи и презентации с российскими предприятиями-изготовителями.
ЦКБ «Коралл» было основано в 1965 году. По проектам конструкторского бюро построено около 90 плавучих кранов и крановых судов, созданы морские буровые и добывающие установки для Черного, Каспийского и Балтийского морей, Мексиканского залива, шельфа Арктики, Дальнего Востока и Вьетнама.
"Ростех" ведет госсектор на "Эльбрус"
Даниил Сидоров
Санкции со стороны США и ЕС подвигли "Ростех" к более активной реализации планов по импортозамещению аппаратного обеспечения. Госкорпорация уже начала внедрять отечественные разработки в своем офисе, а в течение двух лет надеется получить стимулирующий заказ от госсектора. Переговоры о внедрении собственных решений "Ростех" ведет с Центризбиркомом и "Почтой России".
Об этом рассказал вчера начальник департамента коммуникации и информации госкорпорации "Ростех" Василий Бровко на презентации ее готового отчета.
"У нас удивительным образом накопилась большая экспертиза в области производства конкурентоспособного "железа", - отметил он. - Производит его Объединенная приборостроительная корпорация, и есть оборудование, которое готово к поставкам в гражданский сектор".
По словам Василия Бровко, внутренний рынок корпорации с учетом холдинговых компаний составляет около 50 млрд руб. в год. "Сейчас мы закупаем компьютеры для нашего офиса на платформе "Эльбрус" - по производительности они ничем не отличаются от зарубежных. Да, это чуть выше по цене - не 25 тыс. руб., а 45 тыс. руб. за компьютер, но для офиса это не так много, - продолжил он в беседе с журналистами. - Понятно, что при росте производства падает цена, и мы очень рассчитываем на формирование госзаказа а-ля "Почта России" или Центризбирком в размере, условно говоря, 100 тыс. компьютеров в течение нескольких лет. Такой объем нам помог бы снизить стоимость до 20-25 тыс. руб. и иметь конкурентоспособный по цене продукт".
Василий Бровко выразил надежду, что в течение двух лет крупные госкомпании, такие как ПАО "Ростелеком", будут отдавать приоритет отечественному оборудованию. "По многим комплектующим мы вполне конкурентоспособны, - утверждает менеджер. - Наша новая платформа "Байкал" - продукт, позволяющий решать задачи бизнеса. Она уже поступила в серийное производство".
Как отметил Василий Бровко, переговоры "Ростеха" с "Почтой России" и Центризбиркомом уже идут. Статус переговоров он уточнить не смог.
Менеджер рассказал, что в конце 2015 г. - начале 2016 г. госкорпорация представит трехлетний план по внедрению ИТ-решений в собственных холдинговых структурах. По его словам, проблем с загрузкой производственных мощностей у "Ростеха" нет: главная задача - правильно диверсифицировать производство, чтобы по окончании программы гособоронзаказа производитель не оказался "в ситуации 1990-х гг.".
"В соответствии с законодательством РФ и положением о закупках, "Почта" выбирает подрядчиков на основании тендеров", - сказал репортеру ComNews представитель пресс-службы ФГУП "Почта России". Переговоры предприятия с "Ростехом" он комментировать отказался. Пресс-служба Центризбиркома вчера не ответила на запрос ComNews.
Председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов (АПЭАП) Светлана Аппалонова отметила, что "Эльбрус" и "Байкал" - не конечные продукты, а компонентная база. "Может быть, продукция "Ростеха" есть на гражданском рынке, но я с ней не сталкивалась", - подчеркнула она.
"Мы не комментируем новости и продукцию конкретных компаний", - заявила со своей стороны пресс-секретарь Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Наталья Рыкова.
На взгляд Василия Бровко, благодаря санкциям Евросоюза и США, которым подвергся "Ростех", получился "очень интересный побочный эффект": коллеги в Индии, Вьетнаме или Латинской Америке, "увидев, как западные партнеры трактуют рыночные соглашения, почувствовали себя вне зоны безопасности". "Исходя из этого они проявляют интерес и к нашему ИТ-оборудованию, и к созданию совместных предприятий в области его разработки и производства", - заключил он.
По итогам января-мая 2015 г., Вьетнам импортировал из Китая 13 400 автомобилей. Это на 295% больше, чем за январь-май 2014 г., сообщило вьетнамское статистическое ведомство.
Только за июнь текущего года Вьетнам закупил за рубежом 11 000 автомобилей на $345 млн. А за пять месяцев 2015 г. объем импорта машин в этой стране достиг 57 000 единиц. Это на 121,6% больше, чем годом ранее. В финансовом выражении автомобильный импорт Вьетнама за январь-май текущего года составил $1,55 млрд. Данный показатель увеличился на 186% в годовом сопоставлении. Главной причиной стремительного роста ввоза зарубежных автомобилей во Вьетнам стало увеличение поставок грузовиков и специальных машин из Китая.
Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2015 г. объем торговли между Китаем и Вьетнамом достиг 259,2 млрд юаней. Это на 16,6% больше, чем за январь-июнь 2014 г. За шесть месяцев текущего года китайский экспорт во Вьетнаме составил 192,5 млрд юаней, увеличившись на 14,8% в годовом сопоставлении. Вьетнамский импорт в Поднебесной за первую половину 2015 г. достиг 66,7 млрд юаней с приростом на 22,1% относительно уровня за аналогичный период прошлого года. Китай на протяжении 11 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама.
Масштабный проект жилого комплекса «Загородный квартал» остается замороженным уже больше полугода года. Вместо настоящего мини-города, который обещали инвесторы, - всего пять готовых домов и непонятные перспективы. Как всегда, первыми страдают дольщики, которым по сути даже не к кому обратиться с вопросами и претензиями.
Проект «Загородный квартал» презентовался многообещающе: целый город, в котором жилье малой и средней этажности должно было объединиться сразу и с городским комфортом, и с природой. Общая концепция застройки была разработана ведущими мировыми градостроителями. Инвесторы проекта обещали «стиль жизни и качественную среду обитания», в которой «захочется остаться навсегда».
Строительство ведется в городском округе Химки, в 8 км от МКАД. Проект предполагает строительство 530 000 кв. м жилья и инфраструктурных объектов. Всего - шесть очередей, первая из которых должна была быть построена и введена в эксплуатацию в 2013-16 годах. Подробнее на сайте.
Но в итоге было построено только пять домов из 14, предусмотренных в первой очереди. Об оставшихся пяти очередях строительства и вовсе рано говорить.
Еще в конце 2014 года строительство девяти домов первой очереди и детского сада было заморожено. До сих пор не все дольщики получили ключи от своих квартир, и они не знают, когда им удастся это сделать. Официальная причина - отсутствие необходимого финансирования.
Девелопером проекта выступает международная компания Limitless – застройщик с головным офисом в Дубае. У компании проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнаме и России. Соинвестор проекта - инвестиционно-управляющая компания RDI, работающая в Московском регионе. У Limitless и RDI по 50% в проекте (застройщик проекта – ООО «Шереметьево-4») , но у российской компании нет прав на управление проектом.
Limitless на протяжении последних нескольких лет испытывает проблемы с кредиторами. Еще в 2010 году компания, входившая тогда в Dubai World, должна была погасить бонды на сумму $1,2 млрд, но не смогла этого сделать и попросила об отсрочке. Эта история тянется до сих пор: Limitless удается оттягивать выплаты. Летом прошлого года сообщалось, что компания попробует добиться отсрочки платежей до конца 2016 года, летом 2015 года компания стала просить об отсрочке до 2018 года. В январе 2015 года появились слухи о возможном банкротстве Limitless, но пока компания на плаву. Правда, уже несколько лет она находится в практически непрерывных переговорах со своими кредиторами — Arab National Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Mashreq, Национальный банк Абу-Даби и Silver Point Capital.
На просьбы о комментариях по управлению компанией Limitless своим российским проектом представители кредиторов отказали, сославшись на то, что эта ситуация им неизвестна, однако, высказали озабоченность происходящим.
К ООО «Шереметьево-4» начиная с марта 2015 года было подано шесть исков в арбитражные суды Москвы и Московской области: четыре от ООО «Игрек-Бренд», еще по одному - от ООО «Генпроект» и ЗАО «РД Констракшн менеджмент». Последняя на своем сайте указывает, что является генеральным подрядчиком ЖК «Загородный квартал», отвечает за реализацию второго этапа строительства комплекса — строит 9 таунхаусов и три жилых дома, но от комментариев представители компании отказались.
Общая сумма исков к «Шереметьево-4» превышает 1 млрд рублей.
«Сложностями с финансированием проекта вряд ли можно кого-то удивить, особенно в условиях экономического кризиса. Это не те проблемы, о которых действительно стоило бы говорить. Но команда Limitless показала себя некомпетентной в реалиях российской стройки. Вместо того, чтобы заняться разумной экономией, они строят на 20-30% дороже рынка, что неприемлемо. Отсутствие жесткого контроля на стройплощадках – это еще одно слабое место девелопера. В России построить что-либо качественно и в срок, лишь приглядывая за проектом, невозможно», - говорит один из бывших сотрудников «Шереметьево-4».
Также собеседник из «Шереметьево-4» отметил, что представители RDI многократно выступали с предложениями взять управление проектом на себя, но «по каким-то причинам Limitless всегда отказывали им в этом».
Фотография: zagorodny-kvartal.ru Связаться с Limitless не представляется возможным. На официальном сайте арабской компании указаны контакты трех офисов, в том числе российского и головного в Дубаи. Однако указанные телефоны не отвечают: оператор сообщает, что номера не существуют. По имеющейся информации, представителя компании Limitless в России сейчас нет. Однако на сайте компании среди ее проектов ЖК «Загородный квартал» значится.
В российской компании не могут взять на себя ответственность за проект, так как право управления этим проектом принадлежит иностранной компании. «Мы не удовлетворены тем, как идут дела на проекте. Ведем с партнерами дискуссию о том, как найти пути выхода из кризиса и ожидаем от партнеров конструктивной реакции на наши предложения», - сообщили в RDI.
А тем временем дольщики расценили сложившуюся ситуацию по-своему и пытаются привлечь к диалогу хотя бы одну из сторон – ту, что территориально ближе.
«Про Limitless писать бесполезно, они далеко, и им совершенно все равно, что про них у нас напишут, никаких репутационных рисков тут у них нет. Поэтому остается только RDI нервы трепать», - пишут на форуме.
О примерных сроках возобновления строительства в RDI говорить пока не готовы. Сейчас сроки строительства первой очереди сорваны уже на полгода. Этот перенос сроков уже не первый – сроки переносились и ранее – таким образом, отставание от сроков уже составляет порядка двух лет. При возобновлении работ построить девять домов можно за год-полтора интенсивной работы.
В интернете единственное свежее обращение адресовано губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой взять совместно с администрацией городского округа Химки ситуацию под контроль.
«В связи с большим количеством дольщиков (затронуты 2/3 от всего объема застройки первой очереди комплекса), которые попали в настоящее время в крайне затруднительную ситуацию, многие из которых вынуждены арендовать жилье и одновременно выплачивать ипотечные кредиты по замороженным объектам, просим Вас совместно с администрацией г. Химки взять под контроль исполнение компанией Шереметьево-4 своих обязательств перед покупателями», — говорится в сообщении.
Застройщик — ООО «Шереметьево-4» — вынужден направить участникам долевого строительства уведомления о продлении сроков строительства объектов и ведет работу с участниками по вопросам урегулирования сложившейся ситуации в индивидуальном порядке, рассказали в администрации городского округа Химки. «Застройщик прилагает максимальные усилия, чтобы выполнить обязательства перед участниками в короткие сроки», — сказал заместитель руководителя администрации Андрей Соболев. Он отметил, что ситуация вокруг «Шереметьево- 4» взята администрацией городского округа на контроль.
«С вопросами о сроках окончания первой очереди застройки мы многократно обращались к Руководителю проекта Денизу Кара, но уже более двух недель он не выходит на связь. Все данные, указанные на его визитке, теперь не доступны. Фактически всего один представитель арабской компании раньше поддерживал диалог с нами, но на деле все это оказалось пустыми словами. Все, что нам удалось узнать – это то, что уже больше полугода ведутся какие-то переговоры между акционерами. Но есть ли свет в конце туннеля для дольщиков, или мы так и остаемся в зоне неразрешенных финансовых вопросов – непонятно. У нас создалось впечатление, что заграничному девелоперу попросту не до нас. Они далеки от наших проблем и не торопятся их решать, именно поэтому мы вынуждены были обратиться к властям и в прокуратуру», - рассказывает Михаил Сорокин, дольщик строительства.
Сейчас дольщиков больше всего волнует, что можно сделать в данной ситуации, что ждет проект, ведь инвестиции покупателей и их будущее жилье под угрозой. Понятно, что проекту необходимо жесткое антикризисное управление и детальная программа оздоровления, конечным и логичным итогом которой станет завершение строительства.
Алина Звенигородцева
На мировом рынке может подорожать креветка
Во втором полугодии 2015 г. возможно увеличение стоимости креветки из-за неблагоприятного влияния на отрасль погодных условий и эпизоотий, отмечает британский информационный портал Undercurrent News.
О возможном подорожании креветки Undercurrent News пишет, опираясь на источники среди производителей и продавцов ракообразных в Латинской Америке.
Правительство Эквадора заявляет об отсутствии синдрома ранней смертности креветки (EMS) в стране, однако местные аквафермеры из-за страха перед возможной эпизоотией уменьшили плотность выращивания этого гидробионта, рассказал владелец компании Farallon Aquaculture Боливар Мартинес.
Новости о наличии заболевания могут привести к проблемам с кредитованием, поэтому, несмотря на очевидное наличие EMS в Мексике и странах Центральной Америки, власти не спешат признавать факт присутствия синдрома, считает Боливар Мартинес. По его словам, производство креветки в Центральной Америке сейчас падает на 25%.
Как сообщает корреспондент Fishnews, слова главы Farallon Aquaculture подтвердил другой бизнесмен. Он добавил, что участники отрасли с конца апреля постоянно сигнализируют об увеличении смертности креветки без видимых причин. В результате многие фермеры начали срочно собирать урожай, вызвав резкий рост предложения на рынке. По информации источника Undercurrent News, в мае производство креветки в Эквадоре выросло до 30 тыс. тонн (при средних 23 тыс. тонн в месяц в прошлом году).
Однако уже в сентябре креветки у продавцов станет меньше и ее стоимость продолжит повышаться, отмечает британский портал. Приходят тревожные новости об экстренном сборе урожая в Индии, Вьетнаме и Индонезии.
Другие крупные экспортеры креветки заявили, что цены растут из-за неблагоприятных погодных условий. Таким образом, ожидаемое сокращение предложения креветки по всему миру может привести к стремительному росту цен на нее и даже кратковременному дефициту этого продукта на некоторых рынках, резюмирует Undercurrent News.
Российская компания-разработчик самого маленького электрокардиографа ведет переговоры с врачами из Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Александра Кострикина, генеральный директор компании JK Medical из Томска, если ОАЭ оплатят производство, то они получат и начнут использовать первую партию приборов. Также разработкой заинтересовались врачи из Индии, Вьетнама и Японии.
Томская компания JK Medical разработала устройство «Элскан», которое в течение семи дней выявляет ошибки в работе сердца, в том числе признаков ишемической болезни.
Томский электрокардиограф меньше аналоговых устройств для проведения электрокардиограммы. Такой размер делает его незаметным как для окружающих, так и для самого пациента. Как рассказывает гендиректор компании JK Medical Александр Кострикин, приходя на стационарную электрокардиограмму человек волнуется, тем самым меняет результаты ЭКГ. «Элскан» весит 35 граммов, а работать беспрерывно может до семи суток, снимая показания работы сердца в моменты разной деятельности пациента. Это показывает полную картину деятельности сердечной мышцы. Кроме того, прибор сохраняет только аномальную кардиограмму, на которой видны отклонения от нормальной работы сердца.
«Прибор уникален тем, что сам выбирает кардиограмму. Это экономия времени. Врачи очень загружены. Фактически, с помощью «Элскана» мы можем провести мониторинг всего населения России. И для этого не нужно увеличивать количество врачей или ставок, потому что все это будет через интернет. Врач может дома в свободное время заходить на портал, забирать кардиограмму, составлять такой отчет. За каждую кардиограмму он будет получать деньги», — рассказывает гендиректор компании JK Medical Александр Кострикин.
Прибор можно перепрограммировать на работу от одного до семи дней. Кроме того, его можно настраивать на диагностику детского сердца – у детей более частый ритм сердцебиения. Также «Элскан» можно перепрограммировать на мониторинг при подборе медикаментов, которые влияют на работу сердца.
Сейчас компания-разработчик занимается регистрацией «Элскана» и ждет ответа от Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Сергей Токарев
Товарооборот Болгарии с Вьетнамом вырос на 10 млн.евро в 2014 году. Ряд болгарских компаний готовы инвестировать в открытие производства во Вьетнаме, среди проектов, например, строительство завода по переработке отработанного масла и завод по производству антибиотиков. Со стороны Вьетнама также наблюдается интерес к строительству в пору г. Варна центра обработки вьетнамских товаров.
«Стандарт»
Пять прибрежных государств отказались от промысла в Арктике
Россия, США, Норвегия, Канада и Дания 16 июля подписали в Осло соглашение о запрете коммерческой добычи рыбы в центральной части Северного Ледовитого океана. «Арктическая пятерка» надеется убедить другие рыбопромысловые державы присоединиться к мораторию.
Напомним, проект документа обсудили в феврале 2014 г. в Гренландии, его планировали подписать в июне прошлого года во время заседания Арктического совета в Москве. Однако из-за событий на Украине США и Канада бойкотировали встречу и заключение соглашения было сдвинуто, передает агентство Reuters.
После подписания соглашения министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявил, что важная задача для членов Арктического совета теперь – убедить другие крупные рыболовные державы не вести промысел в центральной части Арктики. Под такими странами подразумеваются, прежде всего, Китай, Вьетнам, Южную Корею и все государства Евросоюза, пишет служба новостей BBC.
По мнению экологов, привлечь внимание других правительств к проблеме, которая еще не возникла, будет чрезвычайно сложно. Гринпис приветствует заключение соглашения, но отмечает, что договоренность не является постоянной. Также «зеленые» обвиняют страны, подписавшие документ, в том, что они были больше заинтересованы в доступе к минеральным и рыбным ресурсам друг друга, чем в защите экосистемы Арктики.
По мнению специалистов, первой рыбой, которая начнет активно осваивать арктические воды может стать сайка (полярная тресочка) - у нее в крови содержится природный антифриз. Однако промысел этого объекта может угрожать другим обитателям Северного Ледовитого океана, таким как белые медведи, киты, тюлени и морские птицы.
Таяние льдов открывает регион для более активного освоения газа и нефти, а также для судоходства. В этой связи Соединенные Штаты (являющиеся сейчас председателем Арктического совета), планируют в 2016 г. провести учения по отработке действий в случае нефтеразлива, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Reuters.
В США новость о подписании соглашения появилась как раз во время обсуждения политики администрации президента в отношении Арктики. Барака Обаму обвиняют в отсутствие такой политики, отмечают на сайте The Daily Caller. По словам критиков, президента больше интересует проблема глобального потепления, в то время как главная угроза для Штатов в регионе - возросшая активность России. Утверждают, что пока РФ увеличивает военное присутствие в Арктике и заявляет права на большую ее часть, администрация президента сидит сложа руки и лишь наблюдает. Особенно резкие высказывания традиционно звучат от представителей вооруженных сил.
Комендант береговой охраны США Пол Ф. Цукунфт считает, что участие Соединенных Штатов в борьбе за Арктику не поддается никакой критике, так как у России есть 27 активных ледоколов, а у США - всего 2, и те являются устаревшими моделями. Даже у Китая, подчеркивает офицер, уже к следующему году будет 2 своих ледокола.
В 2014 году поставщики фруктов и овощей в ЕС чаще нарушали правила ввоза
Еврокомиссия опубликовала подробный отчет с перечнем поставок фруктов и овощей из стран, подвергавшихся в 2014 году при ввозе в ЕС более тщательным проверкам.
За прошедший год почти 100 000 товарных партий при пересечении европейских границ контролировались самым тщательным образом. В 11 291 из них были отобраны пробы для лабораторного анализа. В целом власти ЕС выявили 496 (4,4%) нарушений законодательства, исключивших для такого товара возможность попадания на европейский рынок.
Некоторые продукты после выполнения анализа на соответствие нормам были возвращены для дальнейшего проведения стандартных проверок. К ним относятся поме?ло и замороженная клубника из Китая, апельсины из Египта, а также кориандр и базилик из Таиланда.
В то же время по ряду других культур была увеличена частота пограничного контроля. Таким процедурам подвергались белокочанная капуста из Китая и виноградные листья из Турции. Брокколи из Китая теперь проверяют на 50% чаще. В то же время для столового винограда из Перу проверок будет больше лишь на 10%.
В отчете также рассказывается, каким образом импортируемые продукты попадали в список в результате ежеквартальных проверок. В настоящее время они жестко контролируются на предмет наличия в них остатков пестицидов. В такой список включены виноградные листья из Турции, столовый виноград из Перу, баклажаны из Камбоджи и питайя из Вьетнама.
Данный доклад стал пятым в своем роде, посвященным контролю миллионов тонн продовольствия, импортируемых в ЕС и Норвегию в течение последних лет. Основное внимание в нем уделяется пище с выявленными известными или новоявленными рисками.
В 2013 году лишь 4,1% отобранных грузов были ввезены с нарушением законодательства ЕС, что существенно меньше, чем в 2014 году.
За январь-июнь 2015 г. объем торговли между Китаем и Вьетнамом достиг 259,2 млрд юаней. Это на 16,6% больше, чем за январь-июнь 2014 г., сообщило Главное таможенное управлние КНР.
За шесть месяцев текущего года китайский экспорт во Вьетнаме составил 192,5 млрд юаней, увеличившись на 14,8% в годовом сопоставлении. Вьетнамский импорт в Поднебесной за первую половину 2015 г. достиг 66,7 млрд юаней с приростом на 22,1% относительно уровня за аналогичный период прошлого года. Китай на протяжении 11 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама.
Вьетнам поставляет в КНР главным образом сельскохозяйственную продукцию. В обратную сторону идут химические удобрения, машины, наручные часы и запчасти, сталь и текстильные изделия.
В настоящее время Поднебесная вышла на девятое место по объему прямых инвестиций во вьетнамскую экономику среди остальных государств-инвесторов.
Напомним, что по итогам января-июня 2015 г., объем внешней торговли Китая достиг 11,53 трлн юаней ($1,89 трлн). Это на 6,9% меньше, чем за январь-июнь 2014 г. За первую половину 2015 года экспорт Китая составил 6,57 трлн юаней с приростом на 0,9%, а импорт – 4,96 трлн юаней с сокращением на 15,5%. В частности, за январь-июнь текущего года объем торговли КНР с США увеличился на 4%, со странами АСЕАН – на 1,6%, а с Индией – на 1,1%.
Во Вьетнаме спущены на воду два транспортных судна для ВМС Венесуэлы
Ведущая судостроительная компания Ha Long вьетнамской судостроительной корпорации успешно спустила на воду два транспортных судна 5612 класса «Ро-ро» с бортовыми номерами 1 и 2 для ВМС Венесуэлы, сообщает сегодня People's Army Newspaper.
Суда 5612 класса «Ро-ро» спроектированы голландской компанией Damen Group и строятся для ВМС Венесуэлы под руководством французского регистра DV.
Длина судна 57,27 м, ширина 12 м, водоизмещение 600 т и скорость 10,4 узлов. Предназначены для доставки грузов, также могут взять на борт легкую десантную бронетехнику.
Компания, как планируется, поставит заказчику первые два судна в сентябре, оставшиеся два судна (заводские номера YN 541048 и YN 541051, заложены 20 ноября 2014 года - ВП) - в четвертом квартале этого года.

Первый индустриальный парк появится в Чечне в 2016 году.
Шесть предприятий, специализирующихся на выпуске строительных материалов, разместят свое производство в первом строящемся в Чечне индустриальном парке. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Чеченской Республики.
Индустриальный парк получил название «Грозненский». По данным Министерства экономического, территориального развития и торговли Чечни, он разместится на территории бывшего завода железобетонных конструкций и займет площадь более 13 гектаров.
Среди будущих резидентов «Грозненского» – производители стеклопакетов, бетона, профнастила, шлакоблоков, брусчатки, металлочерепицы и полипропиленовых труб. Одна из компаний-резидентов – южнокорейская «ХАН ЧЕН КОН» – специализируется на выпуске бетонных смесей и кирпича.
Предприятиям в «Грозненском» будут созданы условия для эффективной работы, в том числе подведены инженерные коммуникации, предоставлены энергоносители, обеспечены услуги управляющей компании.
На создание инженерной инфраструктуры, подъездных дорог, реконструкцию промышленных площадок из федерального бюджета были выделены 120 млн рублей. Республика получила эти средства после победы в конкурсе Минэкономразвития России по государственной поддержке объектов малого и среднего бизнеса при создании промышленных парков. Резиденты «Грозненского» могут рассчитывать и на другие формы федеральной господдержки – на субсидии в виде возмещения затрат на проценты по кредитам и на снижение ставки налога на прибыль.
Всего в создание парка будет инвестировано более 640 млн рублей. Благодаря открытию «Грозненского» в республике появится 200 новых рабочих мест.
Китай – мировой инвестор1
За последние пять лет Китай буквально ворвался в тройку крупнейших мировых инвесторов нарядус США и Японией. По мнению мировых аналитиков, к 2020 г. Китай может стать крупнейшим международным инвестором. Что является причиной такого положение дел? Только ли ради будущей прибыли Поднебесная активно взялась за инвестиции?
Китай в последнее десятилетие активно инвестирует по всему миру. Начиная с 2009 г. Поднебесная выдала развивающимся государствам кредитов больше, чем Всемирный банк. По подсчетам The Financial Times, два китайских госбанка China Development Bank и China Export-Import Bank предоставили займов за рубежом в 2009 г. и 2010 г. на $110 млрд. И это притом, что экономика самого Китая привлекательна для иностранных инвесторов. Все в том же 2010 г. они вложили в Поднебесную $106 млрд плюс свои, китайские, деньги в основном для того, чтобы спасти свою экономику за счет реализации десятков транспортных проектов Поднебесной общей стоимостью более $157 млрд.
Интересным во всей этой истории остается то, что Китай с 2009 г. вместе с увеличением объема иностранных инвестиций значительно изменил своим инвестиционным предпочтениям. Если прежде китайские инвесторы отдавали предпочтение традиционным индустриям, то начиная с 2009 г., активизировалось все, что касается развитых отраслей промышленности либо высокотехнологичного сектора. Уже в 2012 г. КНР инвестировала в финансовые компании $10 млрд, а в реальный сектор мировой экономики – $77,7 млрд. Было осуществлено 457 сделок по слиянию и поглощению стоимостью $43,4 млрд.
В России проблемы с климатом
Естественно, при этом постепенно проявлялся и нарастал интерес к инвестированию в Россию. Однако тут все оказалось не так просто. Причина банальная – китайцы попросту не знали, в какие российские отрасли и предприятия вкладывать средства. Единственная сфера, в которой инвест взаимоотношения более менее укрепились – туризм. В 2013 г. Китай посетили более 1 млн российских путешественников. В ответ приехало практически столько же. Но если учесть, что по сравнению с 2012 г. число китайских туристов в России подскочило на 40%, то можно говорить о туристической революции.
Значительно выросли в 2013 г. и китайские инвестиции в зарубежные страны. Здесь и обслуживание коммерческой сферы, и горнодобывающая промышленность. В России для китайцев наиболее привлекательными были обозначены: инфраструктура; лесопереработка; сельское хозяйство; туристическая отрасль. Вместе с тем, потенциальный инвестиционный спрос сдерживался бизнес-климатом.
Конспирология – вещь странная, но кое-что объясняющая
И, все же, для чего Китай так резко стал наращивать свои иностранные инвестиции? Судя по некоторым конспирологическим версиям КНР специально расширяет свое экономическое влияние и готовится стать новым мировым гегемоном вместо США. Есть и те, кто считает, что руководство Поднебесной, таким образом, заботится об экономике. Тем не менее, многим интересно знать, в какие направления КНР будет предпочитать вкладываться? Что ей будет интересно в ближайшей перспективе? И в этом случае, наверное, стоит посмотреть, в какие страны вкладывается КНР.
Ничего странного нет в том, что самой интересной страной в плане инвестирования для КНР является США. За последние несколько лет инвестиции в Штаты со стороны Китая составили $71,9 млрд. В Австралию китайцы запустили немногим более $61 млрд, в Канаду – почти $39,4 млрд, в результате она оказалась на третьем месте по объему полученных от КНР средств. Активнее всего китайцы зарабатывают деньги в энергетической отрасли Канады. США привлекательны для Поднебесной с точки зрения финансов, Австралия – добычи и переработки металлов.
Вклады со стороны Китая особенно популярны в Европе из-за глобального экономического кризиса. В 2000-2014 годах китайские компании вложили более $46 млрд в 28 стран Евросоюза. Большинство сделок были осуществлены как раз в разгар кризиса. Так вот, в период с 2005 по 2013 годы крупнейшими получателями китайских инвестиций были: Северная Америка: США – $64,4 млрд; Канада – $37,8 млрд; Бразилия – $31 млрд; Саудовская Аравия – $18,2 млрд; Нигерия – $20,7 млрд; Европа – $87,5 млрд; Великобритания – $18,8 млрд; Средняя Азия – $112,6 млрд; Пакистан – $21,8 млрд; Россия – $17,5 млрд; Юго-Восточная Азия – $11,2 млрд; Индонезия – $30 млрд; Австралия – $59,6 млрд.
Активней всех в плане иностранных инвестиций работают две компании, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и компания Sinopec. У первой 50 сделок на сумму $75 млрд 570 млн по всему миру, в основном в энергетически сферу – нефть и газ (хотя, например, во Вьетнаме они развивают сельское хозяйство, а в Саудовской Аравии – химическую промышленность). У второй – 42 сделки на $73 млрд 600 млн в те же сферы и тоже по всему миру.
Технологии, контроль и увеличение доли – главные приоритеты
И все это, по мнению Йонаса Парелло-Плезнера, старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям, обычное желание заработать. Бизнес и ничего больше. Между тем, по подсчетам американского института Heritage Foundation, из $870 млрд китайских инвестиций, $228 млрд приходится на нефтегазовый сектор, $156 млрд – на электроэнергетику, $136 млрд – на горно-металлургическую и угольную отрасли, $102 млрд – на транспортную инфраструктуру. Еще $86 млрд вложено в строительство и девелопмент, $42 млрд – в финансы, $30 млрд– в сельское хозяйство, $27 млрд – в технологии и телекоммуникации, $18 млрд – в автомобилестроение.
Эксперты фонда Heritage Foundation также подсчитали, что сделки и подряды еще на $236 млрд были заблокированы регуляторами ряда стран, опасающихся усиления китайских конкурентов на рынках. Они отмечают, что китайские компании, очень часто представляющие интересы государства, инвестируют за рубежом не ради извлечения прибыли, а для трансферта на родину технологий, получения контроля над природными ресурсами или захвата рыночной доли.
Министерство труда Саудовской Аравии выдало шести компаниям разрешение нанять 1,2 миллиона иностранных работников, сообщил сайт телеканала «Аль-Арабия».
Иностранцы будут работать домработницами, водителями, чернорабочими, а также на других подобных должностях.
Планируется нанять граждан Бангладеш, Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Танзании, Вьетнама и Уганды, а также двух арабских государств Северной Африки — Марокко и Мавритании.
Общая численность иностранных работников в Саудовской Аравии в 2013 году оценивалась в девять миллионов человек.
Потребности Вьетнама в американском оружии «огромны» - генсек КПВ
Вьетнам намерен углублять военное сотрудничество с США, которое полезно для обеих стран, сообщает defensenews.com 8 июля.
Генеральный секретарь правящей коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (Nguyen Phu Trong), выступая в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies - ВП), заявил, что военные потребности и проблемы в области безопасности имеют для Вьетнама огромное значение.
«Мы будем продолжать политику диверсификации и многосторонности (diversification and multilateralization - ВП), взаимной выгоды, невмешательства и равноправия. Вьетнам желает быть партнером, другом, конструктивным и ответственным членом международного сообщества», заявил генсек.
В ходе визита в США Чонг встретился с президентом США Бараком Обамой (Barack Obama, на фото) и членами Сената. Генсек не стал детализировать свой ответ на вопрос, какую военную технику США страна хотела бы приобрести, но дал понять, что Вьетнам озабочен агрессивной политикой Китая в районе Южно-Китайского моря. «Потребности нашей страны огромны, Вьетнам имеет 3000 км морского побережья, мы обязаны защитить наши суверенитет и территориальную целостность», заявил он.
Во время майского визита во Вьетнам министра обороны США Эштона Картера (Ash Carter) было объявлено о продаже Вьетнаму патрульных кораблей на сумму 18 млн долл. Между тем, председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн (John McCain) заявил, что нужно облегчить процедуру поставок вооружений Вьетнаму, хотя соблюдение прав человека в этой стране является проблемой в отношениях двух государств.
"Ростелеком" готовится к "БУМу"
Елизавета Титаренко
Совет директоров "Ростелекома" принял решение о создании ООО "Большой Универсальный Магазин" (ООО "БУМ") и ООО "БУМ СП". В "БУМ СП" оператор получит 80%. Именно в форме совместного предприятия (СП) с одним из мировых лидеров в этом бизнесе оператор планирует создать телемагазин, который поможет "Ростелекому" в том числе в монетизации абонентской базы платного ТВ.
О создании этих двух обществ "Ростелекомом" говорится на портале раскрытия корпоративной информации. Доля участия ПАО "Ростелеком" в уставном капитале ООО "БУМ" будет равна 60%, а доля участия в ООО "БУМ СП" - 80%.
Источник, знакомый с деталями проекта, говорит, что "Ростелеком" планирует создать телемагазин в форме СП с одним из мировых лидеров в этом бизнесе. Для оператора создание такого СП - один из вариантов монетизации абонентской базы платного ТВ.
Представитель "Ростелекома" вчера воздержался от комментариев.
Как ранее сообщала газета "Коммерсант", "Ростелеком" в сотрудничестве с южнокорейской GS Home Shopping Inc. (GS Shop) планирует запустить в России телеканал "БУМ ТВ" в формате "магазин на диване". По информации источников издания, партнеры инвестируют в проект $20 млн, из которых $12 млн вложит "Ростелеком" и $8 млн - GS Shop. Через ООО "БУМ" они будут вести торговую деятельность, причем российской стороне будет принадлежать 60% "БУМ", а южнокорейской - 40%. Учредителем канала станет ООО "Телекомпания БУМ ТВ", принадлежащее ООО "БУМ СП", в котором "Ростелеком" получит 80%, а GS Shop - 20%.
Как отметил источник ComNews, решение совета директоров дает старт юридическим действиям по созданию СП. По его словам, подписание соглашения между участниками совместного предприятия ожидается в III кв. 2015 г.
GS Shop ведет розничную торговлю одеждой, бытовой техникой и косметикой через телемагазины, Интернет и каталоги в Южной Корее, Китае, Индии, Таиланде, Вьетнаме и Турции.
По оценкам аналитика ИХ "Финам" Тимура Нигматуллина, российский рынок торговли посредством телемагазинов (сегмент рынка дистанционных продаж) в 2014 г. составил около 5-10 млрд руб. "Практически весь рынок контролируется компаниями с мажоритарным участием иностранных акционеров", - подчеркнул он. В целом рынок достаточно узок, конкуренция на нем высока. Учитывая это, а также массовое закрытие кабельных каналов из-за изменений в законодательстве, эксперт не ожидает появления новых крупных игроков рынка.
"Я не думаю, что другие операторы заинтересованы в выходе на данный рынок. По крайней мере, из крупнейших игроков рынка только "Ростелеком" последовательно реализует стратегию экспансии на рынок ТВ и цифрового контента", - отметил Тимур Нигматуллин.
Руководитель направления по взаимодействию со СМИ ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Дмитрий Солодовников отметил, что оператор в 2012 г. запустил круглосуточное вещание собственного информационного телеканала "МТС-Инфо". Он предназначен для абонентов кабельного телевидения в качестве видеогида по самым интересным телеканалам, передачам и фильмам в пакетах телеканалов МТС. Телеканал также показывает регулярные выпуски прогноза погоды, программу передач, информацию по актуальным акциям, конкурсам и событиям оператора.
Представители ПАО "ВымпелКом" и ПАО "МегаФон" вчера не предоставили комментариев.
Obama’s Pacific Trade Deal Trails Behind China’s Development Vision
Nile Bowie
Often touted as the centerpiece of the Obama administration’s re-engagement with Asia, a close vote in the US Senate has brought the Trans-Pacific Partnership (TPP) a major step closer to becoming law. Facing significant opposition within his own party, the US president has secured fast-track negotiating authority, limiting Congress’s constitutional authority to regulate the contents of the trade accord.
Though the US Congress and American public will have an opportunity to review the deal before it is voted on, fast-track passage procedure reduces time for debate and prohibits amendments to the proposed legislation, limiting Congress to passing an up-or-down vote on the deal. Negotiated behind closed doors and drafted under tremendous secrecy for nearly a decade, elected representatives have thus far had limited access to the draft text.
The negotiations, intended to eventually create a multilateral trade and foreign investment agreement, involve Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, the United States and Vietnam. Comprising some 40 percent of the world’s economy, the trade pact represents Washington’s response to the rising influence of China, which is not a participant, despite being the region’s largest economy and the largest trading partner of Asia-Pacific economies.
Bringing together a diverse grouping of culturally and economically disparate countries, the pact aims to enforce a common regulatory framework that governs rules for tariffs and trade disputes, patents and intellectual property, banking, foreign investment and more. The deal is widely seen as being representative of Washington’s long-term commitment to the Asia-Pacific region.
Rebranding the Asia Pivot
Described as a “comprehensive trade pact that could help cement our dominance over China in Asia” by a prominent American columnist, Senator Charles E. Schumer claimed the deal’s stated goal is to “lure” other countries “away from China”. If the underlying geopolitics of the deal weren’t clear enough, President Obama himself claimed, “If we don’t write the rules, China will write the rules,” in an interview with the Wall Street Journal. Needless to say, the TPP is no ordinary trade agreement.
Substantial differences have emerged between Democrats and Republicans over trade policy, though the bulk of American policy makers view the deal in terms of its strategic benefits: consolidating a new regional economic architecture in the Asia-Pacific on American terms. Mainstream economists such as Paul Krugman and Joseph Stiglitz have argued that the deal would in fact yield marginal economic benefits for the US, even for the corporate and financial interests that stand to gain most from regulatory liberalizations.
This conclusion likely explains why US stock markets barely reacted to the House’s initial rejection of fast-track, which could have potentially torpedoed the deal. For the United States, the Pacific trade pact is a symbol representing the reversal of declining US dominance and the rebranding of America as a leading market power in eyes of Asia-Pacific nations who have begun casting doubt on Washington’s staying-power.
The terms through which supporters have defended the deal revolve almost exclusively around standing up to China and the reputational damage caused to American prestige if the accord fails to materialize. Truthfully speaking, the notion that a foreign government could shape the global economy through alternative multilateral institutions and displace the US as the world’s dominant economic actor stirs passions in the American psyche, one that is utterly convinced of its own indispensability and exceptionalism.
Far from being an ordinary trade agreement, the Trans-Pacific Partnership is a by-product of 21st century bloc-politics. Of all the countries participating in the negotiations, Southeast Asian nations – Brunei, Malaysia, Singapore, and Vietnam – are the most strategically significant. These small states seek to balance their relations with Washington and Beijing through economic integration without antagonizing either power.
The View from ASEAN
The four participating Southeast Asian nations are opposed to choosing sides and they may potentially have a restraining influence over provocative military activity in the region. If the Pacific deal is perceived as yielding beneficial results in these states, the United States will have greater leverage in bringing second-round entrants onboard, expanding the trade area to incorporate other regional players, which will have repercussions for the Chinese economy.
The deal would give Southeast Asian nations preferential access to US markets, which will initially reduce China’s export competitiveness. Vietnam, for example, seeks to the join the TPP to offset its ballooning trade deficit with China. Its textile and garment industries rely on Chinese inputs, but in order to gain tariff-free access to the US apparel market, the materials used must originate within the TPP area, which would force Vietnamese exporters to restructure supply chains to seek alternatives to Chinese products. It should be recognized that these measures impose costs on developing economies and can undermine their capacity to compete.
For American multinationals, the deal opens doors to low-cost offshoring alternatives that would ease dependence on China. Malaysian manufacturers would be in the same position vis-à-vis the deal’s rules of origin, though its multinationals would stand to gain from greater access to new export markets for its natural resources. The pact’s developing economies see widened foreign direct investments as a major incentive, although greater competition between SMEs and multinationals will put downward pressure on wages.
Small states with extensive investment capital and limited domestic markets such as Brunei and Singapore stand to gain most from the TPP, as evidenced by the latter’s aggressive lobbying in favor of the deal. Singapore’s multinational-friendly tax structure and staunch adherence to regulating intellectual property make it a magnet for investment, spurring domestic job growth as its own companies become better positioned to do business with TPP partners to the benefit of the city-state’s financial, shipbuilding and petrochemical sectors.
The View from Beijing
Facing declining commodity and oil prices, lower international and domestic demand, falling industrial production, and the slowest pace of growth in over two decades, China’s leadership has raised concerns that the TPP will undermine its export competitiveness. Though the country has taken steps to move towards a consumption-led growth model, manufacturing and trade is still the engine of the Chinese economy.
Beijing’s latest manufacturing plan specifically mentions the US-led trade deal, claiming it would “further impair China’s price advantage in the exports of industrial products and affect Chinese companies’ expansion”. China is the top trading partner of over 120 countries. If the TPP exacerbates the slowdown of China’s economy, export markets worldwide would be adversely affected.
China’s Industrial output has contracted for three consecutive years, while declining performance in the productive economy and mounting property sector debts have begun triggering signs of speculative bubbles. The most favorable outcome of these developments for the United States would be a reduction in the operational scope of the internationalization of the renminbi and China-sponsored multilateral institutions, such as the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), which the US and Japan have shunned.
The question of whether China would eventually join the TPP as a second-round entrant implies that it would have to accept the reorientation of its economy around the agreed upon result of the TPP negotiations that it did not participate in. The deal’s trade rules would demand of China a significant departure from its traditionally incremental approach to liberalizing reforms and strong state-led organization of the economy.
Given prevailing Chinese attitudes toward the deal, which is largely viewed as representing a policy of containment, and the ongoing antagonisms between China and the US over land reclamation issues in the South China Sea, it would be genuinely surprising if Chinese leaders sought TPP membership. Beijing’s primary focus will continue to be developing a parallel regional economic architecture and alternatives to the existing international financial institutions such as the Western-dominated IMF and World Bank and Japan-led Asian Development Bank.
China & the Asian Infrastructure Investment Bank
Throughout the Asia-Pacific, the most significant obstacles to regional trade result from inadequate networks of infrastructure rather than high tariffs and other protectionist barriers. A study conducted by the World Economic Forum in 2013 concluded that world GDP would rise over six times the current level by reducing supply chain barriers rather than removing all import tariffs. It is in this context that China’s AIIB initiative offers an approach to regional integration through which the TPP provides no equivalence.
China’s AIIB is set to become operational in 2016 with US$100 billion initial capital, drawing investments from a long list of countries that have opted to become AIIB co-founders. Despite pressure from the United States, some of its closest allies – Australia, France, Germany, Saudi Arabia, South Korea, and the United Kingdom – have joined Beijing’s new multilateral development bank, which seeks to reduce the vast gaps in economic infrastructure worldwide.
Beijing has garnered one of the world’s most impressive track records in infrastructure development over the last two decades. Building on this experience, the AIIB will play a key role in China’s “One Belt, One Road” initiative, which aims to modernize two ancient trade routes – the Silk Road Economic Belt linking China with Europe via Central Asia, and the 21st Century Maritime Silk Road connecting China with Southeast Asia – that would serve as two prongs in an evolving global trading regime under Beijing’s auspices.
The success of these initiatives would make China, with its whooping US$4 trillion in foreign currency reserves, the central player in the global development landscape. In the prevailing circumstances, where the powers of the region are competing to achieve their own strategic outcomes, it must be asked whether there is any parity between the United States and its path to regional integration through the Trans-Pacific Partnership in comparison to the vision put forward by the Chinese leadership.
Assessing the Trans-Pacific Partnership
A paper published by the East West Center estimated that the projected gains from the TPP for the countries involved would only result in a 0.5 per cent increase of income. The deal’s focus is on dismantling “nontariff barriers” to business, such as regulatory measures to protect labor, consumers and the environment. Countries involved would be required to adopt new regulatory practices built to cater to the needs of multinational business interests, of which American firms – which stand to gain most from radically enhanced protection for patents and copyrights – will be most advantaged.
American manufacturers, large Silicon Valley firms, Hollywood studios and the pharmaceutical industry have been the most vocal proponents of the sweeping intellectual property provisions in the TPP, which would negatively impact developing countries. A studyconducted by the Australian National University found that enhanced protections for pharmaceutical corporations would limit access to antiretroviral drugs for an estimated 45,000 Vietnamese HIV patients who would no longer be able to afford their medication.
A panel of UN experts have recently objected to the potentially adverse impact of the TPP, arguing that the deal’s provisions cater disproportionately to the business interests of pharmaceutical monopolies. The most egregious aspect of the trade deal is the Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) mechanism, which would allow corporations to seek restitution against states in an international arbitration court for the alleged diminution of their potential future profits as a result of government regulations.
This provision was used by tobacco giant Phillip Morris to sue the South American nation of Uruguay for US$25 million when it enacted health warnings on its cigarettes and laws designed to discourage children and pregnant women from smoking. The ISDS subjects the participating developing countries to expensive arbitration suits that hinder their ability to adopt regulations that protect labor, the environment and public health.
There is no mandate to speak of for ushering in policies that so demonstrably neglect public interest. Granting multinationals new powers that allow national laws and regulations to be challenged in international tribunals represents a step toward a new interpretation of sovereignty: one that shifts away from national governments toward that of an international-corporate sovereignty. The proponents and beneficiaries of the Trans-Pacific Partnership must ask themselves whether this deal truly serves the people of the region.
Эксперты предлагают воздержаться от принятия официальных количественных обязательств по снижению выбросов парниковых газов в рамках международных обязательств. Они считают, что существующая в стране система регулирования таких выбросов имеет дискриминацио
Елена Бутырина
Министерство энергетики РК разрабатывает план действий правительства до 2030 года, направленных на снижение выбросов парниковых газов (ПГ). В настоящее время Казахстан готовится к предстоящей Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), которую планируется провести осенью 2015 года в Париже. Основная цель Конференции - достижение консенсуса 180 странами - членами РКИК ООН по новому соглашению, которое направлено на удержание роста температуры до 2 градусов по Цельсию на глобальном и национальном уровнях. Казахстанской стороной проводится подготовительная работа по определению страновой позиции и целевых индикаторов в рамках подготовки к новому климатическому соглашению.
Между тем некоторые эксперты не согласны с официальной позицией профильного министерства в отношении ситуации с выбросами ПГ в Казахстане. В частности, они выражают сомнения в необходимости взятия нашей страной официальных обязательств по снижению выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола, а также в справедливости и целесообразности принятия жестких мер по их регулированию через систему Национального плана распределения квот на выбросы ПГ (НПР). Эксперты заявляют, что существующая система регулирования выбросов ПГ в стране носит дискриминационный характер, так как предусматривает меры воздействия по их снижению только для квотируемых предприятий. При существующем подходе регулирования решение вопроса о снижении выбросов ПГ в Казахстане перекладывается на частный бизнес, обязательства страны распределяются не между всеми секторами экономики, нагрузка по снижению выбросов приходится на отдельные компании. Между тем международные обязательства по сокращению выбросов ПГ, по мнению специалистов, должны исходить из конкретных особенностей страны, климатических, экономических и социальных условий.
Казахстан ратифицировал Киотский протокол в 2009 году, а в 2012-м вступил в список стран Приложения Б на второй зачетный период (2013-2020 годы). На Казахстан возлагается юридическое обязательство довести выбросы ПГ до 5% в объеме выбросов парниковых газов к 2020 году по отношению к базовому 1990 году. Добровольное обязательство включает сокращение выбросов ПГ на 15% до 2020 года от базового 1992 года и на 25% к 2050 году.
На сегодняшний день доля Казахстана составляет 0,7% от мировых выбросов парниковых газов, достигающих 32 млрд тонн СО2 эквивалента (к слову, самый высокий уровень выброса парниковых газов отмечается в США, Китае, России, Индии, Бразилии, Германии и Великобритании - согласно исследованию, проведенному в 2013 году в канадском университете Конкордия, на долю этих стран приходится 63% мирового выброса ПГ). Источниками ПГ в нашей стране являются промышленность, в первую очередь энергетические предприятия, сельское хозяйство и отходы. Порядка 25% ВВП Казахстана формируется энергоемкими отраслями, такими, как нефтегазовая, горнорудная, металлургическая. А из-за холодного климата Казахстан потребляет в 2,5 раза больше тепловой энергии, чем в среднем по Европе.
В соответствии с проведенными исследованиями Казахстан выбрасывает в атмосферу значительно меньше выбросов, чем может “поглотить”. Согласно полученным расчетам, степная растительность в год может “поглотить” 660 млн тонн СО2, уточненный баланс эмиссии и поглощения СО2 в агросистеме Казахстана равен 125 млн тонн СО2, а общее поглощение составит 535,5 млн тонн СО2 в год.
По данным, представленным газете Панорама Национальной палатой предпринимателей РК (НПП), общие выбросы парниковых газов в Казахстане в 2009 году составили около 262 млн тонн СО2 эквивалента. Общие национальные выбросы парниковых газов в эквиваленте СО2 без учета ЗИЗЛХ в 2011 году были зафиксированы на уровне порядка 274,5 млн тонн СО2. При этом уменьшение по сравнению с базовым 1990 годом составило 23%. Наибольшее количество выбросов ПГ пришлось на сектор, относящийся к энергетической деятельности, - 85%. Вклад сельского хозяйства составил 8%, промышленных процессов - 6,3%, отходов - 1,5%. Поглощение в секторе ЗИЗЛХ оценивается в 1,1%.
Несмотря на наибольшие выбросы ПГ в энергетической деятельности, уровень снижения выбросов ПГ здесь выше по сравнению с уровнем снижения в таких секторах, как промышленные процессы и отходы.
Начиная с 2013 года, в Казахстане введена в действие внутренняя система ограничения выбросов ПГ для предприятий, включенных в Национальный план распределения квот на выбросы ПГ (НПР). Он лимитирует выбросы двуокиси углерода от установок операторов, совокупные выбросы двуокиси углерода которых превышают 20 тыс. тонн СО2 в год, а также определяет количество распределяемых единиц квоты по отраслям экономики: энергетическая, добыча угля, нефти и газа, промышленность. Не подлежат квотированию такие отрасли экономики, как сельское хозяйство, транспорт, коммунальное теплоснабжение, отходы, землепользование и другие.
Национальными планами 2013-го и 2014-2015 годов предусматривался резерв объема квот, рассчитанный по среднему показателю прогнозируемого ежегодного темпа роста валового внутреннего национального продукта на соответствующий период. Всего в НПР 2013 года вошло 178 предприятий с общим объемом квот порядка 147,2 млн тонн СО2. По результатам анализа НПР 2013 года фактически было выдано квот примерно на 158 млн тонн СО2 (с учетом квот для новых установок). Выбросы парниковых газов в Казахстане в 2013 году достигли 274 млн тонн СО2. Таким образом, фактическая доля квотируемых предприятий составила 58%. То есть 42% выбросов приходится на сектора и предприятия, которые не входят в НПР: по отношению к этим предприятиям не предусмотрены меры госрегулирования по снижению выбросов парниковых газов, отмечают в ассоциации. Второй НПР квотирует выбросы СО2 на 2014-2015 годы от установок операторов, выбросы которых в 2012-м превысили 20 тыс. тонн СО2. Всего в НПР 2014-2015 годов вошло 166 предприятий с общим объемом квот 155,3 млн тонн СО2 в 2014-м и 152 млн тонн СО2 в 2015-м. При этом, по прогнозным оценкам на 2014 и 2015 годы, общий объем квот второго НПР не должен превышать 60-63% общестрановых выбросов ПГ.
На сегодняшний день “навязанной”, но еще не ратифицированной является Поправка 3.7ter к Киотскому протоколу, принятая на конференции в Дохе в 2012 году и требующая ежегодно в период 2013-2020 годов не превышать средний уровень выбросов ПГ 2008-2010 годов, что подразумевает их снижение приблизительно на 29% по отношению к 1990 году. По мнению бизнес-сообщества, ратификация “Дохийской” поправки приведет к аннулированию запаса национальных квот Казахстана и ограничит выбросы парниковых газов средним уровнем 2008-2010 годов, то есть кризисным периодом. Казахстан наиболее вероятно не выполнит обязательства во втором периоде Киотского протокола и будет вынужден покупать единицы квот у других стран, говорят в этой связи эксперты.
“Таким образом, дефицит, согласно Поправке 3.7ter, составит около 630 млн тонн СО2 или в среднем около 78,8 млн тонн СО2 в год. Преодолеть такой дефицит квот возможно только в случае, если экономика Казахстана не будет развиваться или останется на уровне 2009 года. Или если недостающее количество сокращений будет приобретено на внешнем углеродном рынке, что в настоящее время представляется нереальным или гипотетически возможным при условии, что цены на тонну СО2 будут достаточно низкими. Даже при цене $1 за тонну понадобится около $80 млн в год, а за восьмилетний период - $630 млн”, - комментируют в НПП.
Следует учесть международный опыт, когда сама торговля квотами либо не обеспечивает снижение выбросов ПГ, либо оказывает незначительный эффект, так как в рамках системы торговли выбросами (СТВ) тот, кто имеет излишек квот, продает их тому, кому квоты необходимы. Например, в рамках Киотского протокола (КП) Украина продала Японии квоты на 300 млн евро, а развитые страны Евросоюза (Германия, Франция, Испания и другие) покупали квоты у стран бывшего социалистического блока (Польша, Чехия и других), то есть в рамках СТВ происходит перераспределение квот, но не сокращение выбросов ПГ, говорят эксперты.
К тому же на сегодняшний день страны, являющиеся основными эмитентами ПГ, либо отказались от ратификации КП, либо вышли из него. Так, США, на долю которых приходится 35% выбросов парниковых газов, не участвует в Киотском протоколе, аргументировав это необходимостью “заботиться об уровне жизни населения, угрожающего существенно снизиться” при соблюдении ограничений соответствующего Протокола. Индия не имеет количественных обязательств, Канада вышла из Протокола в 2011 году, а Россия, Япония и Новая Зеландия отказались брать количественные обязательства по ограничению выбросов в рамках второго периода. В результате на долю стран, имеющих официальные обязательства в рамках КП, приходится всего 15% мирового объема выбросов. При этом уровни выбросов в США и Японии возросли на 8% от уровня 1990 года, в Канаде - на 20%, в Индии - на 60%, в Китае - на 189%. Хорошим примером является Китай, привлекающий наибольший объем углеродных инвестиций, не берущий на себя официальных международных обязательств и не ограничивающий внутри страны на выбросы ПГ.
Эксперты, учитывая все вышесказанное, с учетом международного опыта в сфере снижения выбросов ПГ, в целях обеспечения экономической эффективности нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана, а также формирования действенных механизмов снижения углеродоемкости экономики, предлагают воздержаться от принятия официальных количественных обязательств по снижению выбросов в рамках Киотского протокола, особенно с учетом “Дохийской поправки”, и приостановить до 2020 года действие статьи 94-2 Экологического кодекса “Квоты на выбросы парниковых газов”. Специалисты объясняют, что создание национальной системы торговли квотами не является обязательным условием Киотского протокола, соответственно, есть возможность перенести акценты государственной политики с механизма квотирования выбросов парниковых газов на основе Национальных планов на обеспечение реализации иных мер по снижению углеродоемкости экономики, предусмотренных все тем же КП. Кроме того, специалисты считают необходимым активизировать работу по внедрению “механизмов гибкости” (кроме участия в международной торговле квотами), предусмотренных КП, по привлечению “углеродных инвестиций”, разработать справедливые механизмы госрегулирования выбросов ПГ с участием всех секторов экономики, а также механизмы внедрения программ технических перевооружений предприятий.
Следует рассмотреть эффективность альтернативных инструментов снижения выбросов ПГ (стимулирование энергоэффективности, “белые”, “зеленые” сертификаты и др.) по опыту США, Индии и других стран, приостановив СТВ; реформировать СТВ с учетом введения льготных требований для социально значимых секторов (энергетика) экономики и уменьшения отчетных документов. Примером альтернативных инструментов для Казахстана может служить возможность участия в Японском механизме совместного кредитования (JCM), реализуемом японским правительством в развивающихся странах (к слову, Япония подписала двусторонние соглашения в рамках JCM с 11 странами - Монголией, Бангладешем, Эфиопией, Кенией, Мальдивскими островами, Вьетнамом, Лаосом, Индонезией, Коста-Рикой, Палау и Камбоджей). Несмотря на то, что Япония не имеет официальных обязательств по сокращению выбросов ПГ в рамках второго зачетного периода КП, правительство этой страны планирует достигнуть к 2020 году снижения выбросов ПГ на 3,8% от уровня 2005 года. Для энергетической отрасли Нацпалата предпринимателей рекомендует вывести энергетические предприятия из СТВ и разработать для них стимулирующие меры (налоговые льготы, государственные субсидии) по повышению энергоэффективности и энергосбережению; рассмотреть целесообразность введения вместо СТВ углеродного налога, который будет перенаправляться на модернизацию энергетической отрасли; при сохранении в СТВ энергетического сектора оставить распределение квот по историческим данным с учетом прогноза энергобаланса и выбросов ПГ, корпоративного управления ПГ (осуществлять взаимозачет ВИЭ и традиционных станций).
По мнению специалистов, при реализации любых, тем более международных проектов, страна должна в первую очередь руководствоваться исключительно собственными интересами.
Прогноз экспорта риса из Таиланда снижен до 10 млн. т
Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) снизила прогноз риса из Таиланда в текущем году с 11 млн. т до 10 млн. т из-за недостаточно высоких темпов экспорта в январе-мае. В прошлом году Таиланд экспортировал 11 мн. т риса.
За первые пять месяцев текущего года Таиланд поставил на внешние рынки 3,8 млн. т риса, что на 1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Основной причиной снижения активности торговли в текущем году является сильная конкуренция со стороны Вьетнама. Вьетнамский белый рис (5% битых зерен) намного дешевле таиландского. Его цена сейчас на 30 $/тонна ниже, чем таиландского, в мае – ниже на 20 $/тонна.
«Звездочка» желает создать СП по ремонту подлодок в Индии
Россия пожелала, чтобы Индия стала глобальным центром модернизации, обслуживания и ремонта обычных подводных лодок, сообщает ЕТ.
Российское судоремонтное предприятие «Звездочка» озвучило планы создания совместного ремонтного объекта в Индии, который станет центром обновления и ремонта подводных лодок класса Kilo (пр. 877ЭКМ «Палтус»/«Варшавянка», фото - ВП). Российские инженеры уже посетили индийскую верфь и проконсультировали ее сотрудников, какие нужно сделать изменения. Эта верфь может ремонтировать не только поставленные Индии российские подлодки, но и однотипные субмарины, имеющиеся в составе флотов третьих стран, заявил заместитель генерального директора российской компании Евгений Шустиков.
Российская сторона не хочет делиться подробностями переговоров, но ЕТ удалось узнать, что «Звездочка» имеет интерес к сотрудничеству с верфью в Гуджарате, которая была недавно куплена компанией Anil Ambani's Reliance.
Как ожидается, окончательный раунд переговоров состоится в августе. ВМС Индии имеют планы модернизации, по меньшей мере, четырех ПЛ, что даст возможность продлить срок их эксплуатации на 15-20 лет. Подлодки класса Kilo также имеют флоты Ирана (три) и Нигерии (шесть - ошибка источника – это Алжир - ВП). Кроме того, Россия недавно продала шесть модернизированных ПЛ этого класса Вьетнаму, которые также потребуют ремонта и модернизации.
«Индия может стать глобальным центром ремонта этих подлодок, так как некоторым странам проще направить свои субмарины в Индию, чем в любое другое место. Это также хороший шанс для индийцев освоить ремонт и модернизацию подлодок этого типа», заявил ЕТ заместитель генерального директора российского КБ «Рубин» Андрей Баранов (это КБ спроектировало ДЭПЛ пр. 877 - ВП).
7 июля 2015 года в г. Женеве (Швейцария) в рамках Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит на площадке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), состоялся круглый стол по рассмотрению инструментов и методов повышения эффективности антимонопольного правоприменения и адвокатирования. Председателем круглого стола стала директор Конкурентного ведомства Пакистана г-жа Валия Халиль. С ключевым докладом выступил профессор Оксфордского Университета г-н Ариель Израхи.
В ходе дискуссий были затронуты три основных вопроса: цели конкурентного ведомства, организация внутренних и внешних коммуникаций, а также оценка влияния на конкуренцию. С докладом об опыте российского антимонопольного ведомства в этих вопросах выступил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.
Говоря о целях конкурентного ведомства, Андрей Цыганов подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран, в которых принципы справедливой конкуренции закреплены в Конституции Российской Федерации. Кроме того, ФАС России является многофункциональным органом, осуществляющим контроль за соблюдением более 20 законов, поэтому процесс целеполагания в российском конкурентном ведомстве довольно сложный, однако, сочетаясь, функции ФАС России имеют синергетический эффект и приводят к повышению эффективности деятельности конкурентного ведомства.
В продолжение этой темы были затронуты вопросы реализации Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 –2024 годы, а также значения Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики». Кроме того, Андрей Цыганов рассказал о практическом опыте ФАС России, который оказал существенное влияние на повышение благосостояние потребителей (рынок хлористого калия, рынок авиаперевозок, услуги доступа в Интернет).
Отвечая на вопрос Председателя Круглого стола о степени независимости и политической изолированности конкурентного ведомства, Андрей Цыганов отметил, что «наша 25-летняя практика показывает, что подлинно независимым может быть только сильный и высоко компетентный антимонопольный орган, к которому прислушиваются и политики, и бизнесмены, и граждане».
В продолжение доклада Андрей Цыганов рассказал об организации внутренних и внешних коммуникаций ФАС России. Российское конкурентное ведомство представляет собой большую и сложную структуру, состоящую из центрального аппарата и 84 территориальных органов, поэтому вопрос эффективной организации внутренней коммуникации между всеми сотрудниками является приоритетной задачей, для решения которой используется множество инструментов. Прежде всего в ФАС России разработаны правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, в соответствии с которыми комиссия ФАС России состоит из представителей различных структурных подразделений. Кроме того, в процесс рассмотрения дел включаются молодые сотрудники Службы, которые получают возможность на практике получать знания у своих более опытных коллег. В ФАС России развита система внутреннего обмена информацией, к которому имеют доступ все сотрудники. Кроме того, важнейшие вопросы конкурентной политики и законодательства выносятся на обсуждение в рамках заседаний Президиума ФАС России, Коллегии ФАС России, Совета территориальных органов и Методического совета. Немаловажным аспектом внутренней коммуникации является разработанная в ФАС России система стимулов. Ежегодно составляется рейтинг структурных подразделений Службы, производится ротация сотрудников как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
Пристальное внимание ФАС России уделяет внешним коммуникациям со всеми заинтересованными сторонами: гражданами, бизнесом, а также с органами государственной власти и международным сообществом. Важнейшим компонентом внешних коммуникаций является обеспечение открытости и транспарентности конкурентного ведомства. С этой целью в ФАС России функционирует официальный сайт ведомства, Служба присутствует во всех основных социальных сетях, в медиа-пространстве. На постоянной основе проводится независимая общественная оценка деятельности ФАС России. Что касается взаимодействия с бизнес-сообществом, главной задачей ФАС России видит изменение стандарта поведения бизнеса путем совмещения инструментов адвокатирования конкуренции и эффективного правоприменения. При ФАС России действует Совет по конкуренции, в который входят представители бизнес-ассоциаций, на постоянной основе функционирует множество Экспертных советов по различным секторам экономики. Кроме того, ФАС России уделяет большое внимание взаимодействию с юридическим и экономическим сообществами, создает кафедры экономики и конкурентного права в ведущих российских вузах. В целях доведения позиции ФАС России до профессионального сообщества Служба при участии научных кругов подготовила научный постатейный комментарий к Закону о защите конкуренции, а учебник по конкурентному праву, подготовленный специалистами ФАС России, к настоящему моменту был издан в нескольких редакциях. Помимо этого, ФАС России ежегодно представляет в Правительство РФ и публикует Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, а также проводит ежегодное международное мероприятие «День конкуренции в России», участниками которого становятся представители Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, практикующие юристы и экономисты, представители бизнеса и научного сообщества, а также высшие должностные лица зарубежных конкурентных ведомств и международных организаций.
ФАС России осуществляет международное сотрудничество по множеству направлений, главными из которых являются сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ, БРИКС, АТЭС, а также странами Европы, Среднего Востока, Северной и Южной Америки. Кроме того, российское антимонопольное ведомство активно сотрудничает с международными организациями, такими как ОЭСР, ЮНКТАД и МКС.
Третьим аспектом обсуждения в рамках Круглого стола стала система оценивания конкуренции. Андрей Цыганов отметил, что оценивание в ФАС России происходит на нескольких уровнях. На внешнем уровне ФАС России выполняет функцию по оцениванию влияния отраслевых политик и нормативно-правовых актов на конкуренцию, что является частью процедуры оценки регулирующего воздействия. Кроме того, ФАС России разработала Стандарт развития конкуренции в регионах Российской Федерации, а также рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития конкуренции, что также является элементом системы оценивания. Вместе с этим и ФАС России является объектом оценивания со стороны Правительства при обсуждении ежегодного Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации. Кроме того, ФАС России дважды проходила процедуру подготовки Обзора антимонопольного законодательства экспертами ОЭСР. В 2004 году на заседании Комитета по конкуренции ОЭСР был представлен первый подробный обзор конкурентного законодательства. На основании представленного обзора состоялось обсуждение российской конкурентной политики в режиме прямого диалога. Его целью являлось изучение ситуации в области конкурентной политики в России, ее сильных и слабых сторон и, как результат, подготовка рекомендаций ОЭСР о возможных путях улучшения положения в сфере защиты конкуренции в России. Следует отметить, что Россия явилась первой страной-нечленом ОЭСР, для которой проводился Обзор реформы регулирования, в рамках которого и проводился Обзор конкурентной политики.
Успешное проведение этого мероприятия, получившего высокую оценку всех участников, способствовало созданию благоприятного имиджа России и интенсификации процесса вступления России в ОЭСР в качестве полноправного члена. В рамках процесса присоединения Российской Федерации к Организации в период с 2009 по 2013 год в результате нескольких раундов экспертами ОЭСР была повторно дана всесторонняя оценка российскому антимонопольному законодательству. Рекомендации, выданные в результате обзора, легли в основу существенных изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации.
«Мы считаем, что эффективное антимонопольное правоприменение и адвокатирование конкуренции являются целями одного уровня. За свою 25-летнюю историю российское антимонопольное ведомство накопило значительный опыт в сфере определения и разработки целей, институционального дизайна конкурентного ведомства, организации внешних и внутренних коммуникаций, оценивании воздействия на конкуренцию. Мы надеемся, что наш опыт и знания будут полезны конкурентным ведомствам развивающихся стран», – отметил Андрей Цыганов.
В ходе Круглого стола с докладами также выступили представители конкурентных ведомств Вьетнама, Южно-Африканской Республики, Никарагуа, США, Латвии и Кении.
Ecuador and Greece – Two Different Struggles
Andre Vltchek
Ask people in Quito, Ecuador about the struggle of Greek nation again EU usurpers and greedy banks. Chances are they will know at least something. Educated people know a lot. I asked, and I was impressed by detailed answers, by awareness.
I also asked, quite recently, in Athens; what is known there about our Latin American revolutions, and about the terrible suffering of people; suffering that is clear a result of devastating actions of pro-Western elites in Venezuela, Ecuador, Brazil, Bolivia, even in Argentina and Chile. These ‘elites’ are trying to derail “the Process”, on behalf of Western governments and multinationals. They are doing exactly what their predecessors had done in Chile, in 1973, before the coup against socialist President Salvador Allende: spreading right-wing propaganda, creating shortages, and preparing for military coup.
In Athens, I detected absolute bewilderment, ignorance and disinterest. Whenever I began talking about Latin America, the topic was quickly changed.
Greece is white, it is European, and therefore the eyes of entire Western “progressive” world are now directed towards Athens: will its government dare to default, would Greece leave euro-zone and eventually the European Union? As if the answer to this question could change the world; as if Athens is where the fate of humanity will be decided.
Ecuador is predominantly indigenous, and therefore, inhabited by ‘un-people’, to borrow from George Orwell’s colorful terminology. Battered by its own, mainly Euro-centric and pale-skinned ‘elites’ who are enjoying extremely close links with both EU and the United States, Ecuador and its determinedly left-wing government can count very little on international solidarity, especially on the camaraderie from ‘so-called progressive’ forces in the West.
It is not the only one: China, South Africa, Venezuela, Iran and other countries all over the world have been addressed and treated in the most despicable, patronizing, and even racist way by so-called left wing individuals and groups in the West.
The Left got thoroughly defunct in both Europe and in North America. But it continues to be distressingly self-righteous, self-indulged, bossy and arrogant. It does not govern and does not inspire almost anybody, anymore. But it is behaving as if it would be holding some mysterious right to judge and advice others: those who do fight, those who do inspire and those who do govern! It is evident that it wants none-Western socialist and communist governments and movements, those that are now proudly governing all over the world, to go straight to hell!
It is because even the Left in Europe and US is constructed on Christian and Euro-centric mindset, with exceptionalism and supremacist sentiments at its core.
Unable to lead, and most likely unwilling to govern, too lethargic and intellectually spent, most of Western ‘progressive’ thinkers are constantly regurgitating lunatic economic and political theories that no one in other parts of the world, especially the poor world, would ever take seriously, let alone want to implement.
Most of them hide behind ‘anarchism’. Any left-wing leader who gets to govern in Asia, Latin America or Africa, is put under insane and thoroughly detailed scrutiny, and criticized as “undemocratic”, “dogmatic” or worse.
Many Chinese comrades I spoke to in Beijing already completely gave up on the Western Left; they see it, mainly, as the extremely reactionary force (ideologically), which is backstabbing real opposition to Western imperialism.
***
And so, while Greece votes on its financial future, Ecuador is facing one of the most vicious subversions in its history. It is facing it alone. It appears that everyone from none-Latin American left who matters is now in Athens, and as far as I know, there are no solidarity ‘delegates’ descending on Quito!
***
My priority now is Ecuador. My priority is Latin America. This is where I see great battle for the future of humanity taking place. Here and in Asia. Definitely not in Europe!
Latin American governments here are not perfect. But they are doing all they can, after decades and centuries of plunder, after Europe, the United States, in unison with local elites and multinational companies, were pillaging and raping everything “south of the border”.
I described it all in my latest 800-page book: “Exposing Lies of the Empire”. I demonstrated how the Empire is destabilizing country after country. Ecuador may be next.
Corruption could not be eradicated in one year, or in one decade. Things can improve, greatly, in one decade or even in one year, but horror structures built during long centuries of European and North American colonialism and neo-colonialism could not be fully reversed in a short period of time. ‘The Process’ has to be in place for many years, and it has to flow uninterrupted.
Yes, we are not perfect, but we are trying to get better as we go forward. And yes, Latin America is moving forward! We are trying, stumbling and falling, passing through fire, filth, conspiracies and intrigues. It is moving forward, damn it! As others like Russia, China, South Africa and Iran are!
***
Ecuadorian elites are protesting and they are sabotaging everything great that was done by Correa and his administration.
Many of my friends and comrades in Ecuador believe that the coup may happen at any moment, most likely after Pope Francis will end his visit to South America.
Not one word is uttered about great progress; new highways and airports, modern hospitals and schools, medical posts, countless playgrounds for children, free culture, libraries… Right wing in Ecuador owns most of mass media – television stations and newspapers. But not much positive is written about Ecuador by Western ‘progressive’ media outlets, either.
Of course, Western left-wing elite is not writing much good about China, Vietnam, Eritrea, South Africa, Zimbabwe or Iran, either. To Western left wing “purists”, all these countries are actually “not good enough”, not socialist enough, because they don’t follow some socialist or communist path approved by the West. China, Russia and even Ecuador also see democracy extremely differently then European and North American Left. Therefore, they can count of very little support.
***
Greece should default. That fortress, fascist European Union, should not get away with bullying it.
But Greece should fight for internationalist, global ideals, not just for its own gain.
When things were going well, when money was flowing in, when Greek farmers were enjoying driving the latest models of German cars on their newly built smooth motorways, Greek people were content. They were not asking where the money was coming from. Of course money came mainly from plundering of none-Western world, of exploiting those ‘non-people’. That was fine, wasn’t it?
Even now, even recently, many Greeks were complaining bitterly about illegal immigration from Africa! I was told outrageous things that I previously associated with German neo-Nazis. Don’t those writers who are now writing their flattering essays, glorifying Greek nation, know that? Or they pretend not to see and hear?
There is so much open racism in all over Greece! And there is so little solidarity with the rest of the world.
Greece is fighting for its own goals. It’s incomes dropped, from 1.400 to 800 euros a month, per capita, in many cases. Terrible, but in many African nations where money to support Greek farmers often came from in the past (EU was busy finishing African agriculture, making it dependent on its own food production), incomes are sitting at around 30 euros per month. I tried to address these issues in Athens, but encountered stone faces and total bewilderment, even hostility. I was told: “But we are used to different standards! We are not some Africans. We are Europeans!”
And therefore I repeat: what is happening in Greece is not some left wing, internationalist revolution.
Greeks are fighting for Greece. And Latin America is fighting for humanity! It never exploited anybody. It sends doctors, teachers, all over the world. It sends oil to the poor, even in the United States. It supplied unfortunate countries like East Timor with instructors. It offers solidarity to Palestine, Iran, and to so many others!
***
If Ecuador will get under direct fire, I will go back, and I will stand by its people, doing all that I could to support it. The revolution may survive, or it may not. It will be extremely tough fight with uncertain outcome. Many people will die.
As many wrote: Greece will survive. “It is, after all, in Europe”. Even when it is down, it is, somehow, up. It will not disappear; will not get raped. There will be no tanks sent to the streets again, to murder its people.
We, “down here”, may not get another chance. The Empire will try to smash all resistance in Latin America, in what it considers to be its own backyard. Then if we fall, entire non-Western world may be forced to return to square zero!
But everyone is now in Athens!
Денис Мантуров на «ИННОПРОМе-2015» провел заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии.
Вопросам применения закона «О промышленной политике», обеспечению импортозамещения через локализацию, а также ходу реализации Национальной технологической инициативы было посвящено заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, которое провел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 8 июля 2015 года в Екатеринбурге в рамках работы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2015».
«Мы активно продвигаем нашу продукцию, под словом «наша» имеется в виду в том числе и зарубежная продукция, произведенная в России. Мы не ставим условия импортозамещения на 100%, а как раз нацелены на то, чтобы в России применялись лучшие доступные зарубежные технологии для того, чтобы наш совместный российский продукт был конкурентоспособен не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», – заявил Денис Мантуров.
Глава Минпромторга привел пример, когда при подписании соглашения между Вьетнамом и ЕАЭС о зоне свободной торговли были прописаны отдельные условия по преференциям для российских производителей, в том числе и по автомобилям, где в число российских были включены автомобили марки Renault, выпускаемые заводом «Автофрамос» в Москве. В частности, автомобили «Рено Дастер» поставляются теперь не из Франции, а с места непосредственной сборки в России от производителя, который вложил инвестиции в нашу экономику, а значит, заинтересован в развитии здесь технологий и создании рабочих мест.
Министр также напомнил, что в обеспечение закона «О промышленной политике», который вступил в действие 1 июля 2015 года, Министерство промышленности и торговли РФ подготовило ряд проектов подзаконных актов, необходимых для запуска новых механизмов поддержки промышленности. Самые важные из них затрагивают интересы российского бизнеса и иностранных компаний, локализовавших производство в нашей стране, а также потенциальных инвесторов. Речь идет о специальном инвестиционном контракте и правилах определения отечественного продукта. Глава Минпромторга поблагодарил участников Стратсовета за активное участие в разработке этих новых инструментов.
Механизмы, предусмотренные законом «О промполитике», напрямую связаны с вопросами импортозамещения. По данным Минпромторга, в Фонде развития промышленности, деятельность которого предусмотрена этим законом, для льготного финансирования на сегодняшний день отобрано 16 импортозамещающих проектов на сумму около 4 млрд рублей.
Большой отклик среди иностранных членов совета получила тема развития международных партнерств в целях обеспечения импортозамещения через локализацию производства. В контексте Национальной технологической инициативы участники Стратсовета обсудили ход разработки «дорожных карт» «автонет» и «аэронет», а также планы создания отраслевых венчурных фондов в интересах развития новых производственных технологий. Ранее этот вопрос был поднят на прошлом заседании совета на «ИННОПРОМе-2014».
Министр подчеркнул, что Стратсовет приветствует разные форматы взаимодействия между Фондом развития промышленности, банками и институтами развития вплоть до создания отдельных специализированных отраслевых или целевых фондов.
Участники заседания обсудили новые подходы к работе с высокотехнологичными рынками, высказали предложения по мерам государственной поддержки перспективных отраслей и проектов, совершенствованию законодательства и норм регулирования промышленного сектора. В результате обсуждения были предложены конкретные решения о координации ресурсов в интересах приоритетных проектов.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2015».
Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании, вручил Национальную промышленную премию «Индустрия» и осмотрел экспозиции выставки.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2014 году она впервые прошла в статусе международной. В мероприятиях приняли участие более 600 компаний, порядка 150 делегаций более чем из 70 стран мира.
В 2015 году «ИННОПРОМ» впервые проходит при участии страны-партнёра – Китая и объединяет под своим брендом пять специализированных мероприятий с главной темой «Производственная эффективность». Среди основных мероприятий саммит «Российско-китайское деловое партнёрство: навстречу мировому прогрессу»; главная пленарная сессия «Производственная эффективность: пути достижения цели, опыт разных стран»; заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии; заседание Координационного совета по промышленности под председательством профильных министров России и Китая; международные бизнес-саммиты.
На стендах выставки представлены такие компании, как ОАО «НПК “Уралвагонзавод”», ЗАО «Трансмашхолдинг» / ООО «ПК “Транспортные системы”», ОАО «КамАЗ», Экспозиция Министерства промышленности и торговли РФ, группа «Синара» / ТМК, Национальная экспозиция КНР – страны-партнёра «ИННОПРОМ-2015», China High Speed Railway, группа компаний «Ренова», KUKA, госкорпорация «Ростех», холдинг «Швабе», ОАО «МРСК Урала», Сбербанк.
Также на «ИННОПРОМ-2015» проходит вручение Национальной промышленной премии «Индустрия», учреждённой в 2014 году Министерством промышленности и торговли России. Премия ежегодно присуждается компаниям за научно-технологические разработки и изобретения в сфере промышленного производства. С 2015 года премия «Индустрия» приобретает статус премии Правительства (Постановление Правительства от 26 июня 2015 года №637).
Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании.
Д.Медведев: Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья! Я рад в очередной раз побывать в Екатеринбурге, на нашей промышленной выставке «ИННОПРОМ». Она уже шестая, проходит в качестве одного из ключевых событий в жизни российской индустрии. В этом году в этом смысле всё правильно подготовлено. Здесь можно ознакомиться с новейшими образцами продукции, поучаствовать в деловой программе, послушать экспертов, практиков, лидеров бизнеса, обсудить организационные, технологические, кадровые тенденции, которые определяют будущее реального сектора.
В этом году у форума впервые появилась страна-партнёр – Китайская Народная Республика. С китайскими коллегами у российских промышленных компаний налажены широкие кооперационные связи в самых разных отраслях – машиностроении, металлургии, конечно, в энергетике, нефтегазовой промышленности, лёгкой промышленности. Уверен, что по итогам выставки эти контакты получат дополнительное развитие, тем более что наши китайские друзья прислали большую делегацию.
Уважаемые коллеги, для многих сегодня очевидно, что лидерство в современном мире невозможно без серьёзной промышленной базы, без современных фабрик, современных заводов, без передовых образовательных, инженерно-конструкторских, научных центров. Причём новая индустриализация тесно связана с повышением производственной эффективности – именно такая тема выбрана в качестве главной для нашего пленарного заседания.
Я не хотел бы предвосхищать итоги дискуссий. Отмечу, что это тема, безусловно, многогранная, она включает в себя вопросы глубокой автоматизации процессов производства и применения инженерного программного обеспечения, элементов промышленного интернета, конечно, минимизации ручного труда, внедрения современных систем качества, принципов бережливого производства, других самых разных передовых методов.
Сегодня активно разрабатываются принципиально новые вещества и материалы, машины, конечно, и оборудование, которые формируют облик индустрии будущего, и они позволяют снижать нагрузку на экологию, радикально сокращать энергопотребление. Трансформируются и сами рынки, отношения между заказчиками, производителями и потребителями продукции. Все они в той или иной степени вовлечены в этот процесс, и лидерства добивается тот, кто может наиболее целесообразным образом интегрировать все эти элементы в единое целое и тем самым существенно укрепить свои конкурентные позиции.
Несколько слов о том, как Россия подходит к развитию промышленного потенциала. Всем известно, что наша страна сегодня находится не в самой простой ситуации. Она определяется и нашими объективными трудностями, и субъективными тенденциями, когда ряд государств ставят, к сожалению, искусственные барьеры, которые затрудняют нашему бизнесу доступ к рынкам капитала, к современным технологиям и оборудованию. И мы особенно признательны тем нашим партнёрам, которые не изменили своих планов, продолжают инвестировать в действующие и новые проекты, готовы участвовать не только деньгами, но и знаниями, технологиями, компетенциями. Это говорит о том, что объединяющая повестка сохраняется, именно за такой повесткой будущее.
Россия со своей стороны своих целей, конечно, не меняет. Несколько позиций обозначу. Первое, на что хотел бы обратить внимание. Нам нужна современная диверсифицированная экономика, способная конкурировать на мировых рынках промышленной продукции. В том числе мы активно ведём интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (к нему недавно присоединились Армения с Киргизией), ведём работу с потенциальными партнёрами по созданию зон свободной торговли (вот совсем недавно такое первое соглашение было подписано с Социалистической Республикой Вьетнам), готовы сотрудничать со всеми заинтересованными государствами на взаимовыгодной основе. Кстати, таких обращений о сотрудничестве с Евразийским союзом в настоящий момент уже от других государств поступило более 40.
Второе. Мы стремимся сделать более гибкой и эффективной всю систему национального регулирования промышленности, реально мотивировать инвесторов на модернизацию существующих производств и строительство новых заводов, на создание новых производственных линий. С прошлого форума «ИННОПРОМ» у нас получила достаточно серьёзное развитие нормативная база. Хотел бы сказать об этом несколько слов. С 1 июля заработал закон о промышленной политике, который систематизирует элементы государственной поддержки, или инструменты поддержки, – это и субсидии, и налоговые преференции, и создание индустриальных парков, их правовой режим. Хотел бы также обратить внимание своих коллег по Правительству на то, что все подзаконные акты, которые необходимы для реализации этого закона, должны быть подготовлены в установленные сроки. Кстати, профильное ведомство – Министерство промышленности и торговли – впервые наделено полномочиями по реализации закона.
Одна из новаций законодательства – режим специального инвестиционного контракта. Инвестор принимает обязательства по созданию и модернизации производства, а государство гарантирует неизменность условий бизнеса на срок до 10 лет. Ещё один новый институт – это Фонд развития промышленности. В конце прошлого года ему уже были выделены первые средства – 20 млрд рублей из федерального бюджета. Они предназначены для того, чтобы промышленные предприятия получили льготные займы на реализацию проектов импортозамещения и внедрения наилучших доступных технологий. Я добавлю, что до 1 сентября Росстандарт также подготовит для публичного обсуждения 10 первоочередных справочников по таким технологиям. В них будут определены наиболее современные технологические процессы, технические способы и методы по отдельным направлениям. Их применение позволит повысить эффективность производств, улучшить экологические и экономические показатели предприятий.
Третье очень важное для нас сегодня направление – это импортозамещение. Вообще лучше говорить не об импортозамещении в таком, что ли, традиционном понимании, а просто нам нужно создавать собственную продукцию, которая будет конкурентна не только в России, но и на мировых рынках. Такие программы утверждены по 20 отраслям гражданской промышленности, в их рамках будет реализовано более 2 тыс. проектов. Я как-то говорил, что тотальное замещение всего импорта невозможно, да мы к этому и не стремимся. Тем не менее по тем направлениям, которые для нас очень важны, где мы критически зависим от импорта, мы, конечно, будем развивать собственный производственный потенциал. Это и станкостроение, и тяжёлое машиностроение, и нефтегазовое оборудование (тем более что целый ряд объектов этой промышленности попадает под санкции), и химическая промышленность, и фармацевтика, и медицинская техника. Но будем это делать по-умному: не будем просто закрывать импорт, только потому что что-то делаем у себя, будем принимать сбалансированные решения. При этом готовы сотрудничать с теми партнёрами, которые заинтересованы в реализации своего бизнеса в России.
Четвёртое. Нам необходимо внедрять современные форматы взаимодействия заказчиков и производителей промышленной продукции, поощрять горизонтальные связи. Например, крупные холдинги сегодня всё больше взаимодействуют с динамичными малыми и средними компаниями. Они могут образовывать такие технологические консорциумы, куда входят и индустриальный инвестор, и малые и средние предприятия, научные и образовательные учреждения.
Наконец, мы сегодня должны думать о контурах тех рынков, которые могут возникнуть, скажем, через 20 лет, на принципиально новых условиях. На это направлена наша национальная технологическая инициатива. При президиуме Совета по модернизации и инновационному развитию экономики образована специальная группа, которая должна рассмотреть первые «дорожные карты» по технологической инициативе.
И ещё. Большое значение имеет не только стимулирующая политика, хотя, конечно, она важна. Но очень важно для любого бизнеса рассказывать об историях успеха. В прошлом году мы впервые на площадке «ИННОПРОМа» вручали национальную премию «Индустрия», такая церемония у нас запланирована и в этот раз. И сегодня эта премия будет вручена. Давайте послушаем, кого в этом году планируется наградить.
TC Flexible Packaging Co., дочерняя компания японской Rengo Ltd., завершила сделку по приобретению 80% акций вьетнамской Tin Thanh Packing Joint Stock Company (BATICO), об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.
BATICO специализируется на выпуске эластичной упаковки, предприятие расположено в промышленной зоне вьетнамской провинции Лонган в 30 км к западу от Хошимина. Ежегодно на комбинате производится до 230 млн м2 упаковочной продукции для пищевых продуктов и потребительских товаров.

Типично по-американски
Лиана АЛАВЕРДОВА
Лиана Алавердова родилась в Баку, закончила исторический факультет АзГУ. Работала в Институте философии и права Академии наук Азербайджана. С 1993 года живет в США, работает в Бруклинской публичной библиотеке. Является автором поэтических сборников, эссе, статей, переводов с английского и азербайджанского языков, которые неоднократно публиковались в журналах, газетах и альманахах в Азербайджане, России и Соединенных Штатах.
Хоть и пестра современная Америка, но и в этой мешанине культур и языков есть устоявшиеся и легко узнаваемые привычки и черты. Когда мы говорим: «Это типично по-американски», то имеем в виду все что угодно, от безобидных привычек до устойчивых черт национального характера, от доминирующих убеждений до вкусовых пристрастий.
Когда-то существовал миф, что американский и русский национальные характеры схожи. Миф этот культивировался самими американцами. Помните Саманту Смит, написавшую письмо Андропову в разгар «холодной войны»? В своей книге «Путешествие в Советский Союз» милая девочка сформулировала это так: «Они такие же, как мы». Проведя более двадцати лет в США, я уверена, что это прекраснодушное видение и тогда, и теперь далеко от действительности. То, что все люди мира имеют сходные физиологические и психологические черты, еще не основание для отождествления неблизких культур.
Я не претендую на всеохватность, а пишу лишь о своем взгляде на абстрактного американца, которого так же невозможно встретить на своем пути, как среднестатистического русского. Впрочем... невозможное все же однажды удалось. В 2005 году на основании статистических данных и собственных теоретических выкладок Кевин О’Киф, автор книги «Средний американец. Удивительный поиск самого обычного гражданина страны» (Kevin O’Keefe, «The Average American. The Extraordinary Search for the Nation’s Most Ordinary Citizen»), сумел-таки найти «среднего американца» во плоти... неподалеку от своего родного города в штате Коннектикут. У «найденыша» присутствовали все 140 показателей, которыми, по мнению автора, должен обладать «средний американец». Уже тот факт, что в многомиллионной Америке нашелся лишь один субъект, отвечающий требованиям строгой статистики, говорит о том, что подобный подход является скорее забавным исключением в мире реальных индивидов. Не сомневаюсь, что при желании можно было бы сыскать подобный «показательный» экземпляр в любой стране мира. Однако, возвращаясь к реальности, замечу, что более продуктивным является не конструирование «выставочного представителя» того или иного общества, а выделение черт, которые бросаются в глаза иммигрантам и по сути являются типичными для культуры народа.
Начнем с рождения ребенка. Если не считать незапланированных младенцев, которые появляются у неразумных тинейджеров, все большее число американок решается на материнство, предварительно отучившись и став на ноги в финансовом смысле. Чем дольше оттягивается процесс приумножения семьи, тем с большей помпой обставляется ожидание долгожданного чада. В Америке популярен обычай baby shower, что в неуклюжем переводе означает «лялечный душ», когда подруги, родственники, коллеги и другие приглашаемые в дом лица осыпают беременную подарками для будущего младенца. У нас такой ритуал представить себе трудно из-за суеверия: боялись ведь даже заранее сообщать о беременности, не то чтобы закупать детские вещи и принимать подарки «впрок». Здесь же не успевает женщина забеременеть — сей радостный факт становится достоянием широкой общественности, а теперь, при существовании социальных сетей, аудитория может быть расширена до сотен знакомых и малознакомых людей.
У нас не принято устраивать всякие торжества и сразу после рождения ребенка, когда он еще не вполне окреп. Новорожденный и его мать в этот период жизни считаются наиболее уязвимыми, их здоровье тщательно оберегают, что не предполагает большого количества контактов с посторонними. В Америке при родах присутствуют, как правило, муж и мать, а то и другие родственники, и поглазеть на младенца пускают всех желающих, как будто не ведая о микробах. Американцы трубят во все трубы и звонят во все колокола, оповещая о радостном событии, не думая о «сглазах» и отметая страхи. Тут и надписи на машинах «Baby on board» («Младенец на борту»), и надувные шарики соответствующих полу ребенка цветов, развевающиеся на крыльце, и плакаты «It’s a boy!», «It’s a girl!»
Говорят, что ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек кровати. Когда он укладывается вдоль, уже поздно. Американцы воспитывают чувство собственного достоинства у своих детей едва ли не с колыбели. Американская мамаша предлагает своему младенцу право выбора в развлечениях, одежде, да в чем угодно, тогда как наша считает, что сама лучше знает, что надо ее ребенку. Моя дочь наблюдала сценку. В магазине игрушек два отца с малышами: наш эмигрант и американец. Эмигрант приказывает: «Завяжи шнурки!» Американец вопрошает своего малыша: «Милый, что бы ты хотел посмотреть?»
Большинство американских детей сызмальства воспитывается на идее приятия любых религий, национальностей, оттенков кожи и сексуальных ориентаций. Акцент, неправильные ударения, речевые ошибки, которых так стесняются эмигранты, для США настолько привычное дело, что раздражают они только наиболее «нервных» старожилов.
Учительница русского языка в американской частной школе попросила ученицу прочесть вслух какой-то текст. Девочка отказалась. Учительница назвала ее бесстыжей. Абсолютно непредставимо в устах американского педагога. Начать с того, что здесь в школах не заставляют читать вслух или отвечать урок перед классом (особенно тех учеников, у кого есть дефект речи, или тех, кто слишком сильно волнуется и не может справиться со своим волнением). Вызывают с места только тех, кто не имеет подобных комплексов, и то далеко не все учителя. Здесь не сообщают оценок во всеуслышание, и родители на родительском собрании сидят перед педагогом индивидуально, а не группой.
Кстати, когда-то я присутствовала на лекции, которую Евгений Евтушенко читал перед русскими студентами в Квинс-колледже. Два его поступка шли в разрез с этикетом, принятым в американских учебных заведениях: то, что он предложил студентам по очереди читать стихи вслух по книге, и то, что попросил студента сходить за чаем.
Но вернемся к учительнице русского языка. Вторая ее ошибка, с точки зрения американского воспитания: она приписала девочке качество, которое, кстати, никак не соответствовало ее проступку. У нас не редкость сказать ребенку: «плохая девочка», «плохой мальчик», даже «дурак». Американские родители (само собой разумеется, я имею в виду тех родителей, которые еще могут служить примером для подражания, а не «пещерных» жителей) обсуждают поведение, а не моральные качества ребенка. Американская поговорка гласит «Labeling is disabling», то есть навешивание ярлыка калечит, оно равнозначно постепенному превращению ребенка в морального инвалида, в неполноценное существо. Если вы по какому бы то ни было поводу внушаете ребенку, что он плохой, вы наносите удар по его достоинству, он может перестать чувствовать свою ценность и уважать себя. Он станет только хуже. О телесных наказаниях я вообще не говорю, это противозаконно в Америке, и родителей просто привлекут к ответственности, если о факте порки станет известно. Название книги Игоря Кона «Бить или не бить?» звучало бы абсурдно для американцев. Вопрос давно снят.
Американцы тоже сердятся на своих детей, но популярный подход заключается в том, что за свои промахи и ошибки наказывать себя должны сами дети. Типичный американец дает ребенку time out, чтобы он посидел и подумал о своем поведении, или отсылает его в свою комнату, лишая привычных развлечений. Когда сердятся на ребенка, зачастую называют его полным именем: «Мэри Анн Смит, ступай в свою комнату и никаких видеоигр на сегодня!» Или называют дочь «young lady», показывая тем самым крайнюю степень неудовольствия. Если же вина за какой-то инцидент лежит на взрослом, то ему следует признать свою вину. Бесчестность и обман считаются тяжким грехом, и многие родители уверены, что шпаргалки и подсказки на экзаменах — не безобидные шалости, а проступок, заслуживающий серьезного наказания.
Американцы обычно выдают детям allowance, что-то вроде пенсиона, определенную сумму в неделю, чтобы они умели распоряжаться деньгами и разумно их тратить. Три слова родители внедряют в сознание своих отпрысков с младенческих лет: «спасибо», «пожалуйста», «извините». Их усилия большей частью не пропадают втуне. Образованные и необразованные, черные и белые, американцы автоматически, легко и не задумываясь, произносят эти слова. Приветливость и благожелательность при встрече, пресловутая «американская улыбка» — результат того же воспитания.
Начнем со слова «спасибо». Вероятно, многие, когда смотрят церемонию награждения «Оскара», удивляются, с каким энтузиазмом американские кинозвезды благодарят все свое окружение за собственные успехи. Родители, жены и дети, коллеги по работе — все получают свою долю благодарностей. Искренно это или нет — дело совести кинозвезд, но выглядит такая признательность благородно и трогательно. Так же почти любая книга не обходится без списка тех, кто сподвиг автора на его труд и помог ему. Американцы не оставляют без внимания никакую услугу, никакой знак внимания, каким бы мелким он ни казался. После визита в гости — телефонный звонок или открытка с благодарностью хозяйке, по правилам, обязательны. Дверь тебе открыли или попридержали перед тобой — «спасибо» следует автоматически.
Но вот приходит время, и милый ребенок превращается в подростка, тинейджера. Когда-то я, по совету подруги, не без пользы прочла популярную книгу «Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls» («Возрождающаяся Офелия: как сберечь свое «я» у взрослеющих девочек») — о том, что происходит с девочками-подростками под влиянием американской массовой культуры. Никакие книги, однако, не в состоянии помочь, когда ваши дети внезапно, но неизбежно входят в штормовую зону — подростковый период. Тинейджеры — это родительское наказание, причем в этом случае почти нет разницы между недавними эмигрантами и коренными жителями страны. Грипп не делает различий между национальностями и расами, и тинейджерство, подобно тайфуну, проносится по прежде мирной жизни, чтобы вы еще больше ценили прекрасное прошлое, когда дети были маленькими и вы что-то значили в их глазах. Американские подростки полагают себя свободными людьми, игнорируя общепринятые модели поведения и культуру «взрослых», пока их не принудят обращать внимание на расхождение с нормами этикета. Подростки считают, что имеют право на неограниченную свободу. Им неведома поговорка «Знай край, да не падай», и они агрессивно реагируют на рамки, в которые их пытаются загнать. Американское общество весьма толерантно к свободе самовыражения и чудачествам поведения. Один из дельных советов, который я слышала, звучит очень по-американски: дать детям самим пожать то, что они посеяли, то есть прочувствовать последствия своего неправильного поведения. Но как же трудно следовать этому совету, когда мы только и желаем подстилать ковровые дорожки, чтобы детки наши не набили синяки и шишки!
Как они справляют праздники. Только в русских ресторанах дозволяется приносить выпивку с собой, и только наши люди приносят конвертики с деньгами в ресторан вместо подарка юбиляру. Американцы отмечают свои дни рождения по-другому. Если они идут в ресторан, они принимают в расчет то, насколько там хорошее обслуживание. Если американцы приобретают крупные вещи, то непременно проводят тщательное «расследование» по интернету, используя результаты опросов потребителей, чтобы покупать со знанием дела именно то, что действительно необходимо.
Принимая гостей у себя дома, американцы часто устраивают фуршет, без сидения за столом, без тостов, песен и танцев. Или идут в бар и платят за именинника и за себя. И не всегда дарят подарки. А если дарят, то уж не то, что полезно и нужно, а то, что индивидуально, редко и без чего вполне можно обойтись. Дарят вещи, имеющие символическое значение, отнюдь не шикарные в обыденном понимании. Подарки могут быть дорогими, но не «гламурными». Браслет в знак дружбы, например, не драгоценный, а простой. Когда я успешно сдала экзамен на гражданство, моя приятельница американка подарила мне жестяной патриотический флажок. Другая подруга американка подарила мне на день рождения майку с изображением Анны Ахматовой. Типичные американцы стараются делать «персонализированные» подарки. Они исходят из того, что у человека все необходимое для жизни есть, а подарить ему надо нечто специфическое (майку или кружку с любимым литературным персонажем), кухонную утварь с именными монограммами, дощечки с банальными либо смешными цитатами, подушки и коврики, воспевающие радости домашнего очага, безделушки, привезенные из путешествия, либо, повышая уровень утилитарности, билет на концерт или кружку пива в баре. Им и в голову не придет принести на день рождения деньги в конверте.
Или они устраивают сюрприз имениннику. Когда он приходит домой, усталый после работы, и включает свет, на него с воплем «Surprise!» набрасывается группа взбудораженных родственников и друзей. Насчет подарков существует обязательное правило: или развернуть их в присутствии дарителя и поблагодарить, или, если вы получили подарок по почте либо через третье лицо, отметиться в письменной форме, желательно открыткой или письмом, написанными от руки. Конечно, это страшно старомодно, но куда предпочтительнее, чем отписка электронной почтой. И уж вовсе неправильно смолчать, оставив в недоумении пославшего вам подарок человека: получили ли вы его и понравился ли он вам? Кстати, желательно отвечать благодарственной открыткой и на приглашение, скажем, на обед. Прекрасный обычай, но соблюдается он лишь теми, кто прошел соответствующую школу воспитания.
Вообще американцы относятся к празднованиям своих дат гораздо спокойнее, чем наши, и частенько вообще их не отмечают, а отправляются в путешествие. Американцы любят необычно, «тематически» справлять свадьбы, дни рождения и другие торжества. Свадьба у сына моей коллеги пришлась на хэллоуин, 31 октября — можете себе представить костюмы гостей и страшилки! Может все быть стилизовано под детский лагерь, куда невеста ходила ребенком. На одной такой свадьбе гости играли в детские игры, а прием проходил в кафе, напоминавшем кафе ее детства. Подруга моей дочери справляла шестнадцатилетие, так называемое торжество Sweet Sixteen, «на тему» Little Mermaid, Русалочки. Всем гостям подарили ракушки на память. Платье было в русалочьем стиле, декорации на столах — рыбы, морские коньки, ее лучшие подруги были одеты в соответствующие костюмы. В конце любого знаменательного торжества гостям обычно раздают party favors, сувениры на память.
Американская улыбка. Один из отличительных признаков американца — белозубая и широкая «американская улыбка». Принято улыбаться во время интервью при приеме на работу, начальству и коллегам, соседям и просто случайным знакомым, с которыми встретишься взглядом. Многих иностранцев американские улыбки раздражают. Они им представляются неискренними, искусственными. Михаил Жванецкий писал, что американцы улыбаются, как будто лампочка включилась в электросеть. Очень многие выходцы из Союза, в том числе иммигранты «со стажем», не видят смысла в том, чтобы постоянно улыбаться, тем более незнакомым людям.
Выпускник Гарвардского университета Франсис Тэйпон (Francis Tapon) оставил мир бизнеса, чтобы исполнить свою мечту: посетить все страны мира и написать о своих впечатлениях. Сейчас он путешествует по Африке и в своих заметках возражает угрюмым оппонентам: «Я предпочту ежедневную фальшивую улыбку хмурому лицу». Европейцы говорили нашему путешественнику: пусть мы холодны вначале, но потом, когда потеплеем, можем стать друзьями на всю жизнь. Представьте себе, американцы тоже имеют друзей на всю жизнь.
Американская улыбка не так фальшива, как представляется. Многие американцы настроены позитивно и склонны полагать, что незнакомец, встреченный ими, хороший человек и не причинит им зла. Улыбка при встрече взглядами — культурная норма, сигнал доброй воли, означающий, что вы благожелательно настроены, не причините зла и верите, что незнакомец тоже настроен благожелательно. Распространенность улыбки возрастает по мере удаления от больших городов. Нью-Йорк, например, считается более «холодным» городом. То ли потому, что в нем много иммигрантов, то ли потому, что он просто чересчур огромен, но тут улыбку не встретишь так же часто, как в американской «глубинке».
Средний американец. Раз уж мы заговорили о таких стереотипах, как американская улыбка, не могу не коснуться вопроса о «среднем американце». Что такое «средний американец» и существует ли он в реальности? Или это ходячий стереотип с набором характеристик: улыбчивый, но страшно деловой господин, с энтузиазмом берущийся за разрешение как своих личных вопросов в районе собственного огорода, так и мировых проблем? В США средний американец воспринимается как принципиально важное понятие, с которым надо считаться. Демократы и республиканцы во время избирательных кампаний апеллируют именно к среднестатистическому американцу. Под среднего американца выстраивают свои рекламные призывы американские корпорации, его интересы учитывают или, напротив, игнорируют местные телевидение и радио. Его называют «средний Джо» или «средняя Джейн», в зависимости от пола.
Казалось бы, задача вычислить и понять, что из себя представляет этот среднестатистический американец, как минимум довольно трудна, если вообще принципиально разрешима. Далеко не всегда можно провести статистический анализ, так как перепись населения не включает в себя все необходимые характеристики. 3ато существуют опросы общественного мнения и данные многочисленных исследований. В конце концов, средний американец — это не только результат вычислений, скажем, среднего дохода на душу населения, но и статистически наиболее вероятный типаж, наделенный тем, что характерно для большинства американцев, будь то привычки, вкусовые предпочтения, интересы, хобби и множество других показателей. Такие исследования проводятся в США регулярно с целью изучения структуры производства и рынков сбыта различных товаров и услуг. В результате вместо карикатуры, какие любят рисовать за пределами США, проявляется картина, претендующая на объективность.
Вот некоторые характеристики. Большинство американцев женятся хотя бы раз в жизни, и первый их брак чаще всего заканчивается разводом. Средний возраст вступающих в брак для мужчин 26.8, а для женщин — 25.1 лет. Разведенные чаще всего вступают в брак вторично. Средний работающий американец зарабатывает около 24.5 долларов в час (данные Bureau of Labor Statistics). 67% американцев — домовладельцы, проживающие в домах не более чем с тремя спальнями. Основная часть американцев принадлежит к среднему классу, во всяком случае, считает, что к нему принадлежит, даже если доход не дотягивает до среднего. Кстати, 55% американцев думают, что они умнее, чем «средний американец». Среднему американцу сегодня 37 лет. Курят только 22% американцев. Самая распространенная для этой категории американцев
религия — христианство.
Сами коренные американцы зачастую понятия не имеют, кто мог бы быть олицетворением большинства их соотечественников. Есть исключения, конечно. К ним принадлежит уже упомянутый Кевин О’Киф. Он путешествовал по всей стране, встречался с людьми, пытаясь выяснить, каковы наиболее существенные черты облика искомого героя, и в общей сложности принял во внимание 140 показателей.
Где живет большинство американцев? В городах? А вот и не угадали. Большинство американцев живет в пригородах, правда, в урбанизированных пригородах.
Перечислю еще несколько характеристик среднего американца, учтенных О’Кифом. Он должен закончить среднюю школу, проживать в одном и том же доме не менее пяти лет и в том же штате, где родился. Он должен работать, быть американским гражданином, верить в то, что семья очень важна, быть женатым и иметь как минимум одного ребенка. Так как ни одна национальность в США не составляет большинства, критерий национальности не важен. Большинство «средних американцев» живут в домах, принадлежащих одному из членов семьи, семья составляет в среднем не более четырех человек. Дом для большинства — самое крупное капиталовложение в жизни. Дом «среднего Джо» будет стоить от 100 000 долларов до 300 000 долларов. Вокруг дома — от одного до двух акров земли и обязательно лужайка. Находиться этот дом будет не дальше трех миль от ближайшей закусочной McDonald’s и в двадцати минутах езды от магазина Walmart. «Средний Джо» водит автомобиль и всегда пристегивает ремень безопасности. Дома у него есть какое-нибудь домашнее животное, причем не обязательно кошка или собака. Ложится спать он до полуночи. «Средний Джо» поддерживает право на аборт, но против абортов в своей семье. Считает себя счастливым и уверен, что счастья на деньги не купишь.
Он умеет стрелять из ружья, поддерживает право носить оружие при условии, что владельцы оружия зарегистрированы. Играет в лотерею хотя бы раз в году. В его семье по крайней мере у одного человека есть хобби. Он ежегодно жертвует на благотворительность и работает как волонтер. Большую часть дня проводит в помещении, хотя не менее одного раза в неделю дает себе какую-нибудь физическую нагрузку. Весит от 135 до 205 фунтов (то есть от 61 до 92 кг). Пьет кофе и содовую, ест арахисовое масло, никогда не употреблял наркотиков. Хоть раз в жизни он делился своими проблемами с психологом. Поддерживает американскую армию, хотя считает войны во Вьетнаме и Ираке ошибкой. Носит очки, имеет дома стереопроигрыватель, цветной телевизор с видеопроигрывателем, посудомоечную машину и стиральную машину с сушилкой. Не курит, пьет иногда, нерегулярно. Список можно было бы и продолжить, но не многовато ли статистики?
Средний американец, однако, всего лишь пустая оболочка, где такие характеристики, как доход, возраст, мобильность, привычки и многие другие показатели, хотя и представляют интерес, но далеко не исчерпывают содержания, скрывающегося за скорлупой ореха, вернее, под черепной коробкой среднего американца. Чем живет он, каковы его взгляды на жизнь, моральные ценности?
Базовые ценности. Социолог Робин Мэрфи Уильямс предложил ряд базовых ценностей, которые, по его мнению, укоренены в национальной психике и разделяются большинством американцев. Что представляют из себя эти ценности? Изложу в произвольном порядке.
В первую очередь американцы ценят достижения и успех, причем успех заслуженный, обретенный не любой ценой, не окольными путями, через знакомства, связи, наследуемое богатство, а как результат собственной упорной деятельности. Не любят нытиков, тех, кто сваливает неудачи на внешние обстоятельства и предпочитает надеяться на случай. Умный человек, не стремящийся к успеху, для американцев почти оксюморон. Другое дело, что они разносят понятия известности и успеха. В 1998 году опросы Louis Harris выясняли у американцев, хотят ли они быть знаменитыми, прославиться (славу определяли как «быть популярным, широко известным и признанным за достижения, деятельность, способности, экспертизу и мнения»), и 69% сказали «нет». Представление, насаждаемое массовой культурой, будто все в Америке одержимы желанием прославиться, не соответствуют действительности. В 2002 году тинейджеров попросили назвать своих кумиров, и, согласно опросу Гэллопа, только 25% выбрали артистов, известных людей или спортсменов.
Деятельность и труд, принцип «делу время, потехе час» до сих пор исповедуется многими. Американцы в массе своей трудятся истово и неутомимо. Workaholic (трудоголик) — широко распространенное явление в Америке. И если раньше основные тяготы работы ложились на плечи мужчин, то теперь, уже давно, американские женщины разделяют трудовое бремя в семье, а то и пашут в одиночку. Многие женщины не мыслят себе радости жизни без работы, ориентированы на успех и вкалывают так, что и времени на личную жизнь почти не остается. Выражение career woman я узнала только в Америке. Американцы работают больше (если исчислять часами в неделю), чем французы и немцы, но меньше, чем корейцы или сингапурцы (Business Insider, 2013), в среднем — 38 часов. К сожалению, американское правительство годами насаждает иждивенческую психологию, «борясь с бедностью», а в результате этой «борьбы» количество бедных не снижается, зато зависимость от государственной помощи становится все крепче.
Нерасторжимо связан с упомянутыми моральными ценностями и американский индивидуализм. Как уже было сказано, американцы традиционно ценят успех, являющийся следствием индивидуальных усилий и инициативы. Опора на самого себя, свой вкус и предпочтения — этим духом проникаются с детства. Родители, как правило, прислушиваются к предпочтениям детей, а не навязывают им свои взгляды. Но индивидуализм имеет и свою оборотную сторону — одиночество. Чувство одиночества вполне субъективно: можно остро ощущать одиночество и в кругу семьи. Одиночество усугубляется и зависимостью от электронных игрушек, gadgets, социальных сетей, которые, при всех их преимуществах, все же являются суррогатами живого общения. Как результат — страдают семейные ценности. В 2012 году 27% всех домашних хозяйств в США состояли из одного человека. В 2013 году неженатыми были 44.1 % жителей США старше 18 лет. Родители и дети часто живут далеко друг от друга и видятся только по праздникам. Родители стараются не вмешиваться в жизнь детей, а дети яростно обороняют границы своей независимости.
Понятие privacy — одно из понятий, труднее всего усваиваемых нашими иммигрантами. Тем более, что оно тесно связано с представлениями о дружбе и близости, которые не вполне совпадают у разных этносов, включая русских и американцев. Насколько я понимаю, прямого перевода этого слова на русский не существует. «Уединение или уединенность»? Не совсем то... Более близко стоит по смыслу слово «невмешательство», но и оно неточно передает понятие, весьма существенное для американской культуры. Я бы перевела это слово как принцип невторжения в частную жизнь, право на принадлежащие исключительно их владельцу личное пространство и время, на которые никто не имеет права посягнуть! Очередь в аптеке или на почте не дышит друг другу в затылок, а позволяет каждому иметь возможность переговорить с работником так, чтобы его не слышали окружающие. Если один человек ненароком нарушает персональное пространство другого, проходя к выходу в автобусе или в любой толпе, извинение слетает с его уст автоматически. Если вы подойдете к кому-то слишком близко и при этом не извинитесь, на вас посмотрят осуждающе. И будут правы!
Нашим соотечественникам нелегко дается понимание того, что нельзя позвонить знакомым до 10 утра или после 9 вечера, потому что вы можете их потревожить. Американцы в этом случае не церемонятся и прямо говорят, если по той или иной причине им неудобно с вами разговаривать. Уважение к privacy для американцев превыше всего.
Один из коренных принципов privacy — не задавать лишних вопросов, не стараться проникнуть в чью-то частную жизнь, пусть даже с самыми лучшими намерениями. Например, беседую я со своим коллегой американцем. Он мне жалуется на здоровье: разорванный мениск в колене, врач не советует делать операцию. Я немедля делюсь семейным опытом: моему мужу сделали операцию одновременно на обоих коленях и (о ужас!) рекомендую моему коллеге последовать его примеру. Это явно превышает допустимый уровень участия с моей стороны, и я почти мгновенно понимаю, что сказала лишнее, но слово не воробей. Мой коллега мягко повторяет, что ему врач операцию делать не советует, и тут, по законам здешнего этикета, мне следует извиниться и заткнуться, что я и проделываю со смущением.
В публичной библиотеке, например, privacy неукоснительно соблюдается. После того как посетитель воспользуется компьютером, вся информация стирается, и никто не может получить к ней доступ. А после возврата книг читателем в компьютерной системе не будет сохранена информация о том, что он читал. В Бруклинской библиотеке, где я работаю, ввели новый каталог, который позволяет читателям сохранять в памяти своего персонального файла список прочитанных книг. Но это делается сугубо добровольно, и никто, кроме самого читателя, не будет иметь доступа к этой информации.
Открытость — только добровольная. Сказанное отнюдь не означает, что американцы совершенно закрыты для общения. Они открываются настолько, насколько хотят открыться, и форсировать этот процесс ни в коем случае нельзя. Не рекомендуется выуживать личную информацию, забрасывать вопросами, что называется «лезть в душу». Как нигде здесь уместно следовать максиме «Не задавайте вопросов — не услышите лжи». Но ложь — не самое страшное. Вас сочтут nosy, sneaky, то есть сующим нос не в свои дела, пронырой. Составить столь нелестное мнение о себе — не слишком ли высокая цена за попытку удовлетворить любопытство?
С другой стороны, американцы не любят и слишком закрытых людей, тех, кто категорически не делится никакими сведениями ни о себе, ни о своей семье. Дело в тонком балансе, который соблюдать ох как трудно! По себе знаю: то лишнее скажу, то не скажу того, что надо. Как говорится, век живи — век учись... Интерес к ближнему поощряется, но проявлять его нужно в очень деликатной форме, а то ближний может отдалиться. Спросите, есть ли у кого-то дети — и нечаянно наступите на больную мозоль. Интересоваться семейным положением тоже может быть чревато: а что, если тот, кого вы спрашиваете, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию? Открытость приветствуется, но только добровольная. И — обоюдная. Как говорится, не спрашиваете — не отвечаем!
В одной связке с индивидуализмом идет свобода. В первую очередь, конечно, свобода, связанная с правом на выбор, но не только. Имеются в виду и гражданские свободы, и свободы в основании собственного бизнеса. Хотя очень многое в стране делается в помощь малому бизнесу, бюрократические препоны создали в последнее время менее свободную атмосферу для бизнеса, чем ранее. В результате США не входят сейчас в десятку самых свободных для бизнеса стран (отдельное спасибо нынешнему президенту и его команде!). Зато туда вошли Гонконг, Сингапур, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия, Канада, Чили, Мавритания, Ирландия и Дания. Это не касается свободы индивидуального выбора, будь то выбор одежды, еды, прически, стиля поведения или карьеры, обучения и т.д. В книге «Парадокc выбора» профессор социологии Барри Шварц писал: «Когда у людей нет выбора, жизнь почти невыносима. С ростом возможностей выбора, как это существует в нашей культуре потребления, автономия, контроль и освобождение, приносящие это разнообразие, являются мощными и позитивными. Но с возрастанием вариантов выбора негативные стороны усиливаются до такой степени, что мы становимся перегружены ими. В этот момент выбор уже не освобождает, а ослабляет». (Перевод мой. — Л.А.).
Практичность. Очень важны для американцев эффективность и производительность, практичность. Это народ, который не терпит долгих проволочек и любит работать быстро, применяя инновационные решения, преобразуя идеи в практические дела. Ноу-хау американского бизнеса — важнейшие наработки, которые неотделимы от американской культуры. Когда я закончила учиться на степень магистра в библиотечном деле, то приняла участие в церемонии окончания колледжа. К тому времени я только три года прожила в Америке, и меня, помнится, поразила четкая организация этой церемонии. Толпы выпускников, их родственников и друзей, и при всем при том — никакой давки, неразберихи, все продумано, как оркестровая партитура. Тщательная подготовка любого мероприятия и начинания — норма, а не исключение в Америке. Плохо ли, хорошо ли, но даже такая, казалось бы, по природе консервативная организация, как библиотека, и та постоянно что-то меняет, внедряет новые модели обслуживания, новые технологии. То вводится система автоматического приема книг, то к этому прибавляется и сдача книг с помощью автоматов. Еще недавно мы выдавали читателям только книги и диски, потом — электронные книги, а теперь уже выдаем на дом пластины Google Nexus, и читатели пользуются в библиотеке переносными ноутбуками.
Америка, безусловно, поклоняется научно-техническому прогрессу, а это, в свою очередь, сопровождается все возрастающим уровнем экологического сознания. Как ни крути, Америка — локомотив прогресса. Продвижение вперед по тернистой дороге прогресса ускоряется заинтересованностью частных бизнесов в получении прибыли. Побочный продукт этой корыстной деятельности — все более широко удовлетворяемые потребности всех, стремящихся к материальному комфорту. Мы жили в стране под лозунгом «Все во имя человека, для блага человека!», когда в реальности советский прогресс подразумевал принесение в жертву интересов людей интересам государства. Приехав в Америку, мы обнаружили, что не существует практически никаких бытовых удобств, которые не были бы уже придуманы и внедрены здесь.
Важнейший элемент американского сознания — равенство. Идея равенства лежит в основе американского общества с самого его зарождения. Свобода вероисповедания с годами трактовалась все более расширительно, и теперь я часто встречаю в родном Бруклине мусульманок в паранджах, из которых проглядывают только щелочки глаз. Расовое равенство, за которое пришлось побороться, в нынешние времена разыгрывается как игральная карта демагогами всех мастей. Они ухватываются за любой случай, когда белый убивает черного (когда происходит наоборот, это не так интересно, так же, как и политически невыгодно обращать внимание на те примеры, когда чернокожие убивают своих же собратьев, что в 90% случаев и происходит). Вряд ли кто-нибудь станет возражать против идеи равенства возможностей. Однако когда пытаются распространить эту идею на сферу экономики, это чревато последствиями. Осуществи уравниловку — и Америка сползет к уровню стран третьего мира. Но не будем о грустном.
В бытовом плане американцы весьма просты и часто относятся к окружающим без всякого чувства превосходства. Во всяком случае, признак хорошего тона — вести себя в обществе именно так. Буквально с первых минут знакомства они предлагают обращаться к ним по имени и проявляют прочие признаки простоты в общении.
Если в 1960-х годах социолог Р.Уилльям писал о расизме как укорененной в национальной психике идее (язык не поворачивается назвать ее словом «ценность»), то сегодняшняя Америка разительно изменилась. Согласно опросу Гэллопа, в 1948 году только 4% американцев одобряли браки между белыми и черными. В 2002 году — 65%, в 2003 году — 72%. На смену узаконенному расизму за какие-то 50 лет пришли мультикультурализм и толерантность. Религиозная терпимость, которая всегда была присуща Новому Свету, распространилась на все расы и культуры, включила и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Причем мультикультурализм и терпимость к разным стилям жизни насаждается американской культурной и политической элитой, государственными структурами, это идея, идущая не столько снизу, сколько сверху. Под ее влиянием меняется лицо Америки, общественное сознание. Многие штаты узаконили браки между гомосексуалистами. Что станет следующим шагом? Узаконенная полигамия? Не буду загадывать...
Еще одна идея, которую не выкорчевать из массового сознания (да и не надо!) — идея демократии. Не случайно Джорджу Бушу так понравилась книга Натана Щаранского «В защиту демократии». Буш по наивности полагал, что демократически измененный Ближний Восток — это благо для мира и для Америки. В реальности демократическим путем в Египте, например, пришла к власти религиозно-политическая ассоциация «Братья-мусульмане», и потребовалось вмешательство военных, чтобы положить конец этой власти. В Ираке демократически избранный шиитский руководитель прибрал к рукам все органы власти и вытеснил суннитов в оппозицию. В результате мы имеем совершенно отмороженных фанатиков ИГИЛа, рядом с которыми померкла угроза Аль-Каиды.
Важнейшей составляющей американского «коллективного сознательного» (если позволите подобное выражение в противовес юнговскому «коллективному бессознательному») является гуманизм. Слишком высокое слово в применении к практичным, деловым, одержимым желанием заработать и преуспеть янки? Настаиваю, что гуманизм не на словах, а на деле — одна из коренных, основополагающих характеристик американского морального сознания. В 2003 году, согласно опросам Гэллопа, 82% американцев пожертвовали деньги религиозным и другим благотворительным организациям, а 59% работали там волонтерами. По данным журнала «Philantropy», пожертвования среднего американца более чем в семь раз превышают пожертвования среднего немца. Думаете, прижимистые и бережливые немцы, что с ними сравнивать? Но по данным за 1995 год, средний американец пожертвовал в три с половиной раза больше, чем француз, и в четырнадцать раз больше, чем итальянец. Дело не только в богатстве страны. Американцы гораздо чаще, чем жители других развитых стран, жертвуют не только деньги, но и время, помогая общественным организациям, школам, религиозным учреждениям. Вопреки мнению, что миллиардеры и корпорации могут себе позволить жертвовать деньги и жертвуют их больше остальных, на самом деле большинство пожертвований приходит от частных лиц, почти в три раза больше, чем от корпораций, фондов и других учреждений.
В 2004 году Гэллоп спросил тинейджеров, какова их цель в жизни. Превалировали ответы: «внести изменения в жизнь и помочь людям» или «быть хорошим христианином». Таких ответов было в 12 раз (!) больше, чем «быть успешным или знаменитым». В 1998 году старшеклассники школы Wareham, Massachusetts, открыли Зал Славы Обычных Героев. В него вошли, например, пенсионер, бывший уборщик Дин Пина, отдавший свое место в очереди по пересадке сердца шестнадцатилетней девочке, и некто Кевин Донахью, который переселился к своей прежней жене и стал заботиться о ней после того, как у нее был диагностирован рак. Дело не в том, что в Америке есть добрые люди. Они есть везде, во всем мире. Дело в том, что идеал добрых дел здесь культивируется, пропагандируется, прививается с детства в семье. Моя подруга Мэри Лу, католичка, приучала дочерей помогать бедным и участвовать в разного рода благотворительных акциях. Совсем еще детьми они помогали в бесплатной столовой для бедных. И такое поведение воспринимается как норма, а не как подвиг. Американцы в целом отзывчивы и великодушны. Правда, многие убеждены, что для того, чтобы по-настоящему помочь человеку, надо не рыбу наловить для него, а дать ему в руки удочку, чтобы он сам мог ее наловить.
Да, американское законодательство поощряет благотворительность, и те, кто жертвуют деньги, получают налоговые послабления. Многие корпорации и компании используют это преимущество. Однако треть налогоплательщиков не указывают в своей налоговой декларации сведений о пожертвованиях. В докладе влиятельной американской консервативной организации American Enterprise Institute сказано, что практически ни для кого налоговые послабления не являются главным стимулом для пожертвований.
Уровень религиозности влияет на уровень благотворительности. По данным того же института, религиозные люди жертвуют в четыре раза больше денег и в два раза больше личного времени на волонтерство, чем нерелигиозные. Вопреки расхожему мнению, религиозные люди жертвуют больше нерелигиозных не только на свои церкви и синагоги (что естественно), но и на другие общественные и индивидуальные нужды. В 2000 г. консервативные семьи пожертвовали на 30% больше либеральных, хотя либеральные имели на 6% больше дохода. Либералы будут сокрушаться, что правительство выделяет недостаточно денег на пособия, но деньги бездомному скорее пожертвуют не они, а консерваторы. Что ж, вера в большое доброе правительство — не только социализма наследие, но и удел тех, кто не прошел этого урока истории...
Fair Play. Ко всем перечисленным ценностям я бы добавила веру в честность, в правила, в то, что здесь называют fair play (честной игрой). Громкие политические скандалы и распущенность голливудских звезд не должны затмевать того факта, что большинству людей глубоко отвратительны неприглядные выходки знаменитостей, и на бытовом уровне честность ценится высоко. Кто соврет при приеме на работу, тот крепко рискует, если неожиданная проверка выведет обман на чистую воду. Вылетит с работы вмиг! Шпаргалка или списывание — скандал на всю школу. Американцы верят в эффективность открытых каналов коммуникации между людьми. Если их что-то не устраивает в поведении человека, предпочитают сказать ему об этом открыто, а не копить раздражение. Например, если кому-то не понравится анекдот с расистским душком, то вполне вероятно, что он об этом либо скажет шутнику, либо даже заявит по инстанциям.
Бытовые привычки. Вначале немного о еде. Образованные американцы более озабочены тем, насколько здоровую пищу они едят. Типично по-американски включить в обед белковое, углеводное и овощное блюдо. Нарезают огурцы в салат кружочками, а салат подают в огромной лохани, берут двумя специальными большими вилками или ложками, чтобы можно было его перемешивать, подбрасывая. И жаря яичницу, ее подбрасывают, чтобы перевернуть. Чеснок нарезают огромным ножом, очень быстро. Почти никогда не едят супов. А если едят, то это для них особая трапеза. Не принят обед из трех-четырех блюд. На одной тарелке могут лежать одновременно салат, рыба, картошка. Типичным для американцев считается сначала все нарезать на тарелке, а потом уже есть. Только американцам приходит в голову намазывать на ломтики яблока, груши, сельдерея… арахисовое масло. Только они делают треугольные бутерброды, а дети запивают обед молоком. Иммигранты даже не подумают, что можно заправлять яичницу кетчупом или острым соусом, а также есть стейк с кетчупом. Очень характерно для американцев поглощать сосиски с пивом на спортивных матчах, жевать попкорн в кино, таскать с собой всюду бутылочки с водой. Спиртное пьют в основном русские, ирландцы и итальянцы, американцы в винах не слишком разбираются. Когда мы были у друзей в штате Миссисипи, то на обеде, где собралась родня, не было ни одной бутылки спиртного, даже пива. Мужчины там если и пьют, то очень немного, в мужской компании, на рыбалке и/или охоте, а на алкоголь в обществе американцы-протестанты взирают неодобрительно.
Американцы легко выбрасывают еду и ненужные вещи.
Несколько слов об одежде. Приехав сюда, я поразилась равнодушному отношению многих к тому, что на них надето. Помню, как я была удивлена, когда увидела молодую женщину в длинной юбке и кроссовках, для меня это было настолько же стилистически несовместимо, насколько носительнице сей экипировки было наплевать на внешнее впечатление от ее облика. Таков подход к одежде многих американцев, за исключением тех, кто работает и вынужден одеваться в соответствии с dress-code, или тех, кто неравнодушен к собственной внешности, есть и такие. Многие американки почти не прибегают к косметике. Могут весь день провести в постели, если устали. Чаще всего они не переодеваются, когда приходят домой с работы. Душ принимают утром, перед работой, а не вечером. Пользуются дезодорантами. Смертный грех — телесный запах или запах изо рта. Равно неприлично ходить с металлом или зияющими дырами во рту.
Можно перечислить еще мелочи, вроде того, что американцы зажимают нос, когда ныряют, или считают, не загибая, а разгибая пальцы, но пора остановиться. Облизывают пальцы во время еды — пренеприятная привычка. Для американца не редкость бухнуться в одежде и обуви на постель. Так что в их гигиенических навыках есть свои причуды. Американцы наивно полагаются на экспертов в любых вопросах, причем это свойственно частным лицам, компаниям и даже самим экспертам. За советом при решении любого вопроса следует обращаться к наставнику, будь то психотерапевт, финансовый консультант, автор популярной книги на тему успеха и преуспеяния, организатор свадебных торжеств и пр. Однажды посетительница библиотеки попросила меня найти книгу по… завязыванию шнурков, а другая — на тему, как приучить детей отказаться от памперсов в пользу горшка.
Вот и судите сами: похожи мы на них или нет?
Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2015, №7
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО признал мировую ценность «Ландшафтов Даурии» (Россия, Монголия)
Международные эксперты Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО из Алжира, Вьетнама, Казахстана, Катара, Индии, Сербии, Турции, Японии и других стран в ходе 39-й сессии Комитета при рассмотрении вопроса о внесении трансграничного российско-монгольского резервата «Ландшафты Даурии» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, признали мировую ценность данного объекта.
Об этом главе Минприроды России Сергею Донскому сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минприроды России Ирина Фоминых, принявшая участие в 39-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (Бонн, 28 июня - 8 июля 2015 г.).
По ее словам, специалисты отметили комплекс мер государственной поддержки и регулирования, принимаемых Россией и Монголией для подготовки совместной номинации. Также высоко оценен уровень двустороннего взаимодействия между заинтересованными государственными и неправительственными организациями двух стран. Особо отмечено успешное взаимодействие в рамках международного заповедника «Даурия», российско-монгольская часть которого и представлена в границах номинации.
«Комитет принял максимально благоприятное решение в отношении представленной номинации и предоставил России и Монголии право доработать представленное досье и внести его на повторное рассмотрение Комитета всемирного наследия уже на следующей сессии в 2016 г.», - подчеркнула И. Фоминых.
Как отметил С.Донской: «Россия на протяжении многих лет добровольно делает щедрые вклады в международную систему природных территорий. Не преобразованные хозяйственной деятельностью огромные площади российских объектов Всемирного природного наследия являются бесценным стратегическим резервом планеты». По его словам, Россия активизирует работы по популяризации российских объектов Всемирного природного наследия, чтобы в полной мере использовать их огромный потенциал.
Ошибка доктора Кудрина
06.07.2015
Алексей Кудрин считает, что рост денежной массы в России приводит к ускорению инфляции. Факты говорят о другом: рост денежной массы вместо инфляции приводит к … росту ВВП. // Сергей Блинов, «Expert Online», 29 апреля 2015 года
ocenki060715_180x160.jpg
Обеспечивая реальный прирост денежной массы, можно добиться темпов роста ВВП до 10% в год и более. Именно так было, например, в 2000-м году, когда рост ВВП в России был выше, чем даже в Китае. А для борьбы с инфляцией необходимо применять не сокращение денежной массы, а очень эффективный инструмент – создание «длинных денег».
Инфляция из-за дорогой нефти или горе от ума
Сразу два эксперта в марте 2015 года высказались о том, что в 2000-е годы достижению низкой инфляции мешали нефтяные доходы. Один из них Алексей Кудрин, экс-министр финансов и экс-вице-премьер. 18 марта в ходе пресс-завтрака в рамках Недели российского бизнеса РСПП он сказал, что «обеспечить рост инфляции за год на уровне 3-4% несложно при падении нефтегазовых доходов, которые являются драйвером спроса в экономике» (Кудрин, 2015).
Цитата по сообщению ТАСС: «У нас инфляция все-таки будет исторически низкой когда-то — 3-4%. Вообще 3-4% обеспечить не так сложно. Это не обеспечивалось раньше, потому что у нас был напор нефтегазовых доходов, которые хотели потратить. ЦБ выкупал их в резервы. Весь график роста золотовалютных резервов означает одновременно увеличение денежной базы в экономике и соответственно денежной массы». По словам Кудрина, в определенные годы прирост денежной массы был на уровне 50%. "Соответственно, увеличивался спрос, не позволяя снижать инфляцию", - сказал экс-министр финансов (Кудрин, 2015). Обратите внимание, по мнению Кудрина проблемы с инфляцией – от растущего спроса.
Встречалась идея о влиянии дополнительной денежной эмиссии на инфляцию и ранее, в некоторых статьях Кудрина, датированных еще 2006 годом. Цитируем: «Проведение экономической политики в странах, в значительной степени зависящих от экспорта нефти и других невозобновляемых ресурсов, осложняется рядом принципиальных проблем. Во-первых, в этих странах возникают эффекты, связанные с так называемой "голландской болезнью". Большой профицит по счету текущих операций платежного баланса имеет своим следствием повышение номинального курса национальных валют, в результате чего снижается конкурентоспособность экономики. Попытки замедлить темпы роста этого курса приводят к увеличению объема золотовалютных резервов и, следовательно, к дополнительной денежной эмиссии, намного превышающей потребности экономики. В результате денежно-кредитная система становится разбалансированной, ускоряется инфляция, растет реальный эффективный курс национальной валюты» (Кудрин, 2006)
Другой эксперт, который высказался на эту же тему, это Дмитрий Тулин, новый заместитель главы Центрального банка России, сменивший Ксению Юдаеву в качестве куратора денежно-кредитной политики ЦБ. В своем интервью агентству Рейтер 5 марта, Тулин практически повторил мысль Кудрина, сказав, что в эру притока нефтедолларов (цитата) «рост резервов — через покупку валюты Центробанком — был основным источником роста денежного предложения. И мы страдали из-за того, что оно [предложение денег] росло более высокими темпами, чем хотелось, и темпы инфляции были выше, чем хотелось бы, [имела место] так называемая голландская болезнь» (Тулин, 2015).
Давайте назовём «гипотезой А» предположение Кудрина (и Тулина) о наличии зависимости инфляции в России от роста денежной массы. Логическая взаимосвязь явлений, изложенная в этой гипотезе, отражена в таблице 1.
Первые четыре звена рассуждений никаких сомнений не вызывают «укрепление рубля – накопление резервов – рост денежной базы – рост денежной массы» - всё это очевидно подтверждается фактами. Лишь итоговый вывод о росте инфляции немного «хромает». Инфляция все-таки снизилась. Кроме того, в марте 2007 года она опускалась до 7,5% в годовом выражении. То есть тезис Алексея Кудрина об «ускорении» инфляции несколько сомнителен. Но надо признать, что инфляция большую часть времени оставалась выше 10% уровня.
Из «гипотезы А» следует парадоксальный вывод: низкие цены на нефть хороши для России! Как минимум, они хороши тем, что помогут добиться низких значений инфляции. Это прямо следует из высказывания Кудрина: «Обеспечить 3-4-процентный рост инфляции за год несложно при падении нефтегазовых доходов, которые являются драйвером спроса [читай, - инфляции] в экономике».
Неужели такое «несчастье», как падение цен на нефть, влечет за собой «счастье» низкой инфляции, как в народном выражении «не было бы счастья, да несчастье помогло»? Интуиция подсказывает: что-то здесь не так. Чтобы разобраться в этом парадоксе, необходимо проверить его «первоисточник», то есть «гипотезу А».
Гипотеза Кудрина не подтверждается
Несложная проверка показывает, что в логических рассуждениях Кудрина неверно лишь последнее (но самое важное) положение, которое говорит о том, что из-за роста денежной массы ускоряется инфляция.
Посмотрим данные о приросте таких показателей, как денежная масса, денежная база и инфляция (график 1)
График 1. По мнению Алексея Кудрина, инфляция в России не опускалась до 3-4% в 2000-2007 годах из-за того, что прирост денежной массы был очень большим и «достигал в определенные годы 50%» из-за «напора нефтегазовых доходов».
Подобные же данные (за 1999-2005 годы) приводит в своей статье Алексей Кудрин (2006, табл.1).
График подтверждает лишь слова Кудрина о том, что прирост денежной массы в отдельные годы был на уровне 50% (это 1999, 2000, 2003, 2006 годы). Однако эти данные не подтверждают гипотезу Кудрина, а противоречат ей. Например, ускорение до 50% прироста денежной массы в 2003 году привело не к ускорению инфляции, а к её снижению. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2006 году. Таким образом возникают серьезные сомнения в справедливости «гипотезы А»:
Во-первых, в отдельные периоды особо бурного роста денежной массы (1999-2000; 2001-2003; 2004-2006), инфляция (вопреки логике «гипотезы А») снижалась быстрее обычного.
Во-вторых, и это главный вопрос, почему при таких высоких темпах прироста денежной базы и денежной массы (от 22% до 70%) инфляция не разгонялась до более высоких значений, не стремилась к темпам роста денежной массы, а наоборот, неуклонно снижалась практически всё время?
Если посмотреть данные за более длительный период времени, 1997-2014 годы (график 2), то можно разглядеть и другие явления, полностью противоречащие логике Кудрина, например, всплески инфляции на фоне сокращения денежного предложения.
График 2. Вопреки логике Кудрина, рост инфляции в 1998, 2008, 2014 годах происходил на фоне снижения темпов роста денежного предложения в предыдущие годы. И наоборот, наращивание денежного предложения в периоды 1998-2000, 2008-2010, приводило к снижению инфляции.
Снижение темпов прироста денежного предложения приводило в ряде случаев к росту инфляции (1998, 2008, 2014). И наоборот, в периоды, когда темпы прироста денежной массы увеличивались (1998-2000; 2001-2003; 2004-2006; 2008-2010) – инфляция снижалась ускоренными темпами.
Попытка найти математическую зависимость инфляции от прироста денежной массы не даёт положительного результата (график 3).
График 3. Гипотеза Кудрина не подтверждается. Инфляция очень слабо зависит от прироста денежной массы. Еще меньше зависимость инфляции от прироста денежной массы в предыдущем году.
Взаимосвязь показателей очень слабая или отсутствует. Взгляните на верхнюю часть графика 3.
- И максимальная инфляция (1998 год – 84%) и минимальная инфляция (2011 год – 6,1%) наблюдались при практически одинаковом приросте денежной массы на 21-22%.
- И наоборот, один и тот же уровень инфляции 9-11% наблюдается и при темпах прироста денежной массы менее 5% и при темпах около 50%.
- Если провести мысленную линию между точками 1998-1999-2000, то видно, как снижение инфляции происходит на фоне резкого роста (а не сокращения) денежной массы.
Формальный статистический подход это подтверждает (показатель R2 почти равный нулю говорит о многом[1]). Взаимосвязь показателей не говорит о том, что является причиной, а что следствием. Причинно-следственные связи между ростом денежной массы и инфляции неочевидны[2]. Но даже если мы предположим, что инфляция, в соответствии с «гипотезой А» все же зависит от прироста денежной массы, то формула зависимости, построенная обычными средствами Excel (приведена на графике) говорит, что прирост денежной массы на 10% приводит к приросту инфляции всего на 0,84% (см. верхнюю часть графика 3). Идея о том, что инфляция больше зависит от прироста денежной массы в предыдущем году, так же не подтверждается – зависимость еще более слабая (нижняя часть графика 3).
Результаты поиска взаимосвязи между инфляцией и денежной базой (вместо массы) дают аналогичный результат – взаимосвязь очень незначительная. Устранение т.н. «статистических выбросов» тоже не меняет картину: инфляция в диапазоне 7-15% случается и при почти нулевом приросте денежной массы, и при её приросте на уровне 50%.
Инфляция ускоряется из-за роста денежной массы, утверждает Кудрин. Но это не подтверждается фактами. А может ли быть наоборот, чтобы инфляция ускорялась из-за падения денежной массы? Да, такое происходит во время каждого кризиса в России. И есть вполне логичное объяснение, почему это происходит (см. Блинов, 2015)
Подведем короткий промежуточный итог.
- Первое: Попытки найти взаимосвязь между темпами прироста денежной массы и инфляции за период 1997-2014 годы не дают результата. «Гипотеза Кудрина» не подтверждается фактами.
- Второе: Большую часть времени прирост денежной массы значительно (в разы!) превышал уровень инфляции. Необходимо понять, куда же «уходили» эти деньги, раз уж они практически не приводили к росту цен?
Спрос рождает предложение, а не инфляцию
Оказывается, прирост денежной массы «предназначен» вовсе не для раскрутки инфляции, у него есть совсем другая (и очень важная!) миссия - рост ВВП.
Выше мы выяснили, что значительная часть прироста денег не вызывала роста инфляции. Но возникает вопрос – на что же тогда «расходовались» эти дополнительные деньги?
Сначала определимся, каким термином удобнее обозначить эту величину. Если из темпов прироста денежной массы вычесть темпы прироста цен, то мы получаем не что иное, как реальный прирост денежной массы[3]. На что «расходовался» реальный прирост денежной массы[4] нам и предстоит разобраться (график 4).
График 4. Необходимо выяснить, на что расходовался реальный прирост денежной массы (31%) в 2007 году и другие подобные ему годы. (2007 год взят для примера. Такая же ситуация была в 1999-2008 годах и 2010-2013 годах)
Приведем пример на бытовом уровне, используя те же цифры. Предположим за год цены выросли на 12%, а пенсии выросли на 43%. Любому пенсионеру понятно, что из этих 43% прироста 10%1 «ушло» на компенсацию роста цен. И только на оставшиеся 31% реально растёт потребление им товаров и услуг. Этот реальный рост потребления означает, что на эту величину вырос спрос со стороны пенсионера, а вслед заспросом вырос и объем производимых товаров и услуг.
Чтобы понять, какое значение спросу отводит Алексей Кудрин, проведем «лингвистический» экспресс-анализ его высказываний об инфляции (они уже приводились выше).
- «Обеспечить рост инфляции за год на уровне 3-4% несложно при падении нефтегазовых доходов, которые являются драйвером спроса в экономике». То есть спрос, в этой фразе Кудрина, вызывает инфляцию, и в данном случае даже почти синоним инфляции.
- Другая цитата из того же источника: "Соответственно, увеличивался спрос, не позволяя снижать инфляцию".
Обратите внимание, что спрос, в выкладках Кудрина, вызывает инфляцию. То есть драйвером, движителем инфляции была даже не денежная масса (что еще можно было бы понять), а именно спрос. Это противоречит известному выражению «Спрос рождает предложение», которое приписывают выдающемуся экономисту Джону Мейнарду Кейнсу. Кто в данном случае прав, Кудрин или Кейнс?
Если мы поверим Кейнсу, то ответ на наш вопрос – на что «расходовался реальный прирост денежной массы» – должен быть очень простой. Реальный прирост денежной массы «работал» на рост ВВП. Как и в нашем примере с пенсионером, увеличение количества денег в экономике могло не раскручивать инфляцию, а создавать новый спрос. В результате могло расти производство товаров и услуг для удовлетворения этого спроса. Всё в точности по формуле «Спрос рождает предложение». Соответственно, должен расти и ВВП.
Только что сделанное нами предположение можно сформулировать в виде гипотезы: «Рост реальной денежной массы приводит к росту ВВП». Назовём её «гипотезой Б». Чтобы проверить эту гипотезу, надо сравнить реальный прирост денежной массы и прирост ВВП за соответствующий период, что мы и сделаем в таблице 2.
Если представить последние две колонки таблицы 2 на диаграмме (график 5), то синхронность динамики этих двух показателей сразу бросается в глаза.
График 5. Реальный прирост денежной массы* имеет очень схожую динамику с приростом ВВП. Вопреки гипотезе Кудрина рост денежной массы «раскручивает» не инфляцию, а экономику (ВВП).
«Гипотеза Б» подтверждается, но на графике видны некоторые несовпадения (точки 1 и 2 в нижней части; годы 2008 и 2009 в верхней части), когда денежная масса падает, а ВВП при этом растёт и наоборот. Эти расхождения легко объясняются динамикой показателей внутри года (квартальной, месячной). Рассмотрим эти несовпадения.
Точка 1, 2008 год. Так, например, в 2008 году денежная масса в реальном выражении снизилась (-12,5%, см. таблицу 2), но ВВП в этом году вырос на 5,2%, вопреки нашему предположению (точка 1 в нижней части графика 5). Это расхождение показателей объясняется тем, что в течение трех кварталов 2008 года прирост денежной массы в годовом выражении был положительным (+22%; +11%; +7% соответственно в 1, 2 и 3 кварталах), и только в 4 квартале перешел в отрицательную зону, что и было зафиксировано, как годовой результат прироста денежной массы (-12,5%). В точном соответствии с динамикой реальной денежной массы вел себя и ВВП: по данным Росстата ВВП рос в первые три квартала 2008 года и упал лишь в 4 квартале. Но падение ВВП в одном квартале не смогло повлиять на годовой результат, ВВП по итогам 2008 года вырос на 5,2% (рост по кварталам: +9,2%; +7,9%; +6,4%; -1,3%)
Точка 2 – 2009 год. Аналогичным образом объясняется расхождение динамики реальной денежной массы и ВВП 2009 года. На графике 5 это расхождение выражается в отрицательном росте ВВП на фоне положительного прироста денежной массы (точка 2 в нижней части графика 5). Объясняется это просто. В течение 11 месяцев 2009 года прирост реальной денежной массы был отрицательным (-22%; -18%; -16% в 1, 2 и 3 кварталах соответственно) и только в декабре вышел в положительную зону, что и было зафиксировано как годовой результат. Но один месяц декабрь не мог повлиять на объем ВВП в 2009 году.
Объединим эти два случая. Говоря по-простому, гигантское сокращение денежной массы в 4 квартале 2008 года (а произошло оно из-за изъятия Центробанком более 5,5 триллионов рублей в ходе валютных интервенций), уже не могло «испортить» показатель ВВП 2008 года, но серьезнейшим образом повлияло на весь 2009 год[5].
Указанные выше расхождения можно устранить, перейдя от годовых значений к квартальным. Произведя ряд вычислений (расчет квартальных данных, вычисление реальной денежной массы не по упрощенной, а по точной формуле, устранение сезонности), получаем данные, подтверждающие тесную взаимосвязь ВВП и реальной денежной массы (график 6)
График 6. Между реальной денежной массой М2 и ВВП существует тесная взаимосвязь. Снижение темпов прироста реальной денежной массы в последние 8 кварталов привело к снижению темпов роста ВВП (красная извилистая стрелка).
Динамика показателей за последние 8 кварталов (с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014), показанная на графике 6 красной извилистой стрелкой, полностью соответствует «гипотезе Б» о влиянии реальной денежной массы на ВВП. Уравнение зависимости приведено на графике и вычислено автоматически при построении линии тренда в Excel.
6 точек на графике серьезно отклоняются от основного массива точек. Не вдаваясь в подробности отметим, что связано это прежде всего с применением четырехквартальных скользящих средних для устранения сезонности[6]. Если исключить из рассмотрения упомянутые выше 6 точек, как своеобразный «статистический выброс», то оставшиеся точки диаграммы (62 из 68) укладываются в намного более тесную зависимость (график7).
График 7. Каждый раз, когда реальная денежная масса растет на 10% это вызывает ускорение темпов ВВП примерно на 3%. И наоборот, падение реальной денежной массы на 10% вызывает снижение темпов ВВП на 3%. Красная линия показывает фактическое значение прироста реальной денежной массы на 1 марта 2015 года (падение на 11%)
Эту зависимость, в соответствии с «гипотезой Б», можно понимать просто: изменение темпов прироста реальной денежной массы на 10% приводит к изменению темпов прироста ВВП на 3% (из коэффициента 0,3 перед переменной x в уравнении). «Гипотеза Б» подтверждается.
Красная линия показывает фактическую динамику реальной денежной массы на 1 марта 2015 года (-11%). Среднее значение за 4 квартала (использующиеся при построении диаграммы) пока так сильно не упали (-2%). Но при сохранении текущей политики Центробанка они будут стремиться в эту область. Как следствие падение ВВП через 2-3 квартала составит от -2% до -8%.
Рост ВВП как следствие роста денежной массы
Из всего сказанного выше можно сделать два основных вывода.
Вывод первый, теоретический: экономическая история России с 1997 года подтверждает, что рост денежной массы приводит к росту ВВП и практически не приводит к росту инфляции. Другими словами, «гипотеза А» (или, если хотите, гипотеза Кудрина) не подтверждается, а «гипотеза Б» (изложенная в этой статье) подтверждается.
Вывод второй, практический: «Золотым правилом» экономического роста для экономических властей, прежде всего Центрального банка, должно стать поддержание достаточного темпа прироста реальной денежной массы. Другими словами, темп прироста номинальной денежной массы должен быть выше уровня инфляции, именно в этом случае возможен рост ВВП.
Интереснейшую тему влияния денежной массы на рост экономики можно было бы продолжать.
- Можно углубиться в теоретическое подтверждение «гипотезы Б» (гипотезу легко вывести математически из известного уравнения Фишера для количества денег в обращении).
- Можно приводить подтверждающие гипотезу исторические примеры того, как экономический спад после «шоковой терапии» переходил в экономический рост сразу, как только прирост денежной массы начинал превышать инфляцию, то есть начиналось выполнение «золотого правила». Так в Польше «шоковая терапия» началась в конце 1989 года. Но в 1990 и 1991 годах денежная масса росла медленнее инфляции, и это определяло падение ВВП; в 1992 прирост денежной массы стал опережать инфляцию и это был первый год роста ВВП после «шоковой терапии».
- Можно приводить еще более яркие примеры, того, как «шоковая терапия» приводила не к спаду, а к росту ВВП аж на 7,4%, т.к. «золотое правило» выполнялось непосредственно в год «шоковой терапии». Так было во Вьетнаме в 1989 году. Тогда произошла полная либерализации цен и курса вьетнамского донга («шоковая терапия»), но при росте цен на 75% денежную массу нарастили на 213% (т.е. более чем в 3 раза опережая темп инфляции). «Золотое правило» было выполнено с «запасом». В результате падения ВВП при проведении «шоковой терапии» во Вьетнаме не было, наоборот, был рост ВВП на 7,4%.
- Можно указать, что правило поддержания роста денежной массы прямо записано в самых первых строках раздела «Цели денежно-кредитной политики» законодательного Акта о Федеральном резерве: «Правление ФРС и Федеральный комитет по операциям на открытом рынке должны поддерживать долгосрочный рост денежных и кредитных агрегатов…»[7] Пример Федерального резерва, без преувеличения самого влиятельного и продвинутого центрального банка в мире, может и должен браться на вооружение Банком России.
- Можно отдельно рассмотреть вопрос, почему рост ВВП на 5% «требует» роста реальной денежной массы не на 5%, а на большую величину, около 20% для России (одна из причин – дополнительных денег требует рост инвестиций, который практически не влияет на потребительские цены; есть и другие, более фундаментальные причины).
Но все эти вопросы хороши для рассмотрения в отдельной статье. Мы сейчас не будем на них отвлекаться, но рассмотрим два вопроса, которые важны с практической точки зрения.
Рост ВВП на 10% не предел
Формулируя первый вопрос и отвечая на него, мы увидим, что наращивание реальной денежной массы без сбоев «преобразуется» в рост экономики как минимум до уровня 10% роста ВВП в год.
Итак, первый вопрос: до каких верхних пределов наращивание реальной денежной массы приводит к росту ВВП? Другими словами, мы знаем, что рост реальной денежной массы приводит к росту ВВП. Но до каких пор это может продолжаться? Возможны ли в России темпы роста ВВП 8%, 10% или даже более высокие, скажем 15%?
Особенно важен этот вопрос для ситуаций, подобных ситуации 2003-2008 годов. Ведь в эти годы вливания денежной массы в экономику могли быть еще больше. Взгляните еще раз в таблицу 1. Выкупая сотни миллиардов долларов в резервы, Центральный банк эмитировал триллионы рублей, которые в конечном счете увеличивали денежную массу.
Но денежная масса могла расти еще больше! Ведь одна из целей – не дать рублю укрепиться – так и не была достигнута. С 32 рублей за доллар, произошло укрепление рубля до 23 рублей за доллар в июле 2008 года. О чем это говорит? Это говорит о том, что еще сотни миллиардов долларов могли быть выкуплены Центральным банком в резервы и еще триллионы рублей добавлены в экономику. Можно ли быть уверенным, что приток этих денег и далее способствовал бы росту ВВП? Можно ли было без опасений наращивать денежную массу еще более высокими темпами (например, не 50% в год, а 80% или даже 100%)?
Этот вопрос (какие «потолки» роста ВВП за счет наращивания реальной денежной массы существуют?) имеет убедительный, проверенный на практике ответ: до 10% роста ВВП никаких проблем не возникает. Подтверждение тому высокие темпы роста ВВП в России в 2000, 2006, 2007 годах (график 8).
График 8. В 2000 году Россия по темпам роста ВВП превзошла даже Китай. Высокие темпы (более 8%) наблюдались также в 2006 и 2007 годах.
Так в 2000-м году Россия с темпом прироста ВВП 10% единственный раз в новейшей истории по этому показателю превзошла даже Китай. Напомню, что реальная денежная масса выросла в 2000 году на 61%, что остается рекордным показателем на сегодняшний день (см. график 2 и табл.2). Всё как мы и предполагали – увеличение количества денег не раскрутило инфляцию (она снизилась в 2000 году с 37% до 20%), но вызвало рекордный подъем ВВП.
Высокие темпы роста – более 8% - наблюдались в 2006 и 2007 годах, а также в первом и втором кварталах 2008 года (9,2% и 7,9% соответственно).
Итак, ответ на первый вопрос такой: 10% роста ВВП далеко не предел. Достигнув 10% роста в ближайшие годы, можно попробовать выйти и на более высокие темпы. Но сейчас, когда темпы роста колеблются около 0%, можно считать, что в ближайшее время никаких ограничений для «раскрутки» ВВП путем наращивания реальной денежной массы нет.
Практический вывод для ЦБ: любая ситуация укрепления рубля по отношению к зарубежным валютам, наподобие той, которая была в 2003-2008 годах, может быть использована для роста ВВП в России. Способ реализации прост – добавлять рублевую денежную массу в экономику (попутно борясь с укреплением рубля и пополняя золотовалютные резервы).
Этот способ применим прямо сейчас. Всё к этому располагает:
- рубль укрепляется уже на протяжении нескольких месяцев;
- ЗВР не мешает пополнить, ведь за последний год потрачено более 100 млрд. долларов золотовалютных резервов;
- реальная денежная масса сокращается (на 1 марта 2015 года – минус 11% в годовом выражении).
Более того, наращивать денежную массу можно не только в период укрепления рубля, но и в период его ослабления (и даже способствуя этому ослаблению). Хорошим примером может служить тот самый рекордный 2000-й год, ведь наращивание денежной массы происходило на фоне ослабления рубля. Так в начале года доллар стоил 27 рублей, а в конце года – 28,2 рубля. А инфляция? Инфляция, повторюсь, только снизилась (с 37% до 20%).
Как бороться с инфляцией созданием «длинных денег»
Отвечая на второй вопрос, мы поймем, что бороться с инфляцией эффективно надо не сокращением денежного предложения, а созданием «длинных денег» (созданием спроса на деньги со стороны ЦБ и Минфина).
Итак, второй вопрос: что же все-таки делать с инфляцией?
Выше мы поняли, что от инфляции в некотором смысле, можно абстрагироваться. Ведь если важен реальный рост денежной массы, то какая бы ни была инфляция, её последствия можно преодолеть. Просто денег надо добавлять в экономику больше, чем инфляцией «съедаются». Инфляция 10%? Хорошо, увеличим денежную массу на 30%. Инфляция 17%? – Нет проблем, нарастим денежную массу на 37% (как мудрые вьетнамцы, см. выше). Ничего сложного для понимания здесь нет, именно по такому принципу происходит индексация пенсий и пособий незащищенным слоям населения (какая бы ни была инфляция, она должна быть полностью «индексирована»; инфляция воспринимается как данность).
Но вопрос инфляции все-таки остается. В конце концов, чем ниже инфляция, тем легче выполнять «золотое правило»! Что необходимо, чтобы довести инфляцию до уровня 4% (долгосрочная цель ЦБ) или даже до 2% (цели по инфляции в США и Европе)?
Выше было показано, что на изменение денежной массы инфляция почти не реагирует (а иногда реагирует «наоборот»). Как же можно с инфляцией совладать?
Далее мы покажем, что инструменты борьбы с инфляцией у Правительства и ЦБ есть. Но делается это не путем уменьшения денежного предложения, а путём увеличения спроса на деньги со стороны экономических властей. Суть идеи: сдерживать наращивание денежной массы не нужно, особенно в годы хорошей конъюнктуры. А восстанавливать баланс спроса и предложения на рынке денег надо предложением особого товара – облигаций Минфина и ЦБ.
Чтобы понять идею, возьмём в качестве примера какой-либо год из периода 2003-2008 годов. В эти годы полностью «победить» укрепление рубля не получалось. Для удержания рубля от укрепления еще сильнее пришлось бы увеличивать денежную базу, за ней бы росла денежная масса. А по «гипотезе А» (гипотезе Кудрина), доминировавшей в то время, инфляция вышла бы в этом случае из-под контроля.
Рассмотрим 2007 год, просто потому, что мы уже рассматривали его ранее на графике 4. Практически такой же график, но слегка видоизмененный (график 9) показывает пунктиром дополнительное увеличение денежной массы, которое бы произошло при сценарии удержания курса рубля от укрепления. Рассчитать эту величину невозможно. Для целей дальнейшего изложения точная величина не важна, примем её за 43%.
График 9. Удержание рубля от укрепления в 2007 году потребовало бы (в процессе дополнительного наращивания валютных резервов) дополнительного увеличения денежной базы, а с ней и денежной массы.
Чтобы понять диаграмму, надо вспомнить курс рубля в то время. За 2007 год рубль укрепился с 26,3 до 24,5 рубля за доллар при фактическом приросте денежной массы на 43%.
Для удержания курса рубля на первоначальном уровне (26,3) потребовалось бы дополнительно выкупить доллары в ЗВР, нарастить тем самым денежную базу. А это привело бы к приросту денежной массы на дополнительные 43% (произвольно выбранное для примера значение). Они показаны как область, выделенная зеленым штрихом на графике. Общий прирост денежной массы в этом случае составил бы уже 86%.
Если экономика сама обеспечит производство товаров и услуг на эту дополнительную сумму (а это около 4 трлн. рублей), то всплеска инфляции не будет. Мы отмечали, что экономика России очень хорошо реагирует на рост денежной массы и увеличивает предложение. То есть можно надеяться, что и в нашем гипотетическом случае производство товаров и услуг вырастет на эту сумму, вырастут инвестиции.
Но если экономика не среагирует как надо, смогут ли экономические власти (ЦБ и Минфин) вмешаться в происходящее? Ответ – да! Они обладают возможностью предлагать «товар» практически на неограниченную сумму в зависимости от ситуации, регулируя тем самым уровень инфляции. Этим товаром являются любые обязательства Минфина (ГКО, ОФЗ) или Центробанка (ОБР – облигации Банка России). «Продавая» на рынке свои обязательства, ЦБ и Минфин связывают излишние деньги и гасят риск роста инфляции.
Вполне вероятно, что рекордно низкая инфляция в 2011 году была достигнута, в том числе, благодаря активному размещению облигаций Банка России (ОБР), график 10.
График 10. Размещение ОБР на сумму почти один триллион рублей в годовом выражении в 2010 году способствовало рекордно низкой инфляции в 2011 году.
Вполне возможно, что подобная динамика наблюдается и в размещениях ценных бумаг Минфина (не располагаю этой статистикой на момент написания статьи).
Вдумайтесь, ведь именно так поступают США. Продавая свои долговые бумаги, они связывают огромное количество долларов как внутри страны, так и во многих других странах (монархии Залива, Япония, Китай, Россия). В том числе благодаря этому США удается удерживать в русле инфляцию, при том, что за многолетнюю историю в мире выпущены десятки триллионов долларов.
И здесь стоит подчеркнуть, что, при решении проблемы «лишних» денег путём их связывания облигациями, решается и одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Отсутствие «длинных денег» справедливо беспокоит нашего президента. «Нам нужны дешевые и длинные деньги для кредитования экономики. Я прошу правительство и Центробанк подумать над механизмами решения таких задач», — заявил Владимир Путин еще в своем обращении к Федеральному собранию в декабре 2012 года. «Знаю хорошо, что мне возразят и скажут некоторые эксперты, что обеспечение "длинных" денег – это не задача Центрального банка, что "длинные" деньги – это накопления граждан, предприятий, пенсионные деньги и так далее. Да, все это хорошо известно. Но также известно, что в ФРС Соединенных Штатов, в Европейском Центробанке, в других некоторых центральных банках прямо в уставах записана обязанность этих структур думать о рабочих местах и обеспечении темпа роста экономики»
И вот оно, готовое решение проблемы! Если размещаемые Банком России и Минфином облигации будут долгосрочными[8], то благоприятным «побочным» последствием такой практики ЦБ и Минфина станет долгожданное появление в России «длинных денег» и ряд других положительных эффектов.
- При продаже Минфином и Центробанком «длинных» долговых бумаг (5, 10, 20, 30 лет), «явочным порядком» происходит инвестирование средств граждан, предприятий, банков на долгие сроки в эти бумаги;
- В экономике вырастает объем залоговой базы, что облегчает инвестирование
- Минфин и ЦБ, получая деньги на долгий срок, получают возможность и предлагать их тоже на долгий срок.
- Наличие большого рынка долговых бумаг (30-40 трлн. рублей) позволяет Центробанку в экстренных случаях добавлять деньги в экономику, выкупая за эмитированные рубли облигации (свои или Минфина) на вторичном рынке. Потребность в этом возникает, когда рублевая денежная масса резко сокращается в результате, например, валютных интервенций самого же Центробанка.
Сколько «длинных денег» Россия могла сгенерировать описанным выше способом в 2003-2008 годах? Точный ответ невозможен, но определить метод расчета возможно. Давайте вспомним некоторые цифры, приведенные в таблице 1. А затем попробуем предположить, как они изменились бы в сценарии «длинных денег».
Фактический сценарий. С 1 января 2003 по 1 января 2008 года рубль укрепился с 32 до 24 рублей за доллар. При этом борьба с укреплением рубля всё-таки велась. В процессе скупки долларов за эмитированные Центробанком рубли выросли золотовалютные резервы на 430 млрд. долларов, денежная масса увеличилась на 10,8 триллиона рублей (10,8 трлн.руб./430 млрд.долл.= около 25 руб. за один доллар – условная цена скупки долларов в резервы).
Сценарий «длинных денег». В этом сценарии рублю не позволили укрепиться, его курс остался на уровне 32 рубля за доллар вплоть до 1 января 2008 года. Главный вопрос (точный ответ на который невозможен) – сколько еще долларов пришлось бы скупить в резервы для удержания такого курса? Дальнейший расчет не представляет сложности. Денежная масса увеличилась бы на сумму прироста валютных резервов, пересчитанную в рубли по курсу 32 рубля за доллар. На эту сумму и были бы выпущены «длинные бумаги» ЦБ и Минфина, «связывающие» этот прирост рублёвой массы.
Например, если бы для удержания курса рубля от укрепления пришлось скупить еще 100 млрд. долларов, то «длинных бумаг» было бы выпущено на 3,2 трлн. рублей (100 млрд. долларов умножить на 32 рубля за доллар). При других объемах скупки резервов цифры меняются соответственно (если дополнительно скупили валюты на 500 млрд. долларов – то «длинных бумаг» выпустили на 16 трлн. рублей; если на 1 трлн. долларов – то на 32 трлн. рублей и т.п.)
Какая цифра ближе к реальности, 100 млрд. долларов, 1 триллион или какая-то другая – решите сами. Посчитайте. В любом случае ясно, что Россия не использовала шанс создать дополнительные валютные резервы на сотни миллиардов долларов, создать «длинные деньги» на триллионы (или даже скорее на десятки триллионов) рублей, избежать всех «прелестей» укрепления рубля в виде удушения внутреннего производства и расцвета импорта («голландская болезнь»).
Вместо заключения
Когда я уже завершал работу над этой статьёй, было опубликовано интервью Дмитрия Тулина «Комсомольской правде» под красноречивым заголовком «Если просто засыпать экономику деньгами, развития не будет».
К сожалению, пока люди, ответственные за денежно-кредитную политику в России, придерживаются таких взглядов, экономика сможет расти лишь под влиянием внешних факторов, а длинных денег «российского происхождения» ей не дождаться.
[1] Чем более тесно связаны показатели, тем ближе этот показатель к единице.
[2] См., например, «Порочный круг экономической политики».
[3] Реальный прирост в данном случае рассчитан по упрощенной формуле. Применима аналогия с зарплатой. Если зарплата выросла на 15%, а цены на «корзину» потребляемых товаров выросли на 10%, то реальный прирост зарплаты приблизительно составил 5% (15% минус 10%). Однако эта формула упрощенная. Более точное значение рассчитывается через отношение «новой» зарплаты к «новой» стоимости корзины: (100+15)/(100+10)=1,04545. Это означает, что реальный прирост зарплаты по уточненному расчету равен 4,545%, или 4,5% округлённо. Различием между 5% по приближенному расчету и 4,5% по уточненному расчету в некоторых случаях можно пренебречь, особенно если речь идет о небольших, в пределах 10% темпах прироста.
[4] «Реальный прирост денежной массы» и «прирост реальной денежной массы» используются далее как синонимы (сравн. «реальный рост зарплат», «рост реальных зарплат»)
[5] Это типичный случай проблемы сопоставления данных на конкретную дату (денежная масса, количество станков, остатки на складе) с данными, показывающими объемы за период (ВВП, объем произведенных деталей, обороты склада).
[6] Все отклоняющиеся от основного массива точки относятся к периоду кризиса 1998 года и сразу после него. Минимальное значение реальной денежной массы в этот период было достигнуто в 1 квартале 1999 года, после чего, со 2 квартала 1999 года начался рост реальной денежной массы. Рост ВВП тоже начался во втором квартале 1999 года. Однако применение скользящих средних за 4 квартала, «переносит» начало роста реальной денежной массы аж на 2-й квартал 2000 года, когда рост ВВП продолжался уже целый год.
[7] «The Board of Governors of the Federal Reserve System and the Federal Open Market Committee shall maintain long run growth of the monetary and credit aggregates …» (Federal Reserve Act. Section 2A. Monetary policy objectives)
[8] Облигации банка России используются как правило для регулирования краткосрочных колебаний ликвидности. Но как подчеркивается в информации ЦБ «возможно использование и более долгосрочных бумаг (со сроками до 3–5 лет)»


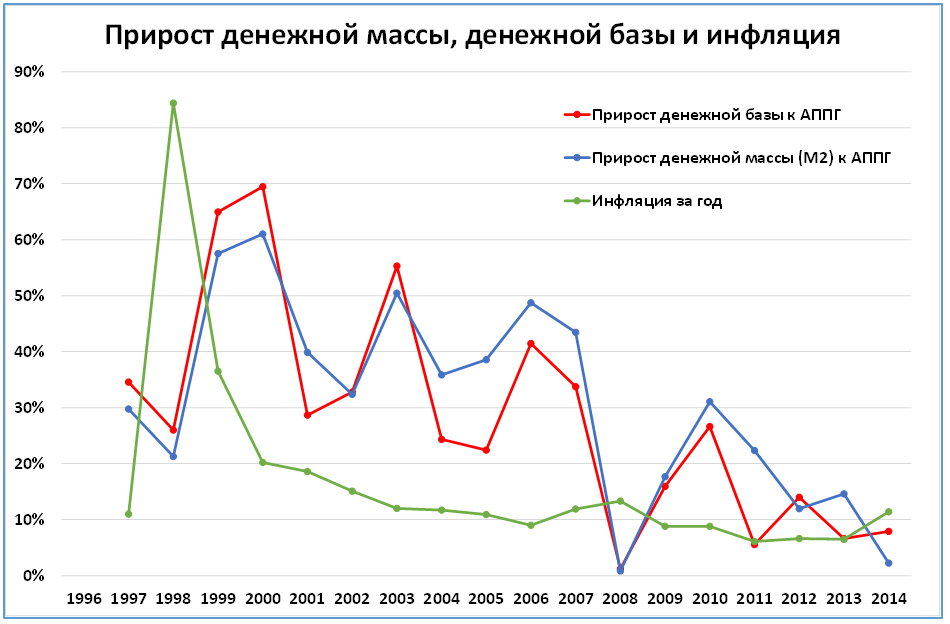
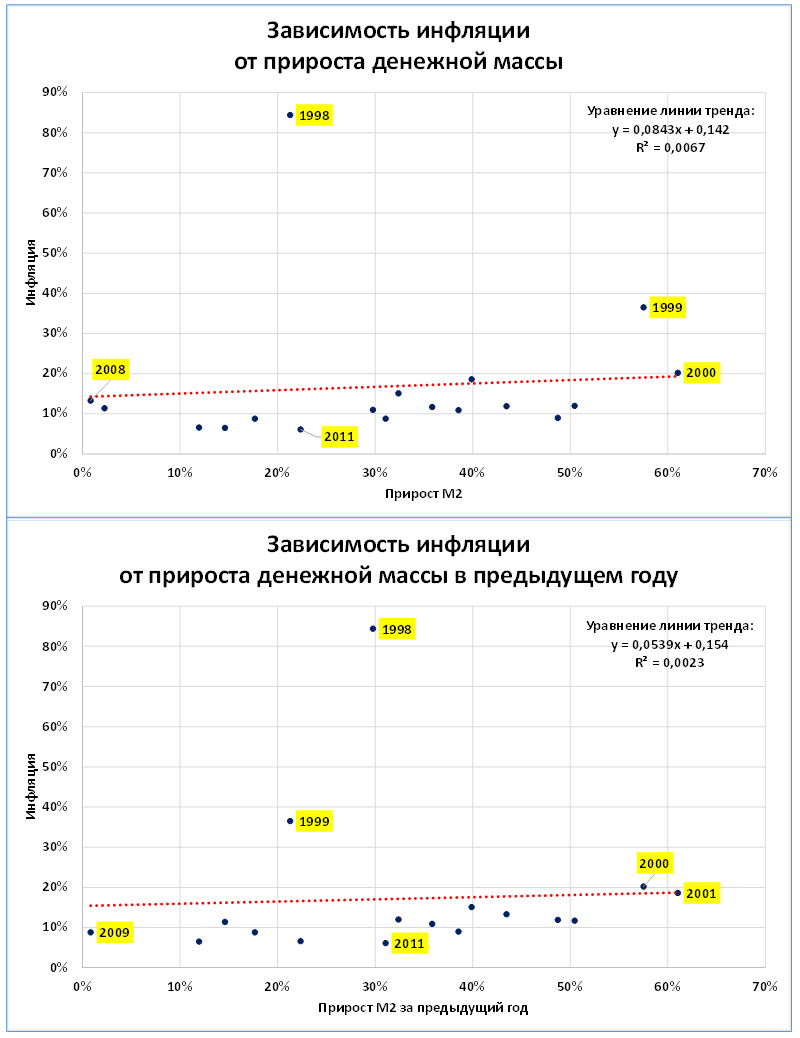
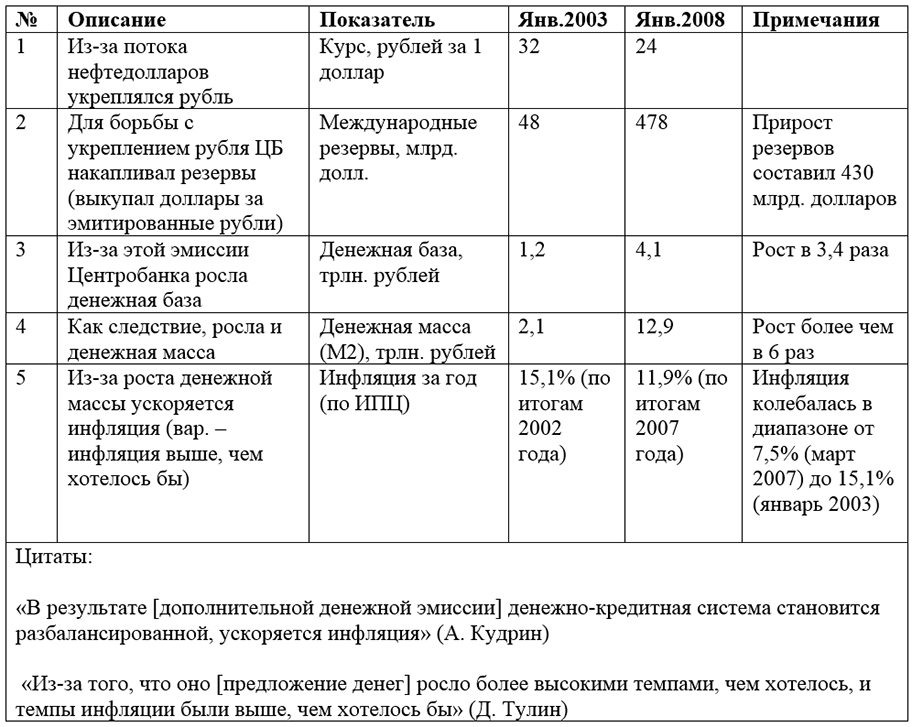
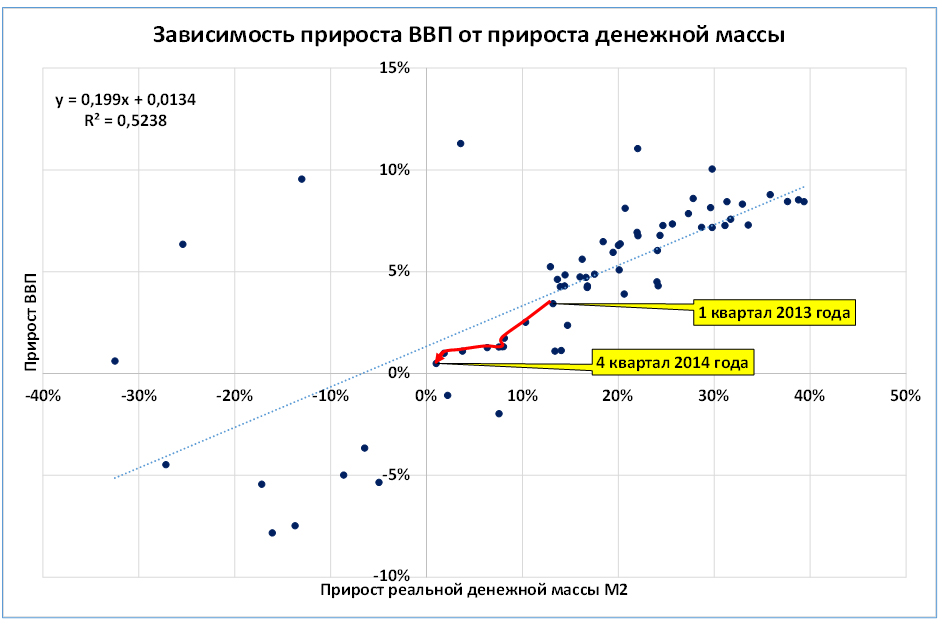

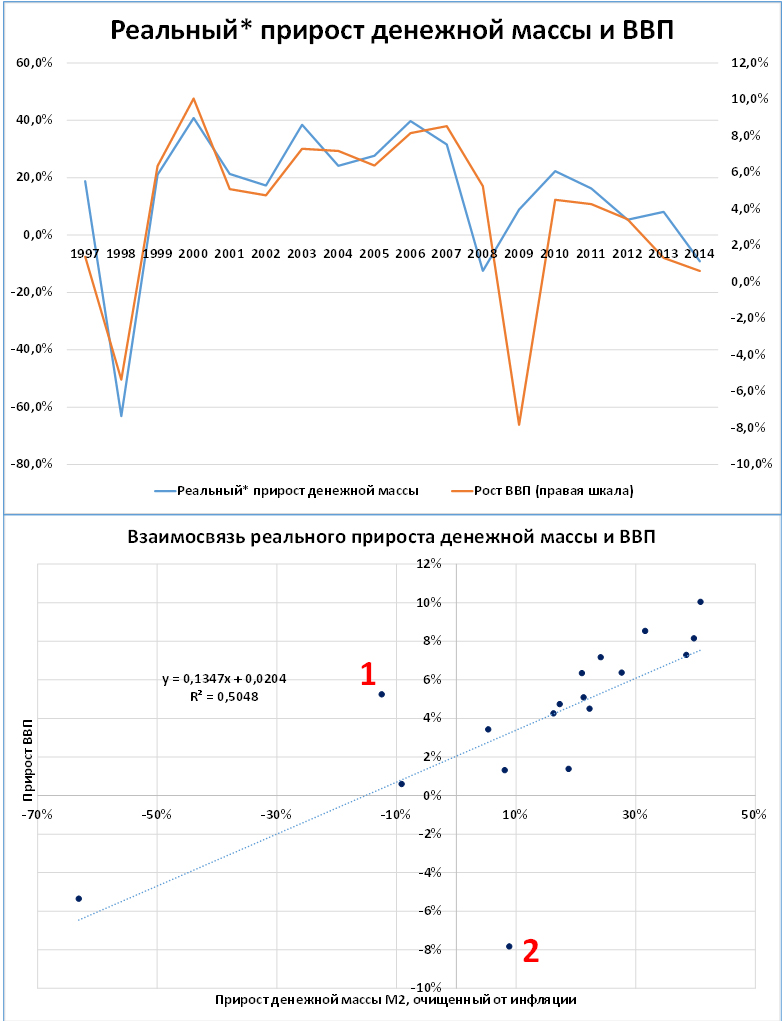
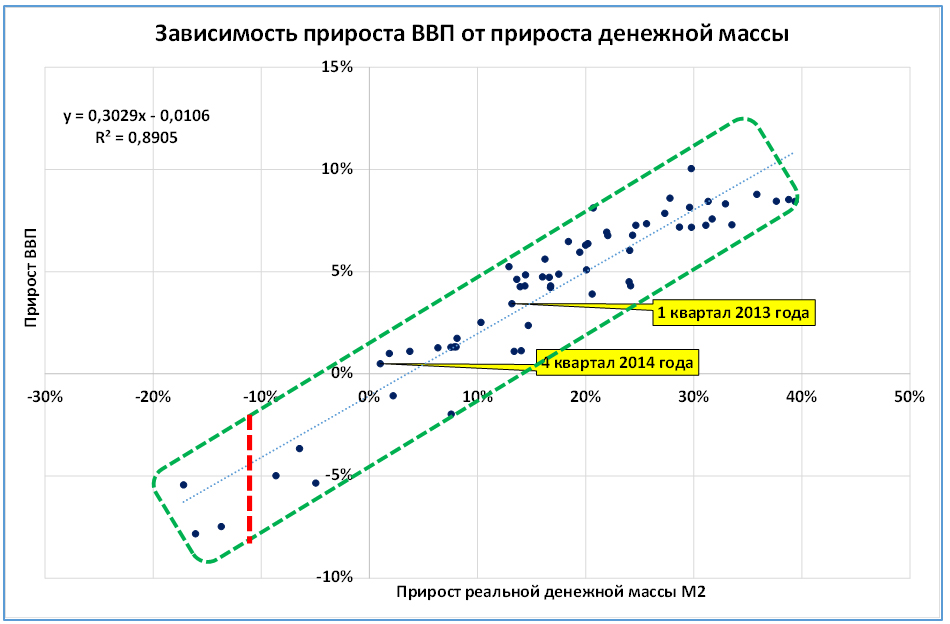
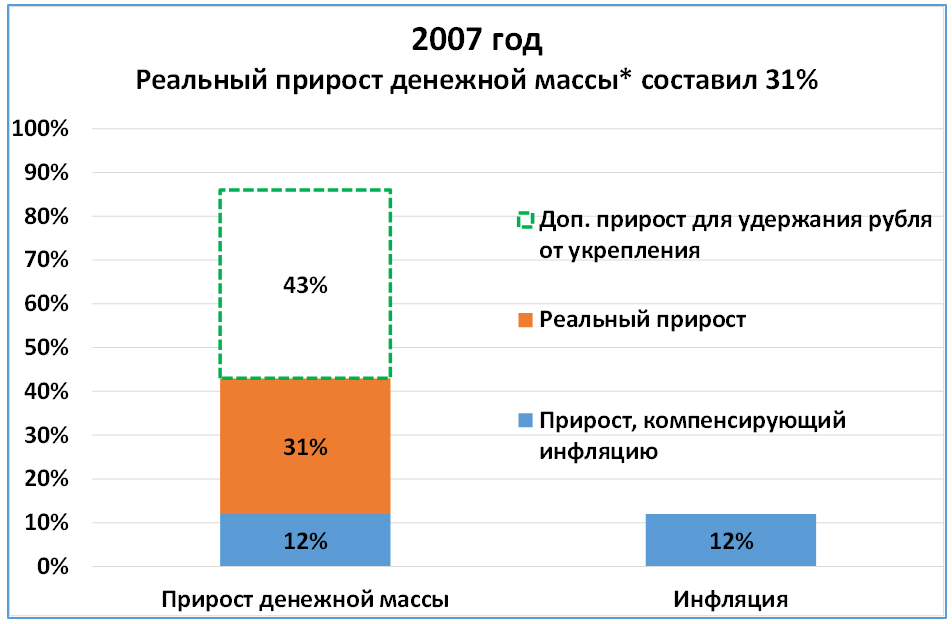

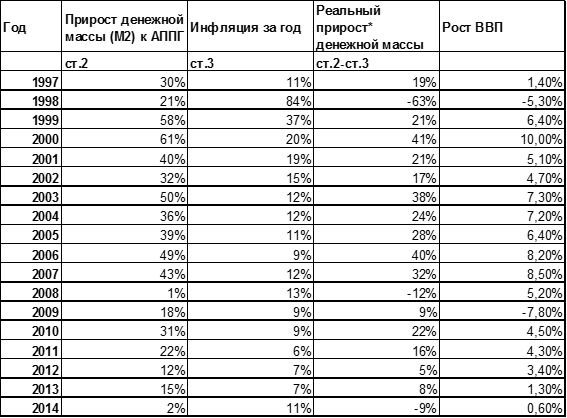
Разбирательства по «делу пангасиуса» получили продолжение
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение ФАС России в отношении компаний, обвиняемых в нарушении антимонопольного законодательства при закупках вьетнамского пангасиуса. Общая сумма наложенных штрафов составила более 30 млн. рублей.
«При рассмотрении дела антимонопольная служба использовала прямые доказательства, полученные в ходе внеплановых проверок, результаты экономического анализа, материалы вьетнамских коллег. Была проведена детальная оценка всех обстоятельств. При этом судебная защита решения проходила непросто. Однако суд кассационной инстанции подтвердил нашу позицию», – отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
Напомним, в сентябре 2013 г. Федеральная антимонопольная служба признала ЗАО «Русская рыбная компания», ЗАО «Атлант-Пасифик», ООО «АМИФИШ», ООО «ТД «Первомайский хладокомбинат», ООО «Мегалайн» участниками антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело к установлению и поддержанию цен на пангасиус, разделу рынка по объему продажи и покупки товара, составу продавцов и покупателей. Ассоциацию производственных и торговых предприятий рыбного рынка ФАС посчитала координатором этого картеля. В феврале 2015 г. Девятый арбитражный апелляционный суд признал несостоятельным обвинение организации в незаконной координации деятельности участников рынка при поставках пангасиуса из Вьетнама. Однако 30 июня Арбитражный суд Московского округа признал законным решение антимонопольной службы.
Как сообщили Fishnews в пресс-центре ведомства, все фигуранты дела привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов, назначенных компаниям, составила более 30 млн. рублей.
«Расследование этого картеля проходило в тесном взаимодействии ФАС России с вьетнамскими государственными органами. Нам удалось восстановить конкурентную среду на рынке и привлечь виновных лиц к административной ответственности. Мы также смогли подтвердить на международном уровне, что Россия – это страна, где не на словах, а на деле защищают конкуренцию», – заявил заместитель руководителя ФАС России Александр Кинёв.
Команды из Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Пакистана могут принять участие в намеченном на август международном конкурсе "Мастера противовоздушного боя", который пройдет в Краснодарском крае, сообщил в субботу начальник отдела боевой подготовки управления ПВО сухопутных войск полковник Иван Сердюк.
"Международный конкурс "Мастера противовоздушного боя" состоится в городе Ейске, на полигоне Ейский, с 1 по 15 августа, и уже изъявили желание выступить в этом конкурсе команды Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Арабской Республики Египет, Исламской Республики Пакистан", — сказал Сердюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Кроме того, ряд стран будут представлены наблюдателями.
"Они (наблюдатели) хотят участвовать, но, оценивая программу проведения этого конкурса, они считают, что не совсем готовы еще. Это Мьянма, Вьетнам, Туркмения, Иран", — сказал полковник.
По его словам, по количеству приглашенных команд конкурс "Мастера противовоздушного боя" "занимает второе место" после "Танкового биатлона". В следующем году, как отметил полковник, программа конкурса может быть изменена.
Всеармейский этап конкурса "Мастер противовоздушного боя-2015" проводился с 22 по 27 июня на учебной военной базе в Краснодарском крае среди отделений переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) военных округов, Воздушно-десантных войск и береговых войск Северного флота. В ходе соревнований военные выполняли стрельбы из ПЗРК "Игла" по различным видам мишеней. Бронетранспортеры БТР-80 использовались как транспортные средства. Всего было задействовано до 100 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, а также свыше 20 единиц вооружения и военной техники. Лучший результат в итоге показала команда Южного военного округа (ЮВО). Она представит Вооруженные силы России на предстоящих международных соревнованиях "Мастера противовоздушного боя-2015" в августе.
Переход российской армии к принципу олимпизма и соревновательности начался еще в 2013 году. Тогда по идее министра обороны Сергея Шойгу были впервые проведены военно-спортивные конкурсы "Авиадартс" для летчиков и "Танковый биатлон". В 2014 году эти соревнования вышли на международный уровень и заинтересовали армии многих стран мира. В августе 2015 года в России пройдут Международные армейские игры, которым предшествуют разнообразные всеармейские конкурсы всех видов и родов войск.
Арбитражный суд Московского округа 30 июня 2015 года признал законным решение ФАС России в отношении Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и предприятий-поставщиков пангасиуса из Вьетнама. Об этом говорится в сообщении ФАС.
"При рассмотрении дела антимонопольная служба использовала прямые доказательства, полученные в ходе внеплановых проверок, результаты экономического анализа, материалы вьетнамских коллег. Была проведена детальная оценка всех обстоятельств. При этом судебная защита решения проходила непросто. Однако суд кассационной инстанции подтвердил нашу позицию", - отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, цитируемый в сообщении.
Напомним, в сентябре 2013 года ФАС России признала ЗАО "Русская рыбная компания", ЗАО "Атлант-Пасифик", ООО "АМИФИШ", ООО "ТД "Первомайский хладокомбинат", ООО "Мега Лайн" участниками антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело к установлению и поддержанию цен на пангасиус, разделу рынка по объёму продажи и покупки товара, составу продавцов и покупателей. Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка была признана координатором этого картеля.
Все участники антиконкурентного соглашения привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов, назначенных компаниям, составила более 30 млн руб.
"Расследование этого картеля проходило в тесном взаимодействии ФАС России с вьетнамскими государственными органами. Нам удалось восстановить конкурентную среду на рынке и привлечь виновных лиц к административной ответственности. Мы также смогли подтвердить на международном уровне, что Россия - это страна, где не на словах, а на деле защищают конкуренцию", - заявил заместитель руководителя ФАС России Александр Кинёв, цитируемый в сообщении.
В Чеченской Республике началась массовая уборка урожая - 2015.
Аграрии Чеченской Республики начали массовую уборку урожая ржи, пшеницы и ячменя. Как сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений МСХ ЧР Хан-Паша Матуев, хороший урожай выращен в Шелковском, Надтеречном, Гудермесском, Грозненском и Наурском районах. На 2 июля убрано 18 тысяч га колосовых культур. Валовый сбор составил свыше 37 тысяч тонн зерна при урожайности более чем 20 ц с га. В прошлом году такой показатель составлял всего лишь 11 центнеров.
«Сейчас в республике установились благоприятные погодные условия. Убрано было бы еще больше, если бы имелось достаточное количество комбайнов, что значительно тормозит уборку»,- говорит Х.-П. Матуев.
Кроме того, в районах были отведены 22 тысячи га под семенные участки озимых и яровых колосовых. Сейчас там начался отбор зерна на будущий урожай.
Одновременно с уборкой на площади более полутора тысяч га прошла работа по дискованию и пахоте земли под озимые посевы.
Необходимо отметить также, что для сельских тружеников, работающих на полях, созданы все условия.
30 июня 2015 года Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в отношении «Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка» и предприятий-поставщиков пангасиуса из Вьетнама.
«При рассмотрении дела антимонопольная служба использовала прямые доказательства, полученные в ходе внеплановых проверок, результаты экономического анализа, материалы вьетнамских коллег. Была проведена детальная оценка всех обстоятельств. При этом судебная защита решения проходила непросто. Однако суд кассационной инстанции подтвердил нашу позицию», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
Напомним, в сентябре 2013 года ФАС России признала ЗАО «Русская рыбная компания», ЗАО «Атлант-Пасифик», ООО «АМИФИШ», ООО «ТД «Первомайский хладокомбинат», ООО «Мега Лайн» участниками антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело к установлению и поддержанию цен на пангасиус, разделу рынка по объему продажи и покупки товара, составу продавцов и покупателей. «Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка» была признана координатором этого картеля.
Все участники антиконкурентного соглашения привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов, назначенных компаниям, составила более 30 млн рублей.
«Расследование этого картеля проходило в тесном взаимодействии ФАС России с вьетнамскими государственными органами. Нам удалось восстановить конкурентную среду на рынке и привлечь виновных лиц к административной ответственности. Мы также смогли подтвердить на международном уровне, что Россия – это страна, где не на словах, а на деле защищают конкуренцию», – заявил заместитель руководителя ФАС России Александр Кинёв.
Казахстанские физики-ядерщики расширяют сотрудничество с коллегами из Азиатско-Тихоокеанского региона
Анна Шатерникова
Как отметил полномочный представитель РК в ОИЯИ Кайрат Кадыржанов, в активе ядерной физики имеется много достижений как со знаком “плюс”, так и со знаком “минус” - это атомная бомба и атомный ледокол, ядерные технологии для лечения рака.
Все эти открытия обязаны своим появлением теоретической физике. “На семинаре мы получили возможность в очередной раз обменяться опытом, обсудить полученные результаты. Для физики вообще характерно обсуждать, сравнивать результаты, получать подтверждения в нескольких лабораториях. Только в этом случае можно говорить о новых научных достижениях. Не может не радовать, что среди участников мероприятия много молодежи, в том числе казахстанцев. На сегодняшний день в ОИЯИ работают 60 представителей РК, которые потом вернутся в нашу страну”, - отметил г-н КАДЫРЖАНОВ.
В ходе семинара между АТЦТФ и ИЯФ подписан меморандум о сотрудничестве, основная цель которого заключается в продвижении основных исследований по фундаментальной ядерной физике в тех аспектах, где наши ученые заинтересованы в совместной работе с зарубежными коллегами. В соответствии с условиями данного документа, Казахстан становится членом азиатской ассоциации ядерно-физических организаций. “Казахстан фактически стал членом АТЦТФ два года назад. Но благодаря подписанному меморандуму мы сможем инициировать совместную активную научную деятельность, чтобы продвигать ядерную физику в наших регионах. Мы подписали меморандум именно с Казахстаном потому, что, по нашему мнению, РК является очень развитой страной, имеет перспективные человеческие ресурсы. С тех пор как Казахстан фактически вошел в АТЦТФ два года назад, мы развивали только один вид совместных исследований. Теперь перед нами открывается много других аспектов для сотрудничества: визиты-исследования, конференции, школы, если потребуется, тренинги для молодых специалистов”, - отметил президент АТЦТФ Хьюн Кью ЛИ.
По словам исполняющего обязанности генерального директора ИЯФ РК Петра Чакрова, для казахстанской стороны взаимодействие с АТЦТФ очень полезно не только в научно-техническом плане, но и с точки зрения установления контактов с учеными Азиатско-Тихоокеанского региона. “Как правило, такие вещи выливаются в совместные эксперименты. Сейчас мы проводим несколько совместных работ, которые связаны с необходимостью выезжать друг к другу на эксперимент: научные установки, особенно в области ядерной физики, достаточно дорогостоящи, и каждой стране тяжело держать полный набор реакторов, ускорителей и необходимое оборудование. Сегодня, скажем, наши специалисты поехали в Финляндию или в Польшу проводить эксперименты на их установках, а завтра ученые из этих стран приедут к нам. Мы хотим развивать аналогичное сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом, у специалистов из этих стран тоже есть серьезные планы по созданию новых ядерно-физических установок”, - констатировал г-н ЧАКРОВ. Как считают эксперты, тот факт, что на протяжении многих лет Казахстан является равноправным членом международного сообщества по фундаментальным ядерно-физическим исследованиям, имеет огромное значение для страны, поскольку сегодня именно теоретическая физика является одним из ключевых источников новых технологий для различных областей народного хозяйства.
АТЦТФ, образованный в 1994 году, является международной научной организацией, занимающейся высококачественными исследованиями во всех областях теоретической физики и налаживающей сотрудничество между учеными из разных стран региона и других государств. Международная межправительственная научно-исследовательская организация ОИЯИ была зарегистрирована в ООН в феврале 1957 года. Целью создания института было объявлено объединение усилий, научного и материального потенциала государств - членов для изучения фундаментальных свойств материи. На сегодняшний день членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. На правительственном уровне руководством института подписаны соглашения о сотрудничестве с Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Сербией и ЮАР. Лаборатория теоретической физики функционирует как самостоятельный институт с широкой научной программой работ в таких областях теоретической физики, как квантовая теория поля, физика элементарных частиц, ядерная физика, теория конденсированных сред, современная математическая физика.

В прошлом году объемы торговли между РФ и Египтом выросли на 80%. О том, как могут развиваться отношения между двумя странами в будущем, и о перспективах создания зоны свободной торговли РФ – Египет директору ЕКЦ рассказал министр торговли, промышленности и инвестиций Арабской Республики Египет Мунир Фахри Абдель Нур.
Как бы вы оценили нынешний уровень отношений между Египтом и Россией? Что достигнуто, а что еще предстоит сделать?
Хотел бы подчеркнуть, что между Египтом и Российской Федерацией сложились превосходные отношения как в политическом, там и в экономическом плане. В рамках экономической политики Египта и, в особенности, политики по развитию внешней торговли, мы решили начать переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Письмо с изложением позиции Египта по ключевым положениям было отправлено председателю Евразийской экономической комиссии господину Христенко. Надеюсь, что переговоры начнутся в ближайшие несколько недель.
Какова вероятность заключения соглашения о создании зоны свободной торговли?
Очень высокая. Вопрос заключается в том, сколько времени уйдет на переговоры. Это, как вы понимаете, процесс очень непростой, если не сказать сложный. Проведение переговоров по соглашению о свободной торговле подразумевает необходимость идти на компромисс, учитывать особенности каждой из стран союза, а также уровень развития и ситуацию в различных отраслях экономики. Речь идет об отдельных отраслях промышленности. До какой степени можно снять ограничения в определенном сегменте? До какого уровня нужно снизить импортные пошлины и можно ли их вообще отменить? Это очень непростой процесс. Нам нужно время.
Вы ведь знаете, сколько времени ушло на заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Надеемся, что переговоры с Египтом займут гораздо меньше времени.
Сейчас у Евразийского союза уже есть опыт проведения переговоров по вопросу о создании зоны свободной торговли. Для Египта это будет уже пятое соглашение такого рода. Как вы знаете, Египет заключил соглашения о свободной торговле с рядом арабских стран, Европейским союзом, а также со странами Африки. Совсем недавно была создана огромная зона свободной торговли, охватывающую всю Восточную Африку. Кроме того, у нас есть соглашение о свободной торговле с Турцией и со странами МЕРКОСУР. Насколько я понимаю, для нас заключение аналогичного соглашения с Евразийским экономическим союзом не составит труда.
Как бы вы оценили положение дел в области взаимных инвестиций?
Нет сомнений, что объем инвестиций не соответствует степени развитости наших экономических и политических отношений. Очень надеемся, что уже в ближайшие несколько месяцев они существенно вырастут. С одной стороны, у Египта очень амбициозные планы в отношении инвестиций: мы стремимся привлекать прямые иностранные инвестиции, а также и косвенные инвестиции. Были внесены поправки в закон, регулирующий инвестиционную деятельность. Сейчас ведется работа по пересмотру всех связанных с этим законом процедур, чтобы было проще заниматься предпринимательской деятельностью в Египте, создать более комфортные условия для инвесторов.
Важно подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание ряду областей, а именно промышленности, добыче полезных ископаемых и энергетике. Я уже более полутора лет отвечаю за экономические отношения Египта с Россией. За это время я стал свидетелем роста заинтересованности российских компаний в египетском рынке. При этом необходимо учитывать, что темпы роста египетской экономики ожидаются достаточно высокие. По прогнозу на этот год, экономика Египта вырастет на 4,2%, а в следующем году рост может составить 5,3-5,5%. Мы стремимся добиться того, чтобы темпы роста составили 6%.
Египет — огромная страна с 90 млн потребителей. Еще более важно то, что решив разместить производство в Египте за счет прямых инвестиций, вы выходите на рынок 1,5 млрд потребителей. Ведь, как я уже говорил, у Египта есть ряд соглашений о свободной торговле, которые обеспечивают производителю, осуществляющему свою деятельность в Египте, доступ на эти рынки без импортных пошлин или каких-либо квот на экспорт или импорт.
Давайте поподробнее остановимся на российско-египетской торговле. С 2013 по 2014 год объем торговли между двумя странами вырос примерно на 80%, при этом египетский экспорт в Россию увеличился где-то на 22%. Как будет складываться ситуация в этом году? Какие отрасли сыграют ключевую роль в развитии торговли?
Дело в том, что приведенные вами показатели относятся к торговле товарами без учета услуг. Если учесть услуги, показатели были бы значительно выше. Позвольте пояснить. Общий объем российско-египетской торговли товарами составил в 2014 году 5,5 млрд долларов. По сравнению с предшествующим годом этот показатель значительно вырос. Как вы отметили, экспорт из Египта вырос на 22%. В особенности это касается экспорта сельскохозяйственных продуктов, фруктов и овощей.
При этом наблюдается рост и импорта из России. Речь прежде всего идет о пшенице. Импорт пшеницы оценивается на уровне 1,1 млрд долларов или 4 млн тонн. Кроме того, из России идут поставки автомобилей и нефтепродуктов еще где-то на 1 млрд долларов. В прошлом году объем импорта из России составил 5 млрд долларов. Этот объем компенсируется предоставляемыми Египтом услугами. Я имею в виду туризм. В 2014 году Египет посетило примерно 3,2 млн российских туристов, отдыхавших в основном в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.
Мы прогнозируем существенное увеличение объемов торговли между Россией и Египтом
По правде говоря, нашей целью является наращивание объемов двусторонней торговли до 10 млрд долларов в течение трех лет. Этот показатель будет включать только торговлю товарами, а не услугами.
Какая амбициозная цель. Надеюсь, вам удастся ее достигнуть.
И последний вопрос. Мы знаем, что в Египте есть план по строительству новой столицы, которую некоторые уже называют Новым Каиром. Страны Персидского залива уже пообещали инвестировать в этот проект миллиарды долларов. А какую роль может сыграть в этом Россия?
Мы хотели бы, чтобы Россия играла гораздо более значительную роль, которая бы не сводилась к строительству нового города, так называемого Нового Каира. Как я уже говорил, Египет приступает к реализации широкомасштабной инвестиционной программы, включающей строительство множества инфраструктурных объектов, дорог, мостов и туннелей. Кроме того, речь идет об энергетических проектах, теплоэлектростанциях, электростанциях, работающих на возобновляемых источниках энергии, а также о строительстве атомных электростанций.
Думаю, что в ближайшем будущем между правительствами России и Египта по этим вопросам будет подписан ряд соглашений. Хотел бы еще раз повторить, что Россия должна сыграть гораздо более значительную роль в развитии египетской экономики.
Несмотря на снижение цен на проживание в гостиничных номерах Дубая, город занимает четвертое место в мире по средней стоимости гостиничного номера.
Информационно-аналитическое агентство Bloomberg подсчитало среднюю годовую стоимость одних суток проживания в гостиницах разных городов мира, и составило рейтинг, включив Дубай в первую пятерку городов. Больше всего постояльцам приходится платить в гостиницах Сан-Франциско - $397 за ночь (+88% с прошлого года). Далее следуют Женева ($292 или -5,2%), Милан ($271 или +46,9%), Дубай ($255 или -6,4%) и Цюрих ($251 или +0,6%). Оценка стоимости проживания проводилась на основании данных, полученных с сайта компании Expedia.
В прошлом году в таком же рейтинге Дубай стоял на 2 месте, уступая только Женеве и опережая Цюрих и столицу Кувейта. Взлет стоимости гостиниц Сан-Франциско аналитики объясняют ростом спроса в связи с бурным ростом производственного сектора города и нехваткой мест в отелях из-за того, что инвесторы сконцентрировались на строительстве офисов и жилых зданий. Причины изменения баланса спроса и предложения на гостиничные номера Дубая также понятны – это падение числа туристов из России и Европы в связи с испытываемыми экономическими трудностями и резким падением курсов рубля и евро к доллару США, к которому привязан дирхам ОАЭ, и быстрый ввод в строй новых гостиниц.
Из 25 лидеров рейтинга цены на отели выросли на 1 и более процентов только в 8, а снизились на 1 и более процентов – в 14 городах. Самое резкое снижение в этой группе отмечено в Кувейт Сити (-25,1%), что, скорее всего, связано с близостью к терзаемому конфликтами Ираку и высокой зависимостью экономики страны от цен на нефть. Следует отметить, что сбор данных проводился в мае, до террористической атаки на мечеть в Кувейт Сити.
Среди американских отелей сильнее всех подешевели гостиницы Нью-Йорка (-13,3% до $202), в Западной Европе - Парижа (-37% до $146), Восточной – Будапешта (снижение более 50% до $85). Из 106 проанализированных городов самым дешевым оказался Ханой (Вьетнам) - $62.
В целях нивелирования влияния, оказываемого на стоимость проживания временами года, деловой активностью и праздниками, для подсчета рейтинга брались цены первой декады августа 2015 года и первой декады февраля 2016.
О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований ФГБУ «ВГНКИ» пищевой продукции импортного происхождения.
Подведомственным Россельхознадзору «Всероссийским государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») в рамках мониторинга исследований пищевой продукции исследовано 1874 образца пищевой продукции импортного производства.
Специалисты промониторили пищевую продукцию следующих государств: Гренландии, Сейшельских островов, Чили, Никарагуа, Армении, Индии, Вьетнама, Турции, Китая, Бразилии, Р. Беларусь, Украины, Новой Зеландии, Аргентины, Парагвая, Латвии, Австралии, Тайланда, Фарерских островов, Перу, Италии, Колумбии, Уругвая, Дании.
В свинине (Китай), баранине ( Н. Зеландия, Австралия), рыбе (Бразилия, Фарерские острова), говядине (Бразилия, Р. Беларусь, Украина, Парагвай, Колумбия, Уругвай, Дания), яйце (Р. Беларусь), нерыбных объектах промысла (Н. Зеландия, Тайланд, Перу) птице (Аргентина), рыбных консервах (Латвия), меде (Австралия, Италия ) наличие вредных веществ не обнаружено.
В нерыбных объектах промысла (1 проба — Гренландия, 1 проба — Сейшельские острова) выявлены токсичные элементы: мышьяк и кадмий.
В рыбе из Чили обнаружены окситетрациклин (11,9) и трифенилметановые красители (кристаллический фиолетовый 0,53-1,22), чье наличие не допускается категорически. В чилийской свинине нашли нитроимидозолы (метронидозол 1,8).
В 2 пробах говядины (Никарагуа) обнаружены анаболические стероиды (17 А Тренболон 2,0).
В 4 пробах рыбы (Армения) выявили трифенилметановые красители (малахитовый зеленый 0,98 свыше 6,0, бриллиантовый зеленый свыше 6, кристаллический фиолетовый 1,61) Их содержание по нормам Технического регламента стран Таможенного Союза не допускается.
Китай: в объектах нерыбного промысла (9 образцов) выявлены метаболит фуразолидона (АОЗ — 1,4); трифенилметановые красители (кристаллический фиолетовый −0,5-1,91).
В одном образце птицы из Бразилии обнаружены нитроимидозолы ( метронидозол 3,3).
В пяти образцах молока из Республики Беларусь обнаружены нитроимидозолы (метронидозол 1,4-2,5). Также в белорусской свинине обнаружен метаболит фуразолидона (АОЗ 11,5-19,9) и метаболит фурациллина (СЕМ 1,7), в птице — метаболит фуразолидона (АОЗ 1,4-24,2), метаболит фурациллина (СЕМ 2).
В исследованной украинской свинине (26 образцов) в 11,5 процентах случаев были выявлены антибиотики тетрациклиновой группы (окситетрациклин 10,2-21,0), препараты хиноксалинового ряда (3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота (метаболит олаквиндокса) 0,52-5,2). Содержание не допускается.
В 16 пробах говядины Новой Зеландии было выявлено 6,3 процента нитроимидозолов (метронидозол 3,1).
В говядине (Аргентина) из 30 образцов в одном случае обнаружен нитроимидозол (метронидозол 1,0).
В 30 странах мира наблюдается высокий уровень террористической угрозы
МИД Великобритании составило для туристов карту террористической угрозы. «Безопасный» мир для туристов, желающих отдохнуть без риска для жизни, сократился более чем на четверть.
На карте, которую составили аналитики английского дипведомства, страны окрашены в разные оттенки красного цвета согласно четырем уровням террористических угроз: высокому, обычному, среднему и низкому. Чем темнее цвет страны – тем выше террористическая угроза. На основании своих данных МИД Британии полагает, что в более чем 30 странах планеты наблюдается высокая угроза стать жертвой террористических актов . Отдыхать этим летом опасно не только в Ливии, Пакистане и Сомали, - странах, куда не рекомендуется ездить в последние годы. В темно-бардовый цвет, показывающий на карте самый высокий четвертый уровень террористической угрозы, окрашены и такие популярные у туристов страны, как Испания, Франция и сама Великобритания.
МИД Великобритании также не рекомендует своим гражданам ехать отдыхать в Турцию, Египет, Таиланд, Индию. Опасной для туристов признана и Россия. Традиционно областью высокого риска стал почти весь Ближний Восток, страны центральной Африки, а также северные и восточные африканские государства.
Список стран с высоким уровнем террористической опасности:
• Австралия
• Алжир
• Афганистан
• Бельгия
• Бирма
• Великобритания
• Египет
• Эфиопия
• Индия
• Индонезия
• Ирак
• Испания
• Йемен
• Кения
• Колумбия
• Ливия
• Мали
• Нигер
• Нигерия
• Пакистан
• Россия
• Саудовская Аравия
• Сирия
• Сомали
• Таиланд
• Тунис
• Турция
• Франция
К странам с низким уровнем террористической угрозы традиционно отнесены Исландия, Швейцария, Чехия, Япония, обе Кореи, юг Африки и ряд стран в Южной Америке.
Список стран с низким уровнем террористической опасности:
• Ангола
• Армения
• Боливия
• Ботсвана
• Бутан
• Венгрия
• Восточный Тимор
• Вьетнам
• Гайана
• Гвинея
• Гондурас
• Доминиканская республика
• Замбия
• Зимбабве
• Исландия
• Конго
• Корея Северная
• Корея Южная
• Куба
• Лаос
• Латвия
• Либерия
• Литва
• Мадагаскар
• Мексика
• Мозамбик
• Молдова
• Монголия
• Намибия
• Никарагуа
• Панама
• Папуа-Новая Гвинея
• Польша
• Словения
• Суринам
• Сьерре-Лионе
• Тайвань
• Туркменистан
• Уругвай
• Чехия
• Швейцария
• Эквадор
• Эритрея
• Эстония
• Япония
В итоге в список потенциально опасных вошли около 60 стран, из них 28 носят высокий уровень террористической угрозы. Официального запрета посещения опасных стран нет. Однако у туристов из Великобритании могут возникнуть проблемы с оформлением страховки перед поездкой в страну из «красного» списка. Обеспокоенность внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства связана с недавними трагическими событиями в Тунисе. В минувшую пятницу 26 июня в тунисском городе Сус террорист одиночка расстрелял 39 отдыхающих. Большинство из них были гражданами Великобритании.
В провинции Бадахшан началось строительство нового госпиталя на 76 коек.
Строительство двухэтажного здания неподалеку от старого госпиталя Файзабада профинансирует правительство Германии. Стоимость проекта составит около 3,5 млн. долларов.
Полномочный представитель Фонда Ага Хана, через который ведётся финансирование проекта, сообщил, что госпиталь будет оборудован батареями, кондиционером и современной медицинской техникой, цитирует его слова информационное агентство «Пажвок».
Глава департамента здравоохранения провинции доктор Нур Мохаммад Хавари пояснил, что после завершения проекта пациентов больше не придётся везти в Кабул и другие провинции, чтобы провести необходимое лечение. Он также добавил, что в ближайшем будущем откроется ещё один госпиталь на 200 коек, построенный при финансовой поддержке Германии. В нём будут постоянно функционировать отделения гинекологии, хирургии, туберкулёза, заболеваний слуха и зрения.
Отметим, что с 2002 года младенческая смертность при родах в провинции Бадахшан снизилась с 6540 до 237 детей на каждые 100 тысяч новорожденных. Это произошло благодаря развитию системы здравоохранения, в частности, строительству новых больниц.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























