Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Индекс международной налоговой конкурентоспособности ежегодно определяется для 34 стран ОЭСР американской исследовательской организацией Tax Foundation на основании оценки более сорока показателей по пяти основным категориям (корпоративные налоги, потребительские налоги, имущественные налоги, персональные подоходные налоги и правила международного налогообложения).
Рейтинг налоговой конкурентоспособности (ITCI) отображает не только наиболее благоприятную налоговую среду для инвестирования, но и оптимальные условия для создания и ведения бизнеса. Среди лидеров – страны с минимальной налоговой нагрузкой и упорядоченным налоговым законодательством.
В этом году позиции общего рейтинга для двадцатки лидеров распределились следующим образом:
Эстония
Новая Зеландия
Швейцария
Швеция
Австралия
Люксембург
Нидерланды
Словакия
Турция
Словения
Финляндия
Австрия
Корея
Норвегия
Ирландия
Чехия
Дания
Венгрия
Мексика
Германия
США оказались почти в конце списка – на 32-м месте, а Франция замыкает перечень на 34-ой позиции.
Лидер рейтинга – Эстония – признана государством с наиболее конкурентоспособной в ОЭСР налоговой средой. Поспособствовали этому низкая ставка корпоративного налога (21%), отсутствие двойного налогообложения для доходов в виде дивидендов, низкий уровень налогов на недвижимость (облагаются только земельные участки, без строений и зданий). В то же время, по качеству налогового законодательства стране присвоена только одиннадцатая позиция, а по ставке потребительских налогов – восьмая.
Новая Зеландия, занявшая второе место в общем рейтинге, получила «первый приз» за самые низкие ставки личных подоходных налогов. «Победителем» в категории «потребительские налоги» стала Швейцария, а наиболее качественное налоговое законодательство оказалось у Нидерландов.
Обвиняемый в создании планов «зверской» казни случайных жителей Австралии, двадцатидвухлетний Омарджан Азари (OMARJAN Azari), был арестован на рассвете в четверг утром и по решению суда в Сиднее оставлен под стражей. Его адвокат не обращался к суду с просьбой отпустить Азари из-под стражи до суда под залог.
В суде имеются документы, демонстрирующие начало приготовления террористических атак Азари и другими с 8 мая этого года. Представитель государственного обвинения Майкл Оллнат (Michael Allnutt) рассказал суду, что Азари составлял планы действий, которые могли бы «шокировать» и «вызвать ужас» у общественности.
В планы входил «случайный выбор лиц для совершения зверских казней». Представитель обвинения также сообщил, что Азари имел доступ к крупным объемам наличности и это именно тот случай, когда приходится иметь дело с «необычным уровнем фанатизма».
Адвокат со стороны защиты Steve Boland, со своей стороны, указал, что в центре инкриминируемого деяния — всего лишь один телефонный звонок.
Обвиняемый предстанет перед судом в Сиднее 13 ноября через посредством видео — связи.
Азари, из сиднейского западного района Guildford, один из 15 человек, задержанных в ходе крупнейшей в истории Австралии антитеррористической операции, прошедшей в четверг утром.
Напомним, в пятницу на прошлой недель оценка угрозы террористических актов в стране была изменена со средней на высокую.
Повышение уровня воды в океане в недалеком будущем может стоить австралийской инфраструктуре 200 миллиардов долларов, если не будут приняты меры, предупреждает отчет Комитета по климату (Climate Council).
Отчет «Подсчитывая цену: изменение климата и затопление береговой зоны», демонстрирует, что уровень воды в океане увеличится за последующие сто лет, от 40 сантиметров до одного метра. Больше всего пострадает береговая зона штата Виктория, юго-восточная часть Квинсленда и Сидней.
Автор отчета, профессор Will Steffen, предупредил, что национальный доход ждут большие потери, от 3% до 9% замедления экономического роста в год, необходимо активно реализовывать меры защиты на случай повышения уровня воды и экстремальных погодных условий.
Более 75% австралийцев живут вдоль побережья. Не только океанские порты, но и большинство дорог национального значения и крупных аэропортов страны — в зоне риска, поскольку находятся недалеко от океана.
Профессор нашел серьезные основания опасаться того, что природные катаклизмы, которые некоторое время назад происходили раз в столетие, теперь становятся все более регулярными, и справляться с последствиями будет все труднее. Он призывает к тому, чтобы все новые инфраструктурные проекты учитывали возможность наступления наводнения. Если уровень повышения воды будет проигнорирован, в мировом масштабе размеры последствия наводнения будут стоить один триллион американских долларов в год — такого же размера вся экономика Австралии.
Согласно отчета, объекты австралийской инфраструктуры, общей стоимостью не менее 226 миллиардов долларов, — потенциальные жертвы наводнения и эрозий, в том числе: капитальных коммерческих строений — на сумму 81 миллиард долларов, жилья — на 72 миллиарда долларов, дорог и железнодорожных путей сообщения — 67 миллиардов долларов, 6 миллиардов — подсобные коммерческие строения.
Объекты национальной инфраструктуры в непосредственной близости, 200 метрах от побережья Австралии:
120 портов, пять электростанций, три завода по очистке воды, 258 объектов, принадлежащих полицейским и пожарным службам, станциям медицинской скорой помощи, 75 госпиталей и учреждений здравоохранения, 11 объектов службы спасения, 41 объект по хранению отходов (или, попросту, мусорные свалки).
Бум на мировых рынках недвижимости продолжается
Самыми активными во втором квартале 2014 года были рынки недвижимости Дубая, нескольких стран Европы и Тихоокеанского региона. И наоборот, несколько азиатских рынков показали признаки охлаждения в результате соответствующих мер правительства. А рынок недвижимости США ослабел.
Цены на жилье выросли в 28 из 44 представленных в исследовании Global Property Guide стран.
Дубай продолжает удивлять весь мир, здесь цены на жилье выросли на 33,26% за год и на 5,47% за квартал. Спрос на местную недвижимость остается сильным. Строительная активность увеличивается. Экономика эмирата демонстрирует здоровый рост.
В Тихоокеанском регионе рынки недвижимости укрепляются. Так, цены на жилье в восьми крупнейших городах Австралии увеличились на 7,21% за год. Усиление рынка недвижимости Австралии связано, прежде всего, с рекордно низкими процентными ставками по кредитам и высоким спросом со стороны зарубежных покупателей жилья. В Новой Зеландии средние цены на недвижимость выросли на 6,66% за год. Строительная активность в Австралии и Новой Зеландии продолжает увеличиваться.
Пять из десяти сильнейших рынков недвижимости мира во втором квартале 2014 года находились в Европе. Лучшие показатели у эстонского Таллина, здесь средняя стоимость жилья выросла на 16,72% за год. Такой результат был достигнут благодаря сильному спросу на недвижимость и улучшающейся экономике. В Ирландии цены на жилье увеличились на 11,97% за год. В Великобритании прирост стоимости домов и квартир составил 9,68% за год, в Турции – 7,24% за год, в Исландии – 6,09% за год.
Другие сильные европейские рынки включают в себя Латвию (5,21%), Литву (4,28%), Чехию (3,95%), австрийскую Вену (3,94%), Нидерланды (3,57%) и Польшу (3,56%). Скромный рост цен был зафиксирован в Болгарии (2,31%), Швейцарии (2,3%) и Германии (1,17%).
Рынок недвижимости США замедляется. Цены на жилье здесь выросли всего на 4,1% за год, что меньше, чем 7,25% в первом квартале 2014 года. Несмотря на это, строительная активность и количество сделок в США увеличиваются.
В Азии цены на жилье снижаются в четырех странах. В Сингапуре стоимость недвижимости упала на 5,02% за год, в Гонконге – на 0,86% за год, в Южной Корее – на 0,37% за год, а во Вьетнаме – на 0,03% за год.
Изменение цен за год во втором квартале 2014 года
Страна Изменение цен (второй квартал 2013 г. - второй квартал 2014 г.)
Болгария 2,31%
Испания 3,12%
Германия 1,17%
Турция 7,24%
Греция 6,51%
Чехия 3,95%
Латвия 5,21%
Финляндия 1,21%
Хорватия 2,52%
США 4,10%
Португалия 0,33%
Эстония (Таллин) 16,72%
Швейцария 2,30%
Таиланд 2,28%
Австрия (Вена) 3,94%
Великобритания 9,68%
ОАЭ (Дубай) 33,26%
Израиль 6,06%
Литва 4,28%
Самопровозглашенная Республика Косово присоединяется к санкциям США и Евросоюза в отношении России в связи с событиями на Украине, говорится в сообщении на сайте косовского правительства.
Решение было принято на заседании косовского кабинета министров в среду.
"Правительство Республики Косово приняло решение в интересах международного порядка, оно представляет собой попытку наказать нарушение суверенитета независимого государства и агрессию Российской Федерации на Украину", — говорится в сообщении.
О том, каким образом косово-албанские власти намерены реализовать это решение на практике, не сообщается.
Между РФ и Косово нет дипломатических отношений, а действующая в Приштине российская дипломатическая канцелярия является подразделением посольства в Белграде. Кроме того, косовские албанцы самостоятельно не могут официально поставлять товары в Россию, считающую Косово неотъемлемой частью Сербии.
Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии в феврале 2008 года. С тех пор суверенитет этой южной сербской автономии признали более 100 стран-членов ООН. Сербия фактически потеряла контроль над большей частью территории Косово более 15 лет назад, не признает косовскую независимость, однако ведет с представителями албанских властей края переговоры о нормализации ситуации в регионе. Украина находится в числе стран, не признающих независимость Косово.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Николай Соколов.
Полиция Австралии задержала 15 человек в ходе проведения контртеррористической операции, начавшейся в четверг утром после сообщения о планах группировки "Исламское государство" совершить серию актов насилия на территории страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Около 800 полицейских проверили более десяти объектов в Сиднее, Брисбене и Логане на востоке страны, сообщил заместитель комиссара федеральной полиции Эндрю Колвин.
"Полиция считает, что та группа, на которую была направлена наша сегодняшняя операция, намеревалась и уже начала планирование проведения актов насилия здесь, в Австралии", — заявил Колвин агентству Рейтер.
Президент США Барак Обама ранее изложил свою стратегию борьбы с группировкой, которая несколько месяцев назад кроме Сирии резко активизировалась в Ираке и захватила его обширные территории, объявив о создании "исламского халифата". Согласно американской стратегии, ИГ будет уничтожена благодаря авиаударам, а также усилению поддержки сил безопасности Ирака и умеренной сирийской оппозиции. Кроме того, США создают коалицию для совместных действий против ИГ, в частности к ней присоединилась Австралия.
Саудовской Аравии потребуется продолжать сокращение добычи нефти, чтобы удержать цену выше $100 за баррель, даже после самого существенного снижения за два года, сообщают BNP Paribas SA и Societe Generale SA. Крупнейший в мире экспортер нефти сообщил на прошлой неделе ОПЕК, что суточная добыча в прошлом месяце была на 408 тыс. баррелей меньше. Эти показатели сопоставимы с австралийскими объемами. Добыча увеличилась в Иране, Ираке и Нигерии, что повысило предложение, в результате стоимость фьючерсов на сырую нефть упала ниже $100 впервые с июня 2013 г. Саудовской Аравии, очевидно, придется уменьшить производство на такое же значение, чтобы стабилизировать цены, говорят банки.
В 2014 г. Иркутскому ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательскому противочумному институту Сибири и Дальнего Востока исполняется 80 лет.
23-24 сентября 2014 года на базе института пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения противоэпидемических мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций».
Институт учреждён приказом Уполномоченного Совета Труда и Обороны СССР № 1 от 5 июня 1934 г. как научно-оперативный орган по борьбе с чумой. Основателем и его первым руководителем был выдающийся эпидемиолог-микробиолог профессор Алексей Михайлович Скородумов. По его инициативе организована противочумная система Сибири и Дальнего Востока, включившая институт, противочумные станции в Чите и Хабаровске, противочумные отделения, противочумный поезд; развернута работа по подготовке квалифицированных врачей-чумологов и биологов; начато строительство научно-лабораторного комплекса, организовано издание научных трудов.
Институт входит в сеть противочумных учреждений Роспотребнадзора, к задачам которых относится разработка мер по противодействию опасным природно-очаговым инфекциям и мониторинг за их возбудителями. В перечень профилактических мероприятий учреждений Роспотребнадзора в природных очагах входит эпидемиологическое наблюдение, истребление переносчиков инфекций (грызунов, блох), вакцинация угрожаемых контингентов и санитарно-просветительская работа среди населения.
Природные очаги чумы существуют на всех континентах мира, кроме Австралии и Антарктиды.
Заболевания людей чумой регистрируются более чем в 25 странах мира. Наиболее пораженными странами Африки являются Демократическая республика Конго, Индия, Мадагаскар, Мозамбик, Уганда и Танзания. В Центральной Азии - Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия. В Китае очаги чумы распространены в 19 провинциях. На Американском континенте постоянно действующие природные очаги чумы существуют в Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и Соединенных Штатах Америки.
В 2012 – 2013 гг. случаи заболевания чумой регистрировались на следующих территориях: Кыргызстан (август 2013 г.), США: Штат Нью-Мексико (NewMexico, август – сентябрь, ноябрь 2013 г.), Перу (провинция Ascope, декабрь 2013 г.), Китай (провинция Сычуань - сентябрь 2012 г.), США: Штат Орегон (июнь-сентябрь 2012 г.), Мадагаскар (регионы - Bongolava, Vakinankarata, Haute-Matsiatra, октябрь-декабрь 2012 г.).
На территории Российской Федерации зарегистрировано 11 природных очагов чумы. В России ситуация по чуме находится на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Справочно:
Чума – природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и животные, переносчиками возбудителя являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных. Заражение чумой происходит при укусах инфицированными блохами, контакте с больными животными и грызунами, а также воздушно-капельным путем при общении с человеком больным легочной формой чумы. Время от момента заражения человека до появления первых признаков заболевания составляет от нескольких часов до 6 дней.
Источники инфекции– больные животные и больной человек.
Естественная инфицированность чумой выявлена почти у 250 видов животных. Основными носителями в природных очагах чумы являются:
в Евразии – сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы;
в Северной Америке – суслики, луговые собачки, хомяки, полевки;
в Южной Америке – хомяки, кролики, морские свинки, опоссумы;
в Северной и Западной Африке – песчанки и крысы, в Южной Африке – многососковая и другие виды крыс, песчанки, в Тропической Африке – крысы;
в Российской Федерации – песчанки, суслики, монгольская пищуха, даурская пищуха, алтайский сурок, обыкновенная полевка.
Переносчиками чумы являются эктопаразиты животных и человека (блохи, иксодовые и гамазовые клещи).
Чрезвычайную опасность для людей представляют больные чумой сельскохозяйственные и дикие промысловые животные (верблюды, сурки, зайцеобразные, лисы и др.), а также продукты и сырье животного происхождения (мясо, субпродукты, шкуры, кожа, шерсть).
Пути передачи возбудителя инфекции:
· основной - трансмиссивный (при укусе блохами,заразившимися на больных грызунах, животных или человеке);
· контактно-бытовой (через кровь, выделения больного человека, зараженных животных);
· воздушно-капельный и воздушно-пылевой (при снятии шкурок, рубке мяса, при контакте с больными первичной или вторичной легочной формами чумы);
· пищевой (при употреблении в пищу инфицированного мяса).
Условия заражения:
· нахождение в предшествующие заболеванию 6 дней в поле, степи, пустыне, горах, где есть природные очаги чумы;
· участие в прирезке больного верблюда или ухода за ним, обработка верблюжьего мяса;
· охота на территории природного очага чумы на сурков, сусликов, тарбаганов, зайцев, мелких хищников (хорь, ласка);
· снятие шкурок и разделка тушек грызунов и хищников, добытых на территории природных очагов;
уход за больными чумой (или тесный контакт с ним);
участие в ритуале похорон умершего от чумы.
Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39 градусов и выше, слабости, сильного озноба, головной и мышечной боли, увеличения лимфоузлов и кашля с кровью. Больной возбужден, испытывает испуг, возможен бред и нарушение сознания. Кожные покровы лица и склеры глаз гиперемированы. Увеличенные лимфоузлы болезненны. При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. Критические состояния связаны с инфекционно-токсическим шоком и острой дыхательной недостаточностью. Прогноз зависит от формы болезни и своевременности лечения. При бубонной и кожной формах при своевременно начатом лечении антибиотиками прогноз благоприятный. При легочных формах возможен летальный исход. Раньше легочная чума заканчивалась смертью в течение 2-4 дней, в настоящее время если антибиотики назначить в первые 15 часов от начала заболевания легочной чумой, то больного удается спасти.
При выявлении больных бубонной формой чумы в очаге вводятся ограничительные мероприятия, при выявлении больных легочной формой чумы вводится карантин.
Профилактические мероприятия:
Для предотвращения заражений человека на территории природных очагов чумы осуществляют истребление носителей и переносчиков возбудителя чумы.
При выявлении на территории природных очагов эпизоотических проявлений чумы (выделение чумного микроба от носителей и переносчиков чумы), руководители противочумных учреждений определяют необходимость вакцинопрофилактики населения, подверженного повышенному риску заражения (животноводов, заготовителей фуража и сена, фермеров, охотников, сезонных рабочих, организованных строительных и изыскательских групп, вахтовых смен добывающей и перерабатывающей промышленности). Решение о проведении вакцинопрофилактики принимает санитарно-противоэпидемическая комиссия.
Спрос на газетную бумагу в мире падает
По итогам 2013 года в соответствии со статданными ФАО объёмы мирового производства газетной бумаги упали более, чем на 3%, составив 29143 тыс. тонн. Следует отметить, что выпуск ГБ падает третий год подряд, в результате выпуск отчетного года сократился на треть относительно показателей десятилетней давности.
На экспорт в 2013 году, согласно данным FAOSTAT, было отправлено около 45% всего мирового производства газетной бумаги, а объём поставок составил 13011 тыс. тонн, рост за –1%. Средние внешнеторговые цены в 2013 году соответствовали уровню 618 $/тонну, минус 3%.Следует отметить, что практически все страны –мировые лидеры по экспорту ГБ реализовывали продукцию по ценам ниже уровня 2012 года.
Канада – лидер по выпуску и экспорту газетной бумаги. Ведущим производителем газетной бумаги в мире, как и прежде, выступает Канада. За 2013 г. показатели по выпуску газетной бумаги в Канаде выросли на 3%, составив 3927 тыс. тонн. По последним данным Канада выпускает почти 14% всего мирового выпуска газетной бумаги. Канада также занимает первое место и среди лидеров по экспорту газетной бумаги. Почти весь объем произведенной ГБ – является для Канады предметом экспорта. Так по последним данным FAOSTATана мировые рынки канадскими предпринимателями было отправлено до 95% всего выпуска газетной бумаги. Импорт ГБ в Канаду – мал. В результате потребление ГБ в Канаде одно из самых низких – всего 258 тыс. тонн по итогам 2013 года. Причем этот показатель упал на 42% относительно уровня 2012 года.На диаграмме видно, что до 2009 года производство газетной бумаги в Канаде было значительно выше. Например, выпуск 2005 года вдвое превысил уровень производства 2013 года.
Китай немного сократил выпуск и импорт газетной бумаги, но остался лидером по уровню потребления. Китай занимает вторую строчку в списке стран, выпускающих газетную бумагу. Уровень выпуска бумаги в Поднебесной в 2013 году составил 3627 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем год назад. Процентная доля КНР от мирового выпуска – 12%. Экспорт ГБ для Китая – незначительный, на уровне 93 тыс. тонн. В тоже время среди стран, импортирующих ГБ, Китай занимает четвертую строчку. Всего за 2013 г. в Поднебесную было ввезено около 671 тыс. тонн (-3%) газетной бумаги. Таким образом, по итогам 2013 года Китай немного сократил производство газетной бумаги, упал и уровень поставок в страну. В результате объем потребления газетной бумаги в 2013 году снижен на 7% относительно уровня 2012 года. Тем не менее, внутренний спрос на газетную бумагу в Китае остается самым высоким в мире. В 2013 г. этот показатель составил 4205 тыс. тонн.
Япония использует газетную бумагу в основном собственного производства. Япония – третий мировой лидер по выпуску газетной бумаги, производство которой в 2013 году составило 3219 тыс. тонн (-1%). Вся произведенная газетная бумага – остается в стране. Экспорт – незначительный. Импорт также невелик. Внутренний спрос на газетную бумагу в Японии – высокий, за год составил 3265 тыс. тонн (-1%). Следует отметить, что по уровню потребления Япония стоит на третьем месте после Китая и США.
Уровень импорта газетной бумаги в США практически соответствует уровню выпуска. Четвертое место среди производителей газетной бумаги закреплено за США – объёмы выпуска в 2013 г. превысили 2470 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем в 2012 г. На экспорт США отправили треть выпущенной продукции. За год поставки выросли в натуральном выражении на 9% до 800 тыс. тонн. Размер импортных поставок в США практически соответствует объемам выпуска. Так в 2013 г. импорт ГБ составил 2116 тыс. тонн (+2%). По объёмам импорта США занимают первое место в мире. Уровень потребления снижен на 10% относительно уровня 2012 года до 3786 тыс. тонн. США занимает второе место по данному показателю.
Россия занимает пятое место в мире по выпуску и второе место по экспорту газетной бумаги. Более ста лет Россия лидирует по выпуску газетной бумаги. По итогам 2013 г., в соответствии с данными ФАО, Россия стоит на пятом месте по объемам производства газетной бумаги в мире, процентная доля – 6%. Производство РВ в 2013 г. составило 1759 тыс. тонн (-3%). На экспорт отправлено 74% от всего объема производства. По объемам поставок газетной бумаги на мировые рынки России занимает второе место в мире. Внутренний спрос в России на газетную бумагу последнее время падает – в 2013 году спад составил 12%, а потребление достигло уровня – всего 465 тыс. тонн. Интересно отметить, что по данному показателю Россия лишь немного опередила Швецию. Уровень потребления газетной бумаги в Швеции составил 407 тыс. тонн.
Швеция потребляет газетной бумаги примерно столько же, сколько Россия. В 2013 году в Швеции почти на четверть снижены объемы выпуска газетной бумаги в Швеции, упали и поставки из других стран, спад составил 23%. Производство газетной бумаги в Швеции, как и в России – экспортоориентировано. Так на внешние рынки в 2013 г. попало до 77% всего объема выпуска.
Республика Корея отправляет на экспорт 46% произведенной газетной бумаги. Изменений по выпуску, экспорту и потреблению в 2013 году не отмечено.
Импорт газетной бумаги в Индию растет. Развивающийся рынок газетной бумаги в Индии в 2013 году также не показал изменений. На уровне предыдущего года остался объем производства – Индия стоит на 9 месте в мире, выпустив 1380 тыс. тонн. Экспорт – незначительный. А вот по объёмам импорта, Индия занимает второе место в мире, закупая столько же газетной бумаги, сколько производится. В 2013 году импорт газетной бумаги составил 1371 тыс. тонн. За год объёмы поставок выросли на 11%. Следует отметить, что Индия – основной импортер газетной бумаги из России. Внутренний спрос в Индии на ГБ также растет – за год потребление выросло на 5%, составив 2741 тыс. тонн.
Великобритания сокращает ввоз газетной бумаги в страну. Замыкает десятку стран–лидеров по выпуску газетной бумаги – Великобритания. Производство в 2013 г. выросло на 4% до 1233 тыс. тонн, на экспорт отправлено 27% от выпуска – 333 тыс. тонн (-1%). Импорт в 2013 г. сократился на 22% до 510 тыс. тонн. Великобритания – страны с традициями. Одной из таких традиций является ежедневное чтение объёмных газетных изданий. Несмотря на традиции внутренний спрос на ГБ в Великобритании понемногу падает – в 2013 году спад составил 6% до 1410 тыс. тонн.
Анализируя динамику выпуска газетной бумаги, отметим, что производство в Новой Зеландии в 2013 г. упало на 48% до уровня 145 тыс. тонн, а в Малайзии, напротив, выросло на 48%, достигнув уровня 400 тыс. тонн.
Экспортные поставки газетной бумаги
Лидер экспорта ГБ – Канада, увеличил в 2013 г. поставки на 8%, экспортные цены упали на 5% и в среднем составили 630,7 $/т. Россия, по данным ФАО, сохранила уровень экспорта и цены на уровне предыдущего года – 1298 тыс. тонн и 532 $/т. соответственно. На 2% подешевела газетная бумага из Швеции до 643,5 $/т, экспорт упал почти на треть. Экспорт из США подешевел на 7% 577,2 $/т., поставки выросли на 9%.
Увеличился экспорт газетной бумаги и из Франции, рост составил 7%, цены упали на 1% до 632 $/т. Стала дешевле газетная бумага из Германии – минус 2%, поставки выросли на 7%. Республика Корея отправляла бумагу по цене предыдущего года. Из десяти стран–лидеров экспорта ГБ, только Норвегия и Бельгия увеличила цены экспорта соответственно на 1% до 553 $/т и 2% до 611 $/т. Финляндия увеличила экспорт на четверть. Цены упали на 1% до 596 $/т.
Импорт газетной бумаги
Среди стран-лидеров по импорту газетной бумаги существенный спад отмечен в Великобритании – минус 22%. Цены упали на 6%. Индия, напротив, увеличила ввоз газетной бумаги, цены при этом упали на 5%.
Существенное падение объёмов импорта в 2013 г., кроме перечисленных выше стран, было отмечено по таким регионам, как Швейцария (-17%), Австралия (-25%), Финляндия (-20%), Болгария (09%), Сербия (-25%). Поставки газетной бумаги в прибалтийские страны невелики, однако в отчетном году по этим странам отмечен рост на уровне 30-ти процентов.
В 2014 г. рост китайской экономики составит 7,4% относительно уровня 2013 г., а в 2015 г. этот показатель опустится до 7,3%. Такой прогноз дали аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2014 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая составил 26,9 трлн юаней ($4,37 трлн). Это на 7,4% больше, чем за январь-июнь 2013 г. Так, за январь-март текущего года китайский ВВП вырос на 7,4% в годовом выражении, а за апрель-июнь – на 7,5%.
В частности, в течение первой половины 2014 г. добавленная стоимость продукции предприятий сельского хозяйства Поднебесной превысила 1,98 трлн юаней с приростом на 3,9% относительно аналогичного показателя прошлого года. В промышленном секторе данный показатель достиг 12,38 трлн юаней с увеличением на 7,4%, а в сфере услуг – 12,53 трлн, показав рост на 8% в годовом выражении.
Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Китая в 2014 г. на 7,5% по сравнению с уровнем 2013 г. Аналитики МВФ ожидают, что инфляция в КНР будет держаться на стабильном уровне. Всемирный банк, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's предрекают рост экономики КНР в 2014 г. на уровне 7-7,6%.
Более 40 стран присоединились к международной кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), в частности в Ираке действуют военно-воздушные силы Франции и Великобритании, сообщил президент США Барак Обама.
"Более 40 стран предложили помощь в рамках общей кампании против ISIL. Некоторые страны будут оказывать содействие с воздуха. Франция и Великобритания уже летают с нами над Ираком, другие намерены присоединиться к этим усилиям", — сказал Обама.
Кроме того, по его словам, Саудовская Аравия согласилась тренировать и оснащать силы сирийской оппозиции.
"Австралия, Канада пошлют военных советников в Ирак. Германские десантники предложат содействие в обучении. Другие страны помогли с новыми поставками оружия и оснащения иракским силам, в том числе курдской пешмерге", — заявил президент США.
Экстремистская суннитская группировка "Исламское государство", воспользовавшись недовольством части населения Ирака политикой центральных властей, захватила несколько провинций на севере и северо-западе, где объявила о создании так называемого "исламского халифата". Экстремисты третируют местное население, вынуждая людей бросать все и спасаться бегством. Число беженцев из районов, где орудует ИГ, достигло нескольких сотен тысяч, несколько тысяч погибли и тысячи попали к террористам в заложники. Международное сообщество организует коалицию для уничтожения опасной террористической организации.
В Австралии станут строить больше, но не везде
По историческим меркам в июле в Австралии число разрешений на строительство продолжило держаться на очень высоком уровне.
В июле 2014 года, в общей сложности было выдано 16 320 на возведение жилья, что оказалось на 2,5% больше по сравнению июнем. Относительно показателей предшествующих трех месяцев рост также составил 2,5%. В целом, с июля 2013 года по июль 2014 было одобрено 195 227 единиц жилья, сообщает портал Property Wire со ссылкой на последние данные Австралийского бюро статистики (ABS).
Увеличение одобренных согласований на национальном уровне было обусловлено, в основном, сезонным ростом рынка в Западной Австралии, который в этом году составил 23,1%. В Квинсленде число разрешений поднялось на 0,9%. В других районах Австралии был зафиксирован спад: во главе оказалась Тасмания с падением числа одобрений на 7,7%, затем Новый Южный Уэльс -с 5,7% и Виктория - с 4,6%. Наименьшее падение было в Южной Австралии - 1,9%. Главной июльской тенденцией рынка оказалось 9,3-процентное падение числа одобренных проектов в столичном районе, а на севере - рост на 16,7%.
"Эти цифры означают, что строительная индустрия Австралии в этом году побила еще один рекорд. Всего, с учетом сезонных колебаний, число разрешений на строительство достигло рекордного показателя из 1984 года. Оно впервые за много лет перевалило за 195 000, оказавшись на более высоком уровне, чем во время строительного бума в 1994 году," - подчеркнул Шейн Гарретт, старший экономист Ассоциации жилищного строительства.
Тем не менее, он отметил, что, несмотря на это достижение, в течение последних шести месяцев на рынке заметны признаки замедления.
Австралийский рынок пока остается одним из самых стабильных и может принести 10-процентную прибыль при продаже жилья.
Эстонские фермеры раздавали в среду бесплатное молоко на площади Свободы в центре Таллина, чтобы напомнить властям о необходимости поддержать их в условиях введенных Россией ограничений на импорт продукции, а также призвать жителей Эстонии потреблять больше молочных продуктов.
Как сообщило Эстонское телевидение, за бесплатным молоком выстроилась очередь в несколько сотен человек. Представители Центрального союза сельхозпроизводителей и Аграрно-торговой палаты Эстонии также привезли по одной бутылке молока для каждого депутата эстонского парламента.
"Российский запрет на ввоз европейских продуктов поставил эстонских производителей в сложное положение. Латвия планирует выплатить своим крестьянам в этом году 6,5 миллиона евро дополнительных дотаций. Подобные меры должно принять и наше правительство", — сказала член парламентской комиссии по вопросам села Сирет Котка.
В августе Россия на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против нее санкции, — США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, фрукты, овощи, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты.
По оценкам специалистов, ущерб эстонских производителей сельскохозяйственной продукции от российских ограничений на импорт может составить 150 миллионов евро с учетом косвенного влияния этих мер. Годовой экспорт в Россию молочной продукции составлял примерно 50 миллионов евро. Николай Адашкевич.
Небывало высокий урожай и российский запрет на ввоз продуктов из стран ЕС привели к тому, что чешские аграрии вынуждены уничтожать или оставлять в садах и на полях сотни тонн овощей и фруктов, пишет в среду пражская газета Lidove noviny со ссылкой на председателя Союза плодоводов республики Мартина Людвика.
"Урожай овощей и фруктов, особенно яблок, в этом году выдался небывало высоким, — сказал Людвик. — Но аграрии в Чехии, как и в других странах-членах ЕС, вынуждены оставлять значительную часть урожая на полях и в садах, или выбрасывать их гнить на складах. Все европейские страны этими продуктами затоварены, Россия их не принимает, а поиск новых рынков сбыта — процесс долгий".
С разрешения брюссельских чиновников чешские садоводы и овощеводы оставили этой осенью нетронутыми свыше 700 гектаров садов и полей. Причина их вынужденного "безделья" проста: если весь нынешний урожай поставить на прилавки здешних магазинов, цены катастрофически полетят вниз, и тогда не окупится кропотливая работа по сбору фруктов и овощей. "Уже сейчас десятки наших хозяйств оказались на грани выживания, а сбор урожая и низкие цены привели бы их к банкротству", — объяснил Людвик.
По его словам, средства, недавно выделенные Евросоюзом в качестве компенсации производителям некоторых видов плодоовощной продукции, моментально разошлись.
В некоторых европейских странах, пишет газета Lidove noviny, происходят массовые протесты населения в связи с подобной политикой аграриев. В частности, в соседней Австрии, после того, как журналисты сообщили о ликвидации одной из крупных продовольственных компаний огромного урожая капусты, в стране поднялось протестное движение за отказ от потребления продуктов этой фирмы. Люди предпочли бы видеть ликвидированную продукцию на прилавках по сниженным ценам.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Александр Куранов.
Странам Евросоюза в случае снятия российского эмбарго на ввоз продовольствия будет сложно возобновить поставки своей животноводческой продукции в РФ из-за пересмотра процедур, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Россельхознадзора Юлия Трофимова.
"При снятии санкций со стороны РФ странам ЕС не так просто будет возобновить поставки своей животноводческой продукции. Мы пересмотрим все процедуры взаимодействия: в случае отмены эмбарго будем рассматривать гарантии безопасности каждой страны Евросоюза отдельно", — сказала она.
По словам Трофимовой, это связано исключительно с тем, что у Россельхознадзора есть ряд вопросов, "которые ЕС забывает решить".
К ним она отнесла проблему распространения в Европе вируса африканской чумы свиней (на текущий момент вспышки зафиксированы в Прибалтике и Польше), болезни Шмалленберга, несоблюдение ветеринарно-санитарных требований на отдельных предприятиях, отсутствие должных гарантий со стороны ЕС.
"Зачастую они используют непроверенный сырьевой материал, запрещенный к ввозу в РФ", — добавила собеседница агентства.
Россия в начале августа ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.
Власти РФ в связи с секторальными санкциями должны сместить приоритеты в направлении развития промышленности, инноваций, АПК, фармацевтики, рыбной отрасли, а также скорректировать концепцию социально-экономического развития до 2020 года, Основные направления деятельности правительства до 2018 года и другие программные документы, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
После присоединения Крыма к России США и Евросоюз ввели целый ряд ограничений в отношении компаний, банков и целых секторов российской экономики, в том числе нефтяной отрасли. Последний пакет санкций был введен 12 сентября. В России вновь заявили, что санкции являются контпродуктивными, и не исключили введения новых ответных мер — на первые санкции Москва ответила ограничением импорта продовольственных товаров из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.
"К сожалению, стратегические документы, такие как концепция социально-экономического развития до 2020 года, скажем, концепция демографической политики — в них ряд показателей уже устарел, и в связи с новыми экономическими вызовами требует определенной корректировки. То же самое относится и к стратегическому документу правительства "Основные направления деятельности правительства до 2018 года", — сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сейчас нужно сделать основной упор на те приоритеты, которые для нас важны в рамках развития экономической ситуации, и в том числе в рамках секторальных санкций, в которых мы находимся. И такие программы, как развитие сельского хозяйства, развитие промышленности, развитие фармацевтической промышленности, медицинской техники, инновационная экономика, развитие рыбохозяйственного комплекса — вот эти программы должны быть в принципе переструктурированы и перенастроены на ту экономическую ситуацию, на те вызовы, которые сегодня есть", — отметила руководитель главного контрольно-ревизионного ведомства России.
Причем, подчеркнула она, должны быть созданы долгосрочные механизмы и правила игры. "В противном случае, если мы будем принимать это на один год, в рамках одного финансового года, это никакого результата, с точки зрения импортозамещения, для России не даст", — считает Голикова.
Низко и еще ниже
Спотовые цены на железную руду упали до самого низкого уровня за последние пять лет
С начала августа цены на железную руду на спотовом рынке непрерывно идут вниз. В начале второй декады сентября они опустились ниже отметки $82 за т CFR Китай. В предыдущий раз столько 62%-ная австралийская руда стоила в сентябре 2009 года.
Как считают большинство участников рынка, это еще не крайняя точка спада. По словам китайских трейдеров, рынок охвачен паникой. Многие компании распродают свои запасы сырья в убыток себе, чтобы ограничить потери. Со своей стороны, металлурги, наоборот, не спешат пополнять запасы и стараются приобретать руду небольшими партиями в портах. Поэтому, по данным одних экспертов, рынок достигнет дна и оттолкнется от него при падении котировок до менее $80 за т CFR Китай, другие же считают, что снижение, наконец, сменится ростом лишь вблизи отметки $70 за т.
Впрочем, и те, и другие сходятся в том, что нынешнее падение цен на железную руду – это надолго. Так, в американском инвестиционном банке Goldman Sachs считают, что средняя стоимость австралийского сырья в 2015-2017 годах будет составлять $78-85 за т CFR, а компания Macquarie Research считает, что и в течение следующего десятилетия котировки не будут выходить за пределы интервала $85-95 за т.
При этом, спрос на руду на ключевом для этого материала китайском рынке остается весьма высоким. По данным китайских статистических органов, в августе в страну поступило 74,9 млн. т сырья, а за первые восемь месяцев текущего года объем импорта достиг 614,4 млн. т, что на 16,9% или почти 90 млн. т больше, чем в тот же период годичной давности.
Несмотря на то, что китайская экономика в последнее время снизила темпы роста, а спрос на стальную продукцию в стране стагнирует вследствие кризиса в строительной отрасли, основной причиной падения цен на железную руду является не недостаток спроса, а избыток предложения. Различные специалисты оценивают его размер в текущем году в 60-100 млн. т, причем, на следующий год он только возрастет.
Бразильская корпорация Vale, крупнейший в мире производитель ЖРС, намерена в 2015 году увеличить выпуск на 8,4% по сравнению с текущим годом, до 348 млн. т. Австралийская Rio Tinto, занимающая второе место в глобальном рейтинге, запланировала на 2014 год рост на 11% до 295 млн. т, а в 2015 году нарастит этот показатель до 330 млн. т. BHP Billiton в 2014/2015 финансовом году (июль/июнь) собирается расширить производство на 8,9% по сравнению с предыдущим периодом, а Fortescue Metals Group – на 25%.
Из-за этого, по оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, в 2015 году избыток предложения руды на мировом рынке возрастет до 158 млн. т, а по прогнозу бывшего топ-менеджера BHP Billiton Альберта Кальдерона – до 250 млн. т. Так что, не удивительно, если в будущем году руда будет периодически падать до $70 за т CFR, а то и ниже.
Впрочем, ведущие экспортеры ЖРС проводят политику перенасыщения рынка вполне сознательно, рассчитывая на то, что долгосрочная тенденция низких цен на руду приведет к уходу с рынка небольших производителей с относительно высокой себестоимостью. В результате «большая четверка», на долю которой и сейчас приходится более 70% глобальных поставок, окончательно подомнет рынок под себя и сможет диктовать свои условия покупателям.
По прогнозу Rio Tinto, до конца текущего года в мире будут выведены из строя мощности по добыче около 125 млн. т руды – прежде всего, в Китае, где, по данным компании Mysteel, порядка 80% железорудных предприятий имеют себестоимость на уровне $80-90 за т при перерасчете в 62%-ный концентрат. Однако китайцы пока демонстрируют большую устойчивость, чем от них ждали. Некоторые железорудные компании получают поддержку от местных властей, старающихся не допустить закрытия ГОКов и потери рабочих мест. Другие остаются конкурентоспособными, так как снабжают сырьем меткомбинаты, расположенные в глубине страны. Стоимость доставки руды из портов на заводы может достигать $20 за т, так что местные поставщики имеют здесь преимущество.
Поэтому первыми из игры могут выйти не китайцы, а сравнительно небольшие австралийские компании. В начале сентября о банкротстве заявила первая из них – Western Desert Resources. Судя по всему, еще до конца текущего года за ней могут последовать и другие.
Бесспорно, закрытие предприятий немного поддержит рынок, но подъема на нем не вызовет. В обозримом будущем железная руда останется дешевой – по крайней мере, возвращение на уровень $100 за т CFR Китай не ожидается ни при каких обстоятельствах.
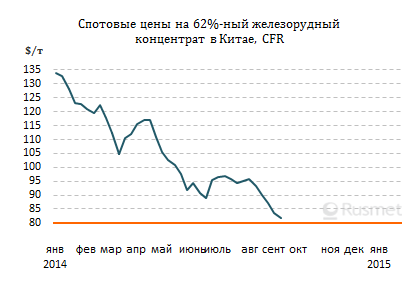
В центре внимания иностранных медиа: самые безопасные банки, китайский теневой дефолт, Moody’s понизило прогноз для бразильских банков, банки желают работать с ApplePay
Самые безопасные банки находятся в Северной и Центральной Европе. И в этом нет ничего удивительного: по сравнению с финансовыми учреждениями других развитых стран, немецкие и швейцарские банки, а также банки некоторых других европейских стран, за исключением стран южного региона, пережили кризис достаточно хорошо. Достаточно хорошо для того, чтобы вкладчики могли держать в них свои деньги без особенных опасений за их сохранность.
Самые безопасные банки
Согласно Forbes, изучив рейтинг 50 самых надежных банков Global Finance, можно получить ответ на вопрос о том, где находятся самые безопасные банки мира. Примечательно, что десятка лидеров полностью состоит из европейских финансовых организаций. Первое место списка занял немецкий KfW; на второй позиции оказался голландский Bank Nederlandse Gemeenten.
В рейтинг попали лишь пять американских банков – те же самые, что и в прошлом году: CoBank ACB, BNY Mellon, US Bancorp, Northern Trust и Wells Fargo. Важно отметить, что Wells Fargo, US Bancorp, Northern Trust и BNY Mellon достаточно хорошо пережили глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов и продолжают показывать хорошие результаты до сих пор. Остальные места в списке заняли кредитные организации из самых разных стран – из Канады, Австралии, Сингапура, стран Ближнего Востока, Южной Кореи и Китая.
Длительное время банки являлись надежным местом для хранения денег, поскольку государства гарантировали возврат депозитов. Однако ситуация изменилась после «спасения» кипрских банков, в ходе которого держателям депозитов пришлось взять на себя значительную часть бремени по «спасению». По этой причине вкладчики в настоящее время находятся в поиске надежных банков с низкими партнерскими рисками.
Согласно статье, многих может удивить то, что рейтинг преимущественно состоит из европейских организаций. Разве Европа совсем недавно не пережила долговой кризис, который негативно сказался на многих ее банках? Да, но все это касалось в основном Южной Европы. Северная и Центральная Европа практически миновала кризис, в особенности Германия, Нидерланды и Швейцария. Именно там и сосредоточены наиболее надежные банки.
Также вкладчикам следует понимать, что большинство европейских банков представляют собой полугосударственные структуры. По этой причине они могут пользоваться поддержкой национальных правительств – при условии, что эти правительства будут сохранять свою платежеспособность, а объемы депозитов не будут превышать официальный лимит гарантий.
Китайский теневой дефолт
На минувшей неделе был объявлен дефолт по забалансовому кредитному продукту небольшого китайского банка, который не смог выплатить 4 млрд. юаней ($652,3 млн.). Данное событие случилось как раз в тот период, когда многие китайские СМИ сообщают о проблемах китайских банков и брокеров с выплатами по теневым банковским продуктам, согласно Reuters.
Популярность забалансовых кредитных продуктов в Китае в последние годы росла как на дрожжах. Банки и трастовые компании продавали их в качестве высокодоходной альтернативы банковским депозитам. Однако недавно аналитики стали бить тревогу, сообщая, что риски дефолтов растут по мере замедления роста второй крупнейшей в мире экономики.
Evergrowing Bank гарантировал выплату 3,7 млрд. юаней принципала и 300 млн. юаней процентов по забалансовым продуктам, выпущенным одним из его акционеров и аффилированной компанией. Эти суммы составляли 57,8% чистой прибыли кредитора за 2013 год. Основными покупателями забалансовых продуктов являлись Bank of Tianjin (приобрел продукт на сумму 1 млрд. юаней) и Tianjin Binhai Rural Commercial Bank (приобрел продукт на сумму 2,7 млрд. юаней за два транша).
Схема управления активами была создана в августе 2013 года. В августе 2014 года должны были пройти выплаты. Однако из-за проблем с ликвидностью банк не смог выплатить долг. В настоящее время неизвестно, как были использованы 3,7 млрд. юаней.
ANZ Research оценивает размер китайского теневого банковского сектора в 33 трлн. юаней по состоянию на середину 2014 года, что эквивалентно 58% ВВП Китая за 2013 год или 20% всех банковских активов страны. Китайские трастовые компании все чаще предупреждают о возможных дефолтах по продуктам, связанным с управлением средствами.
Напомним, что теневых банков в Китае практически не было до кредитного бума, начавшегося в 2009 году. Крупнейшим источником инвестиций в теневые банки являются обычные кредитные учреждения. Государство принимало многочисленные меры, направленные на борьбу с развитием теневой банковской системы в Китае, однако до сих пор финансисты без особенного труда обходили создаваемые барьеры.
Кредитование в Китае немного ожило в августе, после настораживающего июльского падения, передает Reuters. Тем не менее политики продолжают испытывать на себе давление, цель которого – запуск мер по стимулированию экономики. Однако, по словам премьер-министра Китая Ли Кекянга, страна не может полагаться на слабую кредитную политику в целях увеличения темпов роста.
По мнению Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics в Сингапуре, замедление роста кредитования следует приветствовать, поскольку экономический рост Китая должен стать более устойчивым и долгосрочным. Накачивание финансовой системы деньгами может спровоцировать спекуляцию, а не реальную экономическую активность.
В августе 2014 года китайские банки выдали кредиты на сумму 702,5 млрд. юаней ($114,6 млрд.), что больше по сравнению с июлем, но в пределах ожиданий. Непогашенные кредиты в юанях выросли на 13,3% по сравнению с предыдущим годом, что незначительно выше ожиданий (13,2%). Ранее, в июле 2014 года, объемы финансирования и кредитования в Китае неожиданно снизились, и это породило опасения, что банки сворачивают кредитование в ответ на увеличившиеся объемы «плохих» долгов и растущие риски охлаждения рынка недвижимости.
Moody’s понизило прогноз для бразильских банков
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по рейтингу крупнейших бразильских банков со «стабильного» до «негативного» уровня в среду, 10 сентября 2014 года, передает Wall Street Journal. Это произошло после снижения прогноза по суверенному рейтингу Бразилии, которое, в свою очередь, помимо прочих факторов было обусловлено вялой экономической активностью.
По информации Moody’s, прогноз по рейтингу был снижен для государственных банков Banco do Brasil и Caixa Economica Federal, а также для крупных частных банков Itau Unibanco, BancoBradesco и Banco Santander Brasil.
Прогноз по суверенному рейтингу Бразилии был понижен во вторник, 9 сентября 2014 года. На это решение повлияло сокращение государственных доходов и снижение уверенности инвесторов. Сейчас суверенный рейтинг Бразилии остается на инвестиционном уровне, на две ступени выше мусорного уровня.
Во втором квартале 2014 года объем бразильского валового внутреннего продукта (ВВП) снизился на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а пересмотренные результаты за первый квартал показали снижение ВВП на 0,2%. В настоящее время под рецессией принято понимать снижение ВВП в течение двух и более кварталов подряд. Согласно ожиданиям экономистов, в 2014 году ВВП Бразилии увеличится всего на 0,5% – по сравнению с 2,5% в 2013 году.
До сих пор Moody’s было настроено в отношении Бразилии более оптимистично, чем другое международное рейтинговое агентство – Standard&Poor’s, которое присвоило мусорный статус долгосрочным бразильским облигациям еще в марте 2014 года, сославшись на те же проблемы, что и Moody’s.
Ранее, в августе 2014 года, Центральный банк Бразилии предпринял два действия, направленные на оживление экономики, согласно Reuters. Во-первых, был снижен объем капитала, который коммерческие банки должны держать на депозитах в центральном банке – на 10 млрд. реалов. Ранее, в июле 2014 года, аналогичным образом были высвобождены 30 млрд. реалов. Во-вторых, был сокращен объем капитала, который банки должны иметь для обеспечения коммерческих кредитов. Это действие освободило еще около 15 млрд. реалов. Таким образом, всего в августе 2014 года объем капитала, доступный для коммерческого кредитования, возрос приблизительно на 25 млрд. реалов ($11,1 млрд.).
Банки желают работать с ApplePay
Компания Apple намерена занять более важное место в финансовом мире. На минувшей неделе она представила свою новую платежную систему ApplePay. Банки и крупные платежные системы (Visa, Mastercard, American Express) с большим рвением готовы сотрудничать с Apple, что говорит как о влиянии данной корпорации, так и о том, что в настоящее время финансовые организации сталкиваются с серьезными вызовами со стороны высокотехнологичных компаний, сообщает New York Times.
ApplePay может поставить под угрозу некоторые потоки банковской выручки. Тем не менее кредитные организации готовы предложить компании более низкие ставки, чем они обычно взимают за транзакции с кредитными картами. Они надеются, что им удастся компенсировать свои скидки за счет проведения операций нового типа, которые в настоящее время оплачиваются с помощью наличных денег или иными способами.
Крупным платежным системам не придется платить за работу с Apple, однако, по мнению некоторых аналитиков, ApplePay способна в конечном итоге снизить проценты, которые и банки, и платежные системы могут взимать с магазинов и различных заведений. Комиссии по кредитным картам в значительной степени используются для покрытия издержек кибермошенничества. Ожидается, что число случаев карточного мошенничества значительно снизится с появлением ApplePay, в котором платеж будет подтверждаться отпечатком пальца.
Платежные системы и банки давно работали над созданием системы, которая позволит клиентам совершать платежи без передачи персональных данных, с помощью цифрового токена, который может быть использован лишь один раз. Ожидается, что запуск ApplePay укажет путь развития платежных систем, где финансовые компании все еще останутся центральными игроками.
ApplePay будет запущен в октябре 2014 года в США. Поддерживаться будут только iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Компании также усиленно работают над тем, чтобы запустить новую платежную систему в других странах. ApplePay будет работать с тремя крупными платежными системами – Visa, Mastercard, American Express – и такими крупными банками, как Citigroup, Bank of America, Wells Fargo и др.
Кира Аккерман
Интервью с Хачиком Тололяном
(пер. с англ. А. Зубова и А. Логутова)
«НЛО»: Как бы вы могли вкратце обрисовать современное состояние диаспоральных исследований?
ХАЧИК ТОЛОЛЯН: Это поле исследований представляется достаточно интересным и активным, но в то же время неоднородным. Во-первых, эта категория сама по себе весьма инклюзивна и сейчас включает в себя ряд конфликтующих рабочих определений, что отличает современную ситуацию от ситуации, скажем, 1990 года, когда только лишь еврейские, армянские и греческие диаспоры опознавались как таковые. Во-вторых, в diaspora studies оказываются вовлеченными многие другие научные дисциплины: от антропологии, социологии и политологии до исследований в области постколониальной литературы, религиоведения, социально-экономической географии и т.д. В-третьих, это поле поистине интернационально. Журнал «Diaspora: A Journal of Transnational Studies», который я издаю, является типичным в этом отношении, так как в нем печатаются статьи авторов из Англии и США, Малайзии и Южной Африки, Индии и Франции и т.д. Каждый из авторов по-своему использует те же понятийные категории и привносит что- то новое в методологию.
«НЛО»: У стороннего наблюдателя, оценивающего ситуацию из российского контекста, складывается впечатление, будто концептуальное поле diaspora studies как таковое уже сложилось, но понятийный аппарат для его осмысления еще находится на стадии становления, внутренние границы между различными аспектами изучения диаспор до сих пор не определены. Насколько верно такое впечатление или, наоборот, оно не соответствует истине?
Х.Т.: И да, и нет. Да — в том смысле, что в diaspora studies нет одного авторитетного лица, которое диктовало бы, что такое diaspora studies, как следует определять эту дисциплину и как ее изучать. Ученые постигают традиции своей дисциплины в своей стране, они изучают подходы, появляющиеся в других странах и других дисциплинах, затем пишут сами и учат других. Если их работа принимается, то сперва она расширяет все поле исследований, а затем с течением времени те или иные подходы принимаются другими последователями дисциплины и становятся доминирующими. Но здесь нет полного согласия, и ни у кого нет достаточного авторитета, чтобы насильно утвердить его. В каком-то смысле взгляды, убеждающие большее количество ученых, побеждают.
К примеру, многие влиятельные ученые верят, что для диаспоры необходимо сохранять ориентацию на покинутую в свое время родину. Этого мнения придерживаются многие диаспоральные группы. Сионисты, например, подтверждают, что стремятся к тому, чтобы как можно большее число евреев вернулось в Израиль, но ведь к тому же стремятся и Государственный департамент США, и представители Всемирного банка, поскольку они бы хотели, чтобы диаспоры, появившиеся на Западе и ведущие происхождение из экономически малоразвитых стран, инвестировали в свои родные страны и способствовали их развитию. Эти представления обладают как концептуальными, так и политическими компонентами. Напротив, ряд других ученых полагает, что диаспоры должны обладать только двумя качествами: дисперсией и стремлением поддержать единую идентичность, т.е. сопротивление ассимиляции. В таком случае романи, или цыгане, которые не помнят родину и не заинтересованы в возвращении в родную северо-западную Индию, которую они оставили около 800 года н.э., составляют диаспору во втором смысле, а согласно первому определению — нет.
Более того, существуют категории, которые ученые принимают в теории, но на которых никто не фокусируется на практике. Диаспора, изучаемая с точки зрения количества денег, которые транснациональные эмигранты посылают домой («римесса»), и та же диаспора, рассмотренная с позиции обмена культурной продукцией, к примеру музыкой, циркулирующей между метрополией и различными диаспоральными сообществами, в результате может показаться двумя разными диаспорами. В том случае, если ученый не концентрируется на транснациональном, кросскультурном обмене, но, напротив, изучает функционирование институций диаспоры, таких как школы, места религиозного почитания и политические органы, то та же диаспора вновь будет выглядеть иначе. В теории, эти и другие подходы должны быть синтезированы, что в итоге позволило бы увидеть полную картину той или иной диаспоры, но на практике это малодостижимо.
«НЛО»: Насколько сильно — или, наоборот, слабо — понимание диаспоры в современных теориях отличается от традиционного представления? Я имею в виду такие определения, как предложенное в английском разделе «Вики- педии»: «Диаспора — это рассеянное население с общим происхождением на небольшой географической территории. Диаспора также может означать миграцию населения с исторической родины».
Х.Т.: Трудно сказать, поскольку даже традиционные определения могут отличаться друг от друга. Рассмотрим несколько наиболее существенных пунктов, ставших объектами споров в ранних определениях понятия. Во-первых, это причины миграции с родины: еврейские и американские мыслители делают акцент на насильственной высылке как причине возникновения диаспоры. Но это далеко не единственная причина. Первая волна евреев, несомненно, была сослана в Вавилонское изгнание силой, но в Египте к тому моменту уже существовали еврейские общины, и уже после окончания Вавилонского изгнания многие евреи «добровольно» продолжали эмигрировать по экономическим причинам. Первая волна дисперсии армян была спровоцирована жестокой политикой тюркских правителей Сельджукидов, однако причинами последующих волн эмиграции были уже экономическая бедность и поиск более благоприятных возможностей в жизни. Рассмотрим и другой пункт, особенно ценный для ряда еврейских ученых: цель любой диаспоры — возвращение в метрополию. В то же время большинство людей — представителей одной диаспоры, раз обосновавшись в новой стране, предпочитают там и остаться. Так, в настоящее время многие евреи возвращаются в Израиль, многие, наоборот, уезжают, но многие же продолжают оставаться на своих местах, в Англии или Бразилии. Такие разные типы поведения характеризуют большие, наиболее развитые диаспоры.
Мне кажется, такое усложнение частично связано с тем, как по-разному можно понимать «принудительную высылку». Миграция киргизских и армянских рабочих в Россию с 1991 года связана не с тем, что они подвергались преследованию на родине, а, в первую очередь, с отсутствием там рабочих мест или с заработной платой ниже прожиточного минимума. Можно ли описать эту ситуацию как экономическое насилие? Является ли диаспора, возникшая в результате экономической нищеты, в той же степени диаспорой, как и та, которую составляют пережившие резню или геноцид? Очевидно, эти две диаспоры во многом отличаются: к примеру, механизмы коллективной памяти диаспоры, скрепляющей ее в единое сообщество, в обоих случаях функционируют по-разному. В то же время обе они представляют собой сообщества рассеянных по миру людей, сохраняющих транснациональные связи и общее желание сопротивляться ассимиляции и сохранять собственную идентичность. Моя позиция и позиция многих моих коллег состоит в том, что все это примеры диаспор, однако они не поддаются единой концептуализации.
«НЛО»: Обычно считается, что диаспоральное сообщество — это сообщество с твердой и последовательной установкой на закрытость, но насколько закрытыми можно считать реальные диаспоры? Можно ли приблизительно выстроить какую-либо «градацию» этой закрытости? Насколько вообще диа- споральное сообщество закрыто или открыто для соседних культур и этносов?
Х.Т.: Опять же, ответ зависит от места и времени. Раньше было проще сохранять закрытость диаспоральных сообществ, когда доминировали такие факторы, как религиозная самоидентификация, этнические и расовые предрассудки, затрудненная и ограниченная мобильность, сокращенный уровень коммуникации, закрытое хозяйствование с определенными экономическими нишами только для представителей диаспор, недоступность высшего образования, необязательность несения военной службы для всех. При таких условиях, которые до недавнего времени были превалирующими для всего мира, лидерам диаспоральных сообществ было проще разрабатывать стратегии убеждения своих членов в необходимости сохранения и поддержания границ сообщества закрытыми, а также успешно добиваться определенной модели поведения — запрета на междиаспоральные браки, ограниченных и формализованных контактов между членами диаспоры и представителями сообщества принимающей страны и полного отсутствия ассимиляции. Однако и в этой ситуации многое зависело от поведения именно принимающей стороны: если общество оказывается нетерпимым, то оно не позволяет интеграцию меньшинств, включающих и диаспоральные меньшинства, она для него оказывается нежелательной. Ни одно общество Европы, кажется, не пожелало интегрировать цыган; американское общество было более открыто интеграции поляков и евреев, чем афроамериканцев. Некоторые общества и страны практиковали религиозные преследования и попытки обращения в определенную веру — к примеру, в Византии армяне массово принимали православие, с одной стороны, из-за давления правительства, с другой — стремясь использовать карьерные возможности, открытые для обращенных в православие.
Сегодня правительства многих стран меньше демонстрируют националистическое и пуританское отношение к сообществам и, наоборот, более открыты для культурной гибридизации, не практикуют жесткого и принудительного приобщения к социальным, культурным и экономическим нормам. Они все чаще позволяют социальное, культурное и экономическое самоопределение, возможности и способы интеграции в сообщество принимающей страны и получения гражданства. (Я знаю, что до сих пор существует ряд государств, где подобное отношение не в ходу, однако в глобализированных странах это доминирующая линия поведения.) Мы наблюдали примеры такого прогрессивного движения в сообществах, ориентированных на открытость и инклюзивность, что ведет к облегченному контакту с обычаями другой культуры, как это происходит сейчас в Америке. На настоящий момент подавляющее большинство японо-американских браков совершаются за пределами одной группы. Это заметное изменение по сравнению с ситуацией 1970-х годов. Значительный процент браков евреев и армян в Америке заключается не с членами их диаспоральных групп. Снижение роли религии, распространение университетского образования, телевидение, музыка и Интернет — все это способствует становлению единой глобальной молодежной культуры, более сильной, чем культура диаспоры. Однако это движение может быть замедлено или даже обращено вспять при изменении поведения принимающей стороны. Может казаться, что история неумолимо движется в одном направлении, но затем она внезапно меняет курс.
«НЛО»: Какова реальная или воображаемая связь диаспоры с метрополией? Каково взаимоотношение культур диаспоры и метрополии? Х.Т.: На этот вопрос не может быть единого ответа ни с точки зрения исторической перспективы, ни в настоящем. Древнейшая и в каком-то смысле показательная диаспора — еврейская — не могла иметь контактов с метрополией, поскольку в 66—134 годах н.э. войны с Римской империей привели не только к разрушению священного города Иерусалима, но и буквально к разорению всей страны. В течение нескольких веков продолжали существовать маленькие религиозные сообщества, и они же создали первый Иерусалимский Талмуд. Однако уже к 500 году н.э. первенство получили вавилонские евреи и их Талмуд. С трудом верится, что между 500 и 1880 годами н.э. в Палестине / Израиле могло быть больше 3—4 тысяч евреев одновременно. Схожим образом, африканские рабы в США не имели возможности устанавливать контакты с родиной, однако диаспора имела четкие границы, так как американское правительство препятствовало ассимиляции, а такие факторы, как жестокость извне и создание внутри сообщества сильной религиозной, устной и музыкальной культуры, унаследованной потомками рабов, помогли становлению особой идентичности. Другие диаспоры, к примеру армяне, никогда не теряли контакта с метрополией, однако количество и качество контактов могли сильно различаться.
Отчасти отличительной чертой диаспор в ситуации после 1960-х годов является легкость, с которой можно путешествовать на родину, и постоянная циркуляция видео-, телефонных и электронных сообщений между странами. Даже в тех случаях, когда метрополия располагается далеко, как, к примеру, Индия от Америки, большое количество состоятельных индусов ежегодно посещают родину. Для сравнения вспомним, что в 1910 году письмо из Чикаго в Одессу могло идти около трех недель, и столько же обратно. В год таких контактов могло совершаться не более семи-восьми. Сейчас я знаю мигрантов, которые ежедневно общаются со своими семьями, живущими на расстоянии семи тысяч километров. Они могут пересылать деньги, подарки, видео и «селфи». Сейчас упрощение контактов с родиной продолжает усиливаться.
Разумеется, формы культурных и других видов взаимодействий имеют куда более комплексный характер. Связи с литературной традицией метрополии исчезают быстро, поскольку многие мигранты либо малообразованны, либо слишком заняты зарабатыванием денег, либо утрачивают язык метрополии за одно поколение. Если правительство принимающей страны практикует политику подавления, то возможности контакта еще более усложняются. При экономическом подавлении контакты полностью прекращаются. Между 1979 и 1989 годами, после того как Дэн Сяопин открыл экономику Китая, 85% всех иностранных инвестиций в Китай поступило от китайцев из Южной Азии. Последние повели себя стремительно и эффективно, как только для них стало очевидно, что они могут свободно инвестировать средства в свою страну и получать от этого выгоду.
«НЛО»: С позиции живущих в диаспоре людей, она выступает как депозитарий культурных кодов, идеологем и ценностей, которые были присущи метрополии и теперь должны быть сохранены. Насколько это правдиво с точки зрения внешнего наблюдателя-антрополога?
Х.Т.: И да, и нет. Распространенная проблема состоит в том, что открытые диаспоры, т.е. те, которые не загоняются в гетто, стремительно теряют многие из этих кодов и ценностей. В то же время многие меньшие фракции, наоборот, придерживаются их. О диаспоральных социальных формациях (таких, как в национальных сообществах) лучше думать как о массе населения, занятой работой или отдыхом и вовлеченной в прочие рутинные практики, маркирующие ее идентичность. Однако всегда существует маленькая группа людей, более преданных и активных, посвятивших себя общей идее. Они и составляют ядро сообщества, работающее на сохранение угасающих традиций, некоторые из которых время от времени могут возрождаться.
В качестве иллюстрации приведу пример. Некоторое время назад израильское правительство решило документировать все еврейские танцы в каждой диаспоре, начиная с исполняемых в Йемене и Марокко и заканчивая теми, что существовали в Восточной Европе до становления Израиля. Обнаружилось, что никто в Израиле не имел ни малейшего представления, как исполнять определенные танцы, скажем, из Восточной Польши, хотя название танца в памяти диаспоры продолжало жить. В то же время проживающие в Бруклине хасиды до сих пор сохраняют традицию исполнения этого танца. Этот пример показывает возможность сохранения старых традиций в диаспоре и говорит о важности того факта, что сообщества метрополий могут меняться очень быстро. И в процессе изменений эти сообщества, будучи уверенными в своей идентичности, уходящей корнями в их родину, отбрасывают старые традиции с большей легкостью, нежели более мелкие диаспоральные группы. Но в целом следует сказать, что в диаспорах традиции исчезают стремительно.
Важно отметить, что это не всегда является следствием ассимиляции. Те диаспоры, которые придерживаются старых культурных практик, определяющих их идентичность, продолжают существовать. Однако когда эти практики исчезают, сообщество просто-напросто изобретает новые с целью поддержания определения себя как особой диаспоральной группы, отличной от окружающего общества принимающей страны. Механизм выживания диаспоры — непрерывное производство маркеров различия. В конце концов они оказываются отличающимися не только от принимающей страны, но и от культуры предков их родной метрополии. Такая двунаправленная дифференциация является основной особенностью диаспор. Конечно, связь с утраченными традициями может быть более или менее выраженной. Так, в 1970-е годы в молодежных клубах Лондона группа молодых пенджабцев, иммигрантов из Индии, вдохновившись древним земледельческим танцем из их родного региона и усовершенствовав его танцевальными стилями черных иммигрантов с Карибских островов, изобрели танец «бхангра». Этот танец, будучи продуктом этой диаспоры, также получил широкое распространение и популярность в среде молодежи в Индии. В настоящее время дифференциация нередко становится следствием транснациональной циркуляции практик и смыслов.
«НЛО»: Каким образом сообщество, в основе которого уже не лежат привычные категории территории / гражданства / национальной идентичности, выстраивает свою культурную идентичность и какие компенсаторные механизмы оказываются вовлечены в это производство идентичности?
Х.Т.: Для начала к этим трем категориям я бы хотел добавить еще две: экономическую и религиозную идентичность. Не думаю, что здесь стоит распространяться о религиозной идентичности. Эта категория говорит сама за себя. Но позвольте мне подробнее остановиться на экономической идентичности. Единственное, в чем полностью соглашаются и убежденные марксисты, и «махровые» капиталисты, — это то, что экономика является базовой категорией человеческой жизни. Сегодня под воздействием глобализации народы, живущие на своей территории как граждане своего национального, независимого государства, говорящие на родном языке, обнаруживают, что условия их жизни изменились кардинально из-за того, что экономика больше не является национальной. По определению, это всегда было верно для диаспор — они всегда живут в «чьей-то еще» (народной или государственной) экономической среде. Диаспоры изначально занимают определенную экономическую нишу. Существует старый термин — «меньшинство комиссионеров», описывающий преимущественно евреев, армян, китайцев и диаспоры индийцев в Британской Восточной Африке. Эти диаспоральные меньшинства выработали не только свои собственные коммерческие практики, но и коллективную идентичность в экономической нише в качестве посредников между превалирующим земледельческим населением и полуфеодальной аристократией. Евреи и армяне в Польше между 1340 и 1650 годами были ювелирами, ростовщиками, искусными ремесленниками, но не крестьянами. Китайцы играли схожую роль в Индонезии и Таиланде, однако этот пример немного сложнее, так как в некоторых случаях они также выступали и в роли «рабочих-кули» (наемных землепашцев). Путешествуя по Европе и Северной Америке, нельзя не заметить, что менялы, владельцы газетных киосков, заправочных станций и мотелей и мелкие лавочники в большинстве случаев — индийцы. Все эти нишевые экономики позволяют определить культурную ориентацию и идентичность диаспоральной мелкой буржуазии, тем не менее обладающей сильными транснациональными связями.
Уместным будет добавить, что вопрос об «идентичности» сам по себе крайне сложный и практически нерешаемый. Два уважаемых американских исследователя, Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер, в длинной статье «За гранью идентичности» пишут, что хотя мы и используем термин «идентичность», но по-настоящему в нем не нуждаемся, а его использование часто приводит к путанице. В рамках академического дискурса, утверждают авторы, исследование, проводимое через призму понятия «идентичность», может стать более продуктивным, если использовать комбинацию других, менее абстрактных терминов. Насколько я могу судить, хотя и не существует общепринятой и наглядной теории идентичности, многие из нас тем не менее продолжают до сих пор использовать термины «идентичность» и «культурная идентичность» в повседневном общении, в академических дебатах и научных исследованиях. Очевидно, если и существуют русская или американская коллективные идентичности, которые продолжали бы работать на протяжении длительного времени, то в таком случае нам необходим анализ того, как общество и культура, работающие через семью и институциональные структуры, воспроизводят эту идентичность внутри индивидуумов, обеспечивая ею каждого новорожденного внутри сообщества. Сейчас у нас накопилось много наблюдений и идей, но никакой адекватной общей теории. Конечно, мы знаем, что родительские институциональные практики имеют значение. Но в то же время мы не можем объяснить, почему, когда в диаспоре в одной семье рождаются два сына, скажем, с разницей в два года, один из них наследует диаспоральную идентичность, а второй — наоборот, максимально отдаляется от «породившего» его сообщества. И в этом нет ничего удивительного, ведь точно так же мы не можем ответить на вопрос, почему, в то время как один из двух братьев, выросших в одной семье, становится трудолюбивым и порядочным человеком, другой превращается в грабителя-наркомана. Вопрос, что является решающим фактором в становлении человеческой личности — биология, семья, более крупная родовая группа или сообщество, — большая загадка для ученых, чем они готовы признать. И эта загадка тесно связана с вопросом о диаспоральной идентичности.
«НЛО»: Существует конструктивистское представление, что диаспора, как инация, — это конструкт, «воображаемое сообщество». Насколько это представление можно считать работающим? Является ли диаспора сообществом, сконструированным только изнутри, или окружающий контекст тоже ее конструирует? И если да, то как?
Х.Т.: Когда Бенедикт Андерсон ввел представление о том, что нации — это непременно воображаемые сообщества, он имел в виду то, что — в отличие, например, от жителей деревни — члены нации не вовлечены в повседневное личное взаимодействие друг с другом и не связаны интересами и целями, возникающими в подобном взаимодействии. Будучи специалистом по Индонезии, Андерсон хотел обратить внимание читателя на то, что, к примеру, жители северо-западной Суматры, отделенные, скажем, от острова Малуку тремя тысячами километров океана, восприняли новую общую индонезийскую идентичность, научившись воображать себя частью обширного, но закрытого сообщества. Им это удалось во многом благодаря технологическим инновациям XIX века, и в особенности — развитию печати.
В андерсоновском смысле диаспоры всегда и неизбежно «воображаемы». Чтобы дать им адекватное описание, нужно отметить существование локальныхдиаспоральных сообществ, связанных друг с другом различными способами. Во-первых, это интранациональные связи, существующие, к примеру, между армянскими общинами Парижа, Марселя и Лиона или — насколько я могу предполагать — Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Во-вторых, они вступают в транснациональные, преодолевающие государственные границы, связи с другими локальными сообществами. Например, армяне Москвы могут поддерживать контакты с армянами Лос-Анджелеса, Парижа или Нью-Йорка. Разумеется, все эти сообщества не теряют связи с Арменией. Подобное сочетание локальных и транснациональных связей и обеспечивает существование абстракции, известной как глобальная армянская диаспора.
Диаспора представляет себя не в абстрактных терминах, а посредством различных форм интенсивного коммуникационного обмена, превышающего по силе любые формы печатной коммуникации, доступные в XIX столетии. Сегодня турки в Берлине, ереванские армяне в Лос-Анджелесе и ливанцы в Нью-Йорке могут благодаря спутниковому телевидению круглосуточно следить за новостями из метрополии; многие из них также пользуются компьютерами и мобильными телефонами для оперативного общения со своей родней. Кроме того, существуют институционализированные формы контактов, обеспечиваемые низкой стоимостью путешествий: священники, филантропы, политические активисты, ученые, интеллектуалы и люди творческих профессий постоянно перемещаются с места на место. В обмен вовлечены и идеи, и деньги. Значительная часть онлайн-общения происходит на английском или французском языке, так как китайцам в Сингапуре, Гавайях или Лондоне (так же как индийцам из Калькутты, Йоханнесбурга или Сан-Франциско, гаитянам из Майами, Монреаля или Парижа) легче удается спорить или соглашаться со своими онлайн-респондентами на этих языках. Исследователи диаспор нередко читают эту переписку и наблюдают новые интересные способы конструирования диаспоральной идентичности: в онлайн-общении черты местных диаспоральных сообществ играют меньшую роль, чем дискурс воображаемой глобальной диаспоры. Иногда это может привести к опасным последствиям: появлению глобальных форм национализма, не привязанного к национальному государству.
«НЛО»: Какую роль в жизни диаспор играют практики памяти? Каким образом передается эта память?
Х.Т.: Память — это, несомненно, один из ключевых связующих элементов, обеспечивающих единство диаспоры во времени и пространстве. Но обобщить этот очевидный факт нелегко. В каком-то смысле память в диаспоре работает так же, как и в метрополии. В диаспорах, как правило, празднуются все те исторически памятные события, что и в метрополии: для мексиканских общин США «Синко де майо» (5 мая) не менее важен, чем для жителей Мехико. Праздники местного значения также сохраняют свою значимость: население Маленькой Италии в Нью-Йорке отмечает день Святого Януария с тем же размахом, что и в Неаполе (как это верно изображено в «Крестном отце 2» Копполы). В маленьком городке Миддлтаун (50 тысяч жителей), где я живу, польский праздник Ченстоховской Черной Мадонны и сицилийский праздник Святого Себастьяна отмечаются этническими группами, нередко демонстрирующими диаспоральное поведение. (Этнические группы и диаспоры — разные явления; все диаспоры являются этническими группами, но не все этнические группы диаспоральны.)
Повторю еще раз, что особенно остро личное и коллективное сталкиваются именно в сфере памяти. Каким образом коллективные воспоминания становятся личными? В диаспорах, переживших акты принуждения и насилия, особенно устойчивы воспоминания о травматических событиях. Но каким образом я, сын армян, переживших геноцид в Османской империи, или дети евреев — жертв Холокоста (такие, как моя коллега и подруга Мариан Хирш) способны сохранять эту память? Ни я, ни она не переживали этих страшных событий. Как можно помнить то, что с тобой не происходило? Исследуя старые фотографии и тексты, профессор Хирш ввела новый термин «постпамять» (postmemory), обозначающий воспоминания, внушаемые при помощи семейных и прочих нарративов тем, кто, по определению, не может помнить самих событий.
Разумеется, уже во втором поколении потомков переживших катастрофу передача памяти становится довольно сложной и основывается на очень разнообразных приемах и практиках. К примеру, существуют так называемые «объекты наследия» (legacy objects) — не обязательно обладающие художественной ценностью ремесленные изделия, несущие в себе стиль или способ производства, характерный для метрополии до катастрофы: керамическая поделка, привезенная немецкой семьей из Венгрии в Миннесоту в 1848 году; лакированная шкатулка, привезенная из Китая около 1850 года; вышитый носовой платок, привезенный из армянского Мараша век назад; кулинария, местные песни и, конечно же, разнообразные типы повествований (истории, фотокарточки, письма, дневники и т.д.). Все это вносит вклад [в сохранение памяти]. Изучение форм культурной памяти стало сейчас особой научной субдисциплиной, основанной на работах ряда исследователей — от Мориса Хальбвакса до Яна Ассмана или Питера Бёрка, а также на мемуарных и художественных текстах. Музеи, временные выставки, учебники по истории для диаспоральных школ, споры вокруг устной истории, психоаналитические подходы к анализу травмы и бессознательного — все эти объекты, механизмы и практики формируют культурную и социальную память и способствуют образованию постпамяти у членов диаспоры.
«НЛО»: Каким образом изменение доступности текстовых, визуальных, аудиальных и т.д. медиатехнологий в диаспоре и метрополии отражается на конструировании и циркуляции идентичностей? Каким образом такие ключевые компоненты наций и диаспор, как коллективная память и общий язык, изменяются с появлением новых медиа?
Х.Т.: Переход к цифровым медиа изменил все — начиная от сексуальных практик и кончая преступностью в диаспорах. Влияние медиа на диаспоральные сообщества необходимо анализировать в терминах двух отдельных феноменов. Необходимо прояснить способы передачи информации и способы культурногопроизводства. В определенном смысле я уже касался этой темы: в настоящее время члены диаспоры могут с поразительной скоростью узнавать подробности о событиях в жизни метрополии, их семей, об экономических и политических изменениях в масштабах целой нации — и эта информация не подвергается фильтрации или контролю со стороны крупных организаций. К примеру, я подписан на ANN, армянскую новостную службу, которая генерирует подборку из всех онлайн-новостей, содержащих слова «Armenia» или «Armenian». В результате каждое утро я получаю 100—150 новостей на английском или французском языке самого разного объема и тематики: начиная от описания того, как армяне отмечали годовщину геноцида в Марселе, и кончая тем, как поживает футболист Генрих Мхитарян, играющий за немецкую «Боруссию». Кроме того, в моих руках оказываются десятки веб-ссылок на разного рода статьи и видео. В обычный день я трачу на просмотр этих сообщений не менее часа, иногда — больше. Разумеется, это делают далеко не все. По разным оценкам, около двух или трех тысяч армян занимаются чем-то подобным ежедневно. По выражению Габриеля Шеффера, их можно назвать «ядерными» членами диаспоры. Как говорилось выше, разные люди по-разному участвуют в поддержании существования диаспор, и главная роль в этом деле принадлежит целеустремленным, активным, легко мобилизующимся индивидам.
Участие в общении, в обмене идеями, изображениями и аудиовизуальными материалами очень важно. Со временем даже интеллектуалы старшего поколения, такие как я, привыкшие читать бумажные книги, овладевают цифровыми технологиями. Для наших молодых коллег цифровой мир стал естественной средой существования, в которой они живут, работают, развлекаются и принимают на себя разного рода обязательства. «Цифровое целеполагание» (digital commitments) активно исследуется учеными. Каким образом рассеянные по миру члены диаспоры, сидя за экраном компьютера, создают новые связи, затевают новые разговоры, конструируют новые диаспоральные дискурсы и практики, в которых не просто воспроизводится уже известная, доступная иными способами информация, но придумывается ипроизводится новая?
Немецкий антрополог Мартин Зёкефельд предпринял попытку показать то, каким образом социальные движения могут создаваться в Сети, на примере возрождения уникального (как в этническом, так и в религиозном смысле) сообщества алевитов в Турции, которое последовательно уничтожалось властями с 1923-го по 1980 год. Начиная с 1960-х годов некоторые алевиты начали в индивидуальном порядке переезжать в Германию, утратив практически все устные традиции и коллективные практики. Зёкефельд демонстрирует, как с конца 1980-х им удалось восстановить утраченные традиции и воссоздать свое сообщество при помощи использования цифровых технологий не только в политических, но и в культурных и религиозных целях.
В своем исследовании диаспорального киберпространства Виктория Бернал показала, как беженцы из Эритреи и другие мигранты, покинувшие свою родину в результате тридцатилетней войны за независимость Эфиопии (1961—1991), использовали новые медиа для консолидации публичного пространства диаспоры и политической мобилизации культурных центров. Пнина Вербнер, работавшая с пакистанским населением Англии, и Арджун Аппадураи, более известный теоретическими исследованиями, также подчеркивают важность цифровых технологий для развития публичного пространства диаспор. Разумеется, этот процесс имеет и негативные стороны. Анонимность интернет-общения открывает возможности для распространения нелицеприятных политических мнений и культурных предрассудков. Пожалуй, самые уродливые формы индусского диаспорального национализма родились именно в Сети. В статье «Кибераудитории и диаспоральная политика в транснациональном китайском сообществе» («Cyberpublics and Diaspora Politics among Transnational Chinese») антрополог Айхва Онг показывает, как глобальная цифровая диаспора, оторванная от повседневности социальных взаимодействий, порождает новый культурный дискурс, предпочтение в котором отдается сомнительным эссенциалистским абстракциям.
«НЛО»: В какой степени жизнь диаспоры определяется культурными стереотипами? На основании каких критериев представители диаспоры формулируют свои отличия от окружающих обществ? Какими способами конструируются эти отличия?
Х.Т.: Стереотипы распространены в диаспорах, но в меньшей степени, чем в окружающих их сообществах, где, подкрепляемые государственной властью, они особенно опасны. И весело, и грустно наблюдать за тем, как разные диаспоры часто пытаются подтвердить свою уникальность, прибегая к одним и тем же стереотипам. «Мы — семейные люди», — говорят о себе итальянцы, армяне, китайцы и вьетнамцы в Америке, полагая, что только им свойственно уважение к семейным ценностям, которым они объясняют свои успехи и в котором отказывают другим диаспорам.
На практике стереотипы используются диаспоральными меньшинствами как орудие критики большинства, среди которого они живут. К примеру, я слышал от американских армян и корейцев утверждение: «Мы — трудолюбивые семейные люди, в отличие от американцев, которые здесь всегда жили». Иногда подобные высказывания принимают форму настоящего расизма, направленного против афроамериканцев. Иногда они носят более общий характер: многие иммигрантские диаспоры (евреи, армяне, греки, китайцы, индийцы) в среднем более экономически успешны, чем коренные американцы — как белые, так и черные. У членов этих диаспор возникает недоумение по поводу того, почему коренные жители за многие века так и не воспользовались преимуществами жизни на «благословенной» (blessed) земле (в США, Австралии или Канаде), и они склонны объяснять свой быстрый успех при помощи снисходительной стереотипизации местного большинства, приписывая последнему лень, любовь к алкоголю и наркотикам или сексуальную распущенность. Разумеется, большинство отвечает тем же, только уже в более опасных формах. Меньшинствам, специализировавшимся на посредничестве в торговле (евреи, армяне, китайцы и индийцы) и достигшим делового успеха в преимущественно сельскохозяйственных районах, часто приписывалась жадность и нечестность: «Разве приезжие могут разбогатеть за одно поколение? Наверняка они нас грабят». Подобные идеи могут привести к дискриминациям или даже массовым убийствам. Так что — да, стереотипы существуют. Но, по крайней мере, в США и Канаде их становится меньше.
«НЛО»: Можно ли — и если да, то на каких основаниях — причислить к диаспорам «пограничные» социальные формы: например, микросообщества, образуемые в процессе «внутренней миграции» в закрытых обществах, или вовлеченные в трудовую миграцию «переходные» группы, еще не обретшие гражданского статуса в новой стране, не организовавшие собственных культурных институтов и находящиеся в «серой зоне неразличимости» между двумя или несколькими социумами?
Х.Т.: По этому поводу есть самые разные мнения. Мобильность стала частью человеческой жизни с тех пор, как первый Homo sapiens вышел из Африки 150 тысяч лет назад. То есть диаспора, понимаемая в смысле результата расселения популяции, возникла еще в древности. В своих работах я использую термин «расселение» как общую категорию, частным случаем которой является «диаспора», которая — в силу исторических причин — стала тем, что в риторике определяется как «синекдоха», т.е. частью, заменяющей целое.
В каких условиях сообщества расселения становятся диаспорами? Можно ли назвать все сообщества мигрантов диаспоральными? Моя исследовательская позиция по этому вопросу не самая популярная. По моему мнению, диаспоры должны отвечать целому ряду критериев: (1) члены диаспоры должны быть разбросаны по государствам вне своей метрополии, но при этом (2) как можно дольше сохранять свою изначальную идентичность, чтобы затем создать новую, основанную на поддержании культурных и прочих различий. Кроме того, (3a) они ощущают родство со своими бывшими соотечественниками, разбросанными по другим странам, а также — в большинстве случаев — (3b) с теми, кто остался в метрополии. И, наконец, (4) я предпочитаю определять подобные людские образования как «транснациональные сообщества» в переходном состоянии, превращающиеся через три и больше поколений в «настоящие диаспоры». Подобные критерии кажутся большинству моих коллег слишком произвольными, но, по-моему, это не так. У первого поколения мигрантов независимо от того, покинули они свою родину вынужденно или добровольно, еще сильна память о доме и о семейных узах — они живут в «транснациональной семье». Во втором поколении эти связи ослабевают, но остаются значимыми — дети мигрантов знают своих бабушек, дедушек, дядей и племянниц, проживающих в метрополии. В третьем и последующих поколениях, когда связи с бабушками и дедушками, двоюродными братьями и сестрами окончательно исчезают, а личные обязательства не успевают приобрести фундаментальное значение, выбор в пользу сохранения и дальнейшего развития особой идентичности становится по-настоящему осмысленным. Разумеется, в разные исторические периоды это происходит по-разному. Как уже было сказано выше, если большинство населения новой страны отвергает ваше сообщество, оно с легкостью остается диаспоральным. Но если в условиях культурной гибридизации, отсутствия проблем с получением гражданства и равенства экономических возможностей, характерных для многих современных социумов, группа продолжает поддерживать свою обособленность, то можно говорить о ее полной диаспоризации.
Большинство других определений не столь детальны и строги, а потому довольно разнообразны. Робин Коэн, работающий в Оксфорде и много сделавший для расширения определения «диаспоры», выделяет такие типы, как вик- тимная диаспора (victim diaspora), торговые и купеческие диаспоры, трудовая диаспора, а также «имперская диаспора», состоящая из колониальных чиновников и поселенцев. Пол Гилрой, используя термин «Черная Атлантика», выделяет культурную диаспору чернокожих, вышедших из Африки и обретших вторую родину в Бразилии, на Ямайке, в Гайане, США, на Кубе или в Лондоне, для которых путешествия, культурный обмен и циркуляция произведений искусств, художников и интеллектуалов стали определяющими факторами единства сообщества. В этом смысле «черная диаспора» как социальная формация обязана своим существованием культуре, производимой меньшинством и открытой к заимствованиям со стороны большинства. На мой взгляд, подобное положение имело место во многих диаспорах на протяжении очень долгого времени. Тем не менее споры продолжаются — и, поскольку интеллектуальные, психологические и политические силы уже преодолели национальные границы, точка в них будет поставлена еще очень нескоро.
Пер. с англ. Артема Зубова и Андрея Логутова
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Этническая идентичность как вынужденный выбор в условиях диаспоры: парадокс сохранения и проблематизации «русскости» в мировом масштабе среди эмигрантов первой волны в период коллективизации
(пер. с английского А. Логутова)
Лори Манчестер
Русское зарубежье обладало всеми характеристиками, свойственными современной нации (кроме, разумеется, территориального единства). Разбросанные по шести континентам русские были связаны друг с другом «национальным публичным пространством»: новыми праздниками, международной прессой, благотворительными, образовательными и бюрократическими институциями, а также культурой, армией и публичными зрелищами (театром)[1]. В 1920-е годы самопровозглашенные интеллектуальные лидеры русского зарубежья видели свою миссию в сохранении дореволюционного культурного наследия и пестовании новой, бесцензурной, русской культуры[2]. Первому поколению эмигрантов в высшей степени успешно удалось избежать ассимиляции, и, казалось, сохранение и распространение русской культуры шло своим чередом. Русское зарубежье продолжало традиции дореволюционной России, а его обитатели по умолчанию отрицали новую советскую государственность. Важнейшей для поддержания культурной преемственности частью их национального проекта была попытка представить зарубежную диаспору как исчислимое и поддающееся учету сообщество единомышленников. Тем не менее при более пристальном рассмотрении вопрос о том, чью культуру они пытались сохранить и приумножить, оказался не столь однозначным.
Идеи единого национального проекта появляются в русском зарубежье во время заката нэпа и начала процесса коллективизации, когда многим эмигрантам стал очевиден масштаб насаждаемых Сталиным преобразований. Военное сопротивление большевистскому режиму сошло на нет, и перспектива возвращения на родину становилась все отдаленнее. Наиболее известные проекты национального строительства, осуществлявшиеся по инициативе эмигрантских лидеров, подразумевали среди прочего расширение культурного присутствия России в мире посредством создания прочной экономической базы: кредитных банков, кадровых бюро, страховых компаний, профсоюзов, больниц и сиротских приютов. Однако в этой статье мы хотели бы разобрать один частный, «любительский» национальный проект, на примере которого видно, какое смятение внесли в ряды эмигрантов первой волны попытки определить критерии принадлежности к русскому зарубежью[3].
В 1927 году недавно потерявшая мужа баронесса Мария Врангель (1857— 1944), мать генерала Врангеля, запустила процесс сбора сведений от «кажд[о- го] эмигрант[а], где бы он ни был», относительно бытовых условий жизни за границей[4]. Для баронессы, никак себя до этого не проявлявшей в общественной деятельности (если не считать короткого периода работы в сфере образования и впоследствии в Красном Кресте во время Первой мировой войны), этот проект стал одной из многочисленных инициатив, направленных на документирование истории эмиграции[5]. При помощи газетных объявлений, писем подписчикам консервативной белградской газеты «Новое время» и знакомым с просьбой прислать ей имена и адреса всех известных им эмигрантов за несколько лет баронессе удалось собрать информацию по примерно четыремстам эмигрантам, проживавшим в пятидесяти восьми странах[6]. Вопросы, которые она задавала своим респондентам, варьировались. Баронесса не пользовалась опросными листами, задавая вопросы в форме письма. Судя по всему, набор вопросов определялся в том числе местом жительства конкретного человека. Чаще всего повторялись просьбы оценить количество русских в стране проживания, описать их юридический статус, отношение к ним со стороны властей и местного населения, перечислить функционирующие русские организации; церкви; благотворительные общества; издательства; ремесленные и промышленные предприятия; театры; музеи; рассказать о событиях музыкальной жизни. Также ее интересовало наличие русских знаменитостей, средние зарплаты соотечественников, их гражданство, степень денационализации и перспективы поступления на государственную службу[7]. Респонденты, принимавшие участие в глубинном исследовании баронессы, испытывали трудности при ответе только на один вопрос — о демографическом составе русской диаспоры[8].
Исходя из распространенного представления о том, что беженцы живут только прошлым, можно было бы предположить, что эмигрантская идея национальной идентичности воспроизводила один из двух дореволюционных критериев «русскости» — владение русским языком и принадлежность к Русской православной церкви[9]. Но опыт революции, войны, жизни в изгнании, а также влияние бытовых условий, населения и политической культуры страны проживания вызвали существенные изменения в мировосприятии респондентов, заставив их отказаться от дореволюционных представлений о сути «русскости». Несмотря на сравнительную гомогенность эмигрантского сообщества (большинство составляли мужчины-монархисты аристократического происхождения, воевавшие на стороне белых, а также некоторое количество менее образованных солдат), эти представления обнаружили высокую степень разнообразия и новизны, непредставимую в дореволюционные времена.
Для борьбы со 120-миллионным колоссом Советского Союза русское зарубежье также нуждалось в миллионах граждан. Кроме того, ему было необходимо поддерживать интерес к себе со стороны Лиги Наций и других международных институтов, способных дать ему признание и поддержку. Но, как мы увидим, тосковавшие по прежним временам респонденты баронессы — отвечая на ее невинный на первый взгляд вопрос о количестве русских в стране или городе их проживания — шли не по инклюзивному, а по эксклюзивному пути, исключая из числа русских целые группы эмигрантского населения[10]. Их определения национальной принадлежности расходились с волюнтаристской и органической концепциями, обращение к которым могло бы существенно пополнить их ряды. Их противоречивые представления о принадлежности к русской нации были образованы сочетаниями как минимум девяти критериев: 1) политические убеждения; 2) гражданство; 3) место рождения; 4) этническая принадлежность; 5) самоопределение; 6) раса; 7) мораль; 8) классовое происхождение и, наконец, пользуясь термином Хердера, 9) быт и «коллективный дух» (common spirit).
Одной из причин, побудивших баронессу начать свой проект, была обеспокоенность тем ущербом, который политические и религиозные склоки в эмигрантской среде причиняли образу русского зарубежья в глазах иностранцев[11]. Эмигранты были очень чувствительны к отношению со стороны жителей Западной Европы, и многие из них (в том числе сама баронесса) собирали статьи из иностранной прессы, посвященные русской эмиграции. Ее чувство национального достоинства усиливалось, когда иностранцы выказывали уважение к русской культуре, рекламируя и спонсируя русские культурные мероприятия[12]. Но, наряду с подпиткой самоуважения (имевшей самостоятельную ценность как фактор замедления ассимиляции), лидеры эмиграции видели в объединении единственную возможность снова получать моральную и финансовую поддержку от иностранцев, не спешивших оказывать ее в условиях постоянной борьбы среди эмигрантов. Как выразился один из эмигрантских лидеров в 1929 году, иностранцы хотели помочь России, а не отдельным политическим партиям[13]. При этом в иностранцах видели не только великодушных спонсоров. Один из респондентов баронессы писал из Кореи в 1932 году о необходимости «подготовить нашу молодежь, чтобы она чувствовала, что все иностранное нам счастья не даст, ибо здесь нас всегда будут стараться зажать на положение рабов». Устойчивая и открытая национальная идентичность, по его мнению, позволила бы утратившим отечество беженцам защититься от неизбежных попыток иностранцев разделить их и поработить[14]. Такого рода «чужбинная идентичность» не могла совпадать с идентичностью советской. Ее нужно было создавать «с нуля». В письме от 1929 года белый офицер, обосновавшийся в Шанхае и работавший над изданием многотомной трехъязычной «Всемирной энциклопедии русской эмиграции», объяснял баронессе, что у русских эмигрантов было «ПРАВО СОЗНАВАТЬ СЕБЯ НАРОДОМ среди народов других»[15].
Замысел баронессы подразумевал на определенном этапе формирование национальной идентичности «снизу» — силами низших образованных слоев, а не признанных кузнецов национальных идентичностей: интеллектуалов и государственных деятелей. Все виктимные диаспоры (victim diasporas) вынуждены так или иначе решать задачу сохранения своей этнической принадлежности в надежде на возвращение домой; но в нашем случае диаспора пребывала в состоянии разобщенности, определяя себя через противопоставление тем представителям своего народа, которые остались на родине[16].
Это позволяло отдельным эмигрантам брать на себя функции государства, самостоятельно выбирая и применяя на практике критерии определения «русскости», чтобы в отсутствие избранных или хотя бы повсеместно признаваемых лидеров самовластно решать, кто достоин жить в их экстратерриториальной державе. Именно в диаспорах лучше всего видна пластичность понятия национальной идентичности, которое многие до сих пор считают исконным и неизменным.
Подобно многим другим лидерам эмигрантских объединительных движений в эпоху сталинской революции «сверху», баронесса придерживалась на словах политики инклюзивности. Она записывала в эмигранты всех противников большевизма и сетовала на то, что приверженцы левых взглядов не отвечали на ее письма. Приняв в себя своих политических оппонентов, русское зарубежье могло бы значительно увеличить свою численность[17]. Как писал баронессе в 1931 году один из ее информантов из Рио, если бы бывшие кадеты и социалисты признали свою вину за развал родины, то могли бы стать частью эмигрантского мира[18]. Впрочем, лишь в одном отклике, полученном из Германии в 1930 году, признавалась возможность распространить определение «русский» на представителей левой идеологии и даже на советских граждан, проживающих за границей, но при этом констатировалось, что ни граждане СССР, ни сменовеховцы, ни невозвращенцы на данный момент никак не связаны с эмигрантским обществом[19]. Даже сама баронесса, отвечая на письмо русского профессора, обосновавшегося в Канаде, поставила ему в упрек неучастие в Белом движении, несмотря на то что в то время он только что закончил гимназию[20]. Коллективная травма Гражданской войны — как это часто случается в современном мире — стала базовым событием, фундаментальным мифом новой национальной идентичности[21].
Политическое истолкование русской национальной идентичности стало в руках ряда респондентов инструментом исключения русских евреев из эмигрантского сообщества. Даже в случае такой небольшой и отдаленной от России страны, как Коста-Рика, в которой — по утверждению респондента — жило лишь 6—7 русских, последний счел нужным уточнить, что он «не счита[ет] русских жидов», которые безразличны «нашей родине»[22]. Патриотизм считался необходимым компонентом национальной идентичности — причем патриотизм монархического толка. Еще один респондент из Калифорнии в своем письме от 1931 года жаловался на то, что американцы презирают русских и те не могут свободно «практиковать» свою культуру, как это делают эмигранты из Италии или Ирландии. Виной тому были якобы русские евреи, приехавшие в США до революции и уже несколько десятилетий унижавшие царскую Россию[23]. В письме от 1927 года из Шанхая очередной эмигрант объяснял, что единственной причиной, по которой он не учитывал евреев при оценке численности русского населения, было то, что в день десятой годовщины Октябрьской революции ни один еврей (даже самых консервативных взглядов) не откликнулся на призыв русских национальных организаций вывесить из своего окна имперский флаг. Тот же респондент писал, что многие евреи получали советское гражданство; таким образом, в его глазах (как и в глазах многих других респондентов) критика царизма приравнивалась к поддержке большевиков[24].
Любопытно, что баронесса безо всяких объяснений исключила из своего исследования город Харбин, ставший домом для более чем ста тысяч русских, где тысячи советских граждан жили рука об руку с русскими эмигрантами (некоторые из этих советских граждан неохотно приняли советское подданство, чтобы не потерять работу на КВЖД). Харбин, так же как и многие бывшие территории Российской империи, был местом в высшей степени специфическим: многочисленные этнические русские, жившие там до революции, оказались за границей, не приняв осознанного решения эмигрировать[25]. Так как политические пристрастия этой части населения были сомнительны, респонденты часто отказывали им в «русскости». Еще более проблемной группой эмигрантов были десятки тысяч уехавших из России по экономическим мотивам на рубеже XIX—XX веков. Эти люди — подобно большинству русских евреев-эмигрантов — сознательно покинули царскую Россию, что расценивалось эмигрантами как в высшей степени непатриотичный, а следовательно, «пробольшевистский» поступок.
Их нередко называли «уклонистами», «дезертирами» и «революционерами», а их политические взгляды, так же как взгляды евреев, считались единообразными и негибкими. Так, в 1930 году один австралийский респондент воспроизвел в своем письме распространенное представление о том, что все «старожилы» симпатизируют большевикам и враждебно настроены по отношению к эмигрантам. Этим двум группам не суждено объединиться, а дурная репутация, которой старожилы обязаны своим левацким взглядам, мешает представителям Белого движения утвердиться в австралийском обществе[26]. Эта неспособность к объединению с другими этническими русскими, разделявшими те же языковые, религиозные и — нередко — бытовые ценности, препятствовала распространению органических представлений о национальной идентичности и имела, как и в случае с русскими евреями, не только политические причины[27].
Одним из критериев, при помощи которых баронесса оценивала степень «русскости», было сохранение имперского подданства (то есть де факто — статус лица без гражданства). Многие из ее респондентов были не согласны с этим определением и с сочувствием писали о тех, кто принял иностранное подданство (за исключением советского), чтобы найти работу. Некоторые пытались доказать, что смена гражданства не мешает человеку оставаться русским. Так, в письме из Орегона, написанном в 1931 году, говорилось, что эмигранты, ставшие американскими гражданами, сохраняли русский быт и культуру и духовно остались такими же русскими, что и раньше[28]. В то же время некоторые соглашались с баронессой в том, что смена гражданства — это предательский поступок, приравниваемый к денационализации. Княгиня из Филадельфии оплакивала толпы эмигрантов, которые устроились на работу, по своей воле сменили подданство и «с восторгом уходят из русских»[29]. Представление о том, что перемена гражданства приводит к изменению национальности, воспроизводится и в письме 1928 года из Румынии, в котором говорится о русских, которые «стали украинцами и проживают по украинским документам»[30].
Многие иностранные правительства, особенно в неславянских странах, редко интересовались национальностью эмигрантов или датой их отъезда из Российской империи. Все родившиеся в России и владевшие русским языком автоматически считались русскими[31]. Некоторые респонденты разделяли эти либеральные взгляды, хотя сами при этом не забывали распределять живущих по соседству эмигрантов по национальному признаку. Один из информантов, писавший из Германии, сетовал на отсутствие соответствующей статистики и находил «крайне важным» знание национальности, возраста и общественного положения каждого эмигранта[32]. Сама баронесса в ставшем частью проекта наброске, посвященном эмигрантской жизни в Берлине в 1920—1922 годах, включила евреев в число русских. То же самое сделали несколько человек из США[33]. Кроме того, в список эмигрантских организаций в Бельгии она включила как собственно русские, так и украинские и еврейские институции. В письме из Греции звучало воодушевление по поводу того, что греки, приехавшие из России, отказываются ставить знак равенства между собой и уроженцами Греции, называя Россию своей родиной[34]. Похожая ностальгия по многонациональной империи и ощущение братской близости с другими народами заметны в письме из Польши, автор которого отделяет русских поляков, вхожих в эмигрантские круги, от поляков из Австро-Венгрии, считавших первых варварами и дикарями[35]. Народы, жившие в империи, разделяли друг с другом не только родину, но и психологические характеристики. Респондент из Литвы пишет (в 1928 году), что литовцы очень похожи на русских: они такие же гостеприимные, простые, открытые, талантливые, трудолюбивые, упрямые и патриотичные[36].
Если эмигранты, оказавшиеся в странах, некогда пользовавшихся поддержкой Российской империи, — Болгарии, Сербии, Абиссинии, — чувствовали, хотя бы поначалу, заботу и радушие местного населения, то в получивших независимость частях бывшего российского государства эмигрантам приходилось сталкиваться с проявлениями местного национализма, сохранившего память о насильственной русификации. Почти все респонденты из Литвы (включая упомянутого выше) указывали на несправедливость царского запрета на печать литовских книг и сожалели о том, что некоторые эмигранты забывали, что они у литовцев в гостях. При этом те же авторы были, казалось, обижены нежеланием литовцев смешиваться с эмигрантами.
Одна из них интерпретировала всякую помощь со стороны литовской интеллигенции как благодарность литовцев за то, что русские обогатили их культуру[37]. Эмигрант из Румынии выразил надежду на укрепление русской гегемонии на территории бывшей империи; он был явно расстроен запретом на преподавание русского языка в молдавских школах[38]. В схожих чувствах признается его собрат по несчастью из Парагвая, написавший баронессе, что русские эмигранты пользуются одной библиотекой с русскими евреями, которые — к его великому сожалению — постепенно забывают русский язык[39].
Но количество респондентов, использовавших расширительное (инклюзивное) определение «русскости» и ностальгировавших по многонациональной Империи, было в разы меньше числа толковавших русскую национальную идентичность в узкоэтнических терминах. Так, в одном письме из Гамбурга (1930) автор называл единственными виновниками раскола в местной православной церкви немецких русских, женившихся на русских женщинах. Несмотря на то что они, по всей видимости, были православными или недавно перешли в эту веру, у них — по мнению автора письма — не было никакого права вмешиваться в исключительно русские дела[40]. Бывший редактор русскоязычной газеты в Аргентине жаловался на то, что она перешла к латышу, и поражался тому, что всеми русскими газетами заведуют нерусские люди[41].
Респонденты, не разделявшие либеральный взгляд на «русскость», особенно уверенно исключали из русской нации евреев[42]. В качестве объяснения они указывали на предполагаемую связь всех евреев с большевиками. Кроме того, эмигранты из стран, в которых у них не было надежного юридического статуса и хороших материальных условий, сетовали на то, что евреи пользуются большими правами и забирают у русских рабочие места (хотя евреям якобы принадлежали все предприятия и весь капитал), а также захватывают русские рестораны и магазины[43]. Страх потери национальных организаций звучит и в письме респондентки из Каира, которая пишет, что «Клуб Русского объединения — только по названию, 3/4 жиды»[44].
Многих респондентов ужасало то, что русские евреи называют себя русскими и что местные жители (например, в Южной Америке) считают русских и евреев одной нацией[45]. Они объясняли свое возмущение не столько антисемитизмом, сколько тем, что они могли называть себя только русскими, а представители других народов бывшей империи могли выбирать, как называться. Один эмигрант из Рио жаловался на то, что эстонцы, латыши, литовцы и поляки называют себя русскими, только когда им это выгодно, а в противном случае открещиваются от своей «русскости»[46]. Очевидно, что для ряда респондентов «настоящий» русский не мог иметь «запасной» национальности.
Впрочем, многие другие респонденты видели в «самоидентификации» (self-affiliation) весомый компонент национальной идентичности. Так, один житель Чикаго в своем письме (1931) не проводил различия между эмигрантами, приехавшими в Америку до и после революции. На то, что он говорит об уехавших до революции, указывает лишь то, что он ссылается на разницу между поколениями: несмотря на то что второе поколение эмигрантов с трудом говорит по-русски, а третье и вовсе не владеет этим языком, они считают себя русскими православными[47]. Из одного письма из Швеции баронесса узнала, что дети русских, женившихся на шведках, не говорили по-русски, не считали себя русскими и, следовательно, не были таковыми[48]. Респондент из Венгрии писал, что бывшие военнопленные нашли себе венгерских жен и не помышляли о возвращении в Россию. Они приняли венгерское гражданство, проигнорировали призыв Врангеля принять участие в Гражданской войне, забыли русский язык и, что самое печальное, скрывали свою национальную принадлежность[49]. Автор письма, судя по всему, был только рад «избавлению» от этих притворщиков, но некоторые респонденты из Шанхая были возмущены поведением ряда приехавших после Гражданской войны беженцев, тоже вставших на путь отрицания собственного происхождения[50]. Эти респонденты опирались на органическое, естественное (involuntary) понимание национальности, так как «русскость» участников Белого движения была в большинстве случаев очевидна. Единственным исключением из правила самоидентификации были эмигранты, которые были вынуждены отречься от своей национальности, чтобы избежать физической расправы от рук ревностных антикоммунистов, путавших эмигрантов с гражданами СССР[51]. Такого рода путаница особенно часто случалась в странах, где мало знали о России, и дополнительно мотивировала эмигрантов на поиск особой национальной идентичности. Возможно, именно существованием Советского Союза объясняется непопулярность определения «русскости» через расовую принадлежность. Одна респондентка из Греции тепло отозвалась о проекте баронессы, указав на то, что, несмотря на все склоки, только русская раса могла достичь в эмиграции того, что она достигла[52]. Автор письма из Абиссинии клялся, что тамошние русские не собираются отказываться от своего гражданства. По мнению автора послания, в этом все равно нет смысла, так как «своей русской физиономии» не скроешь[53].
В своеобразном предисловии к своему проекту баронесса утверждает, что Россию покинули лучшие представители русской нации. Наряду с сохранением русской культуры, русское зарубежье видело свою миссию в воспитании духовно чистой молодежи, которая смогла бы принять участие в судьбе родины после падения большевизма. Оправдывая свое изгнание стремлением уберечь русскую кровь от большевистской заразы, некоторые респонденты приравнивали «русскость» к нравственной чистоте. В одном письме из Венгрии (1930) говорилось, что эмигрировавшие казаки (в которых другой респондент, из Канады, видел единственную группу эмигрантов, по-настоящему обеспокоенную положением дел в России и не одержимых зарабатыванием денег) слишком много пьют, чтобы получить право вернуться на родину: они были недостойны называться русскими. Тот же респондент из Венгрии предложил исключить из числа будущих возвращенцев русских женщин, привезенных в Венгрию в качестве жен, а затем брошенных венграми-военнопленными. Он снова ссылался на соображения этического характера: эти женщины, многие из которых впоследствии вышли замуж за казаков или венгров, были лживы, необразованны и вели паразитический, сомнительный с моральной точки зрения образ жизни. По мнению респондента, они были политически близки большевикам (хотя никаких фактов их политической активности он не приводит) и порочили честь русских женщин[54]. Похожего мнения придерживался его немецкий «собрат», выделявший русских женщин, вышедших замуж за русских немцев, в особую группу, отличавшуюся, по его мнению, «малокультурностью»[55].
Нация нередко концептуализируется как метафорическая семья, поэтому русские эмигранты, являвшиеся нацией в диаспоре, последовательно увязывали здоровье своей «нации» с женщинами. В них видели хранительниц родного языка, то есть главного барьера на пути денационализации. Кроме того, потеря национальной идентичности связывалась с межнациональными браками (в которые вступали не только русские женщины, но и русские мужчины, см. приведенное выше письмо из Швеции). Как писали многие респонденты, женщинам было легче найти работу, так что традиционная структура семьи претерпевала в условиях диаспоры существенные изменения. Среди прочего, баронесса нередко интересовалась состоянием эмигрантских семей, а — в случае азиатских стран — и тем, сколько женщин-эмигранток работало в барах. Один респондент из Шанхая писал, что многие жены бросали своих мужей и что не менее 15% эмигранток работали в барах (что чаще всего обозначало проституцию)[56]. Напротив, эмигрантская пресса настойчиво превозносила нравственные качества эмигранток и живописала упадок традиционной семьи и женских нравов в Советском Союзе[57]. По наблюдению Мэри Луизы Пратт (Mary Louise Pratt), во время заграничных путешествий люди чаще всего обращают внимание на детали, связанные с проблемными моментами их жизни на родине[58]. В нашем случае все наоборот: в роли «заграницы» для эмигрантов выступал Советский Союз, в котором они никогда не были, но который тем не менее казался им знакомым.
Еще двумя группами (как мы видели, часто воспринимавшимися в связи друг с другом), исключавшимися из сообщества русских в том числе на этических основаниях, были русские евреи и мигранты, покинувшие Россию до революции. Респондент из Аргентины сетует, что русских там недолюбливают из-за того, что большинство евреек из России занимаются проституцией[59]. В письме из Австралии говорится о том, что по вине «старожилов» к участникам Белого движения, приехавшим в 1920-е годы, местные относятся хуже, чем к чернокожим; русских считают отсталыми, некультурными и совершенно невежественными[60]. В похожих выражениях респондент из Канады жалуется на низкий уровень этического и национального сознания среди преступников, сектантов, политических экстремистов и крестьян из западной России, переехавших в Канаду до 1917 года. Их безнравственное поведение позволяет канадцам смотреть на русских эмигрантов как на низшую расу. Но по мере того, как в Канаду приезжает все больше представителей интеллигенции и «полуинтеллигенции», отношение к русским меняется в лучшую сторону[61].
Представление о себе как об «интеллигенции» (несмотря на то, что до революции интеллигенция ассоциировалась скорее с политическим радикализмом) было довольно распространено. Один респондент из Бразилии (письмо от 1931 года) признавался, что, несмотря на все свое отвращение к слову «интеллигент», он не может найти лучшего определения для разносословной массы образованных русских, с которыми он общается[62]. Профессор, писавший из Парагвая в 1930 году, утверждал, что русское сообщество разительно отличалось от любой другой иммигрантской группы именно в силу своей интеллигентности. Парагвай, находившийся на слишком низкой ступени промышленного развития, был малопривлекателен для пролетариата, и, хотя русские рабочие время от времени приезжали из Аргентины для работы на отдельных проектах, надолго они не задерживались. Русские сельскохозяйственные общины Парагвая были не менее «удачным» образом отдалены от столицы, где обосновались интеллигенты[63]. В устах одного сербского респондента слово «интеллигенция» звучало в еще более расширительном, политическом (консервативном) смысле: по его словам, все эмигранты, очутившиеся в Югославии, принадлежали к «той интеллигенции», которая воевала на стороне Белой армии[64]. С практической точки зрения для усиления своих претензий на национальную идентичность респондентам следовало бы настаивать на включении в свои ряды представителей всех сословий. Именно так поступала баронесса, справляясь в письмах эмигрантам из Южной Америки о положении русских крестьян[65]. Тем не менее представление о всеобщей интеллигентности эмигрантов имело то преимущество, что снимало проблему классовых противоречий в их рядах, гомогенизировало их сообщество.
Интеллектуалы не только создают национальную идентичность, они также удачнее всех сопротивляются ассимиляции. В отличие от многих образованных людей дореволюционной России, корреспонденты баронессы не видели в народе кладезь национального самосознания. Напротив, в диаспоре именно «народ» быстрее всего подвергался ассимиляции. Раз за разом в ответ на вопрос баронессы о том, не забывают ли дети русский язык, респонденты писали, что сохранение языка определяется не столько доступностью русских школ, сколько образованностью родителей. Они писали, что крестьяне, переехавшие в страны вроде Аргентины еще до революции, утратили «русский облик», русский быт и чистоту языка. Их дети, по мнению авторов писем, ничем не отличались от местных жителей[66]. Учитывая то, что многие крестьяне во время Гражданской войны встали на сторону большевиков, опасаясь возвращения помещикам их земель, неудивительно, что респонденты баронессы были не склонны к народническим настроениям.
Русский быт, о котором писали респонденты, особенно ощущался на фоне общения с иностранцами, среди которых жили эмигранты. В одном из писем из Германии (1930) автор сравнивал немцев с русскими и констатировал их абсолютную непохожесть: первые — пунктуальные и дисциплинированные, вторые — сентиментальные романтики, живущие фантазиями и увлеченно спорящие об идеалах. Автор гордился этими отличиями, превознося даже находчивость русских преступников, сидевших в немецких тюрьмах: «...и здесь русские показали свои индивидуальные способности в смысле изобретательности»[67]. Респонденты последовательно сходились на двух отличительных особенностях русских эмигрантов: благодаря своей честности, прилежанию и уму они были лучшими работниками в любой сфере, а русские студенты превосходили своих зарубежных соучеников сообразительностью и подготовкой[68].
Столкнувшись в некоторых странах с высоким уровнем жизни рабочих (включая эмигрантов), респонденты воспроизводили в своих письмах подход, названный Чаттерджи (Chatterjee) «колониальным национализмом», то есть представление о превосходстве Запада в области материального производства и монополии колонизированных народов на духовность[69]. По образу и подобию многих интеллектуалов дореволюционного времени респонденты с готовностью применяли к себе ориенталистскую дихотомию. Атаман, писавший из Канады в 1930 году, жаловался баронессе: «С нашей Славянской мягкостью, сердечностью, доверчивостью и привитым нам гуманизмом, трудно пробить себе путь среди царящего здесь материализма и самомнения». Еще один корреспондент, восхищаясь красотами канадской природы, замечал, что «эстетика у канадцев развита слабо, все заняты добыванием доллара». Третий выражал недовольство «американизацией» Уругвая: высокий уровень жизни оттенялся недостатком духовной культуры: местные больше увлекались футболом, чем строительством библиотек[70].
Тем не менее не всякое сравнение русских с иностранцами было в пользу первых. Многие респонденты жаловались на свойственные русским неорганизованность и любовь к интригам. В одном письме из Литвы автор ставил русским в пример литовских националистов; респондент из Парагвая писал, что русским стоило бы поучиться организованности у еврейской общины[71]. Другой эмигрант из Парагвая отмечал, что, несмотря на бедность и бескультурье приютившей его страны, местные жители очень вежливы и умеют себя вести: «Наша российская грубость, хамство и хулиганство совершенно неизвестны здесь»[72].
Осознавая гибкость национальных идентичностей, некоторые респонденты, успевшие полюбить свою новую родину, писали о необходимости соблюдения и усвоения по крайней мере части иностранных обычаев. Так, респондент из Канады указывал на то, что русские священники могли бы взять пример с западных пасторов, не боявшихся затрагивать в своих проповедях сложные и насущные вопросы. Эмигрант из Норвегии демонстрировал еще больший энтузиазм и предлагал превратить освобожденную от большевиков Россию во вторую Норвегию. Указывая на несомненное превосходство норвежцев над русскими, он писал о трудолюбии, честности, общительности, предупредительности и чистоплотности этих людей, живших в такой благоустроенной и упорядоченной стране[73]. Впрочем, у большинства респондентов страх ассимиляции отбивал всякое желание интеграции в чужеродную культуру. Те из них, кто обосновался в городе или стране, где русские могли чувствовать превосходство над местным населением или, наоборот, третировались европейцами (что случалось чаще всего в (полу)колониальных странах), в меньшей степени опасались распада русской идентичности в силу изолированности эмигрантского сообщества. Напротив, респонденты из Нового Света, страны которого охотно принимали иммигрантов, утверждали, что ассимиляция уже началась[74].
Подобно всем виктимным диаспорам, русское зарубежье мечтало о возвращении домой. Но, в отличие от еврейской, русская родина была населена и управлялась преимущественно представителями той же этнической группы. Такое положение дел — подкрепляемое усилившимися в условиях диаспоры процессами восстановления этнической идентичности — заставило русское зарубежье отмежеваться не только от иностранцев, но и от населения СССР. К началу коллективизации многие эмигранты, во-первых, утратили веру в скорое возвращение, а во-вторых, укрепились в мысли о том, что большевики настолько развратили советских граждан, что даже те из них, кто еще сопротивлялся режиму, утратили право называться русскими. В 1931 году баронесса опубликовала статью, в которой описывала моральное падение советской молодежи, с которой успела пообщаться за два года жизни при Советах. Напротив, девушки и юноши, жившие в эмиграции, воплощали в ее глазах патриотизм, смирение, чистоту, жизнерадостность и самоотверженность[75]. Один из ее бразильских респондентов писал: «Многие боятся, что за это время духовные свойства русского народа в Советской России так изменились, что, по возвращении, невозможно будет понять друг друга». Эту мысль дословно выразил другой эмигрант, беседовавший в 1940 году с взятыми финнами в плен солдатами; в течение десяти лет не видевший никого из советской России, он был удивлен тем, что понимает их русский[76]. Хотя концепция двух русских этносов, восходящих к одной нации, может показаться надуманной, аналогичный подход применялся некоторыми учеными к населению Восточной Германии. Кроме того, исследователи возвратной миграции (return migration), изучавшие в том числе обстоятельства возвращения эмигрантов в СССР и русских — в ближнее зарубежье, пришли в выводу, что этносам в веберианском смысле свойственно расщепляться при воссоединении диаспоры с отечественным населением[77].
Трудности, с которыми столкнулись респонденты баронессы при попытке определить русскую национальную идентичность, могут объясняться неопределенностью этой идентичности в дореволюционный период и сохранением сословной системы, которая вплоть до 1917 года препятствовала возникновению идеальных национальных типов. Некоторую роль в этом могла сыграть и ориентация русской знати на западноевропейскую культуру[78]. В то же время сравнение с другими диаспорами показывает, что ситуация русского эмигрантского сообщества была не вполне уникальна. Вопреки всей риторике диаспорического национализма, национальные идентичности в условиях диаспоры неустойчивы. К примеру, на протяжении двух тысячелетий жизни в диаспоре евреи были вынуждены постоянно переосмыслять свою идентичность, используя ресурсы духовного, культурного, территориального и расового характера[79]. Эксклюзивность диаспорического национализма может быть направлена как внутрь, так и вовне, а нередко игнорируемые исследователями и преуменьшаемые иммигрантами классовые различия не утрачивают в условиях диаспоры своей разобщающей силы[80]. Отдельные члены диаспоры часто видят в себе носителей рафинированной национальной идентичности, превосходящей по чистоте идентичность населения покинутой родины[81].
В диаспоре, перед лицом угрозы ассимиляции, индивиды вынуждены постоянно делать выбор в пользу той или иной национальной идентичности. Обычно мы плохо представляем себе то, как рядовые члены сообщества — в противоположность интеллектуалам и государственным деятелям — понимают свою принадлежность к той или иной нации. Проект баронессы показывает, что в русском зарубежье русская национальная идентичность, существование которой было необходимым условием сохранения и развития диаспоры, была предметом, которому широкие массы образованных эмигрантов (по крайней мере, их консервативная часть, вступившая в переписку) уделяли много внимания. Насущность ощущавшейся ими потребности принять участие в процессе создания новой нации эмигрантов становится еще более очевидной из их ответов, превосходивших по своему разнообразию вопросы, заданные баронессой[82]. Другие проекты по сбору информации также не ограничивались опросами интеллектуальных лидеров и непрофессиональных историков эмиграции: в эмигрантских архивах хранится множество альбомов, в которые рядовые члены диаспоры собирали вырезки из статей, в которых шла речь об эмигрантах, опубликованных преимущественно в эмигрантской прессе. Строители нации — как профессионалы, так и такие любители, как баронесса, обходившаяся без наемных чиновников из своего экстратерриториального народа, — были вынуждены обращаться напрямую к рядовым членам сообщества, выполняя жизненно важную для существования национального самосознания задачу по переписи населения. В условиях отсутствия государства эмигранты были глубоко убеждены в собственном праве лично определять и культивировать свою национальную идентичность и с готовностью откликались на призывы к этой деятельности.
Перевод с английского А. Логутова
[1] Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919—1939. М.: Прогресс-Академия, 1994; Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно- просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920—1970). Paris: Librarie des cinq continents, 1971. День русской культуры был учрежден в день рождения Пушкина в 1926 году и праздновался ежегодно всей диаспорой. День русского ребенка был впервые отпразднован в русском зарубежье в 1931 году. О военных частях русского зарубежья см.: Robinson Р. The White Army in Exile, 1920— 1941. Oxford: Oxford University Press, 2002.
[2] Бунаков И. Что делать русской эмиграции // Гиппиус З.Н., Кочаровский К.Р. Что делать русской эмиграции. Париж: Родник, 1930; Гиппиус З.Н. Наше прямое дело // Там же. С. 14.
[3] Бунаков И. Указ. соч. С. 5, 8. Русские больницы и сиротские приюты уже существовали в Маньчжурии. Объединительные усилия генерала Хорвата описаны ниже. Уникальный по своему охвату и глубине проект баронессы имел параллели в эмигрантской среде. Аналогичные начинания варьировались от создания Исторического архива русского зарубежья в Праге в 1923 году до сбора более двух тысяч «автобиографий» русских школьников из четырех стран, написанных между 1923 и 1925 годами (см.: Дети русской эмиграции. М.: Терра, 1997). См. также хронологические, тематические и географические подборки эмигрантских писем, объявлений и вырезок из эмигрантской прессы, тщательно собранные по друзьям со всего мира бывшим белым офицером Абданк-Косовским, работавшим таксистом во Франции, где он периодически устраивал выставки своих подборок (Holy Trinity Orthodox Seminary. V.K. Abdank-Kossovskii papers. Ящики 2—54). Идея систематизации информации об эмигрантах при помощи анкет также не принадлежит баронессе. См. анкету из 68 пунктов, составленную по собственному почину пожилым эмигрантом Сергеем Николаевичем Сомовым и разосланную им русским эмигрантам в Парагвае из Парижа в начале 1930-х годов (ГАРФ. Ф. Р-6378. Оп. 2. Д. 1—4).
[4] И. Л. Живая летопись живых: дело баронессы М.Д. Врангель // Возрождение. 1930. 1 мая. Некоторые из полученных баронессой ответов были недавно опубликованы. См. ответы из Италии, Канады, Польши, Японии, Литвы и Румынии, а также два ответа из Латвии в: Квакин А.В. Документы из коллекции баронессы Марии Врангель Гувер- ского архива США по истории Российского зарубежья // Вестник архивиста. 2004. № 1. С. 263—295; № 2. С. 291— 314; № 3—4. С. 272—284; № 5. С. 311—325; еще один ответ из Италии с комментарием см.: Квакин А.В. Документы из коллекции баронессы Марии Врангель в архиве Гувер- ского института по истории русских в Италии // Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции. М.: Русский путь, 2006. С. 129—137. Два ответа из Эстонии с комментарием см. в: Исаков С.Г. Записка А.К. Баиова «Русская эмиграция в Эстонии» // Балтийский архив. 2002. № 7. С. 212—2 43; Он же. Записка М.И. Соболева «Русские беженцы в Эстонии» (1929) // Труды русского исследовательского центра в Эстонии. 2001. № 1. С. 91—104.
[5] Другие ее проекты были посвящены в основном сбору автобиографических и биографических материалов среди представителей профессиональных сообществ (известных писателей, художников, музыкантов и т.д.), а не попыткам связаться со всеми эмигрантами. Биографический очерк баронессы и обзор ее проектов см. в: Шевеленко И. Материалы о русской эмиграции 1920—1930-х гг. в собрании баронессы М.Д. Врангель. Stanford: Dept. of Slavic Languages and Literature, 1995. Р. 11—51. Шевеленко полагает, что проект баронессы и другие объединительные инициативы совпали с периодом оптимизма среди эмигрантов по поводу скорого возвращения домой, что прямо противоположно мнению, высказанному в этой статье. В доказательство своей точки зрения Шевеленко приводит только одно секретное донесение ГПУ относительно настроений в эмигрантской общине Парижа.
[6] Она получила ответы из Абиссинии, Афганистана, Узбекистана, Алжира, Аргентины, Австрии, Австралии, Бельгии, Боливии, Бразилии, Болгарии, Канады, Китая, Конго, Коста-Рики, Чехословакии, Данцига, Дании, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Гоа, Великобритании, Греции, Гавайев, Голландии, Венгрии, Индии, Ирана, Ирака, Явы, Японии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мадагаскара, Марокко, Новой Зеландии, Норвегии, Палестины, Парагвая, Перу, Филиппин, Польши, Румынии, Испании, Швейцарии, Швеции, (Французского) Судана, Сирии, Туниса, Турции, США, Уругвая, Югославии. Не все из этих мест были независимыми странами (Данциг, Гавайи). Баронесса хранила корреспонденцию из Аляски в отдельной папке, которая потом была объединена сотрудниками Института Гувера с материалами по США. Баронесса создала каталог из 499 разделов для проекта (одновременно она занималась еще несколькими). Иногда она помещала все письма от одного человека в один раздел, иногда — разносила их по разным. Некоторые разделы содержали только ответы. Большая часть ответов была получена между 1928 и 1931 годами. Папки из архива Института Гувера содержат несколько писем, полученных после 1934 года, не включенных в каталог баронессы, но использованных нами в работе. Каталог содержится в Ящике 2 ее архива в Институте Гувера (далее — HILA).
[7] В некоторых случаях она просто просила респондента написать ей ответ на его усмотрение.
[8] Один из респондентов даже включил в ответ географическую информацию, как в настоящей переписи. См. «План русского Парижа», подробную карту с указанием всех русских организаций, магазинов и ресторанов (HILA. Мария Врангель. Ящик 52-10).
[9] Джераси Р.П. Окно на Восток. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
[10] Boym S. The Future of Nostalgi. N. Y.: Basic Books, 2002. Р. 49—51.
[11] HILA. Мария Врангель. Предисловие. Ящик 1-10.
[12] Там же. Ящик 2-3 и особенно 50-3 (Французская афиша русских культурных мероприятий, помещенная для проекта в раздел «Франция»). Примеры этого явления в эмигрантской прессе см. в: Е. Б. Итальянцы о русской эмиграции // Возрождение. 1929. № 1462. 3 июня.
[13] Коренчевский В.Г. Почему нужно «деловое объединение русской эмиграции», и желательные основные положения его организации. Прага, 1929. С. 3, 5, 9.
[14] HILA. Мария Врангель. Ящик 57-4 (Янковский — М.Д. Врангель, 07.10.1932, 11.13.1932).
[15] Там же. Ящик 2-3 (М.И. Федорович — М.Д. Врангель, 10. 11.1929). l.3. Выделено Федоровичем.
[16] «Виктимная диаспора» — группа, изгнанная со своей родины и живущая в ожидании возвращения на родину: это традиционное понимание диаспоры. В последние десятилетия многие исследователи ставят под вопрос первенство этого определения. Русское зарубежье, как любая другая виктимная диаспора, вписывается в более современное и более широкое определение диаспоры как группы людей, поддерживающих коллективную идентичность при помощи любой комбинации следующих средств: языка, религии, обычаев или фольклора, восходящих ко времени их проживания на родине. Другие определения этого термина см. в: Cohen R. Global Diasoras: An Introduction. Seattle: University of Washington Press, 1997. В русле свойственной западным исследователям неосведомленности относительно русской диаспоры, Коэн ни разу не упоминает ни первую, ни вторую, более многочисленную, волну эмиграции из СССР.
[17] Генерал Хорват, управляющий КВЖД в Харбине с 1903 по 1920 год, возглавил объединительное движение на Дальнем Востоке. В письме другому лидеру эмиграции (от 1933 года) Хорват объясняет, что ввиду бессмысленности дальнейшей вооруженной борьбы с СССР он видит свою задачу в том, чтобы объединить всех эмигрантов против общего врага — большевиков. В ответ на вопрос о допустимости членства в организации бывших коммунистов Хорват говорит, что верные сыны России должны простить кающихся и что трудом во имя объединения бывшие коммунисты могут искупить свою вину перед Родиной и своими братьями. В интервью 1929 года Хорват дал свое определение русской нации: русский — это тот, кто остался верен национальным интересам России (Архив Бахметьева (далее BAR). Бумаги Востротина. Ящик 4 (Генерал Хорват — А.А. Пурину, 28.04.1933). ll.2-4); Генерал Хорват о положении на Дальнем Востоке. Шанхай, 1929. С. 2; Коренчевский В.Г. Почему нужно «деловое объединение русской эмиграции»... С. 3, 6. О предшествующей попытке «беспартийного» объединения, характеризовавшейся еще большей инклюзивностью, см.: Глебов С. «Съезды Зарубежной России» 1920-х годов и политика эмигрантского национализма: спасение либералов. Ab Imperio. 2000. № 3—4.
[18] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (Надежда Срезневская — М. Д. Врангель, 19.07.1931).
[19] Там же. Ящик 53-3 (Русская колония в Берлине в 1930 году). С. 1—2.
[20] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-1 (П.В. Кротков — М.Д. Врангель, 17. 05.1930).
[21] La Capra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore, MD.: Johns Hopkins University Press, 2001. Р. 23.
[22] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-4 (М.П. Горденко — М.Д. Врангель, 16.8.1933).
[23] Там же. Ящик 58-3 (16.09.1933).
[24] Там же. Ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 20. 12.1927).
[25] См. письмо, в котором Шанхай называется центром эмигрантской жизни на Дальнем Востоке, так как Харбин был оплотом Российской империи в Маньчжурии (HILA. Мария Врангель. Ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 02.04.1928)).
[26] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-1 (Т. Лянцнов — М.Д. Врангель, 30.10.1930).
[27] Респонденты расходились во мнениях относительно единства быта русского меньшинства (этнических русских, живших на территориях, до 1917 года входивших в состав Российской империи). Белый офицер из Латвии писал, что русское меньшинство и эмигранты образовали единую группу (HILA. Мария Врангель. Ящик 54-5 (Владимир де Маркозофф — М.Д. Врангель, 6.06.1930). Респондент из соседней Эстонии, напротив, писал, что эти две группы имели мало общего друг с другом и образовали разные организациями. Он отметил, что его плохое знание жизни русского меньшинства не позволяет ему комментировать религиозную жизнь местной православной общины (Там же. Ящик 52-6 (М.И. Соболев — В.Д. Врангель, 18.12. 1929)).
[28] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-3 (И. Шмальберг. Ответы на анкету. 26.05.1931). См. также письмо из Сербии: Там же. Ящик 55-9 (Сергей Палеолог —М.Д. Врангель, 23.11.1927).
[29] Там же. Ящик 58-3 (Щербинин — М.Д.Врангель, 12.06. 1930).
[30] Там же. Ящик 55-1 (С.П. — К. Сведения о русской эмиграции в Румынии (март 1928)).
[31] См. ответ из Японии: HILA. Мария Врангель. Ящик 57-4 (А. Летаев — М.Д. Врангель, 19.05.1929).
[32] Там же. Ящик 53-3 (Ф. Шлиппе — М.Д. Врангель, 20. 12.1927).
[33] Там же. Ящик 53-3 (Берлин, 1920—1922 годы); ящик 58-3 (Лехович — М.Д. Врангель, 1928), (Н.Н. Сведения. 27. 11.1927 и 26.12.1927).
[34] Там же. Ящик 53-10 (26.04.1929)
[35] Там же. Ящик 54-13 (недатированный и неподписанный машинописный отчет из 13 пунктов).
[36] Там же. Ящик 54-7 (М.В. Чепенская. Сведения. 1929).
[37] HILA. Мария Врангель. Ящик 54-7 (М.В. Чепенская. Сведения. 1929).
[38] Там же. Ящик 55-1 (Леонтовская. Русская эмиграция в Румынии. Июль 1929). С. 14.
[39] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 7.8. 1930).
[40] Там же. Ящик 53-3 (А. Кочубей — М.Д. Врангель, 15.08.1.
[41] Там же. Ящик 58-6 (Т. Киселевский — М.Д. Врангель, 22. 03.1936).
[42] Это совпадало с целями объединительного движения генерала Хорвата. Оно включало 183 организаций бывших жителей Российской империи в Китае, исключая только евреев и социалистов. Были включены три мусульманские организации (BAR. Бумаги Восторина. Ящик 3, ll.1 -10).
[43] HILA. Мария Врангель. Ящик 55-1 (Леонтовская. Русская эмиграция в Румынии. Июль 1929. С. 8; ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 20.12,1927).
[44] Там же. Ящик 57-16 (С.А. Столбецова — М.Д. Вранегель, 11.5.1935).
[45] Там же. Ящик 54-15 (Бензенгре — М.Д. Врангель, 9.5.1930); ящик 58-8 (А. Кушелевский — М.Д. Врангель, 11.03.1929). С. 6; ящик 58-8 (И.Д. Покровский — М.Д. Врангель, 21.03.1.
[46] Там же. Ящик 58-8 (А. Кушелевский — М.Д. Врангель, 11. 03.1929). С. 6.
[47] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-3 (М.П.Лазарев — М.Д. Врангель, 17. 07.1931).
[48] Там же. Ящик 55-3 (Д.И Кандауров. Сведения о русской эмиграции в Швеции, 20.4.1928).
[49] Там же. Ящик 54-1 (Н. Жуковский-Волынский — М.Д. Врангель, 9.05.1930).
[50] Там же. Ящик 56-2 (П.М. Черкез — М.Д. Врангель, 12.07. 1928).
[51] По сведениям одного из респондентов, на юге Японии русские выдавали себя за поляков, чехов, финнов или эстонцев, а татары называли себя «турками». Виной тому были советские коммунисты, называвшие себя «русскими» и агитировавшие на крупных заводах, тем самым навлекая презрение полиции и местного населения на всех русских (HILA. Мария Врангель. Ящик 57-4 (А. Турт. Сведения о русской эмиграции в Кобе и г. Осаке и Южной Японии, 1929)).
[52] HILA. Мария Врангель. Ящик 53-10 (С. Демидова, 21.12. 1931).
[53] Там же. Ящик 57-10 (В.И. Гаврилов — М.Д. Врангель, 20. 3.1928).
[54] HILA. Мария Врангель. Ящик 54-1 (Н. Жуковский-Волынский — М.Д. Врангель, 9.05.1930); ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде).
[55] Там же. Ящик 53-3 (Кочубей — М.Д. Врангель, 15.08.1930).
[56] Там же. Ящик 56-2 (П.М. Черкез. Сведения о Русских беженцах в Шанхае за 1929 год).
[57] Пример см. в: Как пьет девичий молодняк? // Заря. 1929. № 79. 26 марта. С. 2. См. также конспект выступления проф. Г.К. Гинса в Харбине 15 ноября 1933 года, в котором, сравнивая «старый» и «новый» миры, он говорил о «мужском облике женщины» в СССР (HILA. Григорий Гинс. Ящик 6-1).
[58] Pratt ML. Imperial Eyes: Travel Writing and Transcultura- tion. London: Routledge, 1992.
[59] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (С.В. Голубинцев — М.Д. Врангель, 24.12.1928).
[60] Там же. Ящик 59-11 (23.10.1935).
[61] Там же. Ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде). Большинство уехавших из Российской империи до 1917 года не принадлежали к русскому этносу. 10 455 человек переехало в США в 1908—1909 годах, в тот же период 2/5 этнических русских вернулись из США в Россию. Однако многие крестьяне, эмигрировавшие до 1917 года и считавшие себя русскими, были карпато-русинами из Австро- Венгрии, говорившими на диалекте великорусского языка, и гипотетически могли увеличить численность русской эмиграции. До революции Русская православная церковь успешно способствовала переходу русинов из грекокато- личества в православие. Еще больше этнически русских крестьян (а также крестьян из западной России, считавших себя русскими, говоривших по-русски и исповедовавших православие) переехали в Аргентину. См.: Пат- канов С. Итоги статистики иммиграции в Соединенные Штаты Северной Америки из России за десятилетие 1900—1909. Спб., 1911. С. 26, 58; Magocsi P.R. Made or Remade in America?: Nationality and Identity Formation Among Carpathno-Rusyn Immigrants and their Descendants // Magocsi P.R. The Persistence of Regional Cultures: Rusyns and Ukrainans in their Carpathian Homeland and Abroad. N. Y.: Columbia University Press, 1993. P. 165; Dy- rud K.R. The Quest for the Rusyn Soul: The Politics of Religion and Culture in Eastern Europe and in America, 1890— World War I. Philadelphia: Balch Institute Press, 1992; РГИА. Ф. 796. Оп. 191. 6 отд. 1 ст. Д. 148, 1910 год (По донесению настоятеля Буэнос-Айресской церкви прот. Из- разцова за 1908 год).
[62] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (И.Д. Покровский — М.Д. Врангель, 21.03.1931).
[63] Там же. Ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 7.8. 1930).
[64] Там же. Ящик 55-9 (рукопись «Сербия», 1928). С. 2—3.
[65] Об этих вопросах см. в: HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (Н.В. Срезневская — М.Д. Врангель, 19.07.1931).
[66] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-6 (Б. Шуберт, 16.07. 1929). Еще один пример сохранения языка и культуры см. в ответе из Италии (ящик 54-3, без назв. С. 6 рукописи, 27.2.1929). Некоторые лидеры эмиграции включали в русское зарубежье всех русских, оказавшихся за границей в 1917 году (в том числе военнопленных — группу, респондентами не учитывавшуюся). См.: Кочаровский К.Р. Что может зарубежная Россия? // Гиппиус З.Н., Кочаров- ский К.Р. Что делать русской эмиграции. С. 22. Историки, занимавшиеся русскими в Центральной Азии, также обнаружили, что в колониальных обстоятельствах, аналогичных жизни за границей, крестьяне легко поддавались ассимиляции; специалисты по Индонезии наблюдали то же самое в случае тамошних голландских поселенцев. См.: SahadeoJ. Russian Colonial Society in Tashkent, 1865— 1923. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2007. Р. 75; Stoler L.A. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. 2nd ed. Berkeley, CA: University of California Press, 2010.
[67] HILA. Мария Врангель. Ящик 53-3 (Русская колония в Берлине в 1930 году). С. 6, 9.
[68] О рабочих и студентах см.: HILA. Мария Врангель, Ящик 51-4 (Русские беженцы в Болгарии, не ранее 1927. С. 2). О рабочих см. ящик 57-7 (Т. Филиппенко — М.Д. Врангель, 17.04.1928. Из Сирии); ящик 57-22 (В.И. Лебедев — М.Д. Врангель. 29.06.1930. Из Туниса). О студентах см. ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде) и 50-2 (М. Кара- теев — М.Д. Врангель, 1931. Из Бельгии).
[69] Chatterjee Р. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. Minnesota, MI: University of Minnesota Press, 1986; Idem. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton University Press, 1993.
[70] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде); ящик 59-8 (Русская колония в Уругвае, 29.08.1931).
[71] Там же. Ящик 54-7 (М.В. Чепенская. Сведения, 1929); ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 31.10.1930).
[72] HILA. Мария Врангель. Ящик 59-5 (Георгий Смагайлов — М.Д. Врангель, 16.7.1930).
[73] Там же. Ящик 58-1 (Несколько слов о Канаде); ящик 54-10 (Н. Жуковский-Волынский — М.Д. Врангель, 19.05.1930).
[74] Несколько примеров см. в: HILA. Мария Врангель. Ящик 55-7 (Тарачков. Сведения о русской эмиграции в Турции, 1929); ящик 59-5 (Я.К. Туманов — М.Д. Врангель, 07.08. 1930. Из Парагвая); ящик 57-4 (Д. Арбузов — М.Д. Врангель, 26.09.1928. Из Японии); ящик 56-2 (Н.А. Иванов. Сведения о Русских Эмигрантах по городу Шангаю, 1929); ящик 59-8 (Русская колония в Уругвае, 29.08.1931).
[75] Врангель М. Наше будущее // Acta Wrangelinana. 1931. № 1. С. 32—33.
[76] HILA. Мария Врангель. Ящик 58-8 (Н.В. Срезневская — М.Д. Врангель, 10.06.1931). С. 20; Лодыженский Ю.И. Что принесли с собой военно-пленные из России // Северянин. 1940. № 6. С. 86—87. Несколько респондентов баронессы выражают сомнения в скором возвращении на родину. См., например, два ответа из Коста-Рики и Румынии: HILA. Мария Врангель. Ящик 59-4 (М.П. Горденко — М.Д. Врангель, 16.08.1933); 55-1 (Леонтовская. Русская эмиграция в Румынии, июль 1929. С. 23). Русская община в Шанхае обсуждала этот вопрос в местной русскоязычной прессе в конце 1920-х—начале 1930-х годов в контексте выбора между иностранными и эмигрантскими школами. См.: Чжичэн В. История русской эмиграции в Шанхае. М.: Русский путь, 2008. С. 414—418.
[77] Marc Н. An East German Ethnicity? Understanding the New Division of Unified Germany // German Politics and Society.1. Winter. Vol. 13. № 4. P. 49—70; Manchester L. Repatriation to a Totalitarian Homeland: The Ambiguous Alterity of Russian Repatriates from China to the U.S.S.R // Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 2007. Fall/Winter. Vol. 16. № 3. Р. 353—388; Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspective / Ed. by Ta- keyuki Tsuda. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009. P. 7, 11, 16; Kolts0 P. The New Russian Diaspora — an Identity of its Own? Possible Identity Trajectories for Russians in the Former Soviet Republics // Ethnic and Racial Studies.1 July. Vol. 19. № 3. Р. 609—639.
[78] О неопределенности русской национальной идентичности см.: Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552—1917). Смоленск: Русич, 2001. С. 6—14. О роли сословной системы в ослаблении национальной идентичности в поздней Российской империи см.: Манчестер Л. Cельские матушки и поповны как «агенты просвещения» в российской деревне: позднеимперский период // Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана и И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 317—348, в особенности с. 335—337. По-видимому, русская национальная идентичность была ослаблена непрерывной колониальной экспансией, в ходе которой местные национальные элиты оказывались русским элитам ближе, чем русские крестьяне, перебиравшиеся на новые территории. См.: Sa- hadeo J. Russian Colonial Society in Tashkent, 1865—1923. P. 71, 108—136.
[79] См.: Butler-Smith А.А. Diaspora Nationality vs. Diaspora Nationalism: American Jewish Identity and Zionism after the Jewish State // Israel Affairs. 2009. Vol. 15. № 2. Р. 159; Religion or Ethnicity? Jewish Identities in Evolution / Ed. by Zvi Gitelman. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 2009.
[80] См., например: Winland D.N. We are Now a Nation: Croats between «Home» and «Homeland». Toronto: Toronto University Press, 2007. Р. 69—74; Parekh В. Culture and Economy in the Indian Diaspora. London, 2003. Р. 168.
[81] Несколько примеров см. в: Schultz Н. The Palestinian Diaspora. London: Routledge, 2003. Р. 68; MalkkiL.H. Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: University of Chicago Press, 1995; Understanding Canada. A Multidisciplinary Introduction to Canadian Studies / Ed. by W. Metcalfe. N.Y., 1982. P. 324.
[82] Некоторые респонденты отвечали только на некоторые вопросы, по своему выбору. Кто-то писал очерки — иногда весьма пространные — на тему русской эмиграции в «своих» странах. Наконец, третьи (в особенности жители «экзотических», по выражению самих эмигрантов, стран Азии, Африки и Южной Америки, в которых эмигрантские организации были немногочисленны), вместо того чтобы отвечать на вопросы, писали очерки истории стран своего проживания и подробные автобиографии, связывая таким образом свою личную историю с историей эстратерриториальной нации.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Декосмополитизация русской диаспоры: взгляд из Бруклина в «дальнее зарубежье»
(пер. с англ. А. Горбуновой)
Дэвид Лэйтин
Декосмополитизация русской диаспоры:
ВЗГЛЯД ИЗ БРУКЛИНА В «ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»[1]
По мере того, как диаспоральные общины культурно и политически встраиваются в жизнь приютивших их стран, особое значение — по собственному ли желанию или по необходимости — они придают различным аспектам, выделенным из общей совокупности присущих им культурных черт. Одни выдвигают на первый план свою расу (чернокожие из стран Карибского бассейна в Соединенных Штатах), другие — свою религию (мусульмане из Алжира во Франции), а третьи — свою основанную на языке этническую принадлежность (англичане в Южной Африке). Угадать, какой аспект идентичности «победит», — задача, долгое время ставившая в тупик тех, кто занимается этнической проблематикой. Но со временем значительная часть каждой диаспоральной общины и их потомков объединяется вокруг какого-то одного аспекта различия, обусловливающего их социально-политическое поведение
как членов определенной категории (скажем, католики) в отношении выделенного аспекта (в данном случае религии)[2].
Такой выбор в вопросах идентичности нельзя считать несущественным. Как показала Мэри Уотерс, второе поколение мигрантов из стран Карибского бассейна не смогло получить ожидавшегося жизненного дохода — отчасти потому, что они идентифицируют себя (и идентифицируются людьми за пределами своей общины) как «черные». Национальная идентичность выходцев из стран Карибского бассейна имеет более высокий статус в глазах американских работодателей, чем идентичность чернокожих американцев, однако, несмотря на это, региональная идентичность уступила место расовой. Это имеет важные последствия. Результаты политики в области идентичности в значительной степени определяют возможных социальных и политических союзников, а также то, через какие каналы можно обращаться за поддержкой.
В этой статье описывается процесс, вследствие которого русско-еврейские иммигранты, осевшие в Нью-Йорке (по большей части на Брайтон-Бич в Бруклине), стали объединяться вокруг доминирующей религиозной идентичности[3]. У русскоговорящих (по большей части еврейских) эмигрантов из России в последней четверти прошлого века был выбор, когда они добрались до Вены: либо эмигрировать в Израиль, либо ждать более долгое время, но в конечном итоге добраться до Соединенных Штатов (через Италию). По- видимому, те, кто выбрал Соединенные Штаты, были более светскими и менее проникнутыми религиозными идеалами, чем те, кто уехал в Израиль. Тем не менее — заостряя различие между ними ради подразумеваемого сопоставления — русскоговорящие евреи в Брайтоне идентифицировали себя главным образом как «евреев»[4], в то время как русскоговорящие евреи в Израиле идентифицировали себя главным образом как «русских»[5].
В таком итоге есть очевидная ирония. В одном и том же ряду русскоговорящих евреев, покинувших Советский Союз в конце 1970-х (так называемая третья волна) и в конце 1980-х (четвертая волна, которая принесла многих этнических русских вместе с русскоговорящими евреями), есть две категории: те, кто влился в религиозное государство (Израиль), основывают свое политическое поведение на светских ценностях, тогда как те, кто влился в государство, не придерживающееся какой-то одной религии как государственной (Соединенные Штаты), основывают свое поведение на религиозной идентичности.
Рассмотренный с точки зрения определенных теоретических подходов, такой итог вовсе не удивителен. Здесь могут быть применены простые демографические модели политической идентификации. Русская идентичность имеет не столь высокую ценность, чтобы оказывать влияние на американскую и/или нью-йоркскую политику. Однако объединившись с американскими евреями, русскоговорящие евреи могут обеспечить себе позицию во влиятельном меньшинстве в обеих сферах. Демография в Израиле говорит о противоположном: идентификация с евреями-израильтянами не дает их лидерам какого-то дополнительного голоса, в то время как идентификация себя как русских израильтян стала заметной и привлекательной, по крайней мере для людей, вовлеченных в политику, ищущих поддержку со стороны этого демографически значительного избирательного блока. Эта расстановка показывает, что диаспоры не обязательно делают упор на самые глубинно значимые элементы из совокупности присущих им культурных черт; скорее, после «подсчитывания товарищей» — потенциальных союзников — они выбирают тот аспект своей идентичности, который позволяет им максимально увеличить свое влияние на выборах[6].
Подходы, принимающие во внимание политическое пространство, в которое прибывают иммигранты, также помогают понять эти результаты. В Соединенных Штатах, как следует из концепции Алексиса де Токвиля в его классическом исследовании Америки (том 1, глава 2), имеет место глубоко укоренившееся убеждение, что языковое разнообразие представляет угрозу для общественного блага, в то время как религиозное разнообразие безопасно. Неудивительно, что такие ученые, как Уилл Херберг, Хелен Эбо и Джанет Чафетс, периодически отмечали, что американские иммигранты объединяются в религиозные общины (к чему в обществе относятся с уважением) и избавляются от своих языковых отличий (которые рассматриваются как угроза доминирующему англоговорящему обществу). Между тем, в Израиле, при том что значительный процент мигрантов из стран бывшего Советского Союза не являются евреями (по статистике Министерства внутренних дел), ни одна группа не может получить жирный кусок от государства, или его кошерный эквивалент, идентифицируя себя в первую очередь как евреев. Таким образом, иммигранты, возвращаясь на свою воображаемую родину, объединяются вокруг черт идентичности, связанных со страной, откуда они эмигрировали.
Эта статья не ставит своей первоочередной задачей объяснить, почему русскоговорящие евреи в Нью-Йорке выстраивают свою политическую и социальную жизнь вокруг религиозной идентичности. Скорее, ее цель — описать на уровне семейных перипетий, как возник этот результат. Для этого я обращусь сначала к «модальной истории жизни» двух последних волн русскоговорящих мигрантов из бывшего Советского Союза. Мой тезис состоит в том, что эти жизненные истории наглядно показывают космополитичное сообщество, в которое встроились русскоговорящие евреи, и не предвещают результат, возникший вследствие их поселения в Нью-Йорке[7]. Затем я обсужу вопрос, каким образом русскоговорящая диаспора в «ближнем зарубежье» (то есть в странах — бывших республиках СССР) приняла «русскоговорящую» идентичность[8]. Напротив, эта базирующаяся на языке идентичность не стала основой или первостепенной причиной формирования идентичности рассматриваемых лиц в Нью-Йорке. В-третьих, я обсужу возникновение на повседневном уровне религиозно ориентированной еврейско-американской идентичности именно среди этих — прежде светских — космополитичных евреев. В заключительном разделе прослеживается механизм культурной передачи религиозной идентичности от родителей детям.
Для анализа менталитета одной диаспоральной общины, проживающей в «дальнем зарубежье», я провел весной 2004 года исследование среди русскоговорящих (в основном еврейских) мигрантов, приехавших в конце 1970-х годов и позднее, в большинстве своем проживающих на Брайтон-Бич. Интервью, в которых я опросил три поколения, представляют нам двадцать пять различных семейных историй. Вначале рассматривается поколение, которое приняло решение эмигрировать, затем — поколение их родителей, потом — их дети. Конечно, в изложенных свидетельствах сочетаются пересмотр фактов и риторические стратегии, используемые интервьюируемыми для обоснования событий их бурной жизни. Моя интерпретация этих интервью поэтому должна выйти на уровень более глубинного осмысления изложенных фактов[9]. Для дополнения этих историй с точки зрения более широкого видения проблемы, чем возможно с опорой исключительно на этнографию, я также обращался к вспомогательным источникам, газетным архивам и к данным массовых опросов.
I. МОДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛН СОВЕТСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В США
Очертания большинства историй, охватывающих несколько поколений семей мигрантов, имеют много общего. Старшее поколение родилось в черте оседлости на западных границах Российской империи — в узкой зоне, простирающейся от Черного до Балтийского моря, где цари разрешали селиться евреям, которые выплачивали налог; однако быть собственниками земли им не дозволялось. Местные этнические группы, укорененные на территории черты оседлости, как правило, относились с презрением к этим «защищаемым властью» евреям и были готовы терроризировать их, когда центральная власть ослабевала. При советской власти все быстро изменилось. Евреи начали принимать космополитическую идентичность, в которой их религия не имела принципиального значения[10]. В данных мне интервью старшее поколение рассказывает, вспоминая свой опыт жизни в ранний советский период, что в то время евреи стали частью широких социальных и профессиональных сообществ. И после нападения Германии в 1941 году многие евреи были эвакуированы с территории бывшей черты оседлости и переправлены в Центральную Азию ради их безопасности; так они смогли пережить холокост. После войны, более не привязанные к проживанию на территории бывшей черты оседлости, советские евреи продвинулись профессионально — по крайней мере, в процентном отношении — не меньше, чем другие советские народности. Тем не менее в период экономического застоя в 1970-х их дети начали ощущать дискриминацию, ограничивающую их возможности. Именно это поколение стремилось эмигрировать, и единственным путем к эмиграции было подчеркивание своей еврейской идентичности. Когда они обратились за документами, которые бы позволили им эмигрировать в Израиль, Советское государство стало ставить им бюрократические препоны и принимать против них репрессивные меры. Те, кто пошел на риск и добился получения визы, вытащили своих нерелигиозных космополитичных родителей за рубеж. Учитывая огромную социальную поддержку этих еврейских эмигрантов (со стороны сопровождавших их родителей, частных агентств, а также закона о беженцах в Соединенных Штатах), высокий уровень их человеческого капитала и предоставляемые американской экономикой возможности, среднее поколение быстро продвинулось в экономическом плане. Их дети в целом преуспели в учебе и интегрировались социально в американскую культуру. Именно эта модальная история является основанием для трактовки вопроса о том, какой аспект из общей совокупности присущих уехавшим евреям культурных черт станет их доминирующей политической идентичностью в американском контексте.
Начнем — и это касается многих из моих респондентов, которых я опрашивал в рамках их миграционной истории, — с трагедии немецкой оккупации в 1941 года и переезда с территории бывшей черты оседлости на Урал и в Казахстан. Вот, к примеру, одна такая история.
Респондентка рассказывает о том, что в 1941 году она закончила десятилетнюю школу, где языком обучения был украинский. Немцы разбомбили мост через Днепр, и респондентка участвовала в строительстве временного моста. Их семья была эвакуирована. Она вспоминает, как они ждали поезда на открытой железнодорожной платформе вместе с больными и престарелыми и как их разместили в вагонах. Семья рассказчицы состояла из четырех человек, ее саму вместе с матерью, братом и сестрой эвакуировали в Казахстан; отец был на фронте. Затем рассказчица оказалась на Урале и работала в Министерстве черной металлургии; их отдел занимался демонтажем фабрик на западе и реконструкцией их на Урале, занимался двигателями и прочим оборудованием, которое могло быть использовано после войны. Все оборудование учитывалось и классифицировалось, рассказчица делала списки и отправляла их в Москву. Таким образом, они могли посылать запчасти на заводы, работающие по всей России во время войны. Они жили в палатках, пока делали эту работу, по двадцать человек в палатке. Рассказчица сообщила, что ее начальника направили в Москву, и тогда рабочие стали подавать прошения о том, чтобы вернуться в свои родные места, но для этого требовалось получить разрешение. Начальник рассказчицы возглавлял комсомольскую организацию (ВЛКСМ). Он сказал, что возвращаться слишком опасно, что все разрушено. Сама рассказчица подавала прошение дважды, и ей было отказано, потому что считали, что некому будет делать ее работу. Я спросил ее, не в том ли было дело, что она еврейка. Она засмеялась и сказала: «Никого тогда не заботили эти вещи. Нас было восемьдесят процентов украинцев и двадцать процентов евреев, но никто не знал, кто какой был национальности, все мы говорили по-украински. Только после войны религия стала иметь значение». Затем рассказчица вступила в коммунистическую партию. Начальник посоветовал ей тогда «просто уехать» и не беспокоиться о разрешении и бумажной волоките. Она вернулась на Украину в октябре 1943 года, дорога заняла месяц. Вместе с матерью и маленькой сестрой они вернулись в свою старую квартиру, за которой присматривал друг, оставшийся на Украине. Брат рассказчицы умер на Урале. Отец отправился из Польши на японский фронт и затем вернулся на Украину. Молодой человек рассказчицы погиб в Сталинграде (интервью 9)[11].
В лагерях и в армии ситуация была похожей. Как объяснил один из интервьюируемых, в армии не было антисемитской дискриминации. Она появилась позднее. Ко всем в армии относились одинаково — ни у кого не было времени тогда выяснять, кто какой национальности (интервью 13).
После войны евреи чувствовали, что возможности для них открыты. Это подтверждают воспоминания следующего респондента. Он говорит о том, что уехал из Киева не по финансовым причинам. В материальном плане у него все было хорошо. В Киеве он жил через дорогу от центрального стадиона, на центральной площади. Во время перестройки там проходили многие массовые митинги, и до респондента доносилось множество угроз, в том числе, что евреев будут убивать (также присутствовали угрозы в отношении русских). Он начал бояться, так как многие его друзья сравнивали Украину того времени с Германией 1932 года; можно было услышать однотипные высказывания в Кременчуге, в Харькове, да где угодно на Украине. Друзья рассказчика начали уезжать, и он решил последовать за ними, в значительной степени из любопытства — это было что-то вроде прыжка с парашютом. Рассказчик отмечает, что, хотя он и ошибался насчет будущего, все равно это были страшные времена, вызванные ослаблением советской власти. И, отмечает рассказчик, с развалом СССР в независимой Украине, в связи с отсутствием денег, больше нет культурной жизни. «В Советском Союзе мне было хорошо. Я был из бедной семьи, но получил образование и пошел в технический институт» (интервью 8).
Как следует из приведенных рассказов, антисемитизм оказался новым шокирующим явлением для советских евреев в 1970—1980-е годы. Русскоговорящие еврейские иммигранты, которых я интервьюировал, были единодушны в том, что антисемитизм открыто выражался во время застоя 1970-х и нарастал во время перестройки в 1980-е. В одном опросе русско-еврейских иммигрантов, живущих в Нью-Йорке, восемьдесят пять процентов респондентов оценили угрозу антисемитизма в странах бывшего Советского Союза на том этапе как серьезную (RINA 32—33).
Мои респонденты сообщали о чувстве антисемитской угрозы как о неотъемлемой части повседневной жизни во время застоя, когда проявились прежде скрытые предрассудки. «В России даже самые маленькие дети ненавидят евреев, я не знаю почему», — рассказал респондент. «Я сказал моим детям, что они должны учиться в школе лучше всех, потому что их оценки будут занижать. Когда я попытался сдать экзамен в Ленинградский университет, это было трудно, потому что специальный "трибунал" в течение двух с лишним часов задавал мне вопросы (только мне), после чего глава комиссии сказал: "К сожалению, я не нашел вопрос, на который вы бы не смогли дать ответ", и они были вынуждены поставить мне "отлично"... Но даже с самыми высокими оценками, из-за особой ситуации для евреев, было трудно найти работу».
В газете «Новое русское слово»[12] Яков Смирнов, уроженец Одессы, приехавший в Соединенные Штаты в 1977 году в возрасте двадцати шести лет, рассказывает следующий анекдот, обобщающий чувства, которые испытывали евреи в советские времена. В продуктовом магазине стоит длинная очередь за колбасой. Из-за дефицита продуктов заведующий магазином просит уйти всех евреев. Через три часа он говорит, чтобы ушли все некоммунисты. Еще через три часа он сообщает, что колбаса кончилась и теперь все могут возвращаться домой. Один из оставшихся коммунистов жалуется: «Опять евреям повезло больше всех» (Ярмолинец, «Возвращение»). Сегодня одесский юмор Смирнова, простой и интеллектуальный одновременно, высоко ценят в Нью-Йорке.
Обзорное исследование Сэмуэля Клигера схватывает подлинную иронию устоявшегося мнения об антисемитизме: «Те евреи, что сейчас живут в Москве (включая "наполовину евреев"), составляют значительную часть новой русской элиты <...> их вес в российской политике и бизнесе гораздо больше, чем в любой другой христианской стране...» (Kliger 150). Таким образом, согласно Клигеру, это была предполагаемая дискриминация, а не действительный факт того, что евреям было хуже, чем другим, в Советском Союзе. И эта предполагаемая дискриминация провоцировала беспокойство евреев.
Беспокойство, наряду с новой политической возможностью эмигрировать для тех, кто заявлял о том, что он пострадал от антисемитизма, повлияло на то, как евреи в Советском Союзе воспринимали свою социально-экономическую ситуацию. Ряд неформальных соглашений между Советским Союзом и США открыл путь новому потоку эмигрантов в Израиль. Их обращения за визой, однако, в первые годы рассматривались как измена советскому государству и имели тяжелые последствия для тех, чьи обращения отклонялись (и кто, таким образом, получал статус «отказника»). Например, один из респондентов сообщает, что, подав заявление на получение визы, он сразу же потерял свою должность в Академии наук. Он выживал посредством написания диссертаций для аспирантов из Центральной Азии, которые платили ему, потому что недостаточно владели русским языком, чтобы написать серьезный труд и получить ученую степень (интервью 25).
Отказники создали новый образ жизни в Советском Союзе. Они присоединялись к «еврейским кругам», тогда как до этого многие из них совершенно не интересовались своими этническими традициями. У них возникла этническая идентичность, они начали следовать еврейским традициям (необязательно из религиозных убеждений, скорее потому, что это был обычай их народа). Только небольшое число из них стали по-настоящему религиозными; остальные соблюдали еврейские праздники просто как этнические традиции: «Как отказники, мы пытались отмечать еврейские праздники, но это было очень опасно. Мы пытались изучать иврит и иудейскую религию, потому что правительство стремилось подавить такие стремления. Каждый раз мы меняли место встречи нашей группы, изучавшей иврит, потому что боялись, что милиция запретит нам встречаться» (интервью 2).
Но возобновленная связь с этническими традициями вряд ли была их главной целью. Многие из них использовали свои сбережения, чтобы изучать английский язык. Как сообщает один из отказников, они изучали английский в течение многих лет еще до того, как приехали в Соединенные Штаты. Преподавание его было, конечно, на посредственном уровне. Пока они ждали приглашения, они начали брать частные уроки, договорившись с преуспевающей преподавательницей английского из Ленинграда, обучившей несколько поколений эмигрантов. У респондента были связи с преподавателями из Соединенных Штатов, которые отправляли ему учебные материалы. С этой преподавательницей они занимались в течение года. Они не изучали иврит — все они собирались в Нью-Йорк.
Однако, чтобы попасть в Соединенные Штаты, они сначала должны были получить приглашение из Израиля. Чтобы быть приглашенными в Израиль, потенциальные мигранты должны были получить документы из Израиля, доказывающие, что они родственники, желающие воссоединиться со своими семьями. В девяноста процентах случаев (эту цифру указывает респондент 22) эти родственные связи были ложными, но советские власти не обращали на это внимания, так как все знали, что такие документы не соответствовали истине.
Рассказчица вспоминает, что они получили такое приглашение от «двоюродных братьев» и принесли его в специальный отдел КГБ, заполнили подробные анкеты и должны были указать семейные связи с приглашающей стороной. И тогда они получили статус потенциальных эмигрантов. Сразу же возник риск потерять работу — с того самого момента, как они получили приглашение. Ее мужа, ученого-физика, уволили. Сначала ему отказали в допуске к архивам секретных документов. Затем получилось так, что британский ученый обратился в его лабораторию за консультацией. Они пригласили его к себе домой вместе с сотрудниками лаборатории. Такие вещи запрещалось делать без разрешения КГБ, и это было использовано как предлог для увольнения. Рассказчица тогда преподавала латынь, французский язык и историю в медицинском училище, и ее тоже уволили. После увольнения мужа они подали документы на выезд. Этот шаг привел к драматическим последствиям. Свекр рассказчицы имел доступ к секретным стратегическим военным документам и с юности состоял в коммунистической партии. После того как его сын с невесткой подали заявление, он, будучи честным человеком, отправился к начальнику отдела, чтобы поставить того в известность об этом, хотя у него самого не было намерения эмигрировать и он не разделял взглядов рассказчицы и ее мужа на будущее (но, как дедушка, он их «понимал»). На следующий день его отправили на пенсию, хотя он руководил крупным проектом (интервью 22).
В конце 1980-х началась четвертая и последняя волна русско-еврейской эмиграции. По соглашению между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым открылись ворота для евреев, желающих уехать в Израиль для воссоединения со своими семьями. Те, кто приносил приглашения от фальшивых родственников, получали визы, а Горбачев — американскую пшеницу! В 1989 году конгресс США объявил советских евреев категорией, имеющей право въехать в США в качестве беженцев, если они могут представить убедительные свидетельства того, что они подвергнутся преследованиям, если останутся в СССР (Kliger 149).
Те, кто получил визы, отправлялись из Москвы в Вену, чтобы оттуда переправиться в Израиль. В Вене те из них, кто хотел эмигрировать в США, получали поддержку от Общества помощи еврейским иммигрантам (ХИАС). Оттуда они направлялись в Рим (месторасположение штаб-квартиры ХИАС), где подавали заявление на получение статуса беженца в США.
Как объяснила одна респондентка, вначале они отправились в Австрию за счет ХИАС. У них уже были планы ехать в Нью-Йорк — они хотели присоединиться там к своим друзьям, эмигрировавшим два года назад. Они отправились из Вены в Рим. Все было хорошо организовано. В августе они остановились на две недели в окрестностях Рима (в прелестном городке Монтичелло). Получив дотацию от ХИАС, им нужно было найти и снять квартиру. Сын рассказчицы хорошо знал римскую историю, помнил все наизусть и любил бродить по Риму. «Каждый стремился продлить свои итальянские каникулы благодаря ХИАС» (интервью 22).
Мигранты обычно путешествовали в составе представителей трех поколений, хотя в большинстве случаев бабушки и дедушки следовали неохотно: «Я отправился в США из-за дочери. Я не хотел ехать, потому что у меня была работа на Украине и я был членом Союза адвокатов в СССР, это был высокий статус. Но здесь я не могу работать юристом, пока не буду знать английский язык достаточно хорошо. Язык для меня — очень большая проблема» (интервью 4).
И другой похожий случай: «Я был военным офицером, полковником, отслужил двадцать девять лет в армии, ветеран Великой Отечественной войны. Я закончил свою военную службу в Ташкенте. Там процветал антисемитизм. Мои дети не хотели там жить и переехали сюда. Что мне оставалось делать? Я переехал вместе с ними» (интервью 10).
Еще: «Материнское сердце заставило меня быть с моим младшим сыном. Старший сын (который тоже не хотел эмигрировать) поехал с нами, чтобы сохранить единство семьи» (интервью 19).
В США эти объединенные семьи быстро осваивали язык, и их материальное состояние улучшалось. В 1990 году средний доход русскоговорящих семей в Соединенных Штатах составлял примерно 32 500 долларов по стране. «Процесс адаптации стал быстрым и относительно безболезненным для большинства из них — две трети находят работу во время первого же года пребывания в стране» (Supian)[13].
Это неудивительно. Автономные семейные единицы объединились для обеспечения ухода за детьми и оказания поддержки тем, кто был задействован как рабочая сила. Более значимым является уровень человеческого капитала. Уровень образования и навыков этой диаспоры — один из самых высоких среди тех, кто когда-либо въезжал в Соединенные Штаты. В одном опросе шестьдесят процентов интервьюируемых русско-еврейских иммигрантов указали, что имеют высшее образование, полученное за пять или более лет, в отличие от тридцать пяти процентов у американских евреев (RINA 12). В другом опросе дети русско-еврейских иммигрантов, прибывших после 1965 года, сообщили об образовании своих родителей: восемьдесят четыре процента имели по крайней мере одного родителя с высшем образованием, и шестьдесят один процент — двух родителей с высшим образованием (Kasinitz et al. 13). В еще одном исследовании, спонсированном Национальным фондом американской политики, рассматривались успехи детей недавних иммигрантов из разных стран. У них были лучшие результаты в математике и естественных науках, и многие дети родителей с визами H-1B (выданными лицам, имеющим ученую степень) — 100 000 человек прибывают ежегодно по таким визам со всего мира — вышли в финал национального конкурса «научных талантов», проводившегося корпорацией «Интел» в 1994 году. По данным этого исследования, опубликованным в нью-йоркской русскоязычной прессе, второе место занял Борис Алексеев, отец которого прибыл из России по визе H-1B. На международной олимпиаде по физике, проходившей в Южной Корее в 2004 году, американская команда включала двух недавних иммигрантов; единственной участницей-женщиной была Елена Удовина, отец которой также приехал по визе H-1B (Anderson)[14].
В самом деле, местная русскоязычная пресса наводнена историями об экономическом успехе русскоговорящих иммигрантов. История, озаглавленная «Золотых рук учитель» (Ярмолинец), рассказывает о Владимире Деминге, эмигрировавшем двадцать семь лет назад из Ленинграда, где он работал ювелиром. Его страстью была реставрация, и, оказавшись в США, он самостоятельно обучился этому ремеслу. Сейчас он преподает эти навыки в Нью-Йоркском институте моды и технологии и направляет американских студентов в Россию работать по реставрационным проектам. В «Новом русском слове» появилось интервью Александра Гранта с Семеном Захаровичем Кислиным. Кислин родился в 1935 году в Одессе и уехал из СССР в 1972-м. В СССР он был директором универсама, а сейчас возглавляет компанию «Trans-com- modity» с годовым доходом 1,1 миллиарда долларов. Когда Кислин приехал в Нью-Йорк, он не говорил по-английски, зарабатывал мытьем автомобилей и чисткой овощей. Его компания в настоящее время — крупнейший в мире поставщик литейного чугуна (Грант).
Амбиции иммигрантов «зашкаливают». Например, в интервью 13 мать гордо рассказывает о том, что ее ребенок сдал вступительный экзамен в школу Стайвесант, престижную манхэттенскую общеобразовательную школу, в которую можно поступить, только успешно сдав экзамены. Родители знали, что они уезжают из города, и поэтому их сын не сможет быть принят в эту школу. Тем не менее они заставили его сдать экзамен как свидетельство его академических успехов.
Кроме того, русскоязычная еврейская диаспора может похвастаться впечатляющим человеческим капиталом: ее члены имеют также наработанный в Советском Союзе навык пробиваться сквозь бюрократические барьеры — что довольно полезно для иммигрантов, стремящихся преуспеть в новой стране. Как уже говорилось выше, один из опрошенных мною сказал, что после пребывания в Вене «каждый стремился продлить свои итальянские каникулы за счет ХИАС». Рассказчица вспоминает, что их пригласили к консулу Соединенных Штатов в тот день, когда у нее была запланирована платная экскурсия. Эта экскурсия предназначалась в основном для русскоговорящих туристов, многие из которых находились на пособии от ХИАС. Они позвонили в консульство и сказали, что женщина заболела. Семья не пришла на прием. Через неделю они обнаружили, что их лишили субсидии от ХИАС, потому что они не пришли, когда им было назначено. Рассказчица с мужем пришли в ХИАС, чтобы выяснить, в чем дело, и их там приняли совершенно ужасно. В ХИАС знали, что у них двое детей и пожилой родитель, как же они могли лишить семью субсидии без предупреждения? — недоумевала рассказчица. В ХИАС отказались восстановить субсидию. Рассказчица с мужем уселись тогда в офисе и заявили, что не уйдут оттуда, пока финансовая помощь не будет восстановлена. Это сработало, помощь восстановили. Они получили то, что хотели, и вскоре после этого уехали (интервью 22).
В прессе отмечался еще один момент: «Как однажды сказал кто-то из русских комиков: если кто-то научился обкрадывать и обманывать свою собственную страну, ему легко удастся это сделать в любом другом месте. Это как раз касается русской мафии — даже итальянцы поражены их махинациями и бесстрашием» (Пахомов).
Старомодная коррупция вряд ли отсутствует в русско-еврейском обиходе. Американский анализ российских президентских выборов в марте 2004 года, включая данные госсекретаря США Колина Пауэлла, свидетельствует о махинациях. Ряд российских граждан, живущих в Нью-Йорке, отправились голосовать в российское консульство на Манхэттене и в театр «Миллениум» на Брайтон-Бич. Требовались паспорта. Один молодой человек представил сразу два, и сотрудник консульства упрашивал его использовать только один, «действующий» паспорт (Козловский).
Несмотря на то что опрашиваемые мной иммигранты своим успехом были обязаны сочетанию человеческого капитала, амбиций и хитрости, они выразили однозначную благодарность стране, которая предложила им убежище, и были почти единодушны в чувстве общей преданности Соединенным Штатам: «Все русские, которые прибыли сюда в возрасте старше двадцати пяти лет, говорят с акцентом, но они многого добились: они — врачи, юристы, владельцы крупного бизнеса; это великая страна, Боже, благослови Америку» (интервью 4). Один из респондентов жаловался на условия получения социального страхования. Они с группой ветеранов хотели, чтобы социальное страхование называлось «пенсией для ветеранов», поскольку это давало бы им чувство, что они имеют право на такое страхование, что они «заслужили» его. Тем не менее даже на фоне унизительной для него формулировки «социальное страхование» он выпалил: «Я благодарен Соединенным Штатам. Я получаю бесплатные лекарства, социальную страховку и много других преимуществ. Боже, благослови Америку» (интервью 15). Другая иммигрантка с ностальгией вспоминала Крым и Черное море (откуда она уехала, но куда регулярно возвращалась во время отпуска) как более красивое («более естественное») место по сравнению с тем, что она могла увидеть на пляже в Брайтоне. Однако ее преданность Соединенным Штатам не вызывает сомнений. Она вспоминает, как по прибытии в США они сняли комнату в частном доме в Бруклине. Они присоединились к жилищной лотерее и одиннадцать лет стояли на очереди, пока не получили квартиру в центре для пожилых людей. Но когда они получили ее, муж респондентки уже умер. «Мы проходили по Программе 8 и получали также дополнительный социальный доход и продовольственные талоны[15]. Чтобы получать все это, нам не нужно было работать. Боже, благослови Америку» (интервью 19).
В разных интервью постоянно встречалось выражение: «Мы очень благодарны. американскому народу. Мы ничего не дали Америке, а Америка дала нам социальное обеспечение» (интервью 10).
В одной газете репортер опросил русскоязычных иммигрантов, как они праздновали 4 июля. Одна из опрашиваемых так ответила на его вопрос: «Я провела День независимости с моим мужем. Мы пошли на Брайтон- Бич. Я — врач, поэтому я не могу отключать свой мобильный телефон. Но, к счастью, все мои пациенты чувствовали себя хорошо в этот день. Вечером мы встретились с друзьями и отправились в Бэттери-Парк смотреть салют».
Репортер пишет: «Празднование было позади. Я уверен, что все русские иммигранты почувствовали прилив патриотизма и растущее чувство принадлежности к американскому народу в День независимости» (Черноморский).
Я считаю, что иммигрантов подучили произносить «Боже, благослови Америку» для их интервью о гражданстве, потому что практически все они цитировали эту фразу как часть катехизиса. Однако не вызывает сомнений, что они испытывали безграничную благодарность Америке. И действительно, они становились сверхпреданными американцами. Но большинство американцев не «просто американцы», а имеют приставку перед этим словом (афроамериканцы, латиноамериканцы и т.д.). Что значит быть не «просто американцем» для представителей этой волны иммигрантов, которые в основном поселились в Бруклине? Я рассматриваю этот вопрос в следующих двух разделах.
II. НЕ СТАНОВИТЬСЯ «РУССКОГОВОРЯЩИМИ» (КАК В БЛИЖНЕМЗАРУБЕЖЬЕ)
Русскоязычные евреи могли называть себя таковыми и основывать свое социальное и политическое поведение на том, что они — представители «русскоговорящего населения» США. Если бы они это сделали, они стали бы частью надэтнического сообщества, включающего в себя русских, украинцев, белорусов, грузин и молдаван, которые также иммигрировали в Соединенные Штаты. В самом деле, многие евреи в республиках «ближнего зарубежья» после развала Советского Союза сделали выбор в пользу такого самоопределения. И по множеству причин адаптация к Америке в роли «русскоговорящих американцев» могла быть привлекательной.
Прежде всего, в Нью-Йорке имела место особенно сильная поддержка русского языка и сообщества говорящих на нем. В самом деле, в начале 1990-х здесь образовалась критическая масса говорящих по-русски. В 1990 году около 300 000 русскоязычных евреев жили в самом Нью-Йорке и около 400 000 — в прилегающих к нему районах. По данным официальных нью-йоркских источников, бывший Советский Союз был крупнейшим поставщиком иммигрантов в конце 1990-х годов (RINA 1—2). Учитывая размеры и географическую концентрацию русскоговорящей диаспоры, благоприятные условия для русского языка естественным образом распространились на следующее поколение. В отчете 1991 года показано, что пятьдесят три процента мигрантов второго поколения предпочитали говорить по-английски у себя дома, восемьдесят пять утверждали, что говорят по-русски «хорошо», и девяносто три сообщили, что понимают разговорный русский язык (Kasinitz et al. 10).
Один из моих респондентов объяснил, что в Бруклине очень хорошо сохраняется русская культурная жизнь благодаря большому количеству приехавших с четвертой волной. Этот респондент сам считает себя иммигрантом четвертой волны 1989—1992 годов; третья волна была в 1978—1979-м. У представителей третьей волны, с точки зрения респондента, не было ни знаний, ни информации; они страдали больше, чем представители четвертой волны. В 1989 году приток иммигрантов был огромным. Они прибывали по старому маршруту: израильская виза, Вена, Рим (на два месяца), затем — США. Рассказчик вспоминает, что, когда они приехали сюда, поток иммигрантов был такой, что они даже не могли снять квартиру. Теперь эти иммигранты — юристы, врачи, программисты, инженеры и художники. У иммигрантов третьей волны не было театра — в то время еще не открылся «Миллениум» в Брайтоне. Эти люди смогли сохранить русский язык, поддерживать существование русскоязычных газет, театров, двух радиостанций (не существовавших за десять лет до того) (интервью 3)[16].
Институциональная поддержка этого сообщества русскоговорящих была весьма сильной. Как сообщил один из опрошенных, когда он прибыл сюда, в публичной библиотеке Бруклина имелась лишь одна полка книг на русском языке. Сейчас существует огромный раздел русской литературы. Половина посетителей в библиотеке — русские, потому что русские — заядлые читатели. Все они посещают библиотеки и много читают; все местные библиотеки — в Брайтоне, в Шипшеде, в Герритсене — имеют русскоговорящий персонал. Когда респондент только приехал, имелся один-единственный русский книжный магазин, а сейчас их несколько, с множеством книг для детей. Рассказчик вспомнил, что он заплакал, увидев это, потому что в России, чтобы достать детские книжки, нужно было иметь знакомства в книжном магазине, а здесь, в Америке, вы можете купить все что угодно для русских детей, и сам рассказчик сообщил, что собирается покупать очередные книжки для своего внука. В библиотеках есть вся текущая художественная литература из России, включая классику, и вы можете заказать то, что желаете, через Интернет (интервью 1).
Благодаря превосходным библиотечным фондам русскоязычных книг и широкому использованию кредитных карт, с помощью которых можно заказывать книги онлайн, русскоговорящие американцы едва ли нуждаются в книжных магазинах.
Доступны и другие средства информации. Газеты на русском языке многочисленны. Телевещание на русском языке представлено многими каналами, к нему легко подключиться. «У меня есть четыре телеканала на русском языке. Последнее российское кино, которое мы видели, была "Бригада" (популярный в России сериал о бандитах; его можно взять напрокат во всех местных видеосалонах или посмотреть по телевидению)» (интервью 2). Российские радиопрограммы в Нью-Йорке повсеместно доступны, от ток-шоу до музыки и новостей. Театральных представлений тоже много, включая и привозные спектакли, премьеры которых проходили недавно в Москве и Санкт-Петербурге: «Что касается российских шоу, мы иногда ходим на них, потому что это удобно — в нескольких минутах ходьбы от моего дома. В театре "Миллениум" всегда аншлаг» (интервью 1).
Телефонная связь с русскоговорящим миром такая же дешевая, как и звонок в Нью-Джерси: «В 1989 году мы платили два доллара за минуту, сейчас это дешево; сейчас мы платим три цента максимум, звонок в Санкт-Петербург сейчас стоит 1,9 цента за минуту» (интервью 1). Все это — важное доказательство того, что в Нью-Йорке существует сформировавшееся самодостаточное языковое сообщество, члены которого имеют общую идентичность как русскоговорящие. Эти культурные и медийные возможности поддерживают образование сообщества с идентичностью «русскоговорящих». «Мы используем все более популярный термин "русскоговорящие" евреи, который включает людей со всего бывшего Советского Союза, а также формирующиеся "русскоговорящие" еврейские общины в Восточной Европе и Израиле», — сообщается в одном социологическом исследовании. И далее, там же: «Второе поколение все меньше интересуется тем, из какой советской республики происходят они или их друзья, в отличие от первого поколения иммигрантов» (Kasinitz et al. 10—11). В этом отчете есть примеры (и несколько наглядных иллюстраций) того, как дети русскоговорящих родителей отказывались от использования русского языка; однако, став взрослыми, они принялись изучать его в надежде научить ему своих собственных детей.
У некоторых из моих собеседников привязанность к родному языку — очень сильная и устойчивая. Так, один из них рассказывает, что дома они с семьей говорят по-русски — он на этом настоял. Он вспоминает, как в 1998 году взял своего сына в Санкт-Петербург. Город произвел на сына, Джулиана, огромное впечатление. Он отметил с восторгом: «Там все говорят по-русски. Спасибо, что научил меня говорить по-русски. Я могу понимать, что происходит вокруг меня». Рассказчик сообщил также, что его дети в течение трех лет проводили лето в Литве со своей бывшей няней и таким образом совершенствовали свой русский, а дочь рассказчика недавно провела лето со своей бывшей няней в Киеве и частично — на Черном море. Она вернулась, неспособная сказать ни слова по-английски, но при этом хорошо говорила по-русски, хотя все это закончилось примерно через неделю. Она не смешивала два языка, но каждое слово, которое она произносила по-русски, звучало очень забавно. Сын рассказчика загружает современную русскую музыку через Интернет, и они слушают диски на русском (интервью 11).
Русскоговорящие общины живут в определенных районах: Брайтон и Кью-Гарденс в Квинсе. Наиболее успешные русскоязычные евреи из Брайтон-Бич переезжают в более просторные дома и богатые кварталы на Манхэттен-Бич (Бергер). Но при этом стараются держаться вместе. Эстер Шварц, школьная учительница, сообщает, что большинство выходцев из России «липнут» друг к другу, потому что они предпочитают говорить на своем родном языке (Бергер). Чтобы символически увековечить появление такого исторически сложившегося языкового сообщества в Соединенных Штатах, газета «Новое русское слово» предоставила возможность выступить в печати человеку, выдвинувшему идею создать памятник русскоговорящей общине. «Нет достойного памятника, посвященного русскоговорящим иммигрантам», — написал Леонид Оловянников, который описывает иммиграцию как имеющую всемирно историческое значение. «Три поколения иммигрантов, которые принесли в США свои таланты, свои знания и опыт, заслуживают, чтобы их имена помнили вечно», — считает он.
Несмотря на все это, идентификация себя как говорящих по-русски не стала доминирующей политической идентичностью, по крайней мере среди русскоязычных евреев. Это, похоже, обусловлено несколькими взаимосвязанными причинами. Во-первых, имеет место классовое разделение между третьей (по большей части еврейской) и четвертой волнами иммигрантов (состоящей как из евреев, так и из этнических русских), препятствующее созданию общего культурного фронта. Многие из моих респондентов отрицают это разделение, но оно существует. Снова и снова интервьюируемые мной лица среднего поколения (третьей волны) настаивали на том, что у них есть близкие друзья неевреи (поддерживая тем самым представление о себе как космополитах), но, когда я просил их сообщить имена и телефонные номера (что позволило бы мне увеличить «снежный ком» примеров), они направляли меня в другие места, признавая, что у них нет этих номеров в мобильных телефонах. Одна из опрошенных, которая признала это разделение, обосновала его, сделав оговорку, что русские, приехавшие в Брайтон-Бич после 1991 года, были другими. Эти, по большей части русскоязычные неевреи, были бедными и приехали в США по материальным причинам, объяснила она, тогда как предыдущая волна, состоящая в основном из русскоязычных евреев, представляла собой хорошо обеспеченных людей, приехавших по политическим мотивам. Более поздние иммигранты поэтому имели больше трудностей с ассимиляцией, в то время как предыдущие ассимилировались легко (интервью 8). Другая опрошенная из третьей волны сказала то же самое. Она не «винит» представителей четвертой волны за их неудачу в установлении отношений с третьей волной иммигрантов, но находит с ними мало общего (интервью 22). Хотя в самовосприятии представителей третьей волны есть элемент заносчивости, поколение мигрантов-отказников и впрямь было более образованным и политически мотивированным.
Вторая причина того, почему мы не можем говорить о появлении в Нью-Йорке консолидированной и доминирующей идентичности, основанной на русском языке, — постепенная утрата родного языка у последующих поколений. Эта социальная реальность затронула все иммигрантские группы в Америке. Рассмотрим следующий фрагмент из Интернета, где пародируется способность детей второго поколения говорить по-русски. Курсивом отмечены английские слова:
Зарентовал двухбедрумный апартмент.
И для начала взяв полпаунда икры.
Я понял сразу — надо мной не каплет.
Мой велфер даст еще несметные дары («Weekend»).
Подобная смесь русского и английского языков в рамках нового диалекта довольно типична для диаспоральных ситуаций и аналогична развитию «хебраш» (иврита-русского) в Израиле (Remennick) и «спанглиш» (испано-английского варианта) в Соединенных Штатах. Она имеет место даже там, где уровень этнической эндогамии высок. В моих интервью постоянно сообщается об утрате способности читать и писать на языке отцов у поколения, рожденного в США. Родители с печалью признают всеобъемлющую одноязычную реальность английского, характерную для нового поколения: «Лучше всего наш старший сын говорит по-английски, затем по-русски, затем на иврите, который он изучает в школе. За обедом мы говорим по-английски. Если у нас есть силы, мы заставляем его отвечать по-русски; если нет — он отвечает по-английски, и мы просто принимаем это» (интервью 17).
Другой респондент отметил более тонкую особенность. Те, кто родился в Соединенных Штатах или уехал из России в возрасте семи лет и раньше, теряют «душу» языка, и он в большей степени становится средством коммуникации, чем компонентом культуры. Как только это происходит, психологическая мотивация старшего поколения сохранить язык пропадает.
Третья причина того, почему идентичность, основанная на русском языке, не оформилась, — это географические сдвиги. Например, существенно, что многие русскоязычные евреи переехали в Нью-Джерси и другие места США в поисках неограниченного рынка труда. Как только семьи покидают районы с высокой концентрацией русскоговорящих, дети в государственных школах теряют привязанность к языку, особенно в свете существенных экономических и социальных стимулов хорошо знать английский.
Четвертая причина, с точки зрения русскоязычных евреев, — это то, что в Америке распространены антирусские стереотипы, которые давят на психологию молодых людей; стремясь добиться успеха в Америке, они не решаются обнаружить свое русское наследие. Участвовавшие в опросе респонденты, даже из Нью-Йорка, проявляют крайне амбивалентное отношение к тому, чтобы считаться «русскими». Один респондент сказал: «В целом я плохо отношусь к русскому населению в своем районе, в Брайтон-Бич». Другой поправляет друзей, когда те называют его русским, и требует, чтобы его считали «русским евреем». Еще один говорит: «Американцы. смотрят сверху вниз на русских, потому что русские не такие религиозные, а быть религиозным — символ статуса». Одна девушка, с которой я говорил, беспокоится о своей цене на брачном рынке, поскольку многие американцы «смотрят на них (русских) как на стоящих ниже себя» (Kasinitz et al. 49—50).
Последняя причина вымывания русскоязычного культурного сознания в США — это конец «интеллигентской» культуры в американском окружении, которое не поощряет высокую культуру. «В России, — сказал мне один из опрошенных, — мы привыкли быть театралами, а здесь это меньше нас интересует. Поначалу нам не хватало языка для понимания театральных постановок. Кроме того, уровень режиссуры и актерского мастерства в России выше, чем тот, что мы видели в Штатах, особенно за пределами Бродвея и в Челси, поэтому мы перестали ходить в театр» (интервью 1). Или вот более неодобрительное заявление: «Америка скучна, в ней нет интеллектуального или поэтического сознания — того, что цементирует русский язык и что нынче вымывается» (интервью 8).
Подводя итог, можно предположить следующее: классовый разрыв, проходящий в большой степени внутри третьей еврейской волны и преимущественно затронувший русскую четвертую волну; неизбежная утрата языка последующими поколениями — судьба всех иммигрантских групп в Америке; все более широкое географическое распространение русскоговорящей еврейской общины и выделение определенных приоритетных аспектов идентичности (религия в противовес интеллектуальной культуре) — все это привело к снижению привлекательности основанной на русском языке идентичности для русскоязычных евреев.
III. СТАТЬ АМЕРИКАНСКИМИ ЕВРЕЯМИ (К ИХ БОЛЬШОМУ УДИВЛЕНИЮ)
Наши данные показывают, что русскоязычные евреи в Нью-Йорке становятся американскими евреями. В качестве своей доминирующей идентичности они принимают скорее религиозную, чем этническую, еврейскую идентичность. Это удивительно по нескольким причинам. Наиболее впечатляющим является то, что население, живущее в Брайтоне, является подгруппой отказников, которые отказались ехать в Израиль!
Но есть и другие причины, почему этот результат воспринимается как неожиданный. С одной стороны, большая часть этой диаспоры была воспитана в светской советской культуре, довольно несведущей в практике иудаизма. Один иммигрант сообщил мне с юмором, что на рейсе компании «Swiss Air» из Вены в Соединенные Штаты пассажирам-отказникам предложили кошерную еду, поскольку в авиакомпанию поступили сведения, что они еврейские беженцы. Он не знал, что значит «кошерный». Пассажиры пожаловались стюардессам, что они подвергаются дискриминации как евреи и хотят есть ту пищу, которую дают нормальным людям (интервью 25). В другом интервью респондент пытался подчеркнуть свою религиозную ортодоксальность. Однако, когда я спросил его, проходил ли он бар-мицву, оказалось, что он не знал про этот основной ритуал, который знаменует переход от детства к религиозному совершеннолетию (интервью 18).
Американские евреи были ошеломлены сопротивлением русскоговорящих евреев общепринятым в их среде религиозным практикам. Согласно Клигеру (Kliger 152—157), «американские евреи пытались установить контакт с русскими евреями как с иудеями, умаляя роль их особой русской идентичности и не понимая ее». В самом деле, русскоговорящим евреям, которые социализировались в обществе, исповедующем православие и еще недавно коммунизм, идея общинной еврейской жизни была чужда. Многие не могли по прибытии понять, зачем нужно платить за членство в синагоге; точно так же носить кипу было, по мнению многих иммигрантов, стыдно. Русские не говорят о своей религии, в отличие от американских евреев; скорее они говорят о своей вере. Для русскоязычных религия ассоциируется с утомительными ритуалами, тогда как вера опирается на размышления человека о своей судьбе.
В ходе опроса евреев в Санкт-Петербурге только один процент респондентов связал свою еврейскую идентичность с религиозной деятельностью, которая ассоциировалась с «исповеданием иудаизма». Такие же результаты были среди эмигрировавших в Израиль (Kliger 154). И в проводившемся в США исследовании мигрантов только 3,4 процента связывали свою идентичность с «исповеданием иудаизма» (Rliger 154). В Америке они говорят о своей религии таким образом, который не позволяет установить ориентиры для понимания их поведения, образа жизни или убеждений. Русские евреи в Америке не ходят в синагогу, говоря: «Бог может услышать меня и без синагоги».
В другом исследовании-анкетировании, в котором можно было дать один из нескольких ответов на вопрос, что значит быть евреем, только одиннадцать процентов русскоязычных еврейских иммигрантов смогли сказать, что значит «практиковать/исповедовать иудаизм»; семнадцать процентов сказали, что они соблюдают еврейские обычаи. Таким образом, для взрослых мигрантов еврейство имеет светский оттенок, ибо тридцать три процента заявили, что быть евреем — это «чувствовать себя частью [нечетко определенной категории] еврейского народа» (RINA 21). Клигер резюмирует эту ситуацию так: «С точки зрения подавляющего большинства американских евреев, исповедующих иудаизм, русские евреи в Америке продолжают быть столь же безразличными к еврейскому наследию и еврейской общинной жизни, как и тогда, когда они жили в Советском Союзе» (152).
Еврейские общинные практики были чужды этим иммигрантам. Однако есть области общей практики. Пейсах является наиболее соблюдаемым праздником (это отчасти объясняется тем, что община проводит Седер — ритуальную реконструкцию исхода). Тем не менее в публикации 1993 года сообщалось, что менее двадцати процентов евреев в России участвовали в Седере в том году (Шапиро и Червяков, цит. в: Kliger 157). Есть также некоторые данные по Соединенным Штатам, указывающие на активное участие в посте на Йом-Киппур («Судный день»). Однако подавляющее большинство молодых евреев из бывшего Советского Союза не были подвергнуты обрезанию. Раввин, осуществивший около 8000 операций обрезания в этой группе населения, сообщает, что двадцать процентов назначенных операций были отменены, и предполагает, что у русскоязычных евреев имеет место своего рода табу на этот священный еврейский ритуал. Более того, евреи из бывшего Советского Союза изначально не придавали большого значения соблюдению Шабата.
Мало того, что евреи из бывшего Советского Союза были встроены в светское окружение, но они еще и культивировали космополитичные дружеские связи в советское время. Один из опрошенных сказал, что все его ближайшие друзья — русские евреи, хотя в России его ближайшими друзьями были неевреи. Но в Америке практически каждый, кого он знает, и каждый, с кем он общается, — евреи из России (интервью 1). Другой сообщил, что все его родственники в США состоят в браке с лицами из среды русскоговорящих евреев. На Украине многие его друзья и коллеги не были евреями, а в Америке он вовсе не видит никаких «русских». Этот респондент подчеркнул, что ему нравятся русские и украинцы, потому что они хорошие люди, но в Америке он их не встречает (интервью 4)[17].
Несмотря на недостаточную вовлеченность и несерьезность русскоговорящих евреев в Нью-Йорке по отношению к религиозным практикам и вере, они становятся американскими евреями (с религиозным рвением, неожиданным для них самих). Это та идентичность, которая начинает определять их социально-политическое поведение. Почему это происходит? Некоторые ответы вытекают из моих интервью.
Во-первых, это историческая сила пятого пункта в советских паспортах, который классифицировал их как евреев по национальности в контексте советской социально-политической жизни. Однако, благодаря их светскому советскому воспитанию, они разработали светскую версию иудаизма, часто к огорчению спонсировавших их американских евреев. Тем не менее советская паспортная политика помогла материализовать их идентичность как евреев, и эта материализация имела долговременные последствия. Таким образом, советское бюрократическое наследие вполне может быть частью объяснения[18].
Во-вторых, существуют инструментальные причины для появления еврейской идентичности[19]. В конце концов, те, кто смогли заявить, что они евреи, получали бесплатный билет из «дурдома», которым считался Советский Союз. Данные интервью широко представляют эту тему: в 1989 году в СССР впервые было разрешено соблюдение еврейских ритуалов. Люди тогда смогли открыто собираться и изучать вещи, связанные с еврейской культурой. Респондент вспоминает, что в Перми в течение всего пятилетнего периода перед отъездом его семья имела возможность хорошо ознакомиться с разными аспектами еврейской жизни. Раввин приехал в Пермь из Израиля в 1991 году. Он пробыл в Перми три года, и респондент помогал ему, поскольку знал английский язык. Он помог ему получить квартиру и устроиться. Далее в разговор вмешалась жена респондента и сообщила, что еще до того появились три молодых человека из Израиля, из Министерства иностранных дел, и рассказали местным евреям, какие блага они получат, если эмигрируют в Израиль. Люди в Перми просто не могли поверить, что перед ними в их родном городе стоят люди с Запада. В то время сахар можно было получить только по талонам. Они сообщили этим молодым людям свои данные, чтобы получить приглашение из Израиля (интервью 17).
В другом интервью респондент по имени Василий вспоминает, как приехал в США в октябре 2000 года. Мать его жены была еврейкой, а отец жены евреем не был. Это позволило его жене и им обоим получить статус беженцев. Василий боялся уезжать, потому что он неважно знал язык и был стар для этого — даже и сейчас язык представлял для него трудность. Жена Василия вмешалась в разговор и сообщила, что, когда ее мужу исполнилось шестьдесят лет, он, как положено, вышел на пенсию. Пенсия была маленькой, поэтому он продавал найденные в мусорных баках вещи, чтобы хватало на жизнь. Он не хотел уезжать в США, но они получили статус беженцев и в один прекрасный день — телеграмму, разрешающую им уехать до ноября 2000 года. И они уехали. В США они получили добавочное пособие малоимущим (400 долларов в месяц), продовольственные талоны, медицинскую помощь (Василий перенес несколько операций, включая операцию на сердце, и все они были бесплатными) и пятидесятипроцентную скидку на пользование общественным транспортом (интервью 23).
Другой опрошенный (интервью 20) приехал в Соединенные Штаты в 1992 году. Был рабочим на строительстве. У него случился инфаркт миокарда, и он не мог больше выполнять ту же работу. Тогда он устроился в ювелирный магазин. Потом пошел учиться в бизнес-колледж в надежде научиться программированию. Он не закончил его, потому что у него случилось еще два инфаркта. Ему сделали операцию на сердце в госпитале Ленокс-Хилл, оплаченную за счет добавочного пособия малоимущим. В итоге он стал менеджером ювелирного магазина.
Обладая статусом беженца (который в Советском Союзе могли получить представители нескольких религиозных групп, но с наибольшим усердием к нему стремились евреи), русскоязычные евреи получали доступ к бесплатному здравоохранению мирового уровня и другим благам. Это было точно резюмировано в интервью 10: «Мы ничего не дали Америке, а Америка дала нам социальное обеспечение».
В-третьих, в США синагоги, иешивы и другие еврейские ассоциации играют ключевую организационную роль как средства ассимиляции. «По прибытии организация ХИАС встретила нас в аэропорту и проводила в отель» (интервью 7).
Хотя в целом надо отметить низкий уровень участия мигрантов второго поколения в общинной жизни, в целом это участие распределяется следующим образом: семьдесят один процент представителей поколения, рожденного в США, принимают участие в деятельности еврейских общинных центров и тридцать восемь процентов — в еврейских летних лагерях (Kasinitz et al. 30).
Респондент рассказывает: «Было очень интересно, как все это организовано. Нью-Йоркская ассоциация новых американцев (занимающаяся социальным обеспечением евреев) выплачивала арендную плату за первый месяц и залог собственнику, который новоприбывшие не должны были возвращать, поскольку фонд состоял из добровольных взносов. Но мы вернули этим людям то, что они на нас потратили [смеется]. Они списывали со счетов то, что передавали нам в качестве благотворительного пожертвования. Это я узнал позже, и это нормально» (интервью 11).
Уровень поддержки со стороны еврейских сообществ поражал иммигрантов. Анна (интервью 16) прибыла в Соединенные Штаты в 1993 году. Она получила статус беженки и была принята еврейской общиной в Форт-Уэйн, штат Индиана, которая пригласила ее семью. Здесь уже находился ее пожилой брат, у которого не было денег спонсировать других членов его семьи. Он обратился к этой общине в Индиане, которая помогла с деньгами для Анны, ее сына, его жены и их дочери. Община в Форт-Уэйн взяла эту семью под свое крыло на год. Им предоставили красивую, полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, шкаф, набитый прекрасной одеждой, полный холодильник и конверт с 300 долларами. Это был маленький городок, но представители общины на машинах возили их повсюду. Во время интервью Анна неоднократно выражала свою благодарность этой общине. Позже она прожила в Нью-Йорке восемь лет, ожидая квартиру в доме для престарелых. Ее очередь подошла, и она проживает в этом доме уже два года. Она платит только 158 долларов в месяц за комнату, получает добавочное пособие малоимущим, продовольственные талоны и лекарства — все это благодаря статусу беженки. Сейчас она изучает английский язык в Еврейском колледже при синагоге каждый четверг, поскольку до сих пор владеет языком только на элементарном уровне.
А вот другой случай. Респондентка рассказала, как Нью-Йоркская ассоциация новых американцев нашла ей работу за четыре недели — продавщицей в лавке, торгующей клубникой; так вместе с коллегой по работе из Боснии она выучила английский. Параллельно она изучала бухгалтерский учет в школе и затем нашла работу клерка в отделе расчетов. Ее младший ребенок родился в Америке и пошел в детский сад. Опрошенная сообщила, что они не обращались напрямую в Еврейский центр. Ее муж Игорь не является зарегистрированным членом Еврейского центра, ему не хватает терпения высиживать чтение молитв. Но в прошлом году они ездили на неделю в Израиль с еврейской организацией (интервью 17).
После чего эта супружеская пара сделала свой выбор в пользу еврейской, а не русской идентичности.
Получив столь весомую социальную поддержку со стороны еврейских организаций, помогающих интегрироваться, диаспоральное сообщество из бывшего Советского Союза начало видеть своей «родиной», из которой они рассеялись по свету, скорее Израиль, чем Россию. Если это так, можно ожидать с их стороны гораздо большего интереса к ближневосточной политике, чем к политике России. Данные моих интервью подтверждают это.
Респондент рассказывает, что у него не осталось никаких связей в России. Он не скучает ни по кому из тех, кто там остался, но говорит, что здесь люди, эмигрировавшие со своей родины, сплачиваются. У опрошенного есть русский телеканал дома, но его не интересует, что происходит на Украине. Он подчеркивает, что, когда уезжал оттуда, никто не беспокоился о нем. Он сталкивался только с антисемитизмом и теперь считает Америку своей страной. Его интересует то, что происходит в Соединенных Штатах, особенно что касается терроризма, и что происходит в Израиле. В прошлом году он помогал собрать 200 000 долларов для Израиля. Он поддерживает людей, которые заботятся о прибывших евреях. Респондент сказал, что знает, что происходит в Чечне, но ему это не интересно. Его волнует положение дел в Ираке, потому что это недалеко от Израиля, и он утверждает, что эта война необходима ради Израиля (интервью 7).
В другом интервью опрошенная рассказала, что у них дома нет русского телевидения, они мало смотрят телевизор, но заходят на русские интернет-сайты. Они не следят внимательно за российской политикой. Муж респондентки Игорь заходит на российские новостные сайты несколько раз в месяц, а вот за израильской политикой следит в Интернете каждый день (интервью 17).
Другая респондентка говорит: «Я интересуюсь тем, что происходит сейчас в России, путинским тоталитарным правлением, но... мои друзья больше интересуются ситуацией в Израиле» (интервью 22).
Эти настроения — не просто интерес. Они отражают глубокое беспокойство за свой народ, и под этим народом понимаются евреи. Например, в разговоре с респонденткой я пошутил, что поток иммиграции продолжится, поскольку следующим поколением еврейских мигрантов, вероятно, будут люди, выселенные с оккупированных Израилем территорий. Ей было не смешно. Она сказала, что Израиль — очень деликатная тема и она не хочет говорить об этом в таком контексте.
Но не только вопрос ближневосточной политики выявил культурную идентичность опрошенных. Усвоив более или менее принятые по умолчанию требования эндогамии, они недвусмысленно обозначили, кто входит в их группу: подходящие потенциальные супруги — это американские евреи. Один респондент явно продемонстрировал то, о чем, в общем-то, можно было и не говорить: «Я мечтаю о том, чтобы мои внуки вступили в брак внутри еврейского сообщества. Мы — еврейская семья. У нас здесь есть возможность продолжить свою "нацию". Это очень важно» (интервью 7).
В поддержку этого стремления к эндогамии сеть еврейских объединений организовала программу совместного досуга для иммигрантов-евреев. Для этого используется, конечно же, синагога.
Один из опрошенных сообщил, что, когда он прибыл в Нью-Йорк, Нью-Йоркская ассоциация новых американцев предоставила его семье номера в отеле на три недели, пока он не нашел квартиру на углу авеню К и 31-й улицы. Он ходил в синагогу за школой Худд каждую субботу в течение двух лет. Респондент признался, что не понимал ничего, но ему переводили. Ему дали Талмуд на английском, и он читал его (интервью 10).
Все в плане помощи происходит именно так, даже когда иммигрантам малоинтересно то, что синагога может предложить. Так, другой респондент рассказал, что, когда он жил в Бейсайде, все свои связи он установил через синагогу, которую посещал всякий раз в Шабат. Он со смехом вспомнил, что был тогда хорошим евреем, куда лучше, чем сейчас. «Они не предоставляли социальных услуг, но я научился читать на иврите, правда, ничего не понимая. Я узнал о еврейских праздниках, что было очень полезно, потому что я не мог узнать о них дома» (интервью 11).
Объединение осуществляется не только через синагогу. Опрошенные рассказали о своем членстве во множестве еврейских организаций: Евреи из бывшего Советского Союза (респондент 4), Объединенная еврейская федерация (респондент 7), Американо-еврейская ассоциация ветеранов (респондент 21, офицер и ветеран Советской армии; члены этой группы заинтересованы в получении ветеранских льгот в США). Эти еврейские объединения дают возможность включить иммигрантов в более широкий социальный контекст, и, даже будучи светскими организациями, они сплачивают своих клиентов как американцев еврейского происхождения.
Еврейско-американская идентичность — центрированная на поддержке Израиля — может быть в высшей степени светской. Но возникающая еврейско-американская идентичность имеет склонность к религиозному складу. Этот путь лежит через детей. Многие иммигранты, имеющие детей школьного возраста, отдают их в иешивы (еврейские религиозные школы), с тем чтобы их дети что-то знали о некогда запрещенной религии. Интервью с еврейскими иммигрантами второго поколения из бывшего Советского Союза, живущими в Нью-Йорке, показали, что восемьдесят три процента опрошенных посещают государственные средние школы, семнадцать процентов ходят в частные, по большей части еврейские, школы (более высокий показатель посещения приходских школ, чем в любых других иммигрантских группах, в рамках более широкого исследования иммигрантов второго поколения в Америке; Kasinitz et al.). Шестьдесят шесть процентов из тех, кто родился в Соединенных Штатах («истинное» второе поколение), посещают иешиву по меньшей мере в течение года, так как большинство иешив не берут плату за обучение с детей-иммигрантов за первый год. Уровень академического обучения в иешивах не столь высок, однако они оказывают эмоциональную поддержку и оставили отпечаток религиозной идеологии на тех, кто посещал их. Иешивы меняли жизнь тех, кто их посещал. Ирен, одна из интервьюированных в социологическом исследовании, посещала иешивы с первого класса до окончания средней школы; она стала — и остается (сейчас ей уже за двадцать) — вполне ортодоксальной. «Это было травматично. Мои родители… не хотели быть религиозными. Они объясняли мне, что у них такое отношение ко всему этому, и они не собирались меняться. Они сказали мне, что, когда я вырасту и у меня будет собственный дом, я смогу делать все, что захочу, но что мне не удастся изменить их жизнь» (Kasinitz et al. 21—22).
Я слышал подобные истории и от своих респондентов. Например, один из опрошенных рассказал, что люди знакомились в Бруклине по большей части в иешиве, где брали уроки английского. Кто-то был из Белоруссии, кто-то из Кишинева, кто-то из Санкт-Петербурга, и все они были русскоговорящими евреями, но среди них не было чистокровных русских (русских русских — как их называли). Иногда русские из России приходили в иешиву, чтобы учить английский, — и они знакомились с ними и с теми, кто происходил из смешанных браков. Но на занятиях в иешиве девяносто пять процентов времени уделяется иудаизму, а пять — английскому (интервью 5).
По прибытии Галина немного говорила по-английски, а Александр по-немецки. Они прошли курс занятий английским до отъезда, но почти безрезультатно. Внучку Галины (которая только что закончила среднюю школу в Бруклине и которой было десять, когда они прибыли в США) отправили учиться в иешиву, потому что считали, что там она выучит английский быстрее, чем в государственной школе (интервью 9).
Другие опрошенные рассказали, что они отдали свою дочь в еврейский детский сад в Бруклине, на углу Кони-Айленд-авеню и авеню У. Они выбрали религиозную школу для своих детей, даже несмотря на то, что полагали, что в государственной школе качество образования выше. Родители чувствовали, что они без проблем могут помочь своим детям в изучении светских предметов, но они ничего не знали о предметах, связанных с иудаизмом, поэтому решили положиться в этом на школу. Они обсуждали этот вопрос с друзьями и много об этом думали. Некоторые друзья опасались, что, если дети станут религиозными, они отдалятся от родителей, потому что у детей будет другая культура. Но потом родители сочли, что этого не произойдет, и рискнули. И этого не произошло. Родители сказали, что они остались так же близки со своим детьми, как и раньше (интервью 24).
Исследования (Kasinitz et al.) демонстрируют, что сильнейшее формирующее воздействие на идентичность мигрантов второго поколения оказывают посещение иешивы более года, окончание иешивы и посещение Израиля. Посещение иешивы оказывало гораздо более сильное воздействие на религиозную идентичность респондентов, чем любой другой фактор. Оно положительно влияло на все аспекты идентичности, но сильнее всего затрагивало религиозный. Благодаря тому, что иешивы обеспечивали новоприбывшим детям мягкий переход к новой жизни, они были популярным выбором. Будучи однажды выбранными (по крайней мере теми, кто оставался в этой системе), они эффективно превращали русскоговорящую молодежь в практикующих иудеев.
Обучающиеся в иешивах или социализированные в рамках программ синагоги дети начинают «обращать» своих родителей, или, лучше сказать, превращать их светское этническое представление об иудаизме в религиозное. Из исследования мы узнаём о восемнадцатилетней Джулиане, родившейся в Соединенных Штатах вскоре после того, как ее родители эмигрировали. После ее рождения мать Джулианы стала все строже исполнять предписания религии и присоединилась к общине ортодоксальных иудеев. Джулиана рассказала, что ее мать хотела, чтобы она получила еврейское образование, так как в России это было бы невозможно. Еврейские школы требовали от женщин, чтобы они были религиозными, соблюдали все законы и покрывали волосы. И мать Джулианы в какой-то мере стала следовать этим правилам. Она делала это для того, чтобы ее дочь могла пойти в еврейскую школу. А затем, когда Джулиана узнала еврейские обычаи, она стала подталкивать к их соблюдению своих родителей (Kasinitz et al. 22).
Эта же тема проходит через несколько моих интервью. Одна пожилая респондентка четко видела тенденции: «При том что мои внуки теряют способность свободного владения русским языком, они вспоминают знания, полученные в синагоге, когда они были детьми». В этот момент в разговор вмешалась ее дочь: «Она пытается сказать, что ее внуки в большей мере иудеи, чем я. Нас не обучали религии, а наших детей обучали» (интервью 4). «Мои ближайшие друзья все-таки стали ортодоксальными иудеями, — отметила респондентка. — Так же, как и их дети. Они соблюдают всё. Их дети под влиянием местной синагоги склонили их к ортодоксальному иудаизму. Их родители последовали за ними» (интервью 22). Другие опрошенные признались: «В США мы стали интересоваться иудаизмом, и он стал частью нашей жизни. Наши же дети не просто им интересуются — они стали религиозными» (интервью 24). Данные, приведенные в таблице, подтверждают идею, что со временем русскоязычное еврейское сообщество в Нью-Йорке все больше начинает определять себя как иудеев.
Моя интерпретация данных таблицы такова: чем дольше русскоязычные евреи остаются в США, тем более религиозными они становятся. Альтернативная интерпретация (ее тоже нельзя исключать) такова: те евреи, которые уехали из Советского Союза раньше, были изначально более религиозны.
Выбор идентичности: отношение русско-еврейских иммигрантов в Нью-Йорке к религии
Процент тех, кто согласен с тем, что
«Новички» (более 3 лет в Нью-Йорке)
«Второкурсники» (3—6 лет в Нью-Йорке)
«Третьекурсники» (6—9 лет в Нью-Йорке)
«Выпускники» (более 9 лет в Нью-Йорке)
быть евреем важно или очень важно
63
65
65
79
иудаизм — наиболее привлекательная религия
41
46
54
64
Источник: RINA 9.
Вот интерпретация авторов исследования: «У нас есть ощущение, что число тех, кто придерживается иудаизма, увеличилось. Это может указывать на реальный рост веры и практики иудаизма или на усвоение американских привычек этнически-религиозной идентификации» (RINA 4). В любом случае мы видим постепенный переход русскоязычного еврейского сообщества к более религиозной идентичности.
Данные об отношении второго поколения мигрантов к религии (Kasinitz et al. 41—48) предполагают нарастающую со временем религиозную консолидацию в плане базовой идентичности:
— 40% второго поколения евреев, родившихся в Соединенных Штатах, в противовес 10%, приехавшим в США детьми, считают себя ортодоксальными иудеями или хасидами;
— 89% второго поколения евреев, родившихся в США, в противовес 65%, приехавшим в США до 1988 г., держат дома еврейские традиционные предметы;
— 63% второго поколения евреев, рожденных в США, в противовес 37%, приехавшим в США до 1988 г., утверждают, что посещают синагогу;
— «Мало вероятно, что те, кто родился в США, сообщат, что большинство их друзей — русские; скорее всего, они сообщат, что большинство их друзей — евреи» (Kasinitz et al. 30).
Эти данные подтверждают мнение, что мигранты второго поколения сильно привязаны к еврейским символам, организациям и еврейскому образу жизни — больше, чем их родители.
Все эти этнографические черты складываются в четкий выбор культурной идентичности. Один из опрошенных выражает это следующим образом: «Все называют нас "русскими евреями". Никто не говорит о нас как о "евреях". В России любой, кто упоминает "евреев", говорит: "Уезжай в Израиль". И вот мы приехали сюда, а они называют нас "русскими". Нас не устраивает определение "русский". Мы хотим быть "евреями", а не "русскими"» (интервью 7).
Русскоговорящие евреи пришли к осознанию себя, как в социальном, так и в культурном отношении, прежде всего «евреями» с сильной религиозной составляющей. Таков парадокс идентичности: происходя из абсолютно светского общества, каким оно было в Советском Союзе, русскоговорящие евреи в США пришли к видению себя социально и культурно прежде всего «евреями» с сильной религиозной составляющей. Между тем, в Израиле с его строгими религиозными установками русскоговорящие евреи пришли к видению себя в социальном и культурном отношении прежде всего русскоязычными и, как правило, нерелигиозными[20].
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Нью-йоркская русско-еврейская диаспора, исследование которой лежит в основе этой статьи, имеет, как и любые группы, основанные на идентичности, множество культурных черт и национальных признаков. В 2000 году в опросе RINA (16—18) респондентам было предложено выбрать свою идентичность из четырнадцати возможных. Результат:
— у 71% респондентов прозвучало слово «еврей» в различных вариантах ответов;
— 31% респондентов просто сказали «еврей». Это безоговорочно была самая безусловная идентичность;
— 6% сказали «американец»;
— 4% сказали «русский»;
— 56% привязали свою еврейскую идентичность к какой-то другой национальности.
В этой статье рассматривался вопрос, какой аспект из общей совокупности культурных черт, присущих русскоязычным евреям, был и остается базовой составляющей главенствующей идентичности; был сделан вывод, что это идентичность американского еврея. Чтобы объяснить этот вывод (в неявном сопоставлении с Израилем и «ближним зарубежьем»), вероятно, достаточно будет модели, подчеркивающей демографию группы и дающей общую схему распределения новоприбывших по категориям внутри принимающей страны. Однако процессы, в силу которых это произошло (а также сильное религиозное влияние в рамках еврейской идентичности), требуют более полного описания. Представленная здесь этнографическая информация показывает, что среднее поколение нашло в своей еврейской идентичности способ отреагировать на ограничение возможностей во время экономического застоя в Советском Союзе. Эта идентичность принесла возможность мигрировать, за которую они ухватились. Сразу по приезде они оказались не в руках политиков Тамани-Холла (как когда-то ирландские иммигранты в Соединенных Штатах), а в руках еврейских организаций, которые помогли направить их в синагоги, а их детей в иешивы. Дети серьезно отнеслись к урокам в иешиве и подтолкнули многих из своих родителей в направлении еврейской идентичности, основанной на религии. Они, как правило, идентифицируют себя с американскими евреями, все более всерьез принимают религиозную привлекательность идентичности и ограничивают социальные связи с российскими неевреями. В результате потомки тех, кто поддерживал космополитический идеал светского еврейства в черте оседлости XIX века, сегодня становятся чрезвычайно успешными декосмополитизированными американскими евреями в Брайтоне.
Перевод с англ. А. Горбуновой
ЛИТЕРАТУРА
Anderson Stuart. The Multiplier Effect // International Educator. 2004. Summer. P. 14—21.
Chandra Kanchan. Why Ethnic Parties Succeed. New York: Cambridge University Press, 2004.
Cohen Rina. From Ethnonational Enclave to Diasporic Community: The Mainstreaming of Israeli Jewish Migrants in Toronto // Diaspora. 1999. № 8. P. 121 — 136.
Ebaugh Helen Rose, Janet Saltzman Chafetz. Religion and the New Immigrants. Walnut Creek, CA: Altamira, 2000.
Gitelman Zvi. Becoming Israelis. New York: Praeger, 1982.
Gitelman Zvi. E-mail to the author. 12 Feb. 2005.
Gitelman Zvi. Immigration and Identity: The Resettlement and Impact of Soviet Immigrants on Israeli Politics and Society. Los Angeles: Wilstein Inst., 1995.
Herberg Will. Protestant—Catholic—Jew. Garden City, N.J.: Doubleday, 1955.
Kalyvas Stathis. The Rise of Christian Democracy in Europe. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996.
Kasinitz Philip, Zeltzer-Zubida Aviva, Simakhodskaya Zoya. The Next Generation: Russian Jewish Young Adults in Contemporary New York. Russell Sage Foundation Working Paper № 178, June 2001.
Kliger Samuel. The Religion of New York Jews from the Former Soviet Union. New York Glory / Tony Carnes and Anna Karpatakis (Eds.). N.Y.: New York University Press, 2001. P. 148—161.
Laitin David D. Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998.
Lipset S.M., Stein Rokkan. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives / S.M. Lipset and Stein Rokkan (Eds.). New York: The Free Press, 1967.
Markowitz Fran. Criss-crossing Identities: The Russian Jewish Diaspora and the Jewish Diaspora in Russia // Diaspora. 1995. № 4. P. 201—210.
Posner Daniel. Institutions and Ethnic Politics in Africa. New York: Cambridge University Press, 2005.
Remennick Larissa. The 1.5 Generation of Russian Immigrants in Israel: Between Integration and Sociocultural Retention // Diaspora. 2003. № 12. P. 39—66.
Research Institute for New Americans [RINA]. Russian Jewish Immigrants in New York City: Status, Identity, and Integration. New York: Amer Jewish Committee, 2000.
Suny Ronald G. Revenge of the Past. Stanford, CA: Stanford University Press, 1993.
Supian V.B. Rossiiskaia Emigratsiia v SshA [Российская эмиграция в США]. International Union «United Russia» N.d. 15 July 2004 // http://www.msedina.org/?id=3022.
Waters Mary. Black Identities. New York: Russell Sage, 1999.
«Weekend» // Новый американец. 1989. Январь.
Werth Paul W. Theorizing the Politics of Cultural Identities in Russia and Ukraine. Rebounding Identities: The Politics of Identity in Russia and Ukraine / Dominique Arel and Blair A. Ruble (Eds.). Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2006.
Zisserman-Brodsky Dina. The «Jews of Silence»—the «Jews of Hope»—the «Jews of Triumph»: Revisiting Methodological Approaches to the Study of the Jewish Movement in the USSR // Nationalities Papers. 2005. № 33. P. 119—139.
Бергер Йозеф. Русский десант на Манхеттен-Бич // Новое русское слово. 2004. 22 марта.
Грант Александр. Закон Кислина: деловитость + милосердие = успех // Новое русское слово (без даты).
Козловский Владимир. Одни выборы и два пожара // Новое русское слово (без даты).
Оловянников Леонид. Letter // Новое русское слово (без даты).
Пахомов Александр. Из школы коммунизма выходят профессионалами // Огонек. 1996. 3 июня.
Страна, где расцветают таланты // Новое русское слово. 2004. 26 июля.
Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
Тринадцать лет спустя // Новое русское слово (без даты).
Червяков Валерий, Шапиро Владимир. Что значит: «Быть евреем»? // Еврейский научный центр (опрос 1992—1993 гг. и 1997—1998 гг.).
Черноморский Владимир. Веселился народ независимый // Новое русское слово. 2004. 7 июля.
Ярмолинец Вадим. Возвращение Якова Смирнова // Новое русское слово. 2003. 23 января.
Ярмолинец Вадим. Золотых рук учитель // Новое русское слово. 2001. 8 мая.
[1] @ Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 2004. Vol. 13. № 1. P. 5—35.
Исследование в рамках этой статьи проводилось, когда автор являлся членом Фонда Рассела Сейджа. Первоначально оно было подготовлено для конференции «Изменение и наложение идентичностей: Латвия перед лицом вступления в ЕС», проводившейся в Риге 17—18 сентября 2004 года. Автор благодарит Юриса Розенвалдса за приглашение к написанию этой статьи, ранняя версия которой была опубликована в Латвии. Автор также благодарит Инну Ставицки за материально-техническое обеспечение на Брайтон-Бич, Анну Гурфинкель за помощь в проведении исследования, Цви Гительмана за обмен данными и Канчан Чадру, Виктора Макарова, Инну Ставицки, Ай- варса Табунса, Сидни Тарроу, Цви Гительмана и Хачика Тололяна за критические замечания.
[2] С.М. Липсет и Стейн Роккан опубликовали основополагающую статью на тему социокультурных оснований доминирующих политических разногласий, и за ней последовало огромное количество литературного материала. См. работу Каливаса, в которой он анализирует взлет и падение католицизма в сравнении с секуляризмом как доминирующее разногласие в Западной Европе.
[3] Русско-еврейские иммигранты — термин, используемый ведущими учеными, изучающими эту общность. Но значительная часть этой общности не является ни русскими (по национальности), ни россиянами (гражданами Российской Федерации), поскольку многие иммигранты родом из Украины, Молдовы и других бывших советских республик, которые сейчас — независимые государства. Поэтому, когда я не ссылаюсь на работы других ученых и не пересказываю речь респондентов (где благодаря контексту определяется, какая именно общность описывается термином «русские»), я называю русско-еврейских иммигрантов русскоязычными или русскоговорящими евреями.
[4] Десекуляризация второго поколения русских евреев, о которой здесь говорится, согласуется с выводами Рины Коэн, сообщающей о светских израильских мигрантах в Канаду, чьи дети испытали религиозное пробуждение.
[5] Лариса Ременник показывает жизнеспособность в Израиле идентичности, основанной на русском языке.
[6] О подсчете голосов при возрождении культурных иден- тичностей см.: Chandra (гл. 4) и Posner.
[7] Образ русских евреев, жаждущих исповедовать свою религию, был опровергнут Фрэном Марковицем, чьи данные показывают, что большинство русско-еврейских эмигрантов в США отвергали возможности исповедовать свою религию и изображали из себя космополитов, стремящихся приспособиться к советской идентичности. Мои респонденты сообщили о том же самом. Однако они не поддержали предположение Марковица, что высокая русская культура сохранится в диаспоре как часть транснационального сообщества. Для обзора литературы по этому вопросу см.: Zisserman-Brodsky.
[8] О выборе идентичности русскими в «ближнем зарубежье» см.: Laitin.
[9] В этом Мэри Уотерс (см.: Waters) установила новый стандарт.
[10] «Космополит» — нагруженное многими смыслами слово в советском дискурсе. При Сталине оно ассоциировалось (по контрасту со словом «интернационалист») с буржуазной утонченностью, противоположной равенству. Я использую этот термин в его общепринятом смысле: те люди, которые идентифицируют себя как разделяющих судьбу всех народов мира, а не только собственной группы.
[11] Эта героическая работа по-иному оценивалась после войны. В ежедневной газете «Новое русское слово» опубликованы личные воспоминания о бытовом антисемитизме в послевоенной советской жизни, написанные через тринадцать лет после эмиграции: «Ничто не сотрет воспоминания о моем детстве, из которого я помню горькие антисемитские замечания, что "они"... все уехали в Ташкент, а за них должны были сражаться русские.» («Тринадцать лет спустя»).
[12] Название русскоязычной ежедневной газеты, выпускающейся в Нью-Йорке.
[13] Все переводы из источников на русском языке сделаны автором и проверены Анной Гурфинкель. Г-жа Гурфинкель присутствовала на всех интервью, которые проходили на смеси русского и английского, и переводила, когда это было необходимо.
[14] Об исследовании Андерсона сообщалось в газете «Новое русское слово» 26 июля 2004 года («Страна»). Там же была фотография «нашего соотечественника» Сергея Брина, одного из основателей Google.
[15] Добавочные пособия малоимущим (SSI) — федеральная программа дополнительного дохода, финансируемая за счет общих налоговых поступлений (а не за счет социального страхования). Она предназначена для того, чтобы помочь пожилым людям, слепым и инвалидам, у которых недостаточно или вовсе нет доходов; эта программа обеспечивает их наличными, чтобы удовлетворить базовые потребности в пище, одежде и крове. Потребовалось вмешательство заинтересованных органов, чтобы русско-еврейские иммигранты могли пользоваться этими средствами.
[16] Я изменил нумерацию волн, которую указывали информанты, в соответствии с российской историографией. Обычно принято считать, что первая волна была после революции, вторая — после Второй мировой войны, третья — еврейская миграция 1970-х и четвертая — во время и после перестройки.
[17] Цви Гительман (Gitelman) сообщает по электронной почте, что в соответствии с его исследованием положения евреев на Украине и в России в советское время сплоченные круги евреев вряд ли были более космополитичными, чем те, кто эмигрировал. Но это требует дальнейших исследований.
[18] О сохранении навязываемых Советским Союзом национальных идентичностей см.: Suny. Однако почему советский проект национальной идентичности был столь успешен, в то время как попытка социализировать граждан как «новых советских людей» провалилась — это головоломка, которую предстоит решить.
[19] См.: Werth. После реформ, дозволяющих свободу вероисповедания, последовавших после Революции 1905 года, большое число евреев стремились зарегистрироваться как баптисты. Столыпинское правительство отказывалось признать эти обращения, поскольку они были истолкованы не как конфессиональные, а как инструментальные. Обращенные полагали, что расходы, связанные с присоединением к баптистам, будут низкими, а потенциальные выгоды от возможности торговать в России — высокими.
[20] Более подробную информацию о русских иммигрантах в Израиле см. в исследованиях Цви Гительмана, где автор показывает, что молодежь в Израиле в меньшей степени является носителем «еврейского духа», чем старшее поколение.
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
О системах ценностей русской эмиграции в Китае
Марк Гамза
(пер. с англ. А. Володиной под ред. Д. Харитонова)
«На самом деле мы не знаем, каковы наши культурные ценности, пока они не вступят в противоречие с ценностями другой страны»[1] — эти слова принадлежат Нэнси Хьюстон, канадской писательнице, живущей во Франции и пишущей на неродном для нее французском языке; они не слишком оригинальны, но послужат нам хорошей отправной точкой. Большинство русских эмигрантов в Китае никогда не оказывались в ситуации такого противоречия, не столкнувшись с культурным вызовом другой страны. Китай ими как «страна культурного вызова» не воспринимался. Вместе с тем радикальная инаковость обстановки, в которой эти эмигранты оказались, и ограниченность практических и воображаемых возможностей для социальной интеграции (по сравнению с возможностями, открытыми для тех, кто уехал на Запад), подталкивали русских, очутившихся в Китае после 1917 года, к сплочению вокруг тех культурных ценностей, которые казались им общими и неизменными. Многие верили, что в России эти ценности уничтожались после Октябрьской революции; к этому представлению прибавлялось усиливавшееся ощущение того, что они навсегда оторваны от родины. Что бы ни понималось под «русскостью», ее следовало оберегать и передавать другим поколениям. По необходимости в этом исследовании я сосредоточусь на восприятии «ценностей»; попытки же измерить их соотнесенность с действительностью сделано не будет. Следует иметь в виду, что моральные коды или «системы ценностей» (о которых я не случайно говорю во множественном числе), присущие людям с общими национальными корнями, меняются с течением времени, а также в зависимости от места и языкового окружения. Разумеется, они могут принимать новые формы при переходе из поколения в поколение, особенно в тех случаях, когда разрыв между поколениями усугубляется дезориентирующим эффектом эмиграции.
Мои рассуждения о ценностных системах русской эмиграции в Китае будут конструированием воображаемого «среднего» — с учетом того, что в реальности существовало множество его вариаций на индивидуальном уровне. Руководствуясь принципом поиска общего, а не частного, я обращусь к трем книгам прозы русских писателей-эмигрантов, живших в Китае. Они были изданы в 2011 году издательством «Рубеж» (Владивосток), составив серию «Восточная ветвь». Эти книги — Михаила Щербакова (1890—1956), в чей сборник вошли также стихи, очерки, рецензии и переводы, Альфреда Хейдока (1892—1990) и Бориса Юльского (1912—1950?) — представляют собой весьма различные «голоса» русской эмиграции в Китае[2]. Некоторые сочинения Щербакова и Юльского будут интересны не только специалистам по дальневосточному региону, но и широкому кругу читателей и исследователей литературы русской эмиграции. Вышеупомянутые сборники — это первые издания их произведений в России. Рассказы Хейдока, уже переиздававшиеся в 1990-х годах, открыли читателю «мистическое» измерение литературы русской эмиграции в Китае. Эти рассказы публиковались в популярном харбинском литературно-развлекательном журнале «Рубеж», название которого переняли действующие сегодня во Владивостоке издательство и журнал.
Хейдок и Юльский, тоже постоянный автор «Рубежа», жили и публиковались в Харбине, Щербаков — в Шанхае, международном мегаполисе, который, однако, до тридцатых годов уступал Харбину роль центра русской эмиграции в Китае. Харбин был основан царским правительством в 1898 году в Маньчжурии как транспортный узел и административный центр строящейся Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Россияне прибывали в Шанхай в основном в качестве беженцев (начиная с 1918 года), тогда как те, кто обосновался в Харбине в первые два десятилетия существования города, были первопроходцами или колонизаторами — в зависимости от того, как толковать эти понятия. Число русских, изначально населявших Харбин, резко выросло в 1920-е годы за счет приезжих из Сибири, бежавших от революции и Гражданской войны. Отказываясь принимать советское гражданство, харбинские старожилы и их потомки также приобретали статус эмигрантов. Существовали и другие, куда меньшие русские «поселения» в таких городах, как Тяньцзинь, Далянь (который первоначально назывался по-русски Дальний) и Шэньянь (бывший Мукден) — ни один из них, впрочем, не стал культурным центром, сравнимым по важности с Харбином или Шанхаем. Наконец, на воображаемую карту русской жизни в Китае часто забывают нанести эмигрантские общины, возникшие вблизи железнодорожных станций и рассеянные по сельскому пейзажу Внутренней Монголии.
Я исхожу из того, что художественные тексты могут быть прочитаны с целью выявления тех систем ценностей, которые они отражают, — вне зависимости от того, декларируются ли в них эти ценности напрямую, даются намеками или предстают как нечто само собой разумеющееся. Предположу также, что пристальное чтение текстов двух писателей из маньчжурской эмиграции и одного из Шанхая даст нам адекватное представление о ценностях, важных для них и для их читателей. Выявление общих черт — а также различий — между авторами из двух главных русских центров Китая оправдает столь общее название этой статьи. Нужно признать, что отсутствие здесь женского взгляда усложняет дело. Я начну с попытки уяснить из отобранных текстов[3], как их авторы представляли себе окружавший их нерусский мир. Определив контуры этого «другого», можно будет рассмотреть их представления о «себе»[4] и на материале этих же текстов установить, как они воспринимали и описывали русскую эмигрантскую публику — своих читателей.
Эмигранты существовали в китайском окружении. Три вышеупомянутые книги, невзирая на расставленные по-разному акценты, проникнуты схожим отношением к персонажам-китайцам. Это отношение казалось бы парадоксальным или специфическим, будь оно присуще какому-нибудь одному из этих писателей. Однако оно заметно в сочинениях всех троих. По их книгам видно, что китайцы могли бездумно высмеиваться как составляющие коллективного целого, неразличимые лица в толпе, когда речь шла о настоящем — и при этом эстетизироваться и романтизироваться как личности, особенно когда они помещались авторами в прошлое или отождествлялись с ним. Заметим сразу, что восхищение китайской древностью в сочетании с отказом всерьез воспринимать современный Китай не было отличительной чертой русских писателей на Дальнем Востоке: в тридцатые годы беллетристы и путешественники, писавшие на английском языке, отзывались о Китае в том же ключе[5].
В текстах Щербакова мы находим проявления «рефлекторного» расизма, который даже не мыслится в собственно расистских категориях; эти предрассудки настолько банальны и обыденны, что не требуют разъяснений или оправданий и могут рассматриваться как часть системы ценностей, общей для автора и его предполагаемого читателя. В слова и мысли своих персонажей из русских Щербаков вкладывает такие обозначения представителей низшего класса китайского общества, которые ему должны были казаться как приличествовавшими русским охотникам и морякам из приморских областей Дальнего Востока, так и вполне приемлемыми для его читателей- горожан из Шанхая. Самое мягкое из этих слов (хотя и весьма пренебрежительное) — «ходя»; слово же «китаеза» если и может показаться забавным, то никак не китайцу. В раннем рассказе Щербакова «Корень жизни», в котором применяются оба этих обозначения, главный герой, охотник Николай Тимофеевич, обнаруживает такую чувствительность к запаху китайских продуктовых лотков на улице Владивостока, что вынужден бежать от этой культурно невыносимой для него «китайской вони»: «Охотнику сделалось тошно от всех этих чуждых запахов и звуков, его потянуло туда, где были белые люди, а не эти скользкие черные фигуры, от которых так явственно пахло смертью»[6]. В повести «Черная серия» главный герой, летчик Никита Анисимович, называет конфисковавших его самолет японцев «желторожими». Повествователь в рассказе «Кадет Сева» вспоминает, что накануне захвата Владивостока большевиками там действовали «шныркие коротконогие японцы, кишевшие во всех концах города, расползшиеся... точно муравьи на холодеющей лапе недобитого зверя»[7].
В этих сочинениях Щербакова азиаты без обиняков представлены людьми второго сорта — и при этом в тех же текстах разрабатывается мотив таинственного, экзотического Востока. В некоторых рассказах и стихотворениях с восторгом изображаются древние буддистские и даосские храмы и воспевается китайская каллиграфия. Подчас автор заигрывает с традиционным азиатским репертуаром — например, верой в дух корня женьшеня, лис-оборотней, божеств народной религии и даже драконов: чтобы придать основательности рассказу о неприятной встрече с одним из них («Утес дракона»), автор ссылается на источники в библиотеке Зикавей в Шанхае, утверждая, что существование драконов подтверждается документированными свидетельствами[8]. «Заигрывание» — пожалуй, наиболее подходящее слово для характеристики манеры, в которой такого рода мотивы используются и Щербаковым, и другими русскими писателями-эмигрантами из Китая: этот прием рассчитан на то, чтобы поддразнить читателя допущением «а что, если?», заставив его на мгновение усомниться в своей картине мира, предположить, что верования азиатов — не обыкновенные суеверия[9]. Впрочем, такое использование этих мотивов не исключает наличия подлинного интереса к восточной традиционной культуре у автора (так, Щербаков много путешествовал по Дальнему Востоку), или у читателя, или у них обоих. Обнаружить сегодня в текстах первой половины ХХ века «некорректные» выражения — задача слишком простая, а критика их с предвзятой позиции Эдварда Саида лишь помешает любой серьезной попытке понять, что за ними стоит. Несмотря на интерес к Китаю, который питали наши авторы, и некоторые признаки их знакомства с отдельными аспектами местной культуры, у нас нет свидетельств того, что кто-либо из них знал китайский язык. За редким исключением в лице поэта Валерия Перелешина (1913—1992), русские писатели в Китае почти не читали и не говорили по-китайски. Щербаковские переводы двух рассказов Лу Синя (1881—1936), опубликованные в шанхайских русских журналах, когда знаменитый китайский писатель жил в этом городе, были, скорее всего, сделаны по французскому изданию, вышедшему в Пекине[10] (хотя редакторы сборника Щербакова 2011 года и полагают, что Щербаков переводил с оригиналов).
Вернемся к словам Нэнси Хьюстон, с которых начинается эта статья: русские писатели редко пользовались вызовом, брошенным им Востоком, для того чтобы аналитически осмыслить чужие «культурные ценности», теоретически способные поколебать привычную для их читателей ценностную шкалу. Разительно неординарный пример — рассказ Юльского «Песня». Герой рассказа, монгольский скотовод Нурханов коротает в харбинском отеле пустые, трагические дни; они оказываются для него последними. Он напоминает «изваяние в монгольском капище» и называет себя «князем»: это дань Юльского традиции возвышения отдельных азиатов над их расовой принадлежностью через изображение их лицами благородного происхождения, вообще пережитками прекрасной старины[11]. Тяга к вольной жизни с степях борется в Нурханове с соблазном перебраться в город; своими желаниями и заблуждениями он выгодно отличается от харбинских русских, с которыми он имеет дело, — проститутки и сутенера, нацелившихся на его деньги. Даже лаконичная речь монгола не указывает на его культурную «второсортность», а относится на счет пиджина, распространенного русскими среди населения Дальнего Востока[12]. Такой резкой критике, как в этом рассказе, русские писатели, как правило, предпочитали национальную гордость, выражали коллективное «мы» и осмеивали «их» — причем не только априори «второсортных» азиатов, но и тех представителей Запада, которые смотрели свысока на русских беженцев.
Для читателя, который в таком нуждался, был явно предназначен рассказ Щербакова «Европеец», в котором описывается карикатурный богач-француз в Шанхае, легко добивающийся успеха у доступных американок, но неспособный увлечь бедную русскую девушку из благородной семьи. Героиня рассказа вздрагивает, услышав в трамвае вульгарный монолог хозяйки борделя, обращенный к «мадам Соловейчик». Это напоминание о грозящей ей опасности и следующие за ним воспоминания о благополучной жизни в России до эмиграции заставляют девушку отвергнуть ухаживания ее нетрезвого французского кавалера, который с досады называет русских «азиатами»[13]. У Юльского есть рассказ «Человек со шрамом», в котором показано, что честь русского офицера не купить ни за какие британские деньги[14]. Отсутствие у нерусских чести подразумевается в ключевой сцене «Черной серии» Щербакова, в которой капитан американского парохода хладнокровно игнорирует отчаянный сигнал о помощи русской шхуны в водах Тихого океана к востоку от Японии, будучи чрезвычайно занят — он танцует фокстрот под звуки джаз-банда[15].
В этих текстах к фамилиям иностранцев (в одном случае — к еврейской фамилии) последовательно и иронически приставляются обращения «мосье», «мадам», «м-р» и «мистер». У Юльского есть и «лэди», избалованная англичанка, наследница состояния, на которой женится высоконравственный герой «Человека со шрамом», капитан Антипов, чьи военные раны она врачевала; впоследствии он бросает ее, предпочтя ее обществу честную бедность. Эти простые приемы рассчитаны на то, чтобы создать ощущение отчуждения; то, как они применяются в прозе писателей-эмигрантов, поразительно напоминает стратегию советской литературы по изображению растленного капиталистического Запада. Представление о превосходстве русских было общей чертой обоих дискурсов, но рассказы об эмигрантских чести и гордости были призваны утешать читателей, предлагая им альтернативу зачастую суровой действительности. Некоторые русские женщины зарабатывали на жизнь занятиями, которые писателям-мужчинам казались зазорными: устраивались официантками и танцовщицами в кабаре или становились проститутками. Начиная с 1920-х годов офицеры царской и Белой армий, а также русские помоложе — попавшие в Китай детьми или там родившиеся — служили местным китайским милитаристам, а в 1930-х годах — японскому оккупационному режиму в Маньчжурии; рисковать жизнью за деньги что на одной службе, что на другой было отнюдь не то же самое, что рисковать ею за патриотические идеалы, придававшие смысл служению царю на полях сражений в Европе и в борьбе с большевиками на внутреннем фронте. Выражая эту мысль, Хейдок писал о «бесславной войне», которую вели русские наемники-эмигранты ради китайского генерала[16]. У Юльского же, напротив, озабоченность вопросами чести выразилась в том лестном свете, в котором он представлял службу у японцев в вооруженном лесном патруле — «русской лесной полиции», куда вступил и сам. На этом примере перейдем от тонкостей «негативного» определения различий между «ними» и «нами» к рассмотрению понятий, в которых «позитивно» формулировалась коллективная идентичность.
Герои Юльского демонстрируют воинскую храбрость, сталкиваясь с китайскими бандитами, так называемыми «хунхузами», которых они расстреливают в опасных ближних боях[17]. Потом они сжигают их «фанзы» (это слово — одно из тех, которые читатели дальневосточной русской литературы должны были знать, — означало либо пристанище бандитов, либо просто бедный китайский дом; все трое авторов употребляли его постоянно). Оба слова, заимствованные из китайского («хунхуцзы» — разговорное, буквально — «красная борода», «фанцзы» — «дом» или «комната»), вошли в торговый пиджин, иногда называвшийся «моя-твоя», которым пользовались русские и китайцы в Маньчжурии первой половины ХХ века. Когда слова из пиджина использовались русскими, они несли (особенно в печатном тексте) функцию кода, общего «местного» языка, способного «связывать» собеседников друг с другом. При том что китайская «фанза» вообще-то не была равноценна русскому «дому», частое употребление слов из пиджина указывает на то, что русские воспринимали азиатский мир как фон, необходимый для формирования собственной идентичности на Дальнем Востоке. «Как испуганное стадо, пассажиры убегали в фанзу, где сгруппировались у кана в ожидании своей жалкой участи», — пишет Хейдок, рассказывая о налете хунхузов на автобус в одном из своих приключенческих рассказов, опубликованном в харбинском «Рубеже»[18]. Посторонний бы этого не понял. Таинственные храмы неведомых богов, непонятный язык и даже зловонные продуктовые рынки были одновременно совершенно чуждыми и, как можно судить по включению в русский словарь звучащих по-китайски слов из пиджина, по-своему необходимыми для чувства дома. «Я не видел Венеции, но мне почему-то кажется, что Сучоу (sic!) сильнее, подлиннее ее, — писал Щербаков. — Каждый вершок грязной поверхности каналов потребен и... от этой тысячелетней настоенности быта исходит и бьет в голову крепкий, острый отвкус жизни, отгул своеобразной и не чуждой нам, русским, культуры»[19]. Китайские «бандиты» представляли собой единственные человеческие мишени, по которым русские эмигранты в 1930-х годах имели право стрелять (при поддержке своих японских нанимателей) и, таким образом, оставались единственными азиатами, которых русские в Китае еще могли подчинить себе. Поэтому хунхузы тоже были необходимы.
Однако во множестве произведений эмигрантской литературы, действие которых разворачивалось в Китае, нет персонажей-китайцев или иных намеков на то, что мы только что назвали «азиатским миром» (достаточно рассказов такого рода мы найдем и в сборнике Юльского)[20]: они создавали иллюзию самодостаточного русского общества — ценой ухода от действительности. Многие вещи, написанные в этом духе, были ностальгическими, и их герои редко видели смысл в своей жизни в настоящем. Придать ей смысл могло бы чувство положительной связи с местом проживания. Подлинный враг солдат Юльского из сборника «Зеленый легион» (автор озаглавил свои рассказы по аналогии с французским Иностранным легионом) находился за советско-китайской границей и был недосягаем для их пуль. И, хотя малая часть русской эмигрантской молодежи была мобилизована японцами для организации диверсий на советской территории, единственным альтернативным способом доказать свое мужество в девственных лесах Маньчжурии и выжить, чтобы поведать о нем, была охота на уже исчезавших маньчжурских тигров — тема охотничьих рассказов Николая Байкова (1872—1958)[21]. Хунхузом предстояло сыграть роль другой «дичи». В прозе Юльского, где тоже хватает охотников и тигров, русский «легионер» может, застрелив китайского бандита, нечаянно спасти жизнь невинной китайской женщины, над которой тот собирался надругаться[22], но удовлетворение его герои испытывают не столько от таких подвигов, сколько от ощущения мужского товарищества и от сознания того, что своей работой они вносят вклад в постепенное установление в Маньчжурии закона и порядка. Такой рассказ, как «Яблоня отцветает» (опубликован в 1944 году), в котором русский солдат и японский инженер, говорящий на литературном русском языке и читавший в оригинале Толстого с Чеховым, сходятся на том, что война есть настоящее призвание мужчины[23], может свидетельствовать о стремлении автора угодить своему японскому начальству, но точно сказать трудно: он с тем же успехом может отражать искренние политические убеждения автора как члена русской фашистской партии в Маньчжурии, которую японцы поддерживали. В некоторых рассказах Юльский доходит до откровенной пропаганды японского режима, грубо увязывая средства к существованию в настоящем и счастливое будущее русских эмигрантов в Китае с милосердным и заботливым Маньчжоу-го[24].
Так или иначе, у Юльского, как и у многих других писателей-эмигрантов, система ценностей сориентирована скорее на прошлое, чем на настоящее. Перспектива остаться в Китае под политической защитой Японии — не единственное будущее, которое он воображает для своих героев и, возможно, для себя самого. В своих последних сочинениях 1944 года он изображает поселение для русских эмигрантов, устроенное японцами в отдаленной области Маньчжурии, и, дав циклу рассказов о них название «Новая земля», сравнивает тамошних русских пионеров с персонажами Джека Лондона. Писатель присоединился к ним и, вероятно, там и был взят в плен советскими войсками, занявшими Маньчжурию в августе 1945 года; в ноябре он был приговорен к десяти годам лагерей и этапирован в Севвостлаг в Магаданской области, откуда бежал в 1950 году и, по всей видимости, погиб после бегства[25]. Однако ему представлялись и другие «новые земли». В одном из лучших своих рассказов, «Человек, который ушел» (1940), Юльский описывает от первого лица своего сослуживца по лесной полиции: антигерой, бывший поручик Вальтер, «последний отпрыск старого дворянского рода» — занесенный в маньчжурское захолустье алкоголик, которого его сын, живущий в Харбине (там же выходит за другого его жена), считает погибшим; у него нет «настоящего» и уж точно нет ощущения, что его служба имеет какой бы то ни было смысл. Глаза Вальтера «были выцветшими и пустыми. Глаза, которые ничего не видели впереди. Они, казалось, могли смотреть только вглубь, в прошлое». Все, что у него осталось, — это воспоминания о том далеком прошлом, когда он был блестящим офицером царской кавалерии. Среди воспоминаний поручика Вальтера — неожиданная встреча в дождливой ночи на поле боя с вольноопределяющимся Гумилевым. Повествователь цитирует Вальтеру стихотворение Гумилева, когда они беседуют при луне, и предлагает контрастное сравнение: «Я спрашиваю: — Подходит к настоящему моменту, правда? Только здесь вместо Африки — тайга, а вместо дикарей — хунхузы.»[26] Впрочем, подлинное различие между обстоятельствами и настроениями, на которое указывает тень Гумилева, связано с описанием в «Записках кавалериста» боев, в которых молодой идеалист-доброволец снискал славу, бесстрашно сражаясь за Россию в Великой войне, и портретом отчаявшегося и обесчещенного человека средних лет, гоняющегося за китайскими бандитами в фантомном японском государстве. Финал рассказа выделяет его из ряда ностальгических припоминаний утраченных радостей «прежней жизни» и стереотипических сетований на судьбы князей, ставших шоферами и лифтерами, воспроизводившихся литераторами из русских эмигрантов на страницах журналов от Харбина до Берлина. Когда Вальтер погибает от пули, полученной в стычке с хунхузами, повествователь пишет ему письмо, в котором говорит убитому офицеру, что «солдаты не умирают: они "уходят на запад", в какую-то далекую и красивую страну»[27].
Эта страна, в которой повествователь обещает Вальтеру новую встречу, — место отдыха и рай для солдат: «Там, в этой стране, Вы снова встретите то, что было прежде». Но он прибавляет: «Я не видел этого наяву, знаю об этом только из Ваших рассказов»[28]. Эти слова раскрывают положение писателя и его поколения: привезенные в Китай детьми (родившемуся в Иркутске Юльскому было семь лет, когда его семья пересекла маньчжурскую границу в 1919 году) или родившиеся в обстоятельствах, которые окружавшие их взрослые называли «эмиграцией», они унаследовали ностальгию по прошлому, которого у них не было. Его воссоздание (на китайской ли земле, где- либо еще) тоже не могло отражать их мечты — лишь мечты других (родителей, старших товарищей по оружию). Так, многим сторонним наблюдателям поселения казаков или староверов в Маньчжурии казались микрокосмическими осколками канувшего в небытие русского мира, отвергнувшими географию и время[29]. В рассказе «Линия Кайгородова», героя которого, художника, лишают рассудка сообщения в газетах о войне в далекой Европе, автор называет пригород — очевидно, харбинский — «уголком устаревшей русской провинции» и предсказывает, что и это вневременное бытие вскоре окажется в пропасти, в «бездонной черной яме» (лейтмотив рассказа)[30].
На что же было рассчитывать людям, не сумевшим убежать от времени и политики, которые лишили их власти над своей жизнью? Одним из возможных выходов было укрепление связей друг с другом: в нескольких рассказах Юльского восхваляются семейные ценности[31]. Другому способу превозмогать тяготы, игравшему важную роль в жизни русских эмигрантов в Китае, авторы, о которых идет речь в этой статье, уделили немного внимания — им почти нечего было сказать о православии и церковных праздниках. Иной мир, которым повествователь утешал поручика Вальтера в «Человеке, который ушел», является в рассказе «Парашютист» — тоже о русском (в этом случае ребенке), погибшем в Маньчжурии от хунхузской пули, — в образе «сказочного брига с ажурными черными парусами». Повествователь жалеет, что этот сказочный корабль не унес его «по лунной дороге» в бескрайнее небо еще тогда, когда он сам был ребенком в русской провинции[32].
В финале рассказа Альфреда Хейдока, писавшего о сверхъестественном и оккультном, смерть также предстает путешествием в другую страну[33]. Мы не можем утверждать, что религия и эзотерика для их адептов были всего лишь средствами уйти от трудностей существования. Не все, конечно, так просто; но не приходится сомневаться в том, что разные формы веры в потустороннее должны были, среди прочего, даровать утешение в этом мире. Русские в Китае, побитые волнами политических потрясений и оказывавшиеся во все более и более шатком положении, весьма в таком утешении нуждались. Не следует считать, что само состояние эмиграции делало человека несчастным, не следует и чрезмерно полагаться на общие сведения об обстоятельствах эмигрантов, почерпнутые из политической и социальной истории. Выводы, основанные на совокупности «обезличенных» данных, будут применимы лишь к условному «среднестатистическому», тогда как (это следует подчеркнуть) во множестве частных случаев жизнь в Китае или «переэмиграция» в какую- нибудь третью страну в дальнейшем обеспечила выходцам из России более надежные бытовые условия и больше возможностей для счастья и самореализации, чем родная страна могла бы предложить им на протяжении большей части ХХ века. При этом многие страдали, и страдания усиливались ощущением оторванности от корней. Расцвет интереса к религии и сверхъестественному среди эмигрантов в Китае — феномен, отразившийся во множестве книг на эти темы, опубликованных русскими издательствами Харбина и Шанхая, — был связан с их жизненной ситуацией.
Сочинения Хейдока удовлетворяли соответствующие потребности. При этом представления о переходе от обыденной реальности эмигрантской жизни к возвышенным формам духовного бытия, присущие героям его рассказов, по меньшей мере туманны: в «Трех осечках» один из них выражает «смутную веру в страну Высших Целей, откуда иногда [к нему слетают] удивительные мысли.»[34]. В рассчитанной на широкую аудиторию прозе Хейдока увлеченность мистикой подпитывается цветастым восточным романтизмом, примером чему могут служить рассказы «Нечто» и «Маньчжурская принцесса»[35]. В этих незамысловатых с литературной точки зрения вылазках в область сверхъестественного чувствуется влияние Николая Рериха (Хей- док был его верным последователем); в 1934 году, пребывая в Харбине, тот написал предисловие к его сборнику «Звезды Маньчжурии», в котором приветствовал оживление «древних былей» в свете созидания новой Маньчжурской империи. Перспективы, предлагавшиеся читателям этого сборника, не связывались даже с крепнувшей японской властью (как в рассказах Юльского): мечтатели и безумцы, наводнившие рассказы Хейдока, в жизни терпят поражение. Ценности, с которыми они сообразовываются, тоже не выдержали проверки эмигрантскими невзгодами. Его герои живут фантазиями о мистическом «не здесь», о другом, воображаемом бытии, потому что больше у них ничего нет.
В заключение этого краткого экскурса в сложную и деликатную тему я вынужден сделать то, чего обещал не делать: отвлечься от персонажей, населяющих книги троих писателей, и перейти к обыкновенным людям из Харбина, из поселений КВЖД и других китайских городов, в которых жили русские эмигранты. В их повседневной жизни тенденции к консервации и адаптации неизбежно сочетались друг с другом. Модель бытования русской эмиграции на Западе была иной: в Китае русские не продержались достаточно долго для того, чтобы их дети пустили в этой стране корни, а Харбин и Шанхай — укрепились бы на карте рассеяния русской диаспоры. Просуществовав на карте русского зарубежья почти полвека, эти экзотические места стерлись с нее — и потому, что сами эмигранты не желали навсегда сделать Китай своим домом, и под воздействием политических сил, СССР и КНР, солидарных в желании выдворить их оттуда. История русских в Китае ХХ века, по сути, завершилась с отбытием последних из них в 1960-х годах. Какие ценности они увезли с собой? Даже эмигрировав повторно — в Северную Америку или в Австралию, — эмигранты первого поколения, ставшие таковыми в Китае, зачастую не теряли патриотизма, стремясь, несмотря на все невзгоды и неудачи (а может быть, именно из-за них) оставаться «русскими» по языку, вере, образу жизни и мысли и воспитывать «русскость» в своих детях. Другие эмигранты, пережившие репатриацию в Советский Союз и вынужденные приспосабливаться к системе социалистических ценностей, насаждавшейся в этой стране, системе, автоматически превращавшей «эмигрантов» в «предателей», пытались сохранять и (до последних лет советской власти — тайно) передавать следующим поколениям сознание своей особой принадлежности — к харбинцам, или «русским из Китая».
Пер. с англ. Александры Володиной под ред. Дмитрия Харитонова
Работа над статьей осуществлена при поддержке Фонда Цзян Цзинго (The Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange), грант RG002-P-08.
[1] Huston N. The Mask and the Pen // Lives in Translation: Bilingual Writers on Identity and Creativity / Ed. by Isabelle de Courtivron. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2003. P. 55.
[2] Щербаков М. Одиссеи без Итаки. Владивосток: Рубеж, 2011; Юльский Б. Зеленый легион. Владивосток: Рубеж, 2011; Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Владивосток: Рубеж, 2011. В дальнейших примечаниях я буду ссылаться на эти издания, указывая фамилию автора и страницу.
[3] Ради задач, поставленных в этой статье, я исхожу из того, что издания 2011 года представляют собой точные (не- отредактированные и несокращенные) воспроизведения оригиналов. У меня нет оснований полагать, что это не так, если не считать множества опечаток в этих изданиях Щербакова и Юльского. Остается вопрос о том, как выбирались тексты — понятно, что решение было за редакторами серии, Александром Колесовым и Александром Лобычевым.
[4] Ср.: Jahn H.F. «Us»: Russians on Russianness // National Identity in Russian Culture: An Introduction / Ed. by Simon Franklin and Emma Widdis. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 53—73, в особенности p. 73.
[5] См. проницательную критику этого подхода к Китаю в статье американской писательницы Эмили Хан (1905— 1997), в то время жительницы Шанхая: Hahn E. The China Boom // T'ien Hsia monthly. 1938. № 3. Репринт: China Heritage Quarterly. № 22 (June 2010).
[6] Щербаков, 35. Отметим употребление слов «ходя» и «китаеза» в том же рассказе; последнее также употребляется в городском контексте Шанхая на с. 158. О китайской вони см. в рассказе «Паршивый уголь» на с. 52. Герой рассказа, капитан русского парохода, говорит о «китаезах из Шандуня»: «Ведь из этого самого Чифу желторожие прут к нам, как из брандспойта. Чего только не делали при Царе, чтобы остановить: ничего не помогло. Расползлись, точно клопы». Китайцы, в свою очередь, называют его «капитана» и назначают судьей, дабы он заставлял их соблюдать закон тайги (54). В другом рассказе о дальневосточном капитане («Последний рейс») упоминаются «местные "манзы" — китайцы» и «местная китайня» (170, 175).
[7] Щербаков, 192, 244.
[8] Щербаков, 102—104. О женьшене см. уже упоминавшийся рассказ «Корень жизни» и стихотворение «Жень-шень». В двух из «Шанхайских набросков» Щербакова («Каллиграф» и «Хрустальный шар») появляются китайский каллиграф и адвокат-эстет; в другом рассказе этого цикла посещение храма в центре Шанхая представлено путешествием во времени, в глубокую древность («Поэма огня»). Посещения корейских и японских храмов — предмет ряда стихотворений Щербакова (в его поэтическом творчестве есть и другие вариации на азиатские темы); его путевые очерки «Священный остров» (о буддийских храмах Путу- шаня и местном культе богини Гуаньинь) и «По древним каналам» (о Сучжоу) также демонстрируют расположенность к традиционной китайской эстетике.
[9] См.: Щербаков, 150; и рассказ «Иринари» о японской лисе-оборотне.
[10] Источник второго из двух рассказов (их названия Щербаков перевел как «Господин Кун» и «Завтра») — явно «Choix de nouvelles de Lou Shun» в переводе Чжан Тянья (Peking: Imprimerie de la «Politique de Pekin», 1932). Щербаков — не утверждавший, что знает китайский язык, — обращался к другому номеру журнала «Politique de Pe- kin», чтобы перевести опубликованную в нем лекцию китайского автора о театре (см. с. 447). В очерке «Вывески», который начинается с самокритичного замечания — европейцы, мол, «ходят по китайским улицам не только как глухонемые, но и как слепые», — автор говорит о том, что означают торговые вывески, «объясненные [ему] в Пекине и Шанхае» (143). В рассказе «Чэ» из «Шанхайских набросков» (его заглавие воспроизводит звучание китайского глагола «есть») повествователь дает понять, что его китайский «приятель и сослуживец», который познакомил его с местной кухней, пригласив на свадебный обед, использовал для своих подробных гастрономических разъяснений «чужой язык», то есть говорил по-французски или по-английски.
[11] Сюжет «Озера богача. Корейской легенды» Щербакова основывается на фантастическом рассказе, который повествователь слышит от знатного корейца. При виде впечатляющей гробницы в Сучжоу Щербаков воображает, что в ней погребен «князь, принц крови, а может быть, и сам император», и описывает вымышленные похороны этих древних правителей (378—379).
[12] «Слова произносил почти без акцента, но в построении фраз была та примитивность и короткость, которые русские в течение долгого ряда лет старались ввести при объяснении с монголами и тунгусами» (Юльский, 306).
[13] Щербаков, 158—159, 168; ср. «полуазиаты», с. 156.
[14] Юльский, 127, 136—139. См. также рассказ «Мяу», в котором высмеиваются англичане. В рассказе Хейдока «Ми-ами», фантазии на тему межрасового секса в Гонконге, русский персонаж, разозленный британцами, стремится «превратить себя в скифа, полуазиата, чтобы прислушиваться [в туземном квартале] к шипению скрытой ненависти, питаемой цветным населением к белым братьям» (Хейдок, 96).
[15] Щербаков, 227—228. Злополучной шхуне откажет в помощи и другой, неопознанный иностранный пароход, затем русский экипаж будет вынужден подавить восстание струсивших корейских матросов (234—235, 238), и лишь после этого «Диана» в конце концов спасается, прибившись к берегам Гуама.
[16] Хейдок, 54—55; развенчание героизма поборников Белого дела — на с. 64, 88.
[17] Рассказ Юльского «Вода и камень» начинается словами: «Мы подошли к фанзе бесшумно шагов на двадцать и только тогда открыли огонь» (с. 38). Ср. с. 70—71, 78, 438— 439. Во время оккупации Маньчжурии Японией (1931— 1945) японские власти называли «бандитами» целый ряд враждебных им сил, в том числе участников китайского сопротивления и коммунистов. «Белобандитами» называла белоэмигрантов советская пропаганда с начала 1920-х годов.
[18] Хейдок, 188—189. Кан — кирпичная кровать с подогревом, напоминающая русскую печку; ими пользовались в северном Китае и в Корее.
[19] Щербаков, 371; см. там же, с. 410 — о том, что, по Щербакову, русские писатели в Китае были не только географически, но и духовно ближе к России, чем их коллеги из европейской эмиграции: «.здесь, на Востоке, мы гораздо меньше оторваны от Родины, продолжающей невидимо питать нас своими соками, тогда как на Западе этот живо- носный родник иссякает все больше и заметнее под давлением чуждой механической цивилизации».
[20] См. рассказ «Закон жизни», в котором единственным свидетельством того, что действие происходит в Китае, служит курение «маньчжурского табака» (Юльский, 285), или «Поезд на юг», в котором поезд, фигурирующий в названии, направляется в Шанхай, однако больше о Китае ничего не говорится; в рождественском рассказе «Станция на окраине» русский бал на станции КВЖД, где один из юных гуляк «был наряжен китайцем» (с. 302), прерывается вооруженным нападением хунхузов.
[21] Еще один важный проект владивостокского издательства: Байков Н. Собр. соч.: В 3 т. Владивосток: Рубеж, 2011 — 2014.
[22] См. рассказ «Вторая смерть Шазы» (с. 78). Далее происходит все то же «заигрывание» с китайским суеверием: убитый бандит, возможно, перевоплощается в тигра, и русскому прапорщику приходится убивать его еще раз. На аналогичном «заигрывании» строятся рассказы «Господин леса» (из того же сборника) и «След лисицы», в котором русский преследует китайскую лисицу-оборотня. Отличается от них лирический рассказ «Возвращение г-жи Цай», который, не будь он подан как устное повествование «старого китайца за чашкой цветочного чая» (с. 316), можно было бы сравнить с европейскими модернистскими экспериментами с китайской стилистикой и тематикой. Ср. недавно переведенный сборник рассказов Белы Балаша (1884—1949): Balazs В. The Cloak of Dreams: Chinese Fairy Tales [1921] / Trans. by Jack Zipes. Princeton: Princeton University Press, 2010.
[23] См.: Юльский, 173. В рассказе «Чудесная птица — любовь», основанном, по словам автора, на правдивых фактах, относящихся к службе русских в армии китайского милитариста, сообщается, что впоследствии его герой «пал смертью храбрых при штурме Толедо, сражаясь в авангарде армии генерала Франко» (с. 343).
[24] См., в частности, рассказ «Счастье», опубликованный в 1941 году. Из-за цензуры в Маньчжоу-го Япония и японцы в этом рассказе называются по-русски «Ниппон» и «ниппонцы», а ханьское население Китая стало «маньчжурами» (с. 447).
[25] Биографическая справка о Юльском почерпнута из полезного предисловия к сборнику, написанного Александром Лобычевым, который тоже (хотя и в ином ключе) подчеркивает значение рассказа «Человек, который ушел». См. также комментарий (с. 551).
[26] Юльский, 59, 67. Неточно цитируется стихотворение «Африканская ночь» (1913).
[27] Юльский, 71.
[28] Юльский, 72.
[29] Герой рассказа Юльского «Закон жизни», склонный к размышлениям о смысле бытия, заново находит себя после несчастной любви, перебравшись из города в тайгу; он возвращается с простой женой-казачкой, которую он нашел и заслужил, пройдя «первобытное» испытание силы вдали от цивилизации.
[30] Юльский, 421, 427, 431.
[31] Кроме слащавого пропагандистского рассказа «Счастье», см. также рассказы «Серая смерть», «Святочный гость» и «Полынь».
[32] Юльский, 168—169. У Юльского есть и другие рассказы, которые кончаются мечтой о невозможных переменах в обстоятельствах героев: см. «Черт» (Николай Филиппович, помещенный в психиатрическую лечебницу, «требует... виллу с мраморной балюстрадой и яхту, белую, как чайка, с парусами, окрашенными в небесно-голубой цвет», с. 211) и «Поезд на юг» (когда поезд, увозящий женщину, в которую был влюблен герой рассказа, уходит, герой осознает, что прожил жизнь, так и не узнав счастья: воображая упущенное, «Мартонов. видел изумрудное, как на фарфоровых чашках, море у ниппонских берегов, джонки и лес мачт в порту Сингапура, ажурные пальмы Гавайских островов», с. 441).
[33] В миг казни «Жданов отправился в одну страну, где он еще не побывал и откуда не возвращаются.»; см. финал рассказа «Безумие желтых пустынь» (Хейдок, 41).
[34] Хейдок, 54. Ср. «таинственные тропы, уводящие живых в вечность», в рассказе «Маньчжурская принцесса» (с. 72).
[35] См. также рассказ «Приключение Анатоля Гайнау» (sic; в тексте, однако, герой именуется Анатолием), еще одну «сказку», которая кончается видением жизни «не здесь», в данном случае — на воображаемом юге Китая: китаянка по имени Ван-мей-ли забирает Гайнау, спасшего ее от хунхузов, в свой дом «с верандой красных колонн» на берегу реки, где время остановилось (с. 194). Художнику же Багрову автор отводит двенадцать лет страстной брачной любви с «Маньчжурской принцессой» (так называется рассказ), ожившим реликтом династии Цинь, где-то в «горах маньчжурского севера» (с. 84).
Опубликовано в журнале:
«НЛО» 2014, №3(127)
Федеральный суд Австралии постановил, что перенос генетического материала из человеческого тела превращает его в патентоспособное изобретение. Таким образом, патентование гена рака молочной железы является вполне законной процедурой. Особое внимание в судебном решении уделяют патенту на проведение серии мутаций в генах рака груди BRCA1, которые стимулируют возникновение рака груди и яичников.
Австралийский суд оставил в силе патент на раковые гены
Такие тесты с генами помогают определить, что происходит с клетками на разных этапах развития заболевания. Патент был зарегистрирован за медицинской компанией× Genetics еще в 1994 году и дал ей исключительное право проводить такие тесты на территории Австралии. Позже решение суда оспорила организация× Australia, выступающая за права пациентов с онкологическими заболеваниями.
Однако теперь Myriad Genetics все-таки удалось отстоять свою позицию и доказать судье× Николасу, что операция по выделению определенного гена из организма человека является искусственным вмешательством, а значит, может подлежать патентной защите. Что интересно, это решение идет вразрез с недавним решением× Федерального суда США, в котором говорится, что гены не могут быть запатентованы, потому что они являются «продуктом природы».
Неудачная попытка апелляции была ответом на широко распространенную озабоченность общественности, что патентование генных мутаций может помешать развитию диагностики и лечения рака. Специалист по генетике из Университета Тасмании Диана Никол категорически не согласна с решением суда и утверждает, что «процесс выделения гена из организма похож на срывание листа с дерева — это настолько привычно и естественно, что никак не может ассоциироавться с чем-то искусственным».
Международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных расчетов, опубликовала данные, согласно которых Австралия — в верхних строчках почти всех данных статистики, свидетельствующей о том, что цены на недвижимость страны завышены.
Находящийся в Швеции Банк международных расчётов (Bank for International Settlements) сделал достоянием общественности анализ цен на недвижимость в странах, где заслуживающая доверия информация доступна для ознакомления и использования.
Подтверждая недавний анализ, проведенный Международным Валютным фондом, BIS установил, что цены на недвижимость в Австралии — исторически выше, чем обычно, при сравнении с ценами на аренду жилья и доходы населения.
Несмотря на то, что за три последних года не произошло реального роста цен на недвижимость (с учетом инфляции цен) , в соотношении средняя цена на недвижимость к цене аренды, Австралия на четвертом месте среди исследованных данных по странам мира, а в соотношении цена на недвижимость к величине дохода — на втором месте.
Цены на австралийские дома в начале 2014 года были на 50% выше, чем обычно, по отношению к стоимости аренды, и на 40% выше, чем обычно, по отношению к доходам.
Авторы анализа предупреждают, что для стран, где цены на недвижимость выше исторически сложившихся более, чем на 20%, наиболее вероятным сценарием станет коррекция рынка недвижимости в будущем.
С начала 2014 года цены на недвижимость в Австралии росли быстрее, чем цены на аренду и основные показатели инфляции потребительских цен, таким образом, реальная величина стоимости австралийской недвижимости может быть выше, чем указана BIS. Организация предупреждает, что такой уровень повышения цен на рынке недвижимости с уже завышенными ценами, особенно, когда зарплаты не демонстрируют соответствующего роста, повышает риск будущего падения цен.
BIS также представил данные сравнения сегодняшних цен на недвижимость с ценами в 1970 году, здесь показатель роста цен для Австралии оказался равен 200, второй после показателя Норвегии. Из 14 развитых стран, исследованных BIS, только Великобритания имеет цены на недвижимость, сравнимые с австралийскими, а с учетом инфляции за период -недалеко от австралийских и цены на норвежскую недвижимость.
Согласно недавнего исследования Резервного банка, для большинства австралийцев, возможно, будет лучше арендовать недвижимость, чем покупать ее.
Составлен 35-летний план по спасению Большого Барьерного Рифа, но специалисты сомневаются, что это поможет предотвратить дальнейшую деградацию рифов и избежать занесения Большого Барьерного рифа в список объектов Всемирного наследия человечества, находящихся под угрозой исчезновения.
Министр по защите окружающей среды штата Квинсленд Andrew Powell объявил о создании плана Риф -2050 (Reef 2050), целью которого является комплекс мер по противодействию ухудшения состояния Большого Барьерного Рифа, общественные консультации по предложенному правительством плану продолжатся до 27 октября. Несколько дней назад правительство Квинсленда также сообщило о том, что не позволит выгрузку дренажа в зоне, непосредственно прилегающей к рифам, что являлось одной из стадий работ по расширению порта в Abbot Point для международных грузовых перевозок. Несколько месяцев назад правительство этого штата заявляло, что комиссия ЮНЕСКО по сохранению объектов всемирного наследия человечества была «введена в заблуждение» по вопросу состояния Большого Барьерного рифа.
Правительство по-прежнему придерживается своего мнения, однако представило план, в котором «учтены все элементы, угрожающие здоровью рифов».
Всемирный фонд дикой природы, проводящий широкую кампанию по поддержке усилий по сохранению Большого Барьерного рифа, в том числе информирование общественности, считает, что в плане не предусмотрено каких-либо кардинальных, отличающихся от ранее проводимых, мер. По сообщениям, правительство Квинсленда проконсультировалось при составлении плана Риф-2050 с представителями фонда. Однако, план пока не представлен в окончательной форме и общественности предоставлена возможность озвучить собственную точку зрения.
Представитель австралийского общества по сохранению морских ресурсов (Australian Marine Conservation Society) также признал, что план «как мертвому припарка»: «Если представить Большой Барьерный риф тонущим кораблем, то его спасение с помощью представленного правительством плана можно сравнить с вычерпыванием воды наперстком. В проекте не предусмотрено каких-либо конкретных мер по отношению к последствиям изменения климата — повышения уровня воды в океане, потепления вод, изменения их кислотности, увеличения числа штормов».
Министр Квинсленда по защите окружающей среды Powell сообщил, что все решения в отношении рифов принимаются «с научным подходом».

Рынок задает вектор развития рыбопереработки
Александр НЕГОИЦА, Менеджер по развитию бизнеса компании «Альфа Лаваль»
В условиях ответных российских санкций государство осуществляет постоянный мониторинг продовольственного рынка и взаимодействие с отечественными поставщиками продукции. Все понимают, насколько сильно развитие ситуации зависит от умения производителей наладить работу в новых условиях, от готовности и возможностей закрыть освобождающиеся продуктовые ниши отечественным товаром.
По мнению производителей перерабатывающего оборудования, у отечественных рыбопромышленников сегодня есть все технические возможности, чтобы максимально удовлетворять потребности продуктового рынка. Но для этого важно осваивать новые направления производства и выходить на прежде незнакомые товарные ниши. Об этом в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал представитель компании «Альфа Лаваль» – менеджер по развитию бизнеса Александр Негоица.
– Начать нашу беседу стоит с вопроса номер один, который актуален для всех сфер промышленности - это экономические санкции в отношении России и ответные шаги со стороны нашей страны. Каким-то образом это затронуло деятельность компании «Альфа Лаваль»?
- Я уже столкнулся с подобными вопросами со стороны заказчиков и могу успокоить, что на оборудование Alfa Laval для сфер пищевой переработки данные меры не распространились. Но как бы ни развивался дальнейший сценарий, решения для бизнеса найдутся всегда. Можно вспомнить времена холодной войны, когда в отношении Советского Союза действовали серьезные санкции, - и тогда существовали так называемые оффшорные компании, которым позволялось завозить в страну любое оборудование и технологии из-за рубежа. К тому же производство Alfa Laval есть и в других, менее зависимых от американской политики странах, таких как Индия, Китай. Но я уверен, что до кардинальных мер дело не дойдет: акции нашего концерна высоко котируются на шведской бирже и бизнес не захочет терять такой значимый для страны сегмент рынка.
- С другой стороны, подобные санкции дают российским рыбопромышленникам дополнительный шанс для продвижения на внутреннем рынке своей продукции и развития переработки.
- Это то, о чем компания «Альфа Лаваль» говорила всегда: в стране нужно развивать собственную переработку, все возможности для этого сегодня существуют! Но Россия пока продолжает оставаться одним из основных мировых поставщиков сырья, в том числе водных биоресурсов.
Один из примеров такой недооцененной рыбопродукции - сурими. Растущий спрос на блюда из сурими среди россиян и современные технологии создают условия для развития данного направления глубокой переработки и в нашей стране. Сегодня есть решения, которые оптимизируют классическую многоступенчатую японскую технологию производства сурими. Сохранив принцип производства, компания «Альфа Лаваль» предложила рынку новую технологию: линия AlfaPlus отличается от классики большей производительностью и сверхкомпактностью. В основе установки – декантерная центрифуга Alfa Laval. Использование центробежной сепарации вместо барабанных сит и прессов дает существенное увеличение выхода продукта – до 70-75% вместо привычных 30-50%. Кроме того, производственный цикл сокращается всего до 15 минут. Потери белка при этом сводятся к минимуму, а получаемый на выходе фарш отличается высоким качеством. Такая установка может использоваться на берегу и на судне, самостоятельно или в качестве дополнения к линиям по филетированию.
- Повышенный спрос в ближайшем будущем, судя по всему, будет наблюдаться и на такие виды продукции из рыбного сырья, как рыбная мука и жир?
- Стоит понимать, что закрытие российского рынка для рыбы из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, в том числе свежей и охлажденной, ляжет дополнительной нагрузкой не только на рыбодобывающий комплекс нашей страны, но и на аквакультуру. Разведение товарной рыбы требует применения специализированных кормов, качество которых зависит от использованной в них рыбной муки. Кроме того, ограничивается ввоз и европейской продукции животноводства, птицеводства, что также должно привести к повышению спроса со стороны отечественных фермеров на высококачественную, высокопротеиновую рыбную муку, рыбий жир.
Это дает уникальный шанс нашим рыбопромышленникам, особенно дальневосточным, вкладываться в модернизацию своих производств для производства более качественной продукции из отходов рыбопереработки.
– Несколько успешных проектов по переработке рыбных отходов (ПРО) с использованием технологий от Alfa Laval уже было реализовано на камчатских предприятиях в последние годы.
– Да, в 2012 году наши дальневосточные партнеры, инженеры компании «Технологическое оборудование», впервые предложили рыбопромышленникам альтернативу распространенным прессово-сушильным рыбомучным установкам - линию по переработке рыбных отходов на основе оборудования Alfa Laval. Это комплекс секций, машин и аппаратов, объединенных в одну технологическую линию, в «сердце» которой – скребковый теплообменник CONTERM и трехфазный декантер производства Alfa Laval.
Проект был реализован на заводе компании «Корякморепродукт», которая стала своего рода опытной площадкой по обкатке и совершенствованию новой линии. Результаты оказались впечатляющими: при переработке отходов красной рыбы повышенной жирности на выходе была получена рыбная мука высокого качества и рыбий жир, который после дополнительной очистки отвечал требованиям к пищевой продукции!
В 2013 году подобный опыт был реализован на другом предприятии Камчатского края - ООО «Восточный берег». Несколько крупных проектов реализуются и сейчас.
- Намного реже сегодня приходится слышать о еще одном продукте из рыбного сырья, который, между тем, пользуется повышенным спросом в пищевой промышленности и имеет очень широкий спектр применения. Речь идет о белковом гидролизате. Расскажите немного подробнее - что это за продукт и, буквально, с чем его едят?
- При разделке белой или красной рыбы, особенно при филетировании, у нас остается условно пищевое сырье, которое мы также привыкли считать отходами – это головы, хребты, хрящи, чешуя и т.д. (не говорю про внутренности, которые не считаются пищевым сырьем). Из этого сырья также можно выделять легко усваиваемый белок, который используется в качестве вкусоароматических добавок для повышения белковой составляющей пищевых продуктов.
Такой белковый продукт идет в основном на производство продуктов питания, которые являются аналогами рыбопродукции, т.е. блюда «со вкусом рыбы», содержащие главным образом крупяные, мучные ингредиенты и т.п.
В зависимости от качества, степени очистки белковый гидролизат может использоваться и для производства пищевой продукции «бюджетного сегмента», и для более дорогих диетических продуктов, предназначенных для аллергиков, для детей и т.д. Рыбный белок, конечно, сам по себе очень полезен - это незаменимый компонент сбалансированного питания. Но зачастую в обычном виде его не могут употреблять люди, склонные к аллергиям - эта проблема сегодня особенно актуальна для жителей больших городов. Однако метод гидролиза позволяет расщепить белок до более усваиваемых структур, которые не будут вызывать аллергии, но сохранят свои полезные свойства.
– То есть от того, до какой степени очистки пожелает дойти производитель при изготовлении белкового гидролизата, зависит, на какой сегмент рынка он сможет претендовать. Но спрос, в принципе, есть на продукт любого качества, верно?
– Сегодня на рынке у нас весьма активно продвигаются продукты для домашних питомцев. Если вчитаться в состав, то даже там можно найти такой ингредиент, как гидролизат белка. Так что даже в этой продуктовой нише может найтись место для рыбопереоработчика. Тем более что до сих пор все подобные товары у нас в России импортировались. Сегодня же у отечественных производителей есть все шансы воспользоваться ситуацией на рынке. Единственное, для этого нам нужно немного поменять менталитет. Ведь, как у нас было принято: сначала мы сделаем какой-то продукт, а уже потом ищем, кому его продать. В Европе всегда был другой подход – отслеживать, какой спрос на рынке, что и какого качества требует покупатель. Исходя из потребностей заказчика и создаются технологии. Поэтому и российским товаропроизводителям сегодня нужно перестраиваться и отталкиваться от потребностей конечного потребителя.
- Какое оборудование предлагает «Альфа Лаваль» для производства белкового гидролизата?
- Отмечу сразу, что это направление относится к береговой переработке. Технологическая линия включает в себя гидролизеры – специальное емкостное оборудование с мешалками, куда закладывается условно пищевое измельченное сырье и добавляются специально подобранные протеолитические ферменты, расщепляющие белок. Процесс ферментативного гидролиза длится около 3-4 часов при температуре 50°C. Это позволяет не денатурировать белок, а именно расщепить, т.е. мы его не убиваем как живой организм.
Далее мы направляем продукт на дезактивацию ферментов (кратковременно нагреваем до температуры 90 °C) и переходим на следующую стадию, которая протекает в трехфазном декантере. Он позволяет отделить жир, компоненты, которые не растворились на предыдущей стадии (в основном это минеральные вещества или тяжелые белки, которые сами по себе трудно перевариваются), и получить расщепленные белки (пептоны). Полученный в результате бульон мы направляем на очистку на сепараторе: здесь мы уже получаем продукт, требуемой степени очистки.
На завершающей стадии бульон направляется на вакуум-выпарную установку, которая позволяет сконцентрировать эту субстанцию: в холодном виде она выглядит как плотное желе. Дальше этот концентрат можно упаковать и отправить потребителю прямо в таком виде либо дополнительно направить на распылительную сушилку и получить гидролизат белка уже в виде порошка.
Цвет конечного продукта будет зависеть от степени очистки и использованного сырья - это могут быть как традиционные объекты промысла: минтай, треска, лосось, мелкосельдевые виды рыб, так и моллюски и прочие недоиспользуемые объекты.
- А могут ли такие линии дополняться определенными сегментами, чтобы одновременно из части сырья, помимо гидролизата, получать полноценную рыбную муку и жир?
- На этапе обработки сырья на трехфазном декантере всегда остается побочный продукт в виде смеси белки-минералы, которые не расщепляются (примерно треть всех получаемых белков). Поэтому линию вполне можно дополнить компактным жиротопным модулем для получения дополнительно рыбьего жира хорошего качества. Белковую составляющую можно смешать с так называемым побочным продуктом с основной линии гидролизата и отправить на сушку для производства дополнительно рыбной муки.
Также рыбий жир получается и в основном процессе производства гидролизата - это высокоочищенный продукт самой высокой пищевой категории, полученный, по факту, из условно пищевого сырья.
- В линии по производству белкового гидролизата используются какие-то уникальные технические решения, ноу-хау от Alfa Laval?
- В системе высокой очистки гидролизата мы используем уникальные мембранные установки Alfa Laval. В отличие от аналогов они полностью санитарные, так как могут легко промываться и это позволяет получать высококачественные очищенные продукты.
Следующий тип уникального оборудования, которое использовано в установке, это компактные вакуум-выпарные установки AlfaVap. Они позволяют бережно упаривать сырье при низкой температуре, благодаря чему продукт не пригорает, приобретает хороший цвет и качество. Другая особенность этого оборудования заключается в том, что оно способно упаривать продукт с любым содержанием хлоридов – «Альфа Лаваль» единственная в мире компания, выпускающая вакуум-выпарные установки, в которых все поверхности, соприкасающиеся с продуктами, выполнены из титана.
Декантеры и сепараторы, которые также используются в линии по производству гидрализата белка, изготавливают и другие производители оборудования, но проверенное качество нашей техники уже хорошо знакомо российским рыбопереработчикам, оно используется в линиях ПРО на Камчатке, Сахалине и зарекомендовало себя с лучшей стороны.
И, конечно, каждый сегмент оборудования, каждая технология от Alfa Laval создаются для исключительно бережного отношения к сырью. Ведь сам по себе процесс биотехнологии - это работа с живым сырьем, к которому относится и белок. А деликатный подход к переработке белка - это залог высокого качества конечного продукта.
Мы рады, что сегодня в России все больше товаропроизводителей задумываются об углублении переработки, о более полном использовании сырья. В последнее время все больше рыбопромышленных компаний меняют свое отношение к работе с отходами переработки, потому что видят потребность рынка в рыбной муке, жире, готовы вкладываться в их качественное производство. Надеемся, что спектр такой продукции со временем будет расширяться, отвечая стремительно растущему спросу.
Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews - Новости рыболовства»
Иран отклонил запрос США о сотрудничестве в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство", передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
Ранее США заявили о создании коалиции по борьбе с "Исламским государством". По словам главы Пентагона Чака Хейгела, в нее входят 10 стран: США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Австралия, Турция, Италия, Польша и Дания. Власти Ирана сообщали, что не видят готовности США сотрудничать в борьбе против боевиков из группировки.
"С самого начала США через своего посла в Ираке просили нас о сотрудничестве в борьбе с ИГ. Я отказался, потому что их руки запятнаны. Госсекретарь (США Джон Керри) также обращался к (главе МИД Ирана) Мохаммаду Джаваду Зарифу, и он отказался", — заявил Хаменеи.
Террористическая религиозная группировка "Исламское государство", имеющая связи с "Аль-Каидой", набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил и приобрела "славу" одной из самых жестоких. Несколько месяцев назад группировка резко активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого "исламского халифата".
Евросоюз не включил в санкционный список компанию "Российские железные дороги" (РЖД) и ее руководителя Владимира Якунина из-за возражений латвийских политиков, выразивших недовольство снижением грузоперевозок, которое повлекла бы эта мера, сообщил министр сообщений Латвии Анрийс Матис в воскресенье вечером в эфире телеканала TV3.
После присоединения Крыма к России США и Евросоюз ввели ряд ограничений в отношении компаний, банков и отдельных секторов российской экономики. Евросоюз с 12 сентября в рамках новой волны санкций ограничил доступ к европейским рынкам капитала для российских компаний "Оборонпром", ОАК, "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть". Запрещено предоставлять им, а также крупнейшим российским финансовым институтам (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк) новое финансирование на срок более 30 дней.
Как напоминает телеканал, транзит грузов через Латвию составляет 12% ВВП страны. Среди других стран региона через Латвию проходит наибольший объем российских грузов, оборот в этой сфере достигает 1 миллиард евро в год.
"Включение в список санкций РЖД и ее руководителя означало бы существенное снижение объема железнодорожных грузоперевозок и перевалки грузов через порты Латвии, поэтому государство (Латвия — ред.) этого не поддержит", — сказал Матис.
В свою очередь госсекретарь МИДа Андрейс Пилдегович заявил, что правительство еще в феврале решило не включать в санкции транспортные отрасли.
Ранее Россия в ответ на санкции Запада ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые эти санкции ввели: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов. Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс заявил при этом, что, если РФ введет еще и запрет на ввоз шпрот, это оставит без работы минимум 20 тысяч человек, а убытки могут составить около 38 миллионов евро.
Премьер-министр Тони Эбботт заявил, что от Соединенных Штатов поступило «специальное требование» об участии Австралии в международных усилиях по борьбе с ИГИЛ. Эбботт уточнил, что 200 военных будут отправлены в Арабские Эмираты в течение нескольких дней, в том числе — специальные подразделения, которые могут выполнять роль военных советников. Затем, будет отправлено еще 400 военнослужащих воздушных войск, и, как минимум, 10 военных воздушных судов.
Премьер-министр Тони Эбботт заявил, что от Соединенных Штатов поступило «специальное требование» об участии Австралии в международных усилиях по борьбе с ИГИЛ.
Эбботт уточнил, что 200 военных будут отправлены в Арабские Эмираты в течение нескольких дней, в том числе — специальные подразделения, которые могут выполнять роль военных советников. Затем, будет отправлено еще 400 военнослужащих воздушных войск, и, как минимум, 10 военных воздушных судов.
По словам Эбботта Австралия «не перебрасывает войска, а вносит вклад в международные усилия по предотвращению углубления гуманитарного кризиса» в числе стран, изъявивших готовность по участию в «международных усилиях» — США, Великобритания, Франция, Канада, Иордан, Бахрейн, ОАЭ.
На настоящем этапе специалистам сложно предсказать, насколько долго продлится операция на Среднем Востоке.
Лидер оппозиции Билл Шортен выразил поддержку действиям правительства: " Здесь мы — вместе. Премьер-министр и я — партнеры в вопросах национальной безопасности».
Лидер партии «зеленых» Кристин Милн обвинила правительство в «слепом следовании за США на очередную войну в Ираке и Сирии». «Это шокирующий день для Австралии, - добавила Кристин, - после лозунгов 'следования до конца' за американцами во вьетнамской войне, после Джона Ховарда и Джона Буша, мы имеем Тони Эбботта, который бросается вслед за Соединенными Штатами, рискуя жизнью молодых австралийцев. Тони Эбботт сделал заявление о неограниченной поддержке войны в Ираке, без какого-либо определения, как долго продлится эта война, сколько людских ресурсов потребуется для ее продолжения».
Россия будет противостоять попыткам изолировать президента Путина от участия в саммите Большой двадцатки в столице штата Квинсленда, пишет центральная газета штата Courier Mail.В конце следующей недели ожидается прибытие делегации российских высокопоставленных лиц в Кернс на встречу министров финансов стран G20. Событие произойдет на фоне демонстративных действий австралийского премьер-министра по укреплению связей с Украиной и, как следствие, его обещания лично посетить эту страну, высказанному президенту Порошенко.
По сведениям Courier Mail, участие России в саммите G20 было подтверждено, что, указывает газета, увеличивает шансы прибытия мистера Путина в Брисбен в ноябре месяце. Что касается встречи на следующей неделе, пока неясно, будет ли российский министр финансов Антон Силуанов возглавлять делегацию в Кернсе, однако, подтверждения этому может не произойти вплоть до самого дня встречи.
Российский министр занятости Максим Топилин , который участвовал во встречи министров занятости населения стран Большой Двадцатки , прошедшем на этой неделе в Мельбурне, также дал понять, что визит мистера Путина в ноябре месяце значится в планах России. Офис казначея австралийского правительства, Джо Хоки, подтвердил, что прибытие российской делегации на встречу в Кернсе 20 и 21 сентября ожидается , однако, не комментируя поименный список делегации: "Россия примет участие как обычно",- сообщила представитель офиса казначея.
Тони Эбботт, напоминает Courier Mail, критиковал российское военное вмешательство на Украине, и заявлял о том, что Москва должна понести ответственность за катастрофу МН17. Он указывал, что решение о том, примет ли участие Путин во встрече в Брисбене, является важным и обещал обсудить проблему с другими лидерами Большой двадцатки, так как любое решение, связанное с запретом участия, должно быть поддержано всеми лидерами G20. Pежим прекращения огня и отвод некоторого числа российских войск сделали менее вероятным наложение запрета на участие Путина, заключает Courier Mail. Премьер-министр Эбботт и министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп будут иметь новую возможность (после , вероятно , неудавшейся попытки на встрече стран НАТО в Уэльсе) по обсуждению вопроса запрета участия России на встрече мировых лидеров в ООН , которая началась на этой неделе. Лидер австралийской оппозиции Билл Шортен также призвал к необходимости наложения запрета на участие президента России на саммите G20 в Брисбене.
Российские и европейские ученые обсудили проект высокоскоростного гражданского самолета.
В ходе международного конгресса ICAS-2014 исполнительный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Сергей Чернышев и ведущий инженер Европейского космического агентства ESA-ESTEC Йохан Стилант обсудили ход работ по созданию высокоскоростного гражданского самолета.
Партнерами проекта уже определен облик экспериментального летательного аппарата, проведены расчетные исследования. Инженерам и специалистам ЦАГИ предстоит провести ряд аэродинамических исследований, а затем изготовить прототип высокоскоростного гражданского самолета, предназначенный для дальнейшего летного эксперимента.
В качестве места проведения исследования рассматриваются ракетные полигоны Андоя (Норвегия) и Алькантара (Бразилия).
Высокоскоростной гражданский самолет разрабатывается большой кооперацией научных и производственных центров в рамках международного проекта HEXAFLY-INT (High Speed Experimental Fly Vehicles – International/Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат). Проект реализуется в рамках 6-го конкурса 7-й рамочной программы Евросоюза по теме «Транспорт» (Аэронавтика).
В проекте принимают участие российские, европейские и австралийские организации: ЦАГИ, ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения), ЛИИ (Летно-исследовательский институт имени Громова), МФТИ (Московский физико-технический институт), EADS-IW, DLR, ONERA, CIRA, USyD, UNSW, USQ и другие.
Координатором проекта выступает нидерландский научный центр ESA-ESTEC.
Исполнительный директор ЦАГИ Сергей Чернышев отметил важность участия России в проекте HEXAFLY-INT.
«Международные программы – это исключительно значимое для нас направление. Оно дает возможность «сверить часы» с зарубежными коллегами, совершенствоваться в технологическом плане. ЦАГИ является стратегическим партнером в проекте HEXAFLY-INT и активно участвует в исследовании концепции высокоскоростного гражданского самолета, предлагаемого европейскими учеными», – сказал Сергей Чернышев.
По его словам, ожидается, что этот аппарат будет летать со скоростью более 7–8 тыс. км/ч, соответствующей числам Маха 7 или 8.
«Это значит, что нам предстоит решить широкий спектр задач, связанных с материалами, водородной силовой установкой, ее интеграцией с планером и получением высокой аэродинамической эффективности самого летательного аппарата. А результаты этих исследований могут послужить платформой для развития отечественной авиации будущего», – добавил исполнительный директор ЦАГИ.
Справка
HEXAFLY-INT – проект по созданию пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать при больших скоростях, стартовал в апреле 2014 года и будет завершен к декабрю 2019-го. В его рамках планируется выполнение ряда экспериментальных и расчетных исследований. Ученые ЦАГИ проведут расчетные исследования, наземный эксперимент и изготовят опытный образец для летных испытаний.
ESA-ESTEC (Европейское космическое агентство) координирует космический потенциал и финансовые и интеллектуальные ресурсы европейских 19 стран-членов, а также международные программы и мероприятия. Основным направлением деятельности этой организации является формирование и реализация космической программы ЕС. ESA-ESTEC является техническим центром европейской науки, ответственным за разработку большинства проектов западной авиакосмической отрасли.
27-летний мужчина, житель Западной Австралии, недавно вернувшийся из Конго, был доставлен в Университетский госпиталь на Голд Косте из изолятора временного задержания в районе Southport.
Результаты теста ожидаются, врачи не исключают наличие заражение у мужчины вирусом Эбола, хотя говорят об отсутствии каких-либо "серьезных" признаков. Мужчина был доставлен из изолятора временного задержания, где он находился по обвинениям за "tresspassing" , нарушение границ владения в одном из районов Голд Коста. По сообщениям, он содержался в одиночной камере и заявил о том, что чувствует себя больным во время слушания о его освобождении под залог.
В аэропорту Голд Коста ожидают результатов анализа , чтобы предпринять соответствующие профилактические меры. Жителям города советуют сохранять спокойствие.
Вирус Эбола впервые был зафиксирован в Судане, затем в Конго в 1976 году. Эпидемия 2014 в Западной Африке года уже унесла жизни 2300 человек, половина из них умерла за последние 20 дней. В 90% случаях заболевание, вызываемое Эбола, неизлечимо, и Всемирная Организация Здравоохранения разрабатывает эффективную вакцину. Инкубационный период вируса после заражения - от 2 до 21 дней.
Вечером в четверг представители госпиталя сообщили, что результата анализов были отрицательные.
Угроза начала террористических атак в Австралии, как официальная оценка риска безопасности для населения, повышена, со средней до высокой, заявил премьер-министр страны на пресс-конференции в Мельбурне. В соответствии с классификации угрозы терроризма в стране, введенной в 2003 году, высокая угроза означает, что атаки террористов могут произойти, однако опасность не является сиюминутной, в случае последнего будет действовать режим «экстремальной» угрозы.
Поясняя происходящее, Тони Эбботт сказал о наличии сведений о том, «что есть люди, которые имеют намерения и способность совершить террористическую атаку».Он сообщил, что агентства безопасности рекомендовали повысить оценку степени угрозы, поскольку некоторое число австралийцев «оказывает поддержку и участвует в боевых действиях» в составе террористических групп на Среднем Востоке. Директор австралийского агентства национальной безопасности David Irvine подписал рекомендации после нескольких месяцев растущей обеспокоенности.
В 2002 году правительство оповещало население о реальной угрозе возникновения террористических актов от действий Аль-Каиды.
В 2003 году был разработан четырехуровневый режим оценки угрозы безопасности в целях предупреждения населения, от низкого, до экстремального.
Повышение оценки угрозы общественной безопасности со среднего на высокий, скорее всего, повлечет повышение мер предосторожности и увеличение числа полицейских в общественных местах, особенно — во время приближающихся финальных матчей национальных турниров NRL и АFL, других массовых событий. Также в расчет принимается проведение саммита G20 через два месяца в Брисбене. Премьер-министр считает, что большинство австралийцев, вероятно, даже не заметят каких-либо изменений в событиях их ежедневной жизни. Однако, очевидным будет увеличение мер безопасности в аэропортах, морских портах, правительственных зданиях, военных базах, в местах большого скопления людей.
Дания по-прежнему первая среди мировых держав в сфере затрат на образование, однако это не повлияло на уровень безработицы в стране, который продолжает расти.
Исследование международной Организации экономического сотрудничества и развития "Взгляд на образование 2014" вновь показало, что Датское королевство продолжает считать образование государственным приоритетом, сообщает портал The Local.
В течение последних нескольких лет официальный Копенгаген больше всех в мире инвестировал в государственные и частные учреждения образования. В 2011 году на поддержку детских садов, школ, колледжей и университетов страна потратила 7,9% своего ВВП. Ей дышит в спину соседка Исландия с 7,7%, а на третьем месте укрепилась Южная Корея с 7,6%. США оказались в хвосте первой десятки с 6,91%, Великобритания замыкает первую дюжину с 6,39%. Германия, которая лидирует по числу иностранных студентов в Европе, затрачивает на образование всего 5,13% - и занимает 28 место рейтинга, от нее незначительно отстает Россия с 4,59% (31 место).
В докладе отмечается, что зарплата датских учителей ($42 200 - $45 500) оказалась на 50% выше среднестатистического заработка в сфере образования в исследованных странах.
Тем не менее, в стране есть проблемы с устройством на работу молодых специалистов. В 2012 году уровень безработицы среди выпускников вузов в возрасте 24-35 лет достиг 7,7%. В регионе этот показатель значительно ниже: 5,4% - в Швеции, 4,5% - в Финляндии и всего 2,6% в Норвегии.
Расходы на образование по отношению к ВВП страны (в процентах):
1. Дания - 7,94%
2. Исландия - 7,66%
3. Корея - 7,64%
4. Новая Зеландия - 7,50%
5. Норвегия - 7,42%
6. Израиль - 7,28%
7. Чили - 6,91%
8. США - 6,91%
9. Канада - 6,79%
10. Бельгия - 6,58%
11. Финляндия - 6,47%
12. Великобритания - 6,39%
13. Швеция - 6,33%
14. Нидерланды - 6,22%
15. Мексика - 6,17%
16. Ирландия - 6,15%
17. Франция - 6,13%
18. Словения - 5,92%
19. Бразилия - 5,85%
20. Австралия - 5,85%
В Австралии появится дом для любителей пощекотать нервы
Архитекторы создали неповторимый проект на юго-западном побережье Австралии для бесстрашных любителей природы: из особняка на отвесной скале открывается уникальный вид на океан.
Здание, получившее меткое название "Дом на утесе" (Cliff House), прикреплено к вертикальной скале опорными балками. Причем все внешние стены строения - прозрачны, сообщает портал Daily Mail.
Авторы из архитектурного бюро Modscape Concept стремились передать ощущение "абсолютного единения с океаном", поэтому здание органично вливается в ландшафт и будто парит над пропастью. На использование такого необычного решения их вдохновили ракушки, цепляющиеся за корпус судна.
Пятиэтажный дом выполнят из сборных модулей, которые будут соединяться по вертикали. Каждый этаж будет укладываться поверх предыдущего, а к скале их прикрепят с помощью стальных штифтов.
Жильцы войдут в здание на вершине скалы, а в спальню, кухню или гостиную будут спускаться на лифте или с помощью лестницы. Пол нижнего этажа дома будет выполнен из стеклянных панелей, чтобы создать иллюзию открытого пространства, нависающего над океаном.
Австралийские инвесторы все чаще выбирают амбициозные, поражающее воображение архитектурные идеи. Так в Брисбене в ближайшее время появится комплекс небоскребов в форме бутонов цветов.
9 сентября ВМС Индии получили пятый базовый морской патрульный самолет Boeing P-8I из восьми заказанных, сообщает flightglobal.com 10 сентября.
Сообщается, что программа выполняется по графику, самолеты значительно повысят разведывательный и противокорабельный/противолодочный потенциал ВМС Индии. К концу этого года будет поставлен шестой самолет, в 2015 последние два. Контракт был подписан в 2009 году.
P-8I является экспортной версией самолета P-8A Poseidon, принятого на вооружение ВМС США и созданного на базе коммерческого авиалайнера Boeing 737-800ERX. В настоящее время в составе американской морской авиации имеется, по меньшей мере, 17 «Посейдонов», запланировано приобрести 117 машин. ВМС Австралии заказали четыре самолета.
Австралия — самое дорогое место, куда может поехать учится студент из другой страны, между тем, утверждает международное исследование, это не самое лучшее место, куда следует отправляться за высококачественным образованием. HSBC, международный инвестиционный банк, провел исследование среди 5000 родителей, имеющих детей -студентов, обучающихся за рубежом, в исследовании приняли родители из 15 различных стран.
В самом верху списка, составленном по величине суммы стоимости обучения, оказалась Австралия: в среднем, родители студентов-иностранцев, обучающихся здесь, тратят 42 тысячи в год. В эту сумму, кроме оплаты за обучение, входит также стоимость проживания в стране (жилье, еда, одежда, оплата обязательной для иностранных студентов медицинской страховки).
На втором месте в списке дороговизны стран для обучения иностранцев оказался Сингапур — на 3000 долларов дешевле, чем Австралия, на третьем — Соединённые Штаты (на 6000 тысяч дешевле, чем лидер списка).
Однако, только четверть из опрошенных указала, что Австралию можно отнести к первой тройке стран по качеству получаемого в итоге образования.
В ходе исследования также выяснилось, что 70% опрошенных родителей в других странах (не в Австралии) ожидают, что их ребенок по окончании школы получит университетское образование, а около 40% из этих же родителей мечтают, чтобы их дети продолжали учиться и по окончании университета (аспирантура и так далее).
Один из управляющих HSBC Graham Heunis, отметил некоторые другие любопытные результаты исследования: в Австралии только около 41% опрошенных родителей считают, что их дети должны получить университетское образование, между тем, в менее благополучной по уровню жизни Индонезии 92% опрошенных родителей убеждены в необходимости для своих детей продолжать обучение и после школы, связывая с этим их дальнейшее благополучие. Зато австралийцы свято верят, что по уровню образования — Австралия номер один в мире.
На самом деле, австралийцам придётся умерить патриотический пыл в этом вопросе. Мистер Heunis с сожалением отмечает, что Австралия, в среде потенциальных покупателей услуг в получении высшего образования, названа только пятой, после США, Великобритании, Германии, разделив пятое место с Канадой, что, при высоком курсе австралийского доллара, объективно, не может помочь австралийском сектору высшего образования. Как известно, на континенте — самая высокая в мире концентрация международных студентов: 20% студентов в высших образовательных учреждениях Австралии — из-за рубежа. При том, что австралийцы, как правило, получают образование в кредит от государства по ценам в 2–3 раза ниже, чем студенты-иностранцы, постоянный приток иностранцев — жизненно необходим для существования всей отрасли.
Представитель совета по иностранным студентам в Австралии Dion Lee подтвердил, что всякий иностранный студент знает о высокой стоимости получения образования в Австралии. Мистер Lee считает, что сделать процесс более дешёвым для иностранцев — не сложно. Одна из предлагаемых мер — введение общенациональных льгот на проезд иностранным студентам наравне со студентами — австралийцами. Не во всех штатах Австралии пока проявляется такая доброта к обучающимся из-за рубежа.
Самое большое беспокойство мистера Lee вызывает намерение правительства дерегулировать оплату университетских курсов, что, скорее всего, приведёт к росту цен и для иностранных студентов.
Федеральное правительство Австралии и официальный орган, представляющий университетский сектор, Universities Australia, ранее заявляли, что дерегуляции — необходима, это позволит высшим учебным заведениям повысить уровень стандартов в сфере образования.
Etihad Airways, национальный авиаперевозчик ОАЭ, расширяет набор услуг для гостей премиальных классов и открывает в Международном аэропорту Абу-Даби первый в истории авиакомпании зал ожидания в зоне прилета.
Роскошно отделанный, стильный и современный, он будет принимать гостей Etihad Airways, путешествующих первым и бизнес-классами. Новый зал ожидания удобно расположен сразу за зоной таможенного контроля.
Зал включает специальную зону, где гости могут освежиться перед тем, как покинуть аэропорт, - к их услугам 10 душевых кабин с необходимыми косметическими принадлежностями. Пока гости принимают душ, сотрудники зала погладят их одежду с помощью специальных парогенераторов. Услуга абсолютно бесплатна и занимает не более 10 минут.
В зале ожидания для прилетающих пассажиров также реализована новая инновационная концепция «SHAVE by Etihad Airways» – каждый гость может воспользоваться услугами профессиональных парикмахеров и бесплатно побриться.
Также в новом зале ожидания находится зона отдыха с удобными креслами, широкоэкранными телевизорами и большим выбором международных газет, журналов и книг. В течение всего дня гостям предлагаются разноообразные угощения, включая восхитительные канапе, закуски и сладости, а также горячие и холодные напитки. Все они готовятся на месте командой профессиональных поваров, создающих кулинарные шедевры в духе лучших традиций арабской и международной кухни.
Гости, которым необходимо уединенное пространство для подготовки к деловым встречам, могут воспользоваться услугами бизнес-центра, оборудованным компьютерами Apple с бесплатным выходом в интернет и принтерами.
Коммерческий директор Etihad Airways Питер Баумгартнер отметил: «Наш новый зал ожидания является важной вехой в истории развития Etihad Airways, его запуску предшествовало глубинное исследование рынка, позволившее определить запросы гостей первого и бизнес-классов. Этот зал ожидания, первый такого рода в Абу-Даби, был специально разработан для того, чтобы удовлетворить их пожелания, а наши новые эксклюзивные услуги, такие, как глажка одежды и бритье, будут особенно востребованы гостями, прилетающими в город рано утром, когда остается много времени до заселения в отель».
Сегодня в глобальной сети Etihad Airways 11 залов ожидания в аэропортах, включая новый зал в зоне прилета и уже существующие залы для гостей первого и бизнес-классов в Абу-Даби. Залы ожидания авиакомпании расположены в международных аэропортах Дублина, Франкфурта, Манчестера, Парижа, Лондона (Хитроу), Сиднея и Вашингтона, открытие новых запланировано в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Мельбурне и Милане. В период с января по июль 2014 года залы ожидания Etihad Airways посетили более 280 000 гостей, что на 20 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года.
Минэнерго России совместно с экспертами из 27 стран обсудили вопросы энергоэффективности на площадке МЭА.
8-10 сентября делегация Минэнерго России традиционно приняла участие в заседании Рабочей группы по энергоэффективности Международного энергетического агентства и заседании Исполнительного комитета Международного партнерства по сотрудничеству в области энергоэффективности (IPEEC).
Делегацией была сделана краткая презентация о новых шагах по совершенствованию государственной энергетической политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, состоялось обсуждение сделанной презентации со странами-членами МЭА.
В рамках заседаний представители России совместно с другими странами, такими как Китай, Франция, Австралия, Индия, Япония, США, Германия и др., обсудили актуальные вопросы развития международной кооперации в области энергоэффективности, возможность включения тематики энергосбережения в повестку работы Группы Двадцати и проинформировали об актуальных направлениях национальных политик в области ресурсосбережения.
На полях мероприятий Минэнерго обсудило с МЭА совместный план деятельности на 2015 год в части энергоэффективности, а также возможность презентации в рамках III Международного форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2014 ежегодного обзора МЭА по энергоэффективности, иных исследований и обзоров, подготовленных агентством.
В заключительный день мероприятий российская делегация провела презентацию Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергоэффективности ENES и пригласила зарубежных коллег к участию.
В австралийском городе появится «цветочный» жилой комплекс
В Брисбене всемирно известный архитектор Заха Хадид построит жилой комплекс Grace on Coronation. Бюджет проекта общей площадью 45 000 квадратных метров составит $383 млн.
Комплекс будет состоять из трех небоскребов, необычная форма которых напоминает бутоны цветов, пишет Archi.ru. Узкие «ножки» башен позволят увеличить общественное пространство вокруг строений, подчеркнула Хадид.
Общая площадь участка, на котором расположится Grace on Coronation, составляет 1,5 га. Он находится на набережной реки Брисбен (130 м береговой линии), и здесь же планируется создать общественный парк размером в 0,73 га.
Если говорить о самом комплексе, то высота каждой из башен составит 22-25 этажей. Они вмесят в себя 486 квартир. Кроме того, в Grace on Coronation запланировано строительство восьми вилл и парковки на 635 мест. Начало строительства небоскребов ожидается в конце 2015 года.
Заха Хадид украсила своими творениями уже ни один город мира. Например, небоскреб The Bath Club Estates не без оснований называют архитектурной жемчужиной Майами.
Университеты Мельбурна и Квинсленда проводят первое в мире клиническое испытание супертаблетки, улучшающей настроение человека. Таблетка состоит из пяти природных добавок, пишет ABC News. Известно: примерно две трети людей не реагируют на препараты из первой линии антидепрессантов. Таблетка должна решить эту проблему.
"Таблетка от плохого настроения" - будущее медицины
Среди компонентов нового средства можно найти S-аденозилметионин, 5-гидрокситриптофан (предшественник серотонина), фолиевую кислоту, цинк. Также добавляются вещества, упрощающие усвоение основных компонентов. И эта смесь не является антидепрессантом. Это совершенно отдельная формула, которую можно будет распространять без рецепта.
В отличие от антидепрессантов, новое средство не нацелено на какую-то отдельную "мишень". Оно воздействует на целый набор нейробиологических процессов. В итоге задействовано несколько нейропередатчиков и химических путей в мозге. При этом омега-3, как и цинк, снимают воспаление. А есть гипотеза, что именно воспаление вызывает депрессию. Таким образом, ученые надеются получить эффективный препарат. Хотя пока об отмене антидепрессантов не идет речь.
После одного года правления, правительство коалиции имеет гораздо меньшую поддержку избирателей, выяснил Newspoll.Также, по результатам опроса, опубликованным в газете The Australian , каждый четвертый его участник, не желает видеть действующих лидеров двух крупнейших партий, Тони Эбботта и Билла Шортена, в качестве премьер-министров, предпочитая представителей "зеленых", либо независимых депутатов, не состоящих ни в одной из партий, либо представителей одной из многих малочисленных партий.
Если бы выборы были сегодня, по общему списку партий за действующее правительство проголосовало бы 39%, что существенно ниже набранных коалицией 45,6 % на выборах прошлого года, но , все-таки выше, чем процент тех, кто сегодня намерен проголосовать за лейбористов - 35%. Зато при выборе между двух партий , коалиции и лейбористов, последние бы легко победили : 52% против 48.
Между тем, по результатам другого опроса, также проведенного Newspoll, двое из пяти австралийцев поддерживают действия правительства по оказанию гуманитарной и военной помощи силам, противостоящим становлению Исламского государства Ирака и Леванта. Премьер-министр страны Тони Эбботт рассказал, что правительство рассматривает расширение участие Австралии в международных усилиях по борьбе с ИГИЛ.
За оффшор на нары?
На фоне продолжающегося ухудшения отношений между Россией и Западом, вызванное украинским кризисом, российские законодатели решили значительно ускорить «деоффшоризацию» своей экономики. На рассмотрение в Государственную Думу планируется внести законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за использование оффшоров и внутренних «компаний-помоек» для целей минимизации налогообложения.
Авторами законопроекта выступили глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Новый закон в случае его принятия расширит ответственность за «злоупотребление правом в налоговой сфере». При этом злоупотреблением будет считаться уменьшение налоговых платежей, вызванное неправомерными действиями налогоплательщика.
Законом планируется внести поправки в статью 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»). И если сейчас уголовно наказуемым деянием считается только лишь фальсификация отчётности с целью уклонения от налогов, то новый закон в эту же категорию включит также и «использование подставных компаний и оффшоров для снижения налоговой нагрузки».
Кроме того, новый закон кроме уже имеющейся санкции за уклонение от налогов в виде лишения свободы от 2 до 6 лет может установить дополнительное наказание в виде «конфискации имущества компаний, которое они используют для уклонения от уплаты налогов».
Законопроект находится в стадии рассмотрения и пока ещё рано делать выводы о том, является ли этот проект реальным шагом в борьбе с уклонением от налогов или это всего лишь политическая трескотня и сотрясание воздуха, обречённое закончиться ничем. Тем не менее, такие действия России вполне укладываются в ныне господствующий общемировой тренд борьбы с оффшорами.
Принятие этого закона может создать знаковый прецедент, показав тем самым, что российские законодатели пошли значительно дальше своих коллег из стран ОЭСР, объявив само применение оффшоров незаконным и уголовно наказуемым. Не исключено, что пример России может стать заразительным и для других стран, испытывающих проблемы уменьшения налоговых платежей из-за использования бизнесом оффшорных схем «оптимизации налогообложения».
Ученые доказали пользу боли для сплочения коллектива
Несмотря на все неприятные ощущения, боль выступает спайкой, укрепляющим групповую солидарность и общественные связи, утверждают австралийские психологи. Новое исследование на данную тему представлено в журнале Psychological Science и в пресс-релизе Психологической ассоциации (США).
Ученые провели серию экспериментов со студентами. Разбив добровольцев на небольшие группы, исследователи попросили одних студентов вместе выполнить болезненное задание, а других - такое же испытание, но без болевых ощущений. Участников опыта попросили найти металлические шарики в ведре с водой и поместить их в специальный контейнер (в том же ведре). Вода могла быть ледяной или нормальной температуры. Во втором эксперименте часть студентов должны были присесть (но не до конца) и оставаться неподвижными в этом положении, а другая часть стояла на одной ноге, причем они могли переступать с правой на левую ногу и опираться о стену (что делает упражнение значительно менее болезненным). В третьем, наиболее страшном, по мнению ученых, эксперименте люди вместе поедали очень острые чипсы.
После упражнений добровольцев попросили пройти тест, измеряющий их отношение к другим членам группы. Вопросы в нем были сформулированы таким образом: <"Я чувствую себя частью группы" - оцените истинность этого высказывания по семибалльной шкале>. Студенты, вместе прошедшие болезненные задания, высказали гораздо больше привязанности к <своей> группе. Они также стали гораздо более склонны к взаимопомощи и жертвам личной выгодой ради коллективной. Последнее наблюдение продемонстрировали их ходы в специальной игре с числами. Третий, самый мучительный, эксперимент только усилил их верность группе и готовность служить общим интересам.
Исследователи подчеркивают, что группы создавались случайным образом - их члены отличались по полу, возрасту, этнической принадлежности и социальному статусу. Единственным объединяющим фактором была пережитая вместе боль. <Наше исследование экспериментально доказало гипотезу о боли как "социальном клее">, - отметил руководитель проекта Брок Бастиан (Brock Bastian).
Еврокомиссия в среду приняла решение заморозить помощь в размере 125 миллионов евро, первоначально выделенную овощеводам ЕС, пострадавшим от российских контрсанкций, передает агентство Франс Пресс.
По данным источника в структурах ЕС, такое решение связано с "серьезными сомнениями" относительно данных, предоставленных Польшей: сельхозпроизводители этой страны потребовали 87% от всего финансового пакета субсидий, объявленного Брюсселем 18 августа.
В то же время Еврокомиссия объявила, что для сохранения стабильности рынков в ближайшие дни представит новый механизм более адресной поддержки.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список ограничений попали говядина, свинина, птица, рыба, молочная продукция, фрукты, овощи, орехи.
Названы самые «здоровые» города мира
Рейтинг выявил лучшего в каждой из десяти категорий, по которым оценивалось качество жизни местных жителей. Счастье, долголетие, уровень детской смертности, чистота воздуха, пригодность для жизни, антитабачная политика, уровень ухода за престарелыми гражданами, качество профилактической медицины и системы здравоохранения.
Наше здоровье зависит не только от того, как мы живем, но и где. Такой вывод сделали журналисты CNN, которые составили рейтинг 10 самых благоприятных для здоровой и комфортной жизни городов мира.
В по-настоящему «здоровом» городе здоровый образ жизни вести легко. Этому способствует предоставление качественной медицинской помощи, поощрение профилактической медицины или уменьшение загрязнения воздуха, хороший доступ к паркам, качественной еде или общественному транспорту. Критериев оценки множество.
В список же лучших попали города, которые добились большого успеха в одной или сразу нескольких направлениях. Их руководство создало и внедрило в жизнь множество инновационных программ, которые помогают в борьбе с болезнями и повышают качество жизни для престарелых людей.
ТОП-10:
Копенгаген (Дания) - самый счастливый город мира
Окинава (Япония) - самая высокая продолжительность жизни
Монте-Карло (Монако) - самая низкая детская смертность
Ванкувер (Канада) - самый чистый воздух
Мельбурн (Австралия) - самые лучшие условия для жизни
Нью-Йорк (США) - самая активная антитабачная политика
Йенчепинг (Швеция) - самый лучший уход за престарелыми
Гавана (Куба) - самый высокий уровень профилактический медицины
Сингапур - самая лучшая система здравоохранения
Напа (США) - выбор пользователей новостного портала CNN
Самым необычным «победителем» является город, который оценивали не специалисты, а простые люди. Именно калифорнийский город Напа его жители и гости назвали самым здоровым сразу по нескольким параметрам. Это город здоровых привычек. Социально активные граждане не сидят на месте, занимаются спортом и укреплением собственного здоровья. А самый счастливый город Копенгаген, является столицей самой счастливой страны мира.
Уровень безработицы в России ниже, чем в среднем в странах-участницах G20, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на встрече министров труда и занятости "Группы двадцати", которая открылась в среду в австралийском Мельбурне.
"В России вопросам поддержки рынка труда уделяется серьезное внимание. На начало 2014 года общая безработица в России составляла 5,3%. Тогда как в среднем в странах "Группы двадцати" этот показатель гораздо выше — порядка 8%", — сообщил Топилин.
По мнению российского министра, эффективное функционирование рынка труда может быть обеспечено сбалансированностью мер социальной поддержки и стимулирования экономики. При этом "при проведении любых реформ в экономике и на рынке труда в центре внимания должен стоять человек и его права", отметил он.
Топилин заявил, что в решении этих вопросов важно взаимодействие сторон социального партнерства — работников, работодателей и правительства, в том числе по решению проблемы теневой занятости. "Социальные партнеры должны четко следовать национальным и международным нормам трудового законодательства", — заявил он.
По словам министра, сегодня для российского рынка труда, как и для большинства стран G20, актуальны вопросы занятости женщин, молодежи, инвалидов и других социально уязвимых групп населения. Меры по поддержке этих категорий отражены в том числе в плане РФ по занятости, подготовленном в рамках участия России в "Группе двадцати". Глава Минтруда России представит данный план в четверг.
Встреча проходит в австралийском Мельбурне с 9 по 11 сентября. По словам главы Минтруда России, итогом обсуждения должно стать подписание Декларации министров труда и занятости стран "Группы двадцати". В ней будут отражены дальнейшие действия стран-участников G20 по созданию качественных рабочих мест и противодействию экономическим и социальным последствиям безработицы, неполной занятости и социальной исключенности.
Эмбарго на импорт: перспективы и последствия
Ограничения на импорт продуктов питания нарушает продуктовый баланс РФ. Данные исследований компании «Технологии Роста».
Тамара В. Решетникова, Генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста».
Эмбарго на импорт из стран ЕС, Норвегии, Канады, США, Австралии и Украины, принятое Правительством РФ с 07 августа, затронули большой перечень продуктов питания и сельхозпродукции, в том числе, во fresh-сегменте.
Согласно заявлениям чиновников, перед российскими производителями открыты самые широкие возможности по наращиванию объемов производства в условиях отсутствия конкуренции со стороны импорта. Одновременно к росту поставок продуктов питания в Россию активно готовятся Турция, Китай, Белоруссия, Казахстан, Аргентина, Чили.
По мнению «Технологии Роста», в сложившейся ситуации с эмбарго имеют высокую вероятность реализации несколько тенденций в ближайшее время:
• Отечественные производители в ближайшей перспективе будут наращивать не столько объемы, сколько отпускные цены,
• Рост цен на значительную часть продуктов питания неизбежен. Увеличение цен в течение конца 2014 – начала 2015 гг. составит от 5% до 20% в зависимости от сегментов,
• Увеличение поставок fresh-продуктов из Турции и Китая ведет за собой рост доли низкокачественного импорта с нарушением фито-санитарных норм на российских прилавках,
• Дефицит продуктов питания будет ощущаться, прежде всего, в премиальных сегментах оригинальных продуктов,
• Для обеспечения продуктовой безопасности РФ требуется 3 условия: огромный объем частных инвестиций, «длинные дешевые» деньги из банков и мощная целевая поддержка сельхозпроизводителей со стороны государства. Пока у нас нет ни одного из этих условий.
Если говорить о потенциале роста внутреннего производства и полном импортозамещении, то, как показывает жизнь, опираться следует на реальные производственные возможности. По крайней мере, цикл производства не может быть сокращен или ускорен по желанию чиновников. Чтобы собрать яблоки, нужно высадить сад, чтобы получить сметану, требуется вырастить корову.
Отечественные производители смогут увеличить объемы производства овощей не ранее конца лета – начала осени 2015 года. Объемы производства косточковых фруктов смогут быть увеличены не ранее 2018 – 2020 гг., яблок и груш – не ранее 2020 – 2023 гг. При этом самым острым остается вопрос огромного дефицита современных овоще- и фруктохранилищ, и внедрения соответствующих технологий, позволяющих сохранять урожай до следующего года.
Круглогодичное производство свежих томатов, огурцов, баклажанов, перца и зелени в защищенном грунте для полного удовлетворения внутреннего спроса может быть налажено не ранее 2025-2030 гг., для чего необходимы значительные инвестиции со стороны частного бизнеса и работающие целевые программы поддержки со стороны государства.
В любом случае, введение годового эмбарго на несколько миллионов тонн продуктов питания, традиционно поступающих в Россию, серьезно нарушает сложившийся продуктовый баланс. Более того, изменения и ограничения коснутся не только конечных продуктов питания и пищевых производств, но и самих отечественных производителей. Так, современные технологии выращивания овощей и зелени в защищенном грунте предполагают использование специального оборудования и конструкций, а также минеральных удобрений, ядохимикатов, заменителей грунтов, а главное, - семян томатов, огурцов, баклажанов и пр. голландской, французской или немецкой селекции. Без всех этих составляющих развитие тепличного овощеводства в РФ на текущей стадии просто невозможно.
В конце лета-осенью влияние эмбарго на российские прилавки минимально, поэтому, с политической точки зрения, время для введения эмбарго выбрано совершенно верно. Отечественные потребители ощутят явный дефицит части продуктов питания и связанный с этим существенный рост цен, начиная с конца ноября – начала декабря. «Пик» проблем, связанных с эмбарго, придется на февраль – май.
Анализируя сложившиеся рыночные тенденции, компания «Технологии Роста» считает, что вероятность отмены запрета на импорт продуктов уже в январе-феврале 2015 г., является весьма высокой.
На встрече министров G20 в Австралии директор по занятости Всемирного банка Найджел Туос, ссылаясь на исследование, проведенное совместно с ОЭСР и Международной организацией труда, заявил, что мир вскоре ждет глобальный кризис рабочих мест.
"Почти нет сомнений, что это глобальный кризис рабочих мест. Из доклада ясно следует, что существует нехватка рабочих мест и качественных рабочих мест", — цитирует Туоса Business Insider.
Также в докладе говорится о том, что к 2030 году по всему миру необходимо создать 600 миллионов дополнительных рабочих мест. По словам Тоуса, только это позволит обеспечить работой население, численность которого увеличивается.
Директор по занятости Всемирного банка считает, что для того, чтобы решить эту проблему, министры труда G20 должны активно сотрудничать друг с другом и прочими ведомствами. Кроме того, по его мнению, в процесс решения проблемы трудоустройства должны быть вовлечены представители негосударственного сектора.
В докладе также упоминается о том, что в странах G20 более 100 миллионов человек остаются безработными, еще 447 миллионов – это «работающие бедные», которым приходится жить менее чем на 2 доллара в день.
Годовой отчёт об образовании, предоставленный “Организацией экономического сотрудничества и развития” (ОЭСР), свидетельствует, что всё больше британцев в возрасте 16-18 лет имеют доступ к получению образования в колледже или университете, но только четверть из них становится грамотнее.
В докладе приводится статистика, которая говорит, что с 2000 года количество людей, не достигших пенсионного возраста с высшим образованием, выросло с 26% до 41%, однако цифры также указывают на пробелы выпускников в таких навыках, как чтение и письмо.
Директор ОЭСР Андреас Шлейхер заявил, что, несмотря на привлекательность британской системы образования, она имеет недостатки.
“С одной стороны, мы можем сказать, что в Британии увеличилось количество людей с высшим образованием, но далеко не каждый выпускник имеет достаточно высокий уровень подготовки”, – подытожил Шлейхер.
Несмотря на это, Шлейхер выступил за расширение доступа британцев к высшему образованию, аргументируя это улучшением финансового состояния граждан и ростом экономики страны.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























