Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Швеция находится на первом месте среди стран, в которых стареть лучше всего, по данным организации помощи престарелым - Help Age International, пишет газета Svenska Dagbladet в связи с тем, что 1 октября - Международный день пожилых людей. Такое сравнение условий жизни пожилого населения планеты делается впервые.
Сравнивались 13 различных параметров, разделенных на четыре главные подгруппы, из 90 стран. Например, здоровье, материальное положение, работа и "приспособленная для пожилых окружающая среда".
В подгруппе "материальное положение" анализировались данные об условиях пенсионной системы, количество бедных пенсионеров и доля благосостояния, приходящаяся на пожилых людей.
В подгруппе "здоровье" - данные о психическом здоровье, ожидаемая продолжительность жизни и годы здоровья после 60-ти лет.
В третьей подгруппе - данные о том, сколько пенсионеров работает и каков у них уровень образования.
В группе "хорошая окружающая среда" - данные о социальных контактах пожилых людей, физическая безопасность, права пожилых и приспособленность транспортной системы.
Данные взяты из различных органов ООН, Всемирного банка и ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения.
Швеция не занимает первого места ни в одной из подгрупп, но в целом находится на таком высоком уровне во всех четырех подгруппах, что в итоге вышла на первое место по сумме показателей.
По материальному положению пенсионеров на первом месте Люксембург, а по здоровью - Швейцария. Норвегия на первом месте по занятости и образовательному уровню, а Голландия - по "приспособленной для пожилых окружающей среде".
По сумме показателей, однако, Швеция вышла на первое место. Это связано, в частности, с давней традицией создания в Швеции общества всеобщего благосостояния. В этом году, например, исполняется 100 лет с введения в Швеции - как первой страны в мире - пенсионной системы. Другой шведской особенностью является то, что больше половины из 1,6 миллиона пенсионеров (т.е. тех, кому больше 65 лет) являются членами какого-нибудь объединения пенсионеров. А это значит, что им легче добиваться выполнения своих требований.
На втором месте после Швеции - Норвегия, на третьем - Германия.
Европа доминирует, но в первую десятку входят также Канада и США.
Вот данные по сумме показателей Global Age Watch Index:
1. Швеция
2. Норвегия
3. Германия
4. Голландия
5. Канада
6. Швейцария
7. Новая Зеландия
8. США
9. Исландия
10. Япония
11. Австрия
12. Ирландия
13. Великобритания
Резко выросло число жителей Швеции получающих медицинскую помощь за рубежом, в странах входящих в Европейское экономическое пространство ЕЭП. Помимо государств ЕС - включает также Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Число зарубежных пациентов удвоилось с 2011 по 2012 годы. Их было в прошлом году 4453. Расходы Шведской государственной страховой кассы, в этой связи, составили 61 млн. крон. Сообщает Шведское общественное телевидение SVT. .
С 1 октября в Швеции вступает в силу новое правило, по которому можно заранее получить одобрение от Страховой кассы на возмещение расходов связанных с медицинским обслуживанием в странах ЕЭП. Пациенты, однако, будут, по прежнему, вынуждены сами на первом этапе оплачивать медицинские расходы, но в дальнейшем смогут получать компенсации
Встреча с Президентом Исландии Олавуром Рагнаром Гримссоном
На полях Международного арктического форума Владимир Путин встретился с Президентом Исландии Олавуром Рагнаром Гримссоном.
В.ПУТИН: Уважаемый господин Президент! Позвольте мне Вас ещё раз поприветствовать в России.Спасибо большое за то, что вы неизменно принимаете участие в мероприятиях в рамках обсуждения арктических проблем.
Сейчас вы мне рассказали, что планируете сами провести у себя в стране большой форум с привлечением общественности и представителей науки, посвящённый изучению проблем Арктики. Безусловно, мы будем поддерживать все начинания подобного рода.
Мне приятно отметить, что развиваются наши двусторонние связи. Мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на незначительный объём нашей торговли, всё-таки она имеет положительные тенденции, это тоже не может не радовать.
О.Р.ГРИМССОН (как переведено): Господин Президент, большое спасибо за приглашение принять участие в Арктическом форуме. Ещё когда в Москве прошёл первый Арктический форум, я понял, что это очень важная площадка для конструктивного обсуждения вопросов сотрудничества в Арктике.
В ходе своих встреч и в своих выступлениях в странах Европы, в США, в других странах я часто ссылаюсь на опыт Арктического форума, который проводит Русское географическое общество, а также на Ваши выступления как на очевидное свидетельство заинтересованности России и Вашей личной заинтересованности в конструктивном сотрудничестве в Арктике.
Ещё раз подчеркну, что этот форум является подтверждением важности вопросов сохранения окружающей среды. И комментарии, которые Вы сделали в своём выступлении на форуме, являются важным сигналом для всех нас. Мы надеемся продолжить начатый диалог на ассамблее Arctic Circle, которая состоится в следующем месяце в Рейкьявике.
Мы будем рады приветствовать в качестве участников ассамблеи представителей Государственной Думы, научных учреждений России, поскольку мы считаем важным для людей из других арктических стран обменяться опытом с российскими парламентариями, занимавшимися разработкой закона о Северном морском пути.
Нам очень интересно не только то, что в этой сфере делает Президент и Правительство, но и то, что делает российский парламент. Я с удовольствием расширил бы круг участников конференции, которая состоится в октябре, и пригласил на неё членов Госдумы. Это было бы, кроме того, прекрасной возможностью придать новый импульс сотрудничеству Исландии и России.
Завтра в Санкт-Петербурге я приму участие в открытии выставки Кьярваля, которую Вы лично курировали. Позже в Рейкьявике пройдут мероприятия, посвящённые исландско-российскому культурному сотрудничеству.
На протяжении всей истории Исландии сотрудничество с Россией было очень важным элементом. Сотрудничество в Арктике делает взаимодействие с Россией ещё более важным. Как Вы сказали, расширяется торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
Исландия экспортирует в Россию всё больше товаров. Авиакомпания Icelandair запустила этим летом регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Исландию и далее в США. Впервые в истории мы можем предложить регулярные рейсы во все арктические страны. Эта программа продолжится в следующем году, мы надеемся, с участием авиакомпании «Трансаэро».
В других сферах взаимодействия мы также видим хорошие признаки развития.
И, наконец, мы очень заинтересованы в возможной прокладке оптического кабеля, который соединит Европу и Америку через Россию и Азию. У нас есть партнёры в Исландии и Америке, желающие принять участие в проекте, который принесёт новые высокие технологии, информационные технологии во все арктические регионы, новым способом соединит Исландию и Россию, российский Север с Исландией, Америкой, Европой, Азией.
Позвольте мне также упомянуть, что в Вашем выступлении на предыдущем Арктическом форуме Вы сказали, что нам нужно развивать сотрудничество с использованием Северного морского пути, указали на необходимость создания законодательной базы для развития арктического судоходства. Думаю, вместе мы могли бы сделать больше в этой сфере.
В.ПУТИН: Я хотел бы сразу отреагировать на несколько вопросов.
Во-первых, что касается геотермальных источников и наших договорённостей по работе на Камчатке, это всё остаётся в силе. Вы наверняка знаете, нам нужно только добиться того, чтобы эти проекты были экономически целесообразными и конкурентоспособными по сравнению с другими видами первичного энергоносителя.
Мы знаем о ваших планах по освоению Арктики, в том числе по транспортным коридорам и созданию порта, и внимательно это изучаем.
Конечно, мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества не только в рыболовстве, но и в высокотехнологичных сферах. Один из примеров – это прокладка телекоммуникационного кабеля, который действительно может потом присоединиться к североамериканским трассам.
Вы упомянули, что в Россию начали летать самолёты исландской авиакомпании. И мы, действительно, надеемся, что в ближайшее время и российским компаниям будут предоставлены возможности – они посчитают целесообразным совершать такие же полёты в Исландию из Москвы и Питера.
И, наконец, та выставка в Петербурге, о которой Вы сейчас упомянули. Я думаю, чтоб работа в гуманитарной сфере для нас представляет не меньшую важность, чем работа в сфере транспорта, экономики вообще. Я знаю, что Ваша супруга принимала самое активное участие в подготовке этой выставки, передайте ей слова самой искренней благодарности
Мы отмечаем 70-летие дипломатических отношений, как я уже сказал, и в этой связи намечен целый ряд культурных мероприятий как в Рейкьявике, так и на российских территориях. И мы со своей стороны всячески будем поддерживать и сопровождать эти мероприятия.
Спасибо Вам большое.

Выступление на пленарном заседании III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать участников и гостей III Международного форума «Арктика – территория диалога». Особые слова благодарности за оказанное внимание – Президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё, который приехал на форум впервые, и, конечно же, нашему традиционному гостю – Президенту Исландии господину Грииммсону.
На этот раз мы собрались в символичном месте – в Салехарде, единственном городе мира, который расположен точно на широте Северного полярного круга.
Мы только что с коллегами говорили о том, когда был создан этот город, – я попросил коллег дать мне дополнительную справку: он был основан в 1595 году русскими казаками (назывался тогда Обдорск, а затем Салехард) и сыграл очень важную, опорную роль в освоении русской Арктики, севера Урала и Западной Сибири.
И должен отметить, что за последние годы, за последнее десятилетие город не просто активно развивался – он в полном смысле этого слова преобразился, это совершенно другой город.
Если бы вы сюда приехали лет 10 назад и сейчас бы на него посмотрели, вы бы не узнали его, решили, что это два совершенно разных места. Не менее большое значение город играет и сегодня в жизни современной России.
Салехард является столицей одного из ключевых экономических центров нашей страны – Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь реализуется целый ряд крупнейших промышленных и инфраструктурных проектов, связанных в том числе с освоением арктических территорий и их природных богатств.
На прошлом форуме мы уже говорили, что Арктика, по сути, открывает сейчас новую страницу своей истории, которую можно назвать эпохой индустриального прорыва, бурного экономического, инфраструктурного развития. В арктических регионах России идёт интенсивный поиск и разработка новых месторождений газа, нефти, других минерально-сырьевых ресурсов, строятся крупные транспортные, энергетические объекты, возрождается Северный морской путь.
Работа в суровых условиях Арктики крайне сложна, требует и серьёзных финансовых затрат, и поистине уникальных технологических решений. И для нас очевидно, что приоритетом, ключевым принципом развития Арктики должно быть и должно стать природосбережение, обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью, присутствием человека и сохранением окружающей среды. Тем более это важно, когда речь идёт об Арктике с её хрупкими, уязвимыми экосистемами, с её восприимчивым климатом, который во многом определяет экологическое самочувствие всей нашей планеты.
Арктика сегодня, пожалуй, как никогда раньше нуждается в особом внимании и бережном отношении. Россия, почти треть территории которой приходится на районы Крайнего Севера, осознаёт свою ответственность за сохранение экологической стабильности.
Как многие из присутствующих здесь знают, нами принята Стратегическая программа действий по охране окружающей среды Арктической зоны. На её основе разрабатывается Государственная программа социально-экономического развития российской Арктики на период до 2020 года.
«Арктика открывает новую страницу истории, которую можно назвать эпохой индустриального прорыва. Идёт интенсивная разработка новых месторождений газа, нефти, строятся крупные транспортные, энергетические объекты, возрождается Северный морской путь».
Основы нашей государственной политики в Арктике предусматривают и установление особых режимов природопользования. В частности, право добывать нефть в ледовых условиях будут получать и получают лишь такие компании, которые обладают самыми современными технологиями и, разумеется, способны обеспечить свою работу в финансовом плане.
Конечно же, мы продолжим наш масштабный проект по так называемой генеральной уборке Арктики. Уже полностью очищена Земля Александры, в этом году начались работы на острове Грэм-Белл, на очереди – острова Гоффмана, Хейса, Рудольфа и Гукера.
Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, дамы и господа, всего из федерального бюджета в 2011–2013 годах на очистку Арктики было выделено 1 миллиард 420 миллионов рублей. Такую работу мы начали впервые, и она сейчас находится на марше, что называется.
Добавлю, что свои программы стартовали и в российских регионах, расположенных в высоких широтах. Так, на Ямале по инициативе местных властей приводят в порядок остров Белый, что позволит вернуть в природу свыше 500 гектаров уникальных земель. Рассчитываем, что к такой работе, к таким нужным инициативам будут подключаться все наши северные регионы.
Хочу также отметить, что мы намерены существенно расширить сеть особо охраняемых природных территорий Арктической зоны. Сегодня они занимают около шести процентов российской Арктики – почти 322 тысяч квадратных километров, в планах – увеличить их площади в разы.
Развитие получит и работа по сохранению диких животных, проживающих в этом регионе, прежде всего редких видов китов и дельфинов, реликтовых птиц.
Многое делается для изучения главного символа Арктики – белого медведя. Мы готовы активно участвовать в создании единой сети мониторинга его популяции, которую сейчас разрабатывает Арктический совет.
Однако не меньшего внимания заслуживают и моржи, обитающие в море Лаптевых и северных водах Атлантики. Их популяции сокращаются. Рассчитываем, что стабилизировать ситуацию позволят специальные программы изучения этих видов, которые мы намерены реализовывать.
Конечно, эффективность решения задач, связанных с экологическим здоровьем Арктики, прямо зависит от слаженных действий стран региона, всего мирового сообщества.
Россия, крупнейшая арктическая держава, готова к самому тесному партнёрству в рамках Арктического совета, Глобального экологического фонда и Программы ООН по окружающей среде, в первую очередь в разработке современных технологий и формировании единых экологических стандартов.
Напомню, что в 2008 году страны «арктической пятёрки», в том числе и Россия, выступили с [Илулиссатской] декларацией, которая обозначила международно-правовую основу ответственного управления северными морскими пространствами.
Сегодня вновь готов подтвердить приверженность России её принципам, так же как намерение России делать всё, чтобы Арктика на практике стала территорией партнёрства, сотрудничества и диалога и государств, и самой широкой общественности.
Я ещё раз благодарю всех участников форума за конструктивное обсуждение проблем нашего общего региона – Арктики.
Большое спасибо вам за внимание.
<...>
В.ПУТИН: Если позволите, уважаемые дамы и господа.
Ещё раз хотел бы поблагодарить своих коллег: и Президента Исландии, [Президента] Финляндии, нашего коллегу из Канады – за то, что они нашли время в своём напряжённом графике и приехали сюда к нам в Россию, на Крайний Север.
Действительно, 66-я параллель – это очень северная часть нашей страны, но я уже говорил о том, что в России одна треть территории относится к территории Крайнего Севера, и именно для нас, для Российской Федерации, работа в рамках Арктического совета, работа по проблемам Крайнего Севера, по освоению Северного морского пути, работа в Арктике вообще представляет особое не только народно-хозяйственное, но и гуманитарное значение. Имею в виду, что в этом регионе нашей страны проживает значительное количество представителей малых северных народов, малочисленных северных народов.
Здесь сконцентрированы большие интересы – и экономические, и политические, и гуманитарные, как я уже сказал. Поэтому нам крайне важно объединять усилия для эффективной работы в этом регионе мира и в нашем регионе.
Совершенно очевидно, что климат меняется, об этом уже все говорят. Сейчас уже не так важны причины этих изменений, важно, что это происходит. И уже понятно, что навигация, скажем, в северных широтах может продолжаться и 100 суток, а может и 150 суток. Открываются новые регионы для экономической деятельности.
Безусловно, и мы об этом много раз говорили, и коллеги мои, когда выступали сейчас, говорили, Арктика – очень уязвимый регион с точки зрения сохранения экологического баланса, необходимости сохранения этого баланса, и поэтому хозяйство здесь нужно вести в высшей степени аккуратно.
Для нас чрезвычайно важно в этом смысле мнение специалистов, наших соседей по Арктике, членов Арктического совета и даже нерегиональных держав, но тех, кто заинтересован в рачительном хозяйствовании на этих территориях.
Мы уже говорили и о защите животного мира, о хозяйственной деятельности, об обеспечении законных интересов малочисленных народов Севера. Было бы, наверно, совсем неправильно, если бы я умолчал о том инциденте, который состоялся на нашей платформе Приразломна, имею в виду попытку захвата этой платформы представителями международной организации «Гринпис». Об этом все говорят, пишут средства массовой информации. Но было бы гораздо лучше, если бы представители этой организации сидели в этом зале и выразили своё отношение к проблемам, которые мы обсуждаем, заявили бы либо свои претензии, либо свои требования, сформулировали свои озабоченности, никто от этого не отмахивается. Мы и собираемся на мероприятия подобного рода для того, чтобы обсудить все эти проблемы.
Я в деталях не знаю, что там произошло, но совершенно очевидно, что они, конечно, не являются пиратами, но формально они пытались захватить платформу. И ведь наши правоохранительные органы, наши пограничники не знали, кто пытается захватить эту платформу под видом организации «Гринпис», особенно на фоне тех кровавых событий, которые происходили в Кении, всякое ведь могло быть: кто захватывает, мы же не знаем. Совершенно очевидно, что эти люди нарушили нормы международного права, сблизились на опасное расстояние с платформой.
Человечество испокон веков использует природу для обеспечения своей жизнедеятельности, и чем дальше, тем больше. Сначала это был просто сбор грибов и ягод и добыча животных, потом это минеральные ресурсы, металлы, углеводороды. Можно это остановить или нет? Нет, конечно, это невозможно остановить. Вопрос разве в этом? Вопрос в том, как рачительно это делать, как минимизировать ущерб для природы или свести этот ущерб к нулю. Это возможно или нет? В целом, наверно, сейчас это трудно, но стремиться к этому нужно, и, на мой взгляд, этого в целом можно было бы добиться. Углеводороды сейчас производятся во всём мире, в том числе и на берегу, и на шельфе.
Мы хорошо знаем о добыче сланцевого газа путём гидроразрыва, знаем, что там, где это добывают, из кранов жителей близлежащих городов и посёлков уже не вода течёт, а тёмная чёрная жижа, которую водой назвать нельзя. Колоссальная проблема экологического характера.
При добыче углеводорода всегда люди сталкиваются с этими проблемами. Если работы на шельфе либо на территории, здесь две основные опасные составляющие: это транспорт – в мире, к сожалению, часто происходят аварии с этим транспортом при перевозке, скажем, нефти или это на местах добычи.
Я не буду сейчас всё это повторять, здесь присутствующие люди, специалисты, знают об этих трагедиях. Вспомню только о некоторых из них. В 1988 году, по-моему, в Северном море на платформе, которая эксплуатировалась одной из американских компаний, произошла страшная трагедия: по ошибке оператора платформа загорелась, погибло свыше 160 человек.
Другая, совсем свежая трагедия чисто экологического характера: при прорыве газа в Мексиканском заливе на поверхность вышло огромное количество нефти. Это колоссальный экологический ущерб.
При акциях подобного рода, а там проводились в этот момент и подводные работы, могло произойти всё что угодно: и операторы могли ошибиться, и технологические сбои могли произойти, – создана была угроза жизни и здоровью людей. Разве такие пиар-акции стоят возможного наступления подобных тяжелейших последствий?
Поэтому хочу ещё раз подчеркнуть: мы настроены на то, чтобы работать со всеми нашим партнёрами, со всеми экологическими организациями, но исходим из того, что эта работа будет построена цивилизованным способом. Мы настроены на то, чтобы не только слышать, но и услышать друг друга, принимать необходимые меры по экологической защите.
Кстати говоря, что касается работы на шельфе, то ни одна российская компания, работающая на шельфе, а мы работаем в разных регионах, и на Дальнем Востоке, и на Каспии, сейчас в Арктике начинаем работать, – ни с одной из них не было ни одного серьёзного происшествия. Надеюсь, никогда и не будет, потому что мы применяем самые новейшие технологии.
Что касается продолжения нашей работы в рамках инициатив Русского географического общества, я ещё раз хочу вас всех поблагодарить, хочу заверить вас в том, что мы будем самым внимательным образом относиться ко всем проблемам, связанным с защитой природы и экологии.
Мы очень благодарны вам за то, что вы откликаетесь на наши призывы работать в рамках Русского географического общества, особенно по проблемам Арктики, которая, как я говорил в начале своего заключительного слова, очень уязвима и требует особого внимательного отношения и со стороны специалистов, и со стороны широкой общественности.
Я не могу не согласиться со своим коллегой из Исландии, что мы рассчитываем на присоединение к нашей работе первых лиц всех арктических государств. Очень надеемся на то, что они будут проявлять всё больше и больше внимания к тем проблемам, которые мы с вами обсуждаем на этой площадке.
Большое вам спасибо. Надеюсь, что в следующий раз мы соберёмся для обсуждения не менее актуальных проблем, чем сегодня.
Благодарю вас.
Исландские рыбаки потеряли в выручке
С января по июнь промысловики Исландии добыли водных биоресурсов на 76,9 млрд. крон (13 млрд. долларов). Уловы за аналогичный период прошлого года принесли больше – 81,2 млрд. крон (13,7 млрд. долларов).
В первом полугодии страна заработала 48,3 млрд. крон (8,18 млрд. долларов) на продаже глубоководных видов рыб. Стоимость реализованной трески составила 24,7 млрд. крон (4,18 млрд. долларов), пикши – 6,3 млрд. крон (1 млрд. долларов). Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, исландские рыбаки добыли прибрежной рыбы на 20 млрд. крон (3,38 млрд. долларов) и камбалы на 5 млрд. крон (847 млн. долларов).
Снижение стоимости на 5,3% при сохранении объемов вылова связано с падением цены на многие виды. В частности, камбала подешевела на 23%, а сопутствующий улов – на 51,2%. Цена трески упала на 9,1%, но больше всего пострадали продажи сельди: стоимость этой рыбы понизилась на 83,8%.
Американская фармацевтическая компания Дендреон (Dendreon Corp.) объявила о том, что Европейская комиссия одобрила раствор для инфузий Провендж (PROVENGE) для лечения бессимптомного или минимально симптоматического метастатического (невисцерального) кастрат-резистентного рака предстательной железы у взрослых пациентов мужского пола, кому пока не показана химиотерапия.
Данное решение последовало за недавними рекомендациями к одобрению Консультативным комитетом по передовым методам терапии (Committee for Advanced Therapies) и Комитетом по лекарственным средствам для применения у людей (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства по лекарственным препаратам (European Medicines Agency, ЕМА).
Получение одобрения регуляторных органов Европы означает разрешение на коммерциализацию препарата Провендж во всех 28 странах Европейского союза, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Заявка компании на регистрацию препарата Провендж была основана на данных, полученных их трех рандомизированных, плацебо-контролируемых, многоцентровых клинических испытаний III Фазы при участии 737 пациентов.
Препарат Провендж предназначен для аутологического применения и ни при каких условиях он не должен применятся другими пациентами.
В Дании завершила встречу Рабочая группа ИКЕС по широко распределяющимся запасам. Специалисты положительно оценивают состояние запасов скумбрии и путассу.
На встрече в Копенгагене рассматривались вопросы состояния запасов основных пелагических рыб Северной Атлантики. Были организованы подгруппы по атланто-скандинавской сельди, скумбрии и путассу.
Результаты исследований сельди показали, что в 2013 г. ее нерестовый запас снизился из-за отсутствия урожайных поколений после 2004 г. В соответствии с планом управления в связи с сокращением нерестовой биомассы сельди ниже 5 млн. тонн (до 4,1 млн. тонн) на 2014 г. уменьшается и промысловая смертность – с 0,125 до 0,099. В результате общий допустимый улов сельди на будущий год составит 420 тыс. тонн, т. е. на 33% меньше, чем в 2013 г. Российская квота при этом может составить 53 тыс. тонн.
«Совсем другая ситуация складывается со скумбрией. Запас скумбрии продемонстрировал завидную устойчивость 4-летнему «перелову» и демонстрирует устойчивый рост», – сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства.
Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) предлагает к изъятию на 2014 г. 864 тыс. тонн скумбрии, что на 300 тыс. тонн выше рекомендаций прошлого года. Эта величина практически соответствует реальному вылову. Как отметили в Росрыболовстве, все это еще раз подтверждает занижение оценки запасов скумбрии Северной Атлантики в предыдущие годы, о чем говорили ранее российские ученые.
На заседании рабочей группы было указано, что модель, разработанная ранее для оценки запасов скумбрии, в настоящее время плохо работает, так как не учитывает часть параметров (например, изменяющийся ареал: скумбрия сейчас встречается в Баренцевом море и у берегов Гренландии, где даже осуществлялся ее промысел). В связи с этим российская делегация предложила в дальнейшем рассмотреть возможность использования модели, разработанной в РФ.
Благоприятно оценивается и ситуация с путассу. Ее запасы находятся в настоящее время на подъеме, благодаря трем последним урожайным поколениям. Оценка нерестового запаса на нерестилищах была на 55% выше, чем в прошлом году. Распределялась путассу на обширной акватории как на запад к Исландии, так и на восток в район Лофотен.
На рабочей группе основная дискуссия развернулась вокруг конкретизации рекомендаций ИКЕС по поводу определения конкретной цифры смертности. Организация давала основную рекомендацию в соответствии с планом управления – коэффициент 0,18. Российская делегация настаивала на том, что коэффициент 0,22 тоже соответствует концепции предосторожного подхода, поэтому рекомендации должны быть равноправны. Однако Рабочая группа приняла рекомендации, соответствующие плану управления, за основу, сославшись при этом на последний документ ИКЕС «О приоритете рекомендаций, соответствующих плану управления»
При принятом коэффициенте 0,18 ОДУ путассу на 2014 г. составит 949 тыс. тонн (увеличение на 48%).
«В целом можно отметить, что состояние запасов скумбрии и путассу позволяют надеяться рыбакам на успешный промысел этих видов в 2014 году», – заявили в Росрыболовстве.
Американские геофизики открыли на дне Тихого океана гигантский мегавулкан, который по своим размерам сопоставим c Британией или с марсианской горой Олимп - самым большим вулканом Солнечной системы, говорится в статье, которая опубликована на сайте журнала Nature Geoscience.
Уильям Сэгер (William Sager) из Техасского университета A&M и его коллеги исследовали дно в северо-западной части Тихого океана, в районе поднятия Шацкого, и обнаружили, что самое большое плато на нем, получившее название массив Таму (по аббревиатуре университета - Texas A&M University) является единым вулканическим сооружением.
Диаметр мегавулкана Таму составляет около 625 километров, а высота достигает 4 километров. Таму не извергался уже 140 миллионов лет, но уже само его существование дает геофизикам возможность понять, как много магмы может скапливаться под земной корой и изливаться на поверхность.
"Геофизические данные с массива Таму демонстрируют, что гигантские вулканы, найденные на других планетах Солнечной системы имеют кузенов здесь на Земле. Земное разнообразие вулканов плохо изучено, поскольку эти монстры нашли лучшее место, где спрятаться - дно моря", - говорится в статье.
Массив Таму расположен в 1,5 тысячи километров к востоку от Японии, в районе где сходятся три тектонические плиты. Результаты бурения дна в этом районе показывали, что оно состоит из лавовых отложений, но ученые считали, что здесь может быть несколько вулканов, и лавовые потоки от них накладывались друг на друга, как это происходит на Гавайских островах и в Исландии.
Однако сейсмическое зондирование дна, проведенное группой Сэгера, показало, что все лавовые потоки исходили из одной точки. Это указывало на существование единого центрального жерла, а значит, геофизики имели дело с единым вулканом. Вулкан Таму относится к классу щитовых вулканов - очень больших по площади и с очень пологими склонами. Самый большой щитовой вулкан - гавайский Мауна-лоа - имеет диаметр не более 100 километров.

Грядущий бум в Арктике
По мере таяния льдов она становится все более доступной и оживленной
Резюме: Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.
Никто не ожидал, что льды начнут таять так быстро. Хотя ученым-климатологам давно известно, что глобальное потепление приводит к сокращению площади ледового покрытия в Северном Ледовитом океане, немногие из них предвидели столь стремительное его сокращение. В 2007 г. Межправительственная комиссия по изменению климата сообщила, что, по ее оценкам, начиная с 2070 г. в летний период воды Арктики будут полностью освобождаться ото льда. Однако последние наблюдения со спутников приблизили дату, и таяние всего льда ожидается уже летом 2035 года. Еще более изощренные программы моделирования вынудили ученых вновь изменить прогноз и объявить, что летнее солнце растопит Арктику уже в 2020 году.
В конце прошлого лета площадь Северного Ледовитого океана, затянутая льдами, сократилась до наименьшего размера с 1979 г., когда начались наблюдения. По сравнению с предыдущим летом ледяное покрытие уменьшилось на 350 тыс. квадратных миль, что равноценно территории Венесуэлы. Всего за три десятилетия площадь льдов Северного Ледовитого океана уменьшилась вдвое, а их общая масса сократилась на три четверти.
Теплеет не только океан. В 2012 г. в Гренландии было зафиксировано самое теплое лето за 170 лет, и льда там растаяло в четыре с лишним раза больше, чем в среднем за год на протяжении трех предыдущих десятилетий. В том же году в восьми из десяти точек северной Аляски, где установлены станции слежения за вечной мерзлотой, зарегистрированы рекордные температуры, а в двух других местах повторен температурный рекорд. На хоккейных площадках в Северной Канаде даже начали устанавливать холодильные системы, чтобы не допустить таяния льда.
Неудивительно, что эти изменения ввергают хрупкие экосистемы региона в хаос. В то время как десятки тысяч моржей, лишенных дрейфующих льдин, выходят на берег северо-западной Аляски, субарктическая флора и фауна мигрируют на север. Промерзшая тундра становится болотистой местностью, какой она была 50 млн лет назад, а ураганы, зарождающиеся над вновь образовавшимися водами, размывают береговую линию, лишая тысячи семей коренных жителей домов, которые сползают в морскую пучину.
Какие бы рецепты борьбы с глобальным потеплением ни предлагались, факт остается фактом: оно действительно имеет место. Однако не все так плохо. То, что когда-то было непроходимыми арктическими льдами, окруженными пустынной территорией вечной мерзлоты, постепенно превращается в эпицентр промышленности и торговли наподобие Средиземного моря. Тающие льды и потепление прибрежных районов открывают доступ к богатым залежам полезных ископаемых, включая почти четверть всех имеющихся в мире запасов нефти и газа и гигантские месторождения ценных металлов и минералов. Летние морские пути через Арктику позволяют сократить на тысячи километров расстояния между Тихим и Атлантическим океанами. Региону предстоит стать главной трассой для мирового торгового флота, подобно тому как он уже превратился в один из магистральных воздушных коридоров для гражданской авиации.
Одна из причин, почему Арктика выглядит столь многообещающе, – относительно крепкие в финансовом отношении страны, расположенные на берегах северных морей. Кроме того, за исключением России, в этих государствах действуют предсказуемые законы, облегчающие предпринимательскую деятельность, и исповедуются демократические ценности, способствующие мирным отношениям между соседними государствами. По мере открытия данного региона для мировой экономики страны Арктики прилагают удивительно согласованные усилия для налаживания сотрудничества, избегая противостояния, мирно решая старые пограничные споры и признавая первенство международного права в выстраивании межгосударственных отношений. Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.
Хотя потепление в Арктике – свершившийся факт, это, конечно, не должно стать предлогом для бездумного и безответственного расхищения тамошних богатств. Арктические ресурсы, если их разрабатывать с умом, принесут колоссальную выгоду местным жителям и экономике арктических государств. Вот почему им следует продолжать сотрудничество, вместе разрабатывая планы устойчивого развития. По этой же причине Соединенные Штаты должны объявить данный регион приоритетом своей экономической и внешней политики, так же как это сделано в отношении Китая. Нравится это кому-то или нет, но Арктика открыта для бизнеса, и у правительств разных стран, а также у инвесторов имеются веские причины подключиться к процессу в самом начале.
Много шума из ничего
Всего пять лет тому назад борьба за Арктику могла привести к совершенно иным последствиям. В 2007 г. Россия установила свой флаг на морском дне в районе Северного полюса, и в последующие годы другие государства использовали все средства для достижения своих целей, наращивая военно-морские патрули и выдвигая далекоидущие претензии на суверенитет над разными северными территориями. Многие обозреватели, включая и меня, предсказывали, что погоня за полезными ископаемыми неизбежно приведет к конфликту, если не появится всеобъемлющий свод правил. «Арктические державы быстро приближаются к дипломатическому тупику, – писал я на страницах этого журнала в 2008 г., – и это может в конечном итоге привести их к балансированию на грани войны».
Но по пути к анархии в Арктике произошло нечто примечательное. Вместо ужесточения позиций арктические страны, напуганные возможным ростом напряженности, постарались мирно уладить разногласия. Общая заинтересованность в получении прибыли подавила инстинкт борьбы за территорию.
Посрамив пессимистов, страны Арктики прекратили бряцание оружием и наладили впечатляющее сотрудничество в разных областях. Они использовали Конвенцию ООН по морскому праву (1982) в качестве юридической базы для урегулирования пограничных споров на море и принятия стандартов безопасности в области торгового судоходства, даже несмотря на то что США так и не ратифицировали этот документ. И в 2008 г. пять стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, – Канада, Дания, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты – выпустили Илулиссатскую декларацию, в которой обязались урегулировать проблемы мирным путем, а также заявили о поддержке Конвенции ООН и Арктического совета – двух международных институтов, чрезвычайно важных для данного региона.
Арктические державы сдержали данное обещание. В 2010 г. Россия и Норвегия разрешили давние разногласия по поводу морской границы вблизи архипелага Шпицберген, а Канада и Дания в настоящее время изучают предложение о разделе необитаемого скалистого острова Ханс (Hans), принадлежность которого оспаривалась на протяжении нескольких десятилетий. В 2011 г. страны Арктики подписали Соглашение о поисково-спасательных работах под эгидой Арктического совета. В апреле нынешнего года началась работа над соглашением, регулирующим коммерческий промысел рыбы, а летом разработан окончательный вариант договоренностей по совместному реагированию на разливы нефти. Некоторые страны Арктики даже делятся друг с другом ледоколами для картографирования морского дна, поскольку это часть процесса по демаркации континентальных шельфов. Конечно, остаются нерешенные вопросы – например, Оттаве и Вашингтону предстоит договориться о статусе Северо-Западного прохода: следует ли считать его нейтральными водами или внутренними водами Канады и где именно пролегает граница в море Бофорта. Но самые болезненные разногласия улажены. Оставшиеся спорными участки и территории расположены далеко от берега, и их можно считать наименее привлекательными с экономической точки зрения частями Арктики.
Это сотрудничество не потребовало разработки нового и всеобъемлющего международного законодательства. Арктические государства ограничились двусторонними и многосторонними договоренностями, принятыми в рамках Арктического совета и Конвенции ООН по морскому праву. Добившись подписания временных, но устойчивых соглашений, арктические державы создали предпосылки для долговременного бума в Арктике.
Кладовая несметных богатств
Большинство картографических описаний не отражают огромных размеров Арктики. Аляска, которая на картах США обычно изображается рядом с побережьем Калифорнии в виде вынесенного прямоугольника суши, на самом деле в два с половиной раза больше, чем штат Техас, а ее береговая линия протяженнее, чем у всех расположенных южнее 48 штатов вместе взятых. Гренландия больше по размерам, чем вся Западная Европа. Площадь внутри Полярного круга составляет 8% поверхности Земли и 15% поверхности всей суши.
На этой территории сосредоточены огромные запасы нефти и газа – главная причина, по которой регион чрезвычайно перспективен в экономическом плане. Расположенные преимущественно в Западной Сибири и Прудо-Бей на Аляске, арктические месторождения обеспечивают 10,5% мировой добычи нефти и 25,5% мировой добычи газа. И вскоре эти цифры могут стремительно вырасти. Согласно начальным оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, в Арктике может находиться 22% неоткрытых залежей нефти и газа. Эти богатства теперь стали гораздо доступнее и привлекательнее благодаря отступлению льда, удлинению летнего сезона бурения и новым технологиям разведки. Частные компании уже начали действовать. Несмотря на высокую себестоимость добычи и законодательные барьеры, Shell вложила 5 млрд долларов в разведку нефти в Чукотском море на Аляске, а шотландская компания Cairn Energy инвестировала миллиард в бурение разведочных скважин вблизи побережья Гренландии. «Газпром» и «Роснефть» планируют многомиллиардные инвестиции для разработки месторождений в российской части Арктики, где эти государственные компании работают в партнерстве с ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni и Statoil с целью извлечения удаленных запасов. Бум, связанный с технологией гидроразрыва пластов, может в конечном итоге привести к снижению цен на нефть, но неизменным остается тот факт, что запасы в традиционных месторождениях Арктики исчисляются десятками миллиардов баррелей, что позволяет рассчитывать на рост предложения на мировом рынке. Более того, сланцевый бум добрался уже и до Крайнего Севера. На севере Аляски началась разведка нефти путем гидроразрыва, а весной этого года Shell и «Газпром» заключили важную сделку по разработке сланцевой нефти в российской части Арктики.
Имеются и другие полезные ископаемые. Более продолжительный летний период дает дополнительное время для геологической разведки, а отступающий лед позволяет создать новые глубоководные порты для экспорта полезных ископаемых. В Арктике расположены самые высокопроизводительные месторождения в мире – цинка (Red Dog на севере Аляски) и никеля близ Норильска.
В основном благодаря России в арктическом регионе добывается 40% мирового палладия, 20% алмазов, 15% платины, 11% кобальта, 10% никеля, 9% вольфрама и 8% цинка. На Аляске имеется свыше 150 перспективных месторождений редкоземельных металлов, и если бы штат был независимым государством, то оказался бы в первой десятке по запасам многих ценных металлов и минералов. И это лишь стартовые возможности, ведь в изучении Арктики делаются первые шаги. Есть веские основания предполагать (так часто бывает), что с началом разработки месторождений будут найдены новые богатства.
Грядущий арктический бум – это не только бурение скважин и добыча полезных ископаемых. Хвойные таежные леса региона – 8% мировых запасов древесины, а северные воды способны обеспечить 10% мирового рыбного промысла. С помощью переоборудованных танкеров можно доставлять питьевую воду из ледников на Аляске в Южную Азию и Африку.
Само по себе уникальное географическое положение Арктики – ценный актив. Если смотреть на вершину глобуса, данный регион связывает между собой наиболее успешные экономики мира. «Исландские авиалинии» уже осуществляют рейсы между Рейкъявиком, Анкориджем и Санкт-Петербургом через Северный полюс. По дну Северного Ледовитого океана планируется проложить телекоммуникационные кабели для связи между Северо-Восточной Азией, северо-востоком США и Европой. Высокие арктические широты – подходящее место для расширения имеющихся наземных станций, принимающих сигналы спутников на полярных орбитах. Мощные приливы, которыми славится Арктика, создают впечатляющий потенциал для гидроэнергетики, а ее геологические особенности скрывают колоссальные возможности получения геотермальной энергии. Это хорошо видно на примере алюминиевой промышленности Исландии, где заводы работают на геотермальных источниках.
Низкие температуры делают Арктику привлекательным местом для создания центров хранения данных наподобие того, который компания Facebook строит на севере Швеции. А под сводами хранилища, устроенного в прохладных скалах Шпицбергена, хранятся сотни тысяч семян растений.
По мере таяния льдов реальностью становятся короткие судоходные пути, о которых когда-то можно было только мечтать. Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский архипелаг, пока затянут льдами. Но в 2010 г. впервые за всю историю мореплаваний четыре торговых судна переплыли из Северо-Западной Европы в Северо-Восточную Азию по Северному морскому пути, проходящему через Северный Ледовитый океан над Евразией. В 2011 г. число таких судов достигло 34, а во время прошлогоднего арктического лета этот путь проделало 46 торговых судов.
Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем Северный морской путь (СМП) сможет стать одной из главных судоходных артерий мира наряду с Суэцким и Панамским каналами, он перестал быть лишь фантазией или мечтой мореплавателей. СМП становится все более актуальным и жизнеспособным морским путем для танкеров, которые не прочь «срезать» тысячи морских миль, отказавшись от традиционных путей через Малаккский и Гибралтарский проливы.
Открывается и новый экспортный канал для сбыта продукции сельхозугодий, образовавшихся благодаря потеплению, и продукции шахт, появляющихся вдоль северного побережья России, где некоторые из крупнейших рек страны впадают в Северный Ледовитый океан. Признавая перспективность новых морских путей, Министерство транспорта РФ создало Управление Северного морского пути, которое выдает разрешения на судоходство, следит за погодными условиями в северной акватории и устанавливает новое навигационное оборудование вдоль всего пути. По мере того как лед продолжает таять, открывается коридор через Северный полюс в обход российского побережья.
Финансовая состоятельность
Конечно, для экономической жизнеспособности региона одних полезных ископаемых и благоприятного географического положения недостаточно – посмотрите на Ближний Восток. Но в Арктике имеются и другие благоприятные факторы.
Во-первых, большинство стран, территория которых выходит за Полярный круг, имеют крепкую экономику и устойчивую финансовую систему. Соотношение государственного долга к ВВП у таких государств, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция ниже 54%, а у России – менее 12%. Хотя долг США составляет 75% от ВВП, от высоких процентных ставок страну ограждает то, что американский доллар остается главной резервной валютой мира. Что же касается арктического штата Аляска, то у него большой профицит бюджета, а агентствоStandard & Poor's присвоило ему самый высокий кредитный рейтинг ААА. Еще выше соотношение долга и ВВП у Канады – 84%. В то же время она демонстрирует завидную стабильность. Банковская система Канады пятый год подряд оценивается Всемирным экономическим форумом как самая здоровая в мире. Исландия все еще борется с последствиями краха финансовой системы в 2008 г., но экономика восстанавливается рекордными темпами. В 2012 г. ВВП вырос на 2,7%, а безработица сократилась до 5,6%. В целом хорошее финансовое самочувствие арктических стран означает, что этот регион привлекателен для вложения частного капитала, особенно в сравнении с другими державами, богатыми природными ресурсами.
Несколько государств Арктики имеют большие фонды национального благосостояния, которые пополняются за счет экспортных пошлин на нефть и газ. Они могут использовать эти средства на осуществление важных инфраструктурных проектов для стимулирования дальнейшего развития. Норвегия занимает первое место в мире по размеру фонда национального благосостояния, который превышает 700 млрд долларов. В российском фонде национального благосостояния на сегодняшний день около 175 млрд долларов. Постоянный фонд Аляски оценивается в 45 млрд долл., что позволяет штату не взимать подоходный налог со своих жителей. Более того, каждый живущий на Аляске получает ежегодные дивиденды от продажи полезных ископаемых. Если правительства арктических государств будут мыслить стратегически, с помощью таких резервов можно было бы финансировать создание транспортно-энергетического скелета, на котором арктическая экономика могла бы быстро наращивать «мышечную массу», становясь все более зрелой.
За исключением России, во всех арктических странах также действует вполне предсказуемая судебно-правовая система и имеется четкое и ясно прописанное законодательство, что способствует притоку инвестиций. Соединенные Штаты, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция и Канада входят в двадцатку стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. Благодаря юридической и судебно-правовой определенности, которую обеспечивают качественные государственные институты, они не испытывают проблем с привлечением иностранного капитала. Инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что в отличие от других сырьевых экономик и государств, богатых природными ресурсами, североамериканские и скандинавские правительства не национализируют частные активы, не потребуют «откатов» и не допустят судебного произвола.
Охота за арктическим богатством
Ни один регион, настолько богатый ресурсами – как природными, так и созданными руками человека, – не может долго оставаться вне поля зрения Китая. Как будто по сигналу, Пекин начал целенаправленно совершать «набеги» на Арктику – особенно его интересует Исландия и ее наполовину независимый сосед Гренландия. При этом Китай преследует далекоидущие геополитические цели. В мае Арктический совет предоставил Китаю статус наблюдателя наряду с Индией, Италией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей.
Пекин рассматривает Исландию как своего рода стратегические ворота в регион. Именно поэтому премьер-министр Вэнь Цзябао в прошлом году посетил эту страну с официальным визитом (направившись прежде в Копенгаген для обсуждения проектов в Гренландии). Государственное пароходство Китая изучает возможность долгосрочной аренды доков в Рейкъявике, а китайский миллиардер Хуан Нубо много лет пытается освоить участок земли на севере острова площадью 100 кв. миль. В апреле Исландия подписала с Китаем договор о свободной торговле, став первой европейской страной, заключившей с Пекином подобное соглашение. В то время как Соединенные Штаты закрыли свою военную базу времен холодной войны в Исландии в 2006 г., Китай расширяет там свое присутствие и строит самое большое посольство, постоянно направляя предпринимателей. В августе прошлого года в Рейкъявике официально пришвартовался ледокол «Сюэлун», или «Снежный дракон». Главная привлекательность Гренландии – ее недра. Помимо железной руды и нефти на острове обнаружены большие залежи редкоземельных металлов, а Китай как раз доминирует на мировом редкоземельном рынке. В Гренландии менее 60 тыс. жителей, но на остров зачастили делегации из Азии. В сентябре прошлого года тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак присутствовал при подписании соглашения между южнокорейской государственной горнодобывающей компанией и аналогичной компанией Гренландии. До него на острове побывал тогдашний министр земли и природных ресурсов Китая Сюй Шаоши, который также подписал соглашения о сотрудничестве.
До сих пор эти совместные предприятия договаривались об объединении усилий для разведки недр, но очень скоро на их базе могут вызреть мегапроекты, цель которых – поставки ценного сырья на жадные до ресурсов азиатские рынки. С тех пор как в 1979 г. Дания предоставила Гренландии право иметь собственную законодательную власть, провинция движется в направлении полной независимости и в 2009 г. взяла под контроль судебно-правовую систему и природные ресурсы. Местное правительство использовало эту свободу для установления торговых отношений с Китаем, Южной Кореей и другими странами. При сохранении нынешних темпов иностранных инвестиций в экономику острова доходы местного бюджета могут в один прекрасный день полностью заместить субсидию в 600 млн долл., которую Гренландия ежегодно получает от Копенгагена. Это позволит с полным правом требовать политической независимости. Избиратели, проживающие на острове, фактически проголосовали за независимость в марте, когда партия социал-демократов «Сиумут» («Вперед») получила большинство в парламенте. В то время как микроскопические экваториальные государства могут вскоре исчезнуть в поднимающихся водах Мирового океана, Гренландия имеет все шансы стать первой страной, порожденной изменением климата на планете.
Тем временем государства Арктики инвестируют в свои «ледовитые» окраины. Россия показала пример, приняв под энергичным президентским руководством ряд государственных программ, предусматривающих наращивание капиталовложений в инфраструктуру северного побережья. В Канаде правительства территории Юкон, Северо-Западных территорий, Нунавута и Квебека создали управления по развитию для привлечения инвестиций. В мае, когда Канада приняла председательство в Арктическом совете, она назначила старшим официальным представителем по Арктике главу Агентства по экономическому развитию северных территорий, наказав ему управлять политикой Арктического совета в интересах «развития народов Севера». На протяжении нескольких лет норвежские и российские компании создают совместные предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Баренцевом море. Аляска также пытается стимулировать экономический рост, снижая нефтегазовые налоги и продавая больше лицензий на участки, находящиеся в государственной собственности.
Однако Джуно (столице Аляски) приходится бороться с обструкционизмом федерального правительства, которое держит федеральные земли на замке и вынуждает старателей и разработчиков недр проходить обременительный процесс получения разрешений и терпеть постоянную неопределенность на законодательном поле. В данный момент власти Аляски предпочли бы просто убрать с дороги непокладистых федеральных чиновников.
Нежелание Вашингтона способствовать развитию северных территорий отражает его в целом пассивную политику в Арктике. В то время как остальной мир уже осознал растущее значение региона, Соединенные Штаты до сих пор не пробудились, оставляя это игровое поле более конкурентоспособным и целеустремленным соперникам.
Арктическое пробуждение
Но пока еще не поздно сыграть в «догонялки». Первый и наиболее очевидный шаг для США – присоединение к 164 странам, ратифицировавшим Конвенцию ООН по морскому праву. Ирония в том, что Вашингтон участвовал в составлении первоначального текста договора, но республиканцы в Сенате, выдвинув сбивающие с толку аргументы о мнимой угрозе, которую данный договор представляет для суверенитета Соединенных Штатов, ухитрились заблокировать его ратификацию на несколько десятилетий. В итоге нанесен ущерб национальным интересам США.
Конвенция ООН позволяет странам претендовать на исключительную юрисдикцию над теми частями континентального шельфа, длина которых превышает 200 морских миль, прописанных в договоре как зона исключительных экономических интересов той или иной страны. Это означает, что Соединенные Штаты приобрели бы специальные права на дополнительные 350 тыс. квадратных миль акватории океана, что составляет примерно половину площади штата Луизиана. Но поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН, ее притязания на обширный континентальный шельф в Чукотском море, в море Бофорта и других местах не будут признаны другими государствами. Отсутствие четко оговоренных юридических прав собственности на эти площади не дает возможности частным компаниям начать разведку месторождений нефти и газа или бурение на морском дне. Отказ ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву также отодвинул Вашингтон на задний план в обсуждении и установлении правил поведения в Арктике.
В условиях наращивания судоходства через Берингов пролив у США нет инструмента влияния на законодательство, регламентирующее морские маршруты, а также защищающее рыболовные промыслы и хрупкую среду обитания. В договоре также закрепляется международный правовой принцип свободы мореплавания, на который опираются американские ВМС для проецирования силы в глобальном масштабе.
Неудивительно, что все, начиная с руководителя Торговой палаты Соединенных Штатов и президента Совета по природным ресурсам и кончая председателем Комитета начальников штабов (а также всеми ныне здравствующими бывшими государственными секретарями) доказывают целесообразность ратификации Конвенции ООН. Сенату давно пора последовать их совету. Скептически настроенные республиканцы мешают ратификации этого документа, утверждая, что он ограничит суверенитет США. Но это лишь отвлекающий маневр и пустые разговоры, поскольку Соединенные Штаты в любом случае выполняют все его положения, а фактическая ратификация даст новые права и увеличит влияние. Если бы президент решил сделать ратификацию политическим приоритетом, умеренные республиканцы, скорее всего, отдали бы голоса за этот международный договор, и он был бы принят.
Вашингтону нужно продолжить выработку последовательной политики в Арктике, как это сделали другие страны. В мае этого года Белый дом опубликовал Государственную стратегию в Арктическом регионе. Этот документ стал многообещающим началом, поскольку расширяет и во многом конкретизирует худосочную Президентскую директиву по национальной безопасности, которую издала администрация Джорджа Буша-младшего. Следует отдать должное администрации Обамы, которая разработала соответствующую стратегию и протянула руку помощи правительству Аляски и особенно коренным народам Севера, чей голос и опыт критически важны.
Но Соединенные Штаты с опозданием включаются в игру, и им предстоит проделать немалую работу, обдумывая государственный подход к освоению Арктики и расширяя возможности для проецирования силы здесь. Для начала США должны увеличить присутствие. Это потребует строительства ледоколов, поскольку ни один из ныне действующих кораблей ВМС не имеет достаточной мощи, чтобы преодолевать просторы Северного Ледовитого океана. И в этой области Соединенные Штаты также заметно отстают от соседей по Арктике: у России 30 ледоколов, некоторые из которых работают на атомной энергии, а у Канады их 13. Даже у Южной Кореи и Китая, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану, есть новые ледоколы. У береговой охраны США лишь три таких корабля: один уже вышел из строя, другой спущен на воду в 1976 г. и доживает последние дни. Наконец, третий – это, скорее, плавучая научная лаборатория, чем боевой корабль.
Но даже если бы Конгресс выделил средства на строительство ледоколов, Закон о торговом флоте 1920 г. (известный также как Акт Джоунса) требует, чтобы корабли, курсирующие между американскими портами, строились в Соединенных Штатах. По оценкам Береговой охраны, отживающие век американские судоверфи будут строить новый ледокол не менее 10 лет. К тому времени лед в Арктике может полностью растаять и исчезнуть в летний период. Конгрессу США следует отменить действие протекционистского закона, чтобы дать возможность Береговой охране и ВМС закупить необходимые им корабли за рубежом или взять в аренду американские ледоколы, построенные частным бизнесом, заплатив лишь малую толику их общей стоимости.
У Соединенных Штатов нет глубоководных портов в Арктике и аэродромов для военной авиации. Отсутствует всеобъемлющая сеть мониторинга арктического судоходства, что необходимо в Беринговом проливе – узком 55-мильном горлышке между Тихим и Северным Ледовитым океаном. Федеральному правительству следует опираться на реальный прогресс штата Аляска, который самостоятельно и весьма успешно решает все эти проблемы в последние несколько лет.
Вашингтону не нужно вкладывать такие же огромные деньги, которые были в свое время потрачены на строительство каналов, мостов, плотин и дорог, открывших американский Запад, даже минимальные инвестиции позволят успешно конкурировать в Арктике.
Наконец, пора вдохнуть новую жизнь в арктическую дипломатию. Идя по стопам других стран региона (а также Японии и Сингапура), США должны назначить высокопоставленного дипломата послом в Арктике, чтобы он(а) представлял(а) интересы Соединенных Штатов на таких форумах, как Арктический совет.
Отправляя на совещания младших дипломатов, в то время как другие страны представлены там министрами иностранных дел, Вашингтон дает ясно понять, что регион его не слишком интересует. В мае госсекретарь Джон Керри посетил сессию Арктического совета, как это сделала до него Хиллари Клинтон, и эта практика должна продолжаться. Чтобы напомнить американцам, что они живут в арктическом государстве, президенту Бараку Обаме следует упомянуть о проблемах Арктики в обращении к Конгрессу. Именно это проделали канадский премьер-министр Стивен Харпер и президент России Владимир Путин, выступая перед своими законодательными собраниями.
Более активное участие в делах Арктики могло бы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. По договору 1867 г. о продаже Российской империей Аляски Соединенным Штатам две страны «желали по возможности укреплять существующее между ними доброе взаимопонимание», и тогдашний государственный секретарь Уильям Сьюард надеялся, что продажа Аляски как раз и будет этому содействовать. Тем не менее США и России не удавалось наладить добрососедские отношения многие десятилетия после этого. Но сегодня Арктика могла бы стать тем источником и поводом для сотрудничества, о котором мечтал Сьюард. В Беринговом море у двух стран общие задачи и цели; открывается простор для сотрудничества в таких областях, как охрана правопорядка на море и недопущение несанкционированного рыбного промысла иностранными рыболовецкими траулерами, совместное реагирование на разлив нефти в море и совместная установка навигационного оборудования.
Новое развитие
Изменение климата превращает Арктику из геополитически вторичного региона в сказочно щедрый подарок предпринимателям нашего века. Странам следует и дальше сохранять приверженность мирным взаимоотношениям в Арктике, которых они до сих пор придерживались. Но политикам нужно серьезно подумать об общем видении использования богатейших ресурсов Арктики. Экономическое развитие не должно быть синонимом экологической катастрофы. На самом деле открытие Арктики – это уникальный шанс развивать устойчивую экономику приграничного взаимодействия.
Чтобы подобный подход к освоению арктических богатств стал нормой, странам Арктики необходимо найти правильный баланс между защитой окружающей среды и эксплуатацией природных ресурсов. Один из способов объединить капитализм с ценностями природоохраны – это начать воспринимать природу как своего рода капитал, а также включать расходы на сохранение и защиту окружающей среды в стратегии развития. Это уже сделано в программах управления рыбными промыслами путем распределения квот на вылов рыбы и в программах защиты лесов путем выпуска ценных бумаг, котирующихся на бирже.
Чтобы такая тактика работала в Арктике, нужно обеспечить полноценную отчетность по имеющимся ресурсам. Вот почему правительствам, негосударственным и общественным организациям арктических стран так важно провести всеобъемлющую перепись природных богатств и биологического разнообразия региона. При наличии качественных научно обоснованных ориентиров правительства могут принимать более взвешенные решения, уравновешивая риски для хрупкой среды обитания другими задачами в области экономики и национальной безопасности. Цель заключается в нахождении золотой середины между активистами движения в защиту природы и окружающей среды, которые хотят немедленно превратить Арктику в природный заповедник, и промышленниками, жаждущими бурить как можно больше скважин и нещадно эксплуатировать ценные и невосполнимые природные ресурсы.
В Аляске это означает, что каждый нефтегазовый проект следует рассматривать индивидуально и использовать прибыль от добычи нефти и газа для создания более диверсифицированной экономики. В противном случае штат рискует стать еще одной нефтяной колонией или сырьевым придатком со всеми вытекающими негативными последствиями для местного населения. Аляске следует инвестировать богатство в систему высшего образования, смелые инфраструктурные проекты, а также проводить политику привлечения талантливых иммигрантов, которых нужно воодушевлять на создание новых предприятий – например, в сфере возобновляемых источников энергии. Образцом для подражания может служить Норвегия, которая воспользовалась неожиданно высокими нефтяными доходами для финансирования прогрессивного государства и чтобы дать толчок индустрии возобновляемых источников энергии. Подобный подход полностью соответствует Конституции штата Аляска, в которой сказано, что Аляска должна «поощрять заселение своих земель и разработку недр таким образом, чтобы использование природных ресурсов отвечало общественным интересам и общему благу».
Арктика предоставляет исключительные возможности для того, чтобы переписать правила игры в развитии приграничного экономического освоения. Но этим следует вплотную заняться именно сейчас, пока очередной разлив нефти из глубоководной скважины не загрязнит Арктику и не снизит ее привлекательность. В связи с тем, что повышение температуры происходит быстрее, чем прогнозировалось, вопрос не в том, растает ли лед окончательно или нет, а в том, когда именно это произойдет и регион будет открыт для всестороннего освоения. Если правильно управлять процессом разработки арктических недр, Арктика могла бы одновременно стать тщательно охраняемой средой обитания и локомотивом экономического роста. Это сулит колоссальную выгоду как коренным жителям, так и пришельцам.
Скотт Борджерсон – управляющий директор CargoMetrics и один из основателей некоммерческой организации «Полярный круг».
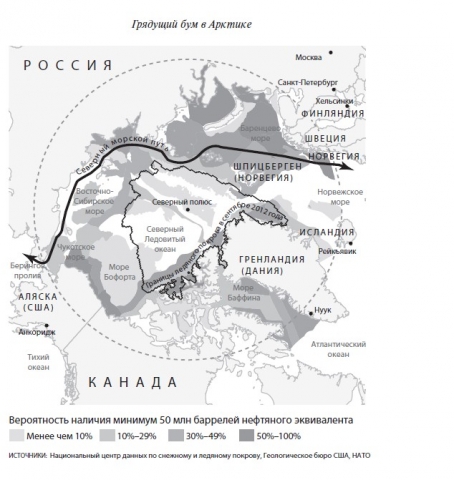
Многополярный круг
Арктическая дипломатия – новый феномен мировой политики
Резюме: Как ни парадоксально, но наиболее пассивными игроками на арктическом пространстве выступают «тяжеловесы» – Россия, США и Канада – на долю которых приходится подавляющая часть сконцентрированных в регионе ресурсов.
С начала XXI века международное взаимодействие и сотрудничество в Арктике неуклонно расширяется. За сравнительно небольшой период (с 2006 по 2013 гг.) процесс приобрел системные очертания. Главным признаком тому служит массовое утверждение заинтересованными государствами концепций освоения этого региона. Из анализа содержания этих документов следует, что большая часть ключевых задач сосредоточена во внешнеполитической плоскости, а значительную роль в их реализации играет «арктическая дипломатия».
В силу уникальных географических и климатических параметров Арктика является международным пространством. Северный Ледовитый океан служит как бы естественным центром притяжения полярных, а также внерегиональных держав. Разделительные линии здесь менее заметны, чем на суше, что, однако, не умаляет их юридической значимости.
Зачастую ресурсы, сконцентрированные в пределах исключительных экономических зон пяти прибрежных стран, также носят трансграничный характер, а реализация крупных проектов по их освоению (например, Штокмановское месторождение, проект «Ямал СПГ») не обходится без создания международных консорциумов. Помимо сотрудничества арктические державы вынуждены согласовывать взаимные интересы и регулировать споры. Все эти аспекты в совокупности составляют тематическое поле, в пределах которого находит применение арктическая дипломатия.
Норвегия – пионер арктической дипломатии
С момента прихода к власти осенью 2005 г. левоцентристского правительства под руководством Йенса Столтенберга Норвегия стала позиционировать себя в качестве ведущего арктического игрока. Своими главными конкурентными преимуществами по сравнению с другими полярными державами Осло считает технологическое превосходство в энергетической отрасли, самые строгие экологические стандарты морской нефтегазодобычи и исчерпывающий объем знаний об Арктике. Формулирование и практическое воплощение арктической стратегии было решено сосредоточить именно в руках министерства иностранных дел. Следует также отметить и значительный личный вклад тогдашнего руководителя ведомства Йонаса Гар Стёре, стараниями которого Арктика стала ведущим «брендом» норвежской внешней политики.
Первым шагом, который предпринял Стёре в разработке арктической темы, стало создание профильных административных структур в рамках общей реформы МИДа. В начале 2000-х гг. необходимость последней широко обсуждалась как в научных, так и в политических кругах Норвегии. Например, известные норвежские политологи Джонатан Мозез и Торбьёрн Кнутсен характеризовали центральный аппарат МИДа как «организационный кошмар, остро нуждающийся в институциональном переформатировании и страдающий от избыточного количества сотрудников, размытой иерархии и сохранения консервативного мышления времен холодной войны».
Весной 2006 г. 12 отделов, образующих центральный аппарат министерства иностранных дел, были «сжаты» до восьми, а оперативные полномочия руководителей отделов существенно расширены. Появился отдел политики безопасности и северных регионов, который с этого момента стал отвечать за координацию формулирования и реализации арктической политики. Дополнительно по инициативе Стёре введена должность специального советника по вопросам северных регионов/Арктики. Формально этот пост находится в самом низу бюрократической иерархии правительства из-за весьма ограниченного круга полномочий. Однако реальное влияние лица, его занимающего, на процесс принятия решений в области арктической политики довольно велико, так как советника обычно связывают прочные деловые и личные отношения с руководством отдела или даже всего министерства, которому он напрямую подчинен. Таким образом, МИД превратился в межведомственный координирующий центр региональной политики, что, бесспорно, повысило его статус в системе административной иерархии правительства Норвегии.
Первым успехом арктической дипломатии Осло стало юридическое оформление морских границ в Арктике. За относительно короткое время согласованы линии разграничения исключительных экономических зон с Данией и Исландией, что закреплено в соглашениях, подписанных в феврале и сентябре 2006 г. соответственно. Договоренности имели принципиально важное значение в связи с тем, что напрямую способствовали утверждению принципа срединной линии в качестве общепризнанного способа разграничения морских пространств в Арктике. В дальнейшем это должно было обеспечить норвежской стороне преимущество на переговорах с Россией о делимитации «серой зоны» Баренцева моря, остававшейся болевой точкой двусторонних отношений с 1970 года.
Вторым достижением стала подача в ноябре 2006 г. в профильную Комиссию ООН заявки о границах континентального шельфа Норвегии в Арктике за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны (общей площадью 235 тыс. кв. км шельфа). Цель заявки заключалась в том, чтобы обосновать непрерывность и связанность шельфа континентальной части Норвегии, острова Ян-Майен и архипелага Шпицберген. Рассмотрение завершилось в 2009 г. вынесением положительной рекомендации, которую теперь Осло мог использовать в качестве мощного аргумента для обоснования легитимности своих территориальных притязаний. Стёре назвал это решение Комиссии ООН по границам континентального шельфа историческим.
Хотя в споре относительно границы в Баренцевом море Осло не удалось добиться полного применения принципа срединной линии, подписанный 15 сентября 2010 г. Мурманский договор приходится отнести к победе скорее норвежской, чем российской дипломатии. С формальной точки зрения зона перекрывающихся притязаний в Баренцевом море площадью 175 тыс. км поделена примерно поровну. Очевидно и политическое значение данного акта: Москва и Осло подтвердили верность принципам Илулиссатской декларации 2008 г. (о мирном разрешении споров) и устранили еще один очаг напряженности в Арктике.
Однако если говорить о реальном соотношении экономических преимуществ, то оно не в пользу России. Условно формулу окончательного соглашения можно определить как «нефть в обмен на рыбу». В соответствии с ней Норвегия отказывалась от претензий на группу перспективных месторождений углеводородов на юге спорной территории, а в обмен на это российская сторона выражала молчаливое согласие с расширением зоны экономических интересов и юрисдикции Осло к востоку от Шпицбергена. Последнее следует из статьи 2 Договора 2010 г., в которой устанавливается, что «каждая сторона соблюдает линию разграничения морских пространств и не претендует на, и не осуществляет какие-либо суверенные права или юрисдикцию прибрежного государства в морских пространствах за пределами этой линии». Большинство российских экспертов, среди которых особенно следует выделить Геннадия Мелкова и Вячеслава Зиланова, безоговорочно признали эту схему ущербной для стратегических интересов Российской Федерации (в первую очередь в рыбной отрасли). Дальнейший ход событий полностью подтвердил высказанные опасения: в 2011 г. норвежская Береговая охрана задержала около семи российских траулеров, пересекавших новую пограничную линию в Баренцевом море, на том основании, что они осуществляли незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Норвегии.
Да и в энергетической отрасли выигрыш России от заключения Договора 2010 г. нельзя считать абсолютным по целому ряду причин. Во-первых, с утверждением нового контура границы в Баренцевом море некоторые месторождения нефти и газа, расположенные на российской стороне, теперь оказались трансграничными. Следовательно, для их освоения Москве теперь нужно согласование с Осло, не говоря уже о том, что норвежские компании могут начать разработку новых участков в Баренцевом море раньше российских коллег. Во-вторых, в условиях технологической зависимости отечественной нефтедобывающей отрасли от помощи из-за рубежа, когда без иностранного участия (и в первую очередь Норвегии) Россия не способна осуществить ни один крупный проект на шельфе Арктики, ее контроль над ресурсами региона остается иллюзорным. Так что есть все основания говорить скорее о наличии феномена «скрытого/неформального суверенитета» Норвегии над нефтегазовыми ресурсами Баренцева моря. В-третьих, Мурманский договор косвенно повлиял на крах Штокмановского проекта. Еще в начале 2011 г. Анатолий Виноградов, главный ученый секретарь Кольского научного центра РАН, предупреждал, что если через год-два норвежцы завершат сейсморазведку своего участка бывшей спорной зоны и к 2015 г. будут иметь возможность начать добычу на открытых здесь месторождениях, то Statoil прекратит участие в консорциуме по разработке Штокмановского месторождения. Действительно, летом 2012 г. норвежская компания покинула проект, который после этого был заморожен на неопределенный срок. Правда, официальной причиной называлось падение спроса на сжиженный природный газ, вызванное «сланцевой революцией» в США, а также отсутствие надежных технологических решений для реализации проекта.
Наконец, третьим измерением норвежской арктической дипломатии является продвижение национальных интересов в рамках профильных форумов и региональных организаций. Например, Осло вместе со своими скандинавскими партнерами стремится обеспечить утверждение Арктического совета в роли ведущего центра принятия региональных решений. Одной из практических мер в данной области стало размещение в Тромсё, неофициальной столице норвежского Заполярья, постоянного секретариата этой структуры.
Отдавая должное Арктическому совету, Норвегия не отказывается и от других инструментов регионального сотрудничества, как, например, Совет Баренцева-Евроарктического региона, созданный по ее инициативе в 1993 г., а также программа «Северного измерения», являющаяся своеобразным окном в Арктику для Европейского союза. Параллельно Осло развивает активную деятельность в рамках Международной морской организации, где лоббирует принятие Кодекса полярного мореплавания (Polar Code), который будет включать экологические и технические стандарты для судоходства в Арктике, обязательные для всех заинтересованных держав.
Можно выделить главную характеристику современной арктической дипломатии Норвегии, которая заключается в опоре на международное морское право и в частности на Конвенцию ООН 1982 года. Данный документ предоставляет Осло отличную возможность для широкого маневра в реализации стратегических приоритетов морской политики. Причем МИД Норвегии не рассматривает Конвенцию как догму, а наоборот: подходит к толкованию ее содержания творчески, делая акцент на тех положениях, которые отвечают норвежским национальным интересам, и игнорируя те, которые могут быть использованы против них.
Упрочению стратегического акцента во многом служит решение о создании на средства Фонда им. Кристиана Герхарда Йебсена Центра изучения международного морского права (ЦИМП). Задачей Центра провозглашено изучение того, «насколько международное морское право и связанное с ним национальное законодательство отвечают новым и старым вызовам, а также способствуют устойчивому развитию». Базой для ЦИМП выбран факультет права Университета Тромсё, получивший признание правительства Норвегии в качестве ведущего национального вуза в сфере арктических исследований. Хотя официально МИД не входит в число учредителей Центра, ведомство будет являться основным заказчиком большей части его разработок.
Арктическая дипломатия в стратегиях других стран
Значительные успехи норвежской арктической дипломатии, достигнутые в 2006–2010 гг., стали мощным стимулом для других полярных держав, которые также начали предпринимать меры по внешнеполитическому обеспечению стратегических интересов в Арктике. В частности, широкое распространение получила практика утверждения всеобъемлющих концепций освоения региона, ведущую роль при этом в большинстве случаев играли именно внешнеполитические ведомства.
Так, в середине мая 2008 г., накануне конференции пяти арктических держав в Илулиссате, внешнеполитическое ведомство Дании публикует проект арктической стратегии под названием «Арктика в переломную эпоху». В дальнейшем приоритеты, изложенные в этом документе, составили основу уже официальной арктической стратегии, опубликованной в августе 2011 года. В соответствии с ней за МИДом закреплялись функции председателя и секретариата организационного комитета, занимающегося мониторингом реализации утвержденных задач датской арктической политики.
В других скандинавских странах разработка программ освоения Арктики также отнесена к компетенции министерств иностранных дел. Например, в Финляндии документ был принят в июне 2010 г., в конце марта 2011 г. основы национальной арктической политики утверждены парламентом Исландии, наконец, в мае 2011 г. по случаю начала двухлетнего председательства Швеции в Арктическом совете состоялась презентация ее региональной стратегии.
Однако есть группа стран, в которых участие дипломатов в подготовке национальных арктических стратегий было сведено к минимуму. К ним относится Россия (первая редакция Основ государственной политики в Арктике разрабатывалась Советом безопасности), США (где региональные приоритеты изложены в Президентской директиве № 66 в области национальной безопасности), а также Канада (подготовкой документа занималось министерство по делам индейского населения и развития Севера). Ведомственное происхождение арктических стратегий трех указанных стран оказывает безусловное влияние на их содержание, которое по сравнению с подходами скандинавских государств оказывается больше ориентированным на решение внутриполитических задач. Возможно, это обусловлено относительным географическим единством России, США и Канады. В этих странах значительные по площади участки континентальной суши, имеющие большое значение для внутреннего социально-экономического развития и военной безопасности, расположены за Полярным кругом.
Вторым ключевым индикатором институционализации арктической дипломатии является создание (опять же по примеру Норвегии) профильных административных структур в рамках внешнеполитических ведомств. Например, в Дании в январе 2012 г. для обеспечения координации арктической политики введена должность посла по вопросам Арктики, и, по словам руководителя внешнеполитического ведомства Дании Вилли Сёвндаля, Копенгаген «посылает важный сигнал остальному миру, подчеркивая стремление Королевского содружества играть роль активного и значимого актора в международных дискуссиях о будущем Арктики, которые в последние годы набирают все большую силу».
В Финляндии вся работа по подготовке концептуальных основ национальной арктической стратегии была поручена консультативной группе по вопросам Арктики, созданной в апреле 2010 г. при аппарате премьер-министра. Ключевые позиции в ней заняли именно представители МИДа. В апреле 2013 г. сроки полномочий этой группы подошли к концу, и по результатам трехлетнего мониторинга она должна подготовить вторую обновленную редакцию арктической стратегии. Кроме того, непосредственно внутри МИДа Финляндии активную работу по продвижению региональных интересов ведет отдел Северной Европы. В 2012 г. его специалисты подготовили фактически рекламную брошюру под названием «Арктические возможности Финляндии», в которой систематизирован технологический опыт финских компаний в судостроительной и нефтегазовой отраслях, позиционируемый как главное конкурентное преимущество Финляндии относительно других полярных держав.
Институционализация арктической дипломатии нагляднее всего просматривается на примере внерегиональных заинтересованных держав. Так, в сентябре 2010 г. в структуре японского МИДа появилась рабочая группа по Арктике, на которую возложен комплексный анализ и мониторинг изменений в экономике, безопасности, экологии и международном морском праве. В начале 2012 г. к ее деятельности подключился Японский институт международных отношений, который начал проведение исследовательского проекта по формулированию основных положений дипломатической стратегии Токио в Арктике.
В Форин-офисе Соединенного Королевства компетенцией в вопросах арктической политики наделен отдел полярных регионов, который в декабре 2012 г. преобразован в департамент, получив тем самым более высокий административный статус. Фокус работы департамента полярных регионов традиционно сосредоточен на сохранении британских интересов в Антарктиде и прилегающих к ней территорий (островов Южного Георгия и Южных Сандвичевых островов). Однако с недавнего времени арктическое направление стало занимать более заметное положение в рабочей повестке дня указанного ведомства, особенно после того как в январе 2012 г. в Палату общин был представлен проект арктической стратегии Великобритании.
Арктическая дипломатиЯ России: Перспективы развития
Как уже отмечалось выше, Россия пока крайне пассивно использует возможности арктической дипломатии, что не согласуется с огромным ресурсным потенциалом и ролью страны в регионе. Правительство должно разработать принципиально новый курс продвижения интересов России в Арктике. Москва должна стремиться перехватить стратегическую инициативу в определении динамики и путей развитии региона.
Учитывая рассмотренный выше опыт других полярных стран, стоит поднять вопрос о придании российскому МИДу более широких полномочий в реализации арктической политики. Так, целесообразно создание в министерстве отдельного подразделения по вопросам развития Арктики и Антарктики, например на базе 2-го европейского департамента, занимающегося странами Северной Европы.
Содержательный аспект арктической дипломатии также следует подвергнуть тщательной ревизии. Сегодня на этом направлении российская дипломатия по-прежнему опирается на чисто политические механизмы взаимодействия с региональными игроками (переговоры, консультации, работа в рамках международных организаций), по возможности стараясь апеллировать к статусу «великой державы». К сожалению, сегодня этого недостаточно для реализации региональных приоритетов даже в минимальном объеме. Учитывая, какое огромное значение все заинтересованные страны (особенно Норвегия) придают вопросу правового регулирования Арктики, Москве обязательно следует сделать акцент на международном праве.
В чем причина крупных достижений арктической дипломатии Норвегии? Именно в том, что Осло заблаговременно облекал свои государственные амбиции и претензии в юридическую форму (главным образом ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.), что придавало им легитимность в глазах большинства членов международного сообщества. А затем эти амбиции претворялись в жизнь уже путем двусторонних переговоров, лоббирования интересов в профильных структурах ООН, поддержки со стороны США и других партнеров по НАТО.
России также следует научиться с выгодой для себя толковать международно-правовые акты, потому что в этом случае шансы на достижение целей отечественной арктической политики существенно возрастают. Среди них можно выделить главным образом обеспечение международного признания за Россией права осуществлять финансовое регулирование Северного морского пути (обращаясь к статьям 26 и 127 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., допускающим взимание сборов с иностранных судов за конкретные услуги и обосновывая их связанность со статьей 234 о праве прибрежного государства на принятие недискриминационных мер в регулировании судоходства). Кроме того, применение международно-правовых и политических рычагов потребуется для окончательного согласования с Данией и Канадой внешних пределов континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.
Также МИД России может использовать свои возможности для привлечения иностранных судоходных компаний к использованию Северного морского пути, поддержания экспорта российских арктических технологий, а также повышения политического имиджа страны в Арктике.
* * *
По мере расширения международного внимания к Арктике практика использования дипломатических инструментов для продвижения интересов в регионе будет получать все большее распространение. Некоторые страны стали формировать индивидуальный стиль регионального поведения. Например, Норвегия подчеркивает свое первенство в накоплении научных знаний об Арктике, а также в применении самых строгих стандартов добычи ресурсов на шельфе. Финляндия традиционно позиционирует себя как эксперта в области ледовых технологий в судостроении. Дания выступает форпостом Европейского союза в Арктике. Исландия же претендует на роль проводника интересов внерегиональных игроков (Китая, Японии, Южной Кореи), а также центра морских транзитных перевозок в Арктике.
России как самому крупному игроку на арктическом пространстве также необходимо немедленно заняться вопросом региональной самоидентификации и более активным продвижением своих стратегических интересов.
Структура современной арктической дипломатии обычно включает три измерения. Во-первых, это международные и/или региональные организации, как, например, Международная морская организация (IMO), Арктический совет, Совет Баренцева-Евроарктического региона. Второе измерение образуют диалоги на межправительственном уровне. И, наконец, третье – международная публичная сфера – пресс-конференции, форумы, семинары по проблемам Арктики, в рамках которых представители дипломатических ведомств знакомят широкую аудиторию с результатами и планами национальной арктической политики, а также осуществляют контакты по линии предпринимательского и научно-экспертного сообществ как внутри, так и за пределами своих стран. Безусловно, соотношение указанных измерений варьируется в зависимости от содержания конкретного регионального подхода.
По уровню интенсивности арктической дипломатии можно судить о степени практической заинтересованности той или иной страны. Если попытаться составить условную иерархию акторов, вовлеченных в «большую арктическую игру», то место лидера следует отдать Норвегии. На пятки ей наступает Китай, который с 2012 г. развернул самую бурную деятельность в Арктике по сравнению с остальными внерегиональными державами (Японией, Южной Кореей, Сингапуром). Второй эшелон занимает группа скандинавских стран – Исландия, Дания, Швеция и Финляндия, амбиции и достижения которых носят более умеренный локальный характер. Как ни парадоксально, но наиболее пассивными игроками выступают «тяжеловесы» – Россия, США и Канада, на долю которых приходится подавляющая часть сконцентрированных в регионе ресурсов. Тем не менее данную диспозицию ни в коем случае нельзя считать статичной: в перспективе положение акторов вполне может изменяться в зависимости от предпринимаемых ими действий.
Д.С. Тулупов – преподаватель факультета международных отношений СПбГУ.
Власти Исландии могут в ближайшее время отказаться от заявки на членство в Евросоюзе, передает в четверг агентство Франс Пресс.
Поводом для такого шага может стать мнение, которое выразили советники исландского правительства по конституционному праву. Как сообщили юристы, официальный Рейкьявик уже не связан обязательствами по продолжению переговоров о вступлении в ЕС, за которые проголосовал парламент в 2009 году. "Исходя из этого, министр иностранных дел рассматривает возможность роспуска комитета по переговорам", - говорится в заявлении исландского МИД.
Переговоры о вступлении Исландии в ЕС приостановлены в середине января в преддверии парламентских выборов. Переговоры не возобновились, поскольку на выборах победила правоцентристская коалиция, состоящая из евроскептиков.
Исландия, население которой составляет 320 тысяч человек, летом 2010 года подала заявку на членство в ЕС после банкротства крупнейших банков страны из-за огромных долгов, значительно ухудшившего ситуацию в экономике. Мировой финансово-экономический кризис вынудил Рейкьявик искать убежища в Евросоюзе после десятилетий сомнений относительно целесообразности членства в ЕС.
Фарерские острова не снизят квоты без боя
Фарерские острова уведомили Евросоюз о том, что они намерены требовать созыва международного трибунала в связи с введением «сельдевых» санкций. Фареры хотят вернуть себе право поставлять сельдь и макрель в страны ЕС.
Ближайшее международное обсуждение проблемы назначено на 2-3 сентября. В дискуссии примут участие Фарерские острова, Евросоюз, Норвегия, Россия и Исландия. Как сообщает корреспондент Fishnews, главной темой должно стать справедливое распределение квот на добычу атланто-скандинавской сельди.
С 1 августа начали действовать торговые санкции Евросоюза на импорт сельди и макрели, добытых фарерскими рыбаками, а также транзит этих уловов через порты стран ЕС.
Фареры обвинили Европейский союз в нарушении обязательств, принятых после подписания Конвенции ООН по морскому праву, и потребовали немедленно прекратить экономическое давление. Правительство Фарерских островов ссылается на 7-е приложение к конвенции, согласно которому наложение санкций – преждевременная мера, так как диспут по проблеме еще не завершен. Фареры считают, что действия ЕС подрывают желание к сотрудничеству, необходимому для достижения компромисса по квотам.
Исландия поддерживает Фарерские острова в их намерении созвать международный трибунал, так как наложение санкций может отразиться и на исландской рыболовной отрасли. Премьер-министр этой страны Сигмундур Давид Гуннлаугссон заявил, что Евросоюз своим решением нарушил ряд обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву и общим международным правом. По мнению премьер-министра, ЕС также пренебрег некоторыми требованиями Всемирной торговой организации, а также Европейского экономического пространства, в которое входит Исландия.
Таким образом, Фарерские острова и Исландия пытаются заставить Европейский союз снять наложенные санкции и продолжить переговоры по сельдевым квотам без выдвижения предварительных условий.
Китайский сухогруз вышел в первый в стране коммерческий рейс по Северо-Восточному морскому пути, пишет FT. Судно Yong Sheng, принадлежащее государственной китайской компании Cosco, вышло из северо-восточного порта Далянь в Роттердам.Маршрут, проходящий через Берингов пролив, может сэкономить до 15 суток пути, по сравнению с традиционным, пролегающим через Суэцкий канал и Средиземное море. Это возможно благодаря климатическим условиям.
Сокращение времени транспортировки означает значительную экономию топлива.
Кроме того, овый маршрут позволит избежать прохождения опасных вод Индийского океана и Красного моря, где орудуют пираты.
Следует отметить, что Китай недавно получил статус наблюдателя в Арктическом совете - группа стран, в которую входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.
Северо-Восточный маршрут (или Северный морской путь) последнее время привлекает к себе все большее внимания судоходных компаний, поскольку изменения климата открывают водный проход на более длительный срок, чем это было раньше.
Российские власти в этом году выдали 372 разрешения на проход по нему иностранных судов, в то время как по итогам минувшего года было выдано 46 транзитных документов, а в 2010г. - всего лишь 4 лицензии.
Сообщается, что арктическое судоходство развивается быстрее, чем любые другие отрасли экономики в этом регионе, включая разведку полезных ископаемых такими компаниями, как Dutch Shell и Cairn Energy.
Между тем аналитики скептически относятся к коммерческой жизнеспособности проекта Северного морского пути из-за его сезонности. В качестве примера приводится главный конкурент - Суэцкий канал, через который только в 2012г. прошло 17 тыс. судов.
Здесь был Штирлиц
Как знаменитая киностудия ДЕФА сумела пережить падение Берлинской стены и клиническую смерть гэдээровского кинематографа
На Берлинской киностудии «Бабельсберг» закончились съемки «Монументальных мужчин», одной из наиболее ожидаемых картин года. В этом проекте со стомиллионным бюджетом Джордж Клуни выступил в трех ипостасях — режиссера, сценариста и актера. На «Бабельсберге» вздохнули с облегчением: с начала года тут снимаются одновременно пять-шесть международных проектов, что по сравнению с прошлым годом заметный прогресс. Студия напрягает все силы, чтобы удержаться в лидерах восточноевропейского рынка технических услуг кинопроизводства.
Под знаком свастики
С «Бабельсберга» начинался кинематограф в Германии: в прошлом году эта студия отпраздновала столетний юбилей. На постсоветском пространстве таких кинопредприятий, как это, немного: чешский «Баррандов» да, пожалуй, стремительно набирающий вес кинокомплекс в Будапеште. Хотя история не щадила берлинскую киностудию, за свои сто лет она пережила монархию, Веймарскую республику, нацизм и социализм, национализацию, «народную демократию», пьянящую свободу начала 90-х, сменившуюся поиском «руки дающей»… И вот живет в нынешние кризисные времена и даже развивается. В чем ее секрет?
...Темные аллеи Бабельсбергского парка, длинная и прямая, как стрела, улица Августа Бебеля, а вот и главный вход в студийный комплекс (около 25 тысяч квадратных метров). На проходной — экран, на котором светятся названия пяти международных проектов, которые сейчас снимаются в пригороде Берлина. «Вы к Эйке Вольфу? — интересуется дама-вахтер, имея в виду главу пресс-службы студии, и с удовлетворением продолжает: — В прошлом году дела у нас шли ни шатко ни валко, а в этом — прямо как прорвало: съемки за съемками».
Пока мы проходим к огромному павильону имени Марлен Дитрих, одному из первых, с которых начиналась студия, Эйке Вольф объясняет, почему без «Бабельсберга» невозможно представить немецкий культурный ландшафт XX века и, безусловно, немецкое кино. Еще в 1895 году, за два месяца до того, как братья Люмьер показали в Париже свою первую короткометражку «Прибытие поезда», в берлинском дворце Винтергартен братья Складановские удивили публику просмотром коротких лент, используя собственное изобретение — биоскоп. Впрочем, биоскоп оказался слишком дорогим, и проектор Люмьеров быстрее завоевал рынок. Но уже в 1912 году в пригороде Берлина Бабельсберге, летней резиденции принца Вильгельма I, будущего кайзера, появилась одна из первых немецких кинокомпаний «Дойче биоскоп», с которой и началась история берлинской студии. В 20-е годы и в начале 30-х студия снимала добрую сотню картин в год, в их числе был и культовый «Метрополис» Фрица Ланга. Между прочим, он стал одним из любимых фильмов Гитлера. Социальный триллер о живущих в роскоши богачах и о «нижнем слое» — рабочих, которые всю жизнь проводят под землей, не представляя, что существует белый свет, вероятно, напоминал фюреру о его идеале «орднунга». Фильм был самым дорогим и масштабным проектом за всю историю немецкого немого кино (11 тысяч человек участвовали в массовке!) и чуть не разорил студию… В 1924-м здесь же снимал одну из своих картин король саспенса Альфред Хичкок, признавшийся позднее, что многому научился у немецких режиссеров. Начиная с 1933-го студия стала любимой игрушкой Йозефа Геббельса, министра пропаганды Третьего рейха. Артисты жили рядом, в Бабельсберге. Здесь разыгрался сюжет вполне кинематографического свойства: в одном из коттеджей, который прятался в тени соснового бора, Геббельс тайно встречался с чешской кинозвездой Лидой Бааровой. Роман зашел так далеко, что тайное стало явным, и жена Геббельса Магда попросила Гитлера вмешаться. Прекрасной Бааровой велели покинуть Германию как можно скорее, чешке пришлось вернуться на родину. Однако их встречи с Геббельсом продолжались — уже на «Баррандове», который после оккупации Чехословакии курировал нацистский министр пропаганды…
На службе мира и социализма
После войны киностудия, названная ДЕФА (сокращение от Deutsche Film-Aktiengesellschaft, «Немецкое кинопроизводство»), стала одной из ведущих в Восточном блоке. За более чем сорок лет ее существования при коммунистах здесь было снято около 800 художественных фильмов для взрослой аудитории и порядка 150 детских. Тамара Трампе, бывшая редактором и сценаристом ДЕФА начиная с 1970-го и до закрытия студии в 1990-м, рассказывает:
— Поначалу мы снимали исключительно антифашистские ленты — время было такое. Но потом появилась возможность делать детские сказки, вестерны (кальку с американских), фильмы про индейцев (эту тему разрабатывали до 1983 года), телесериалы. Наши фильмы смотрели во всем соцлагере, на них росли поколения, как на Майн Риде или Жюле Верне, и мы выпускали, как мне кажется, достойный продукт. В других странах соцлагеря нам завидовали — уровень жизни в ГДР тогда был повыше, чем у соседей, мы были лучше одеты, ездили в отпуск за границу, как будто и не было железного занавеса. А о том, что Штази контролирует каждый наш шаг — с кем встречаемся, кого слушаем, о чем мечтаем, — знали немногие. А нас держали на коротком поводке...
Одним из первых телесериалов ГДР была показанная в 1967 году лента «Красные альпинисты». Фриц Диц, более известный советским зрителям по роли Адольфа Гитлера в киноэпопее «Освобождение», сыграл главного подпольщика-антифашиста. Любопытно, что поляки тут же вступили в «соцсоревнование» и в том же году выпустили сериал «Ставка больше, чем жизнь» о польском разведчике капитане Клоссе со Станиславом Микульским в главной роли. Естественно, Большой Брат не мог отстать, и в апреле 1971-го в Потсдаме и Берлине начали снимать один из первых и едва ли не самый успешный советский сериал — «Семнадцать мгновений весны». Фильм курировал сам Юрий Андропов, и задача стояла «догнать и перегнать», чтобы герои-разведчики из соцстран померкли перед образом нашего Максима Максимовича Исаева. «Здесь, в Бабельсберге, недалеко от Потсдама, в своем коттедже он жил один» — это фраза из столь любимых всеми «Мгновений». Туристам до сих пор показывают один из коттеджей, который якобы фигурировал в фильме. Вообще истории, связанные с культовым сериалом, стали частью мифологии «Бабельсберга». Многие бывшие сотрудники ДЕФА вспоминают жесточайшую экономию, которая царила в группе Татьяны Лиозновой. Советские кинематографисты взяли с собой в ГДР почти весь возможный реквизит, в том числе и «Мерседес» времен войны. Немецкие механики смотрели на машину и скептически качали головами… И в первый же съемочный день «мерс» заглох, пришлось просить другую машину из гаража ДЕФА. Художник по костюмам, запасливая женщина, привезла из Союза несколько десятков ящиков одежды для героев фильма. Стирать все это не предполагалось, грязные костюмы просто отправляли поездом на родину. Бывали и комические ситуации: однажды Вячеслав Тихонов вышел из гостиницы в форме штандартенфюрера, поскольку до съемочной площадки можно было дойти пешком, но его остановили бдительные горожане и хотели препроводить в полицию за «пропаганду нацизма». Спасли Тихонова, который не смог объясниться с немцами, другие актеры, рассказавшие немцам об идее фильма. С тех пор герой «Мгновений» стал фольклорным персонажем, со всеми вытекающими последствиями: по студии ходили анекдоты о бессмертном разведчике — в СССР они появились позже...
Рассказывая о ДЕФА, Тамара Трампе вспомнила самую эффектную пару студии — Дина Рида и Ренату Блюме (советские зрители знали Ренату по роли Женни Маркс в фильме «Карл Маркс. Молодые годы» и по сериалу «Телефон полиции 110»). Она — красавица, ведущая актриса ГДР, одна из любимиц Эриха Хонеккера. Он — пламенный борец за мир, бунтарь из Колорадо по прозвищу Красный Элвис, гораздо более популярный в соцстранах, чем у себя на родине. Дружба с Хонеккером открыла американцу двери ДЕФА и обеспечила лучшие роли — к примеру, он сыграл Виктора Хару в фильме «Певец» (1978). Дин и Рената играли вместе в фильме «Кит и Ко» (ГДР — ЧССР — СССР), с этой совместной работы и началась их трагически оборвавшаяся любовь. В 1986 году, в июле, должны были начаться съемки «Окровавленного сердца», где Дин Рид получил одну из заметных ролей. Но певца нашли на берегу озера, где стоял его дом, без признаков жизни. Власти объявили — самоубийство, но тайна смерти певца и актера до сих пор остается неразгаданной. «Дин был под колпаком у Штази. Искренний и цельный, он действительно верил в светлые идеалы. Но когда он познакомился и сблизился с первыми лицами ГДР и увидел, что на самом деле они прожженные циники, он, как мне кажется, сломался. Он собирался вернуться в США. Возможно, Штази это просто предотвратили», — предполагает Тамара Трампе.
Суровое новое время
После объединения Германии в 1990-м ДЕФА была закрыта. Рената Блюме вспоминает, что появились представители западногерманской службы, отвечающей за приватизацию имущества бывшей ГДР, и всех, вплоть до секретарш, выкинули на улицу. По мнению актрисы, все было сделано бессердечно и слишком поспешно, две с половиной тысячи штатных сотрудников остались без работы: «Слить в одночасье две страны, два общества, которые десятилетиями были изолированы друг от друга, оказалось рискованным экспериментом. И после эйфории наступило похмелье. Мне повезло, для меня нашлись роли в театре, но многие восточногерманские актеры просто ушли из профессии. Все это было больно и обидно».
В ходе приватизации в 1992-м году берлинскую киностудию, тогда и переименованную в «Бабельсберг», купила французская компания Vivendi Universal. Французам повезло: одна из лучших студий в Европе оказалась у них в руках. Они взялись за техническое перевооружение, вложив около 500 миллионов евро. В конце 90-х здесь в основном снимались телесериалы, но мир не давал Германии забыть и ее прошлое: где, как не в Берлине, было снимать военные фильмы спустя 50 лет после войны? Так появились, например, картина «Враг у ворот» Жан-Жака Анно и «Пианист» Романа Поланского… Но несмотря на техническую модернизацию и большие возможности, студия оставалась убыточной — Vivendi Universal теряла по миллиону в год, и в 2004-м «Бабельсберг» продали немецкой инвестиционной группе FBB. Новые владельцы провели акционирование, привлекли инвесторов, которые вложили очередные 8 миллионов евро в технику, сменили менеджмент. Усилия наконец стали приносить плоды. И 2007 год оказался переломным — на «Бабельсберге» было снято 12 международных проектов, в том числе «Операция «Валькирия» — о попытке покушения на Гитлера c Томом Крузом в роли фон Штауффенберга, «Чтец» с Кейт Уинслет, «Спиди-гонщик» братьев Вачовски и другие. Годовая продукция made in Babelsberg в итоге принесла 90 миллионов евро в прокате, чистая прибыль студии составила тогда около 6 миллионов евро. Но следующий год опять оказался тяжелым — после банкротства Lehman Brothers многие крупные компании вышли из игры, намеченные проекты рассыпались как карточные домики. Надо было искать новые пути…
Обучение бизнесу
В кризисный 2008-й киностудия вместе с голливудским «тяжеловесом»-продюсером Джоэлом Силвером разработала стратегический план продвижения «Бабельсберга». Теперь агенты студии — частые гости в Голливуде, работающие на перехвате перспективных сценариев и крупнобюджетных проектов, убеждающие режиссеров снимать в Берлине. Правда, пока из десяти проектов только один в итоге попадает на «Бабельсберг», а расходы студия несет немалые. Однако стратегия не меняется и начинает давать результаты. Рекордным стал в 2011 году стомиллионный «Облачный атлас» Энди и Ланы Вачовски с Холли Берри и Томом Хэнксом. Сейчас «Бабельсберг» представляет собой холдинг, состоящий из 29 компаний, берущихся за продакшн «от и до». Например, когда на студии появился Квентин Тарантино со сценарием «Бесславных ублюдков», весь цикл работ было решено провести на «Бабельсберге». Однако от проката по этому контракту немцы не получили ничего. С фильмом «Чтец» было уже по-другому: студия вложила около 20 процентов бюджета и даже что-то заработала. «Невозможно финансировать картину из одного источника — никто не хочет рисковать. Гораздо больше шансов набрать необходимую сумму, подключив несколько компаний-инвесторов, как было сделано для снимающихся сейчас у нас фильмов «Отель «Гранд Будапешт» или «Рейкьявик», — поясняет один из директоров студии Карл Вебкен.
Берлинская студия может рассчитывать и на государственную программу помощи отечественной киноиндустрии. Тарантино, потративший на «Ублюдков» 40 миллионов евро, получил в качестве налоговых скидок 9 миллионов возврата. Госфильмофонд Германии (DFFA), возмещает кинематографистам от 16 до 20 процентов затрат, если как минимум четверть бюджета была потрачена в Германии. Если же здесь было отснято более 35 процентов фильма, то продюсеры могут претендовать на грант от правительства от 4 до 10 миллионов евро. Для Западной Европы это существенно: немцы возвращают больше всех. Но и в Венгрии, где в прошлом году недалеко от Будапешта построили за 76 миллионов долларов Korda Film Studios , зарубежным съемочным группам гарантируют возврат 20 процентов бюджета. Если учесть, что средние зарплаты в Венгрии гораздо ниже, чем в Германии (соответственно, массовке и службам надо платить чуть ли не вдвое меньше), и в Будапеште можно снимать Лондон, Париж или Рим — архитектура позволяет, — то шансы в соперничестве у берлинской киностудии с венграми или чехами из «Баррандова» не очень высоки.
«Не хочу обидеть коллег из Восточной Европы, но качество наших декораций и материалы выше уровнем. Многие мастера тут работают по сорок с лишним лет, так что самая большая гордость «Бабельсберга» не в том, что у нас снимаются Том Круз или Кейт Уинслет. Главное, что с нами остаются наши лучшие специалисты. Мы можем подготовить не самые плохие декорации: к «Анониму», посвященному загадочной истории Шекспира, например, они стоили 10 миллионов евро, и потом еще несколько картин использовали «шекспировский» уголок студии. Если снимать у нас стоит и дороже, чем в Восточной Европе, то можно выгадать за счет лучшей организации работы: у нас понадобится меньше съемочных дней», — уверяет глава пресс-службы «Бабельсберга».
Да, техническое оснащение студийных помещений (везде Wi-Fi) или суперсовременная аудиостудия — предметы обоснованной гордости «Бабельсберга». В 2011-м здесь сняли, к примеру, первый в Германии фильм 3D — «Мушкетеры», студия может предложить технологию green/blue screen, когда актеров снимают на зеленом или голубом фоне, а потом добавляются компьютерные спецэффекты. Вокруг студии сконцентрировано порядка 130 медиакомпаний, которые участвуют в раскрутке картин. Да и ежегодный Берлинале добавляет Берлину гламурности… Студия вкладывает средства и в Потсдамский музей кино, и в парк развлечений, чтобы привлечь в Бабельсберг туристов, — все средства хороши, когда речь идет о возможной выгоде.
…В прошлом году прибыль «Бабельсберга» составила 535 тысяч евро. Это не блестящий результат, в сущности — просто самоокупаемость. Но в кризис и это — достижение.
Берлин
Елена Зигмунд
Планы увеличить налоговое обложение алкогольных напитков на 5% были обозначены в отчете норвежского министерства финансов. В документе сообщается, что подобные меры могут уменьшить потребление алкоголя в стране на KR469 млн (£51.7 млн), однако также могут спровоцировать скачок контрабанды, который составит около KR82 млн (£9 млн), пишет Vinum
«Увеличение налога на алкоголь снизит потребление в Норвегии алкогольных напитков», — сообщается в письме министерства финансов министерству здравоохранения.
В Норвегии уже один из самых высоких в мире налогов на алкогольную продукцию: KR415 (£45.80) на каждый литр чистого спирта. Это второй по величине налог в мире — пальму первенства удерживает Исландия, где налоги держатся на уровне KR 461 (£50.90) за тот же объем. Британский налог на алкоголь в пересчете на такую модель составлял бы KR230 (£25.40) — то есть вдвое меньше, чем в Исландии.
На настоящий момент неизвестно, осуществит ли правительство планы по поднятию налогов. Четиль Лунд, государственный секретарь в министерстве финансов, назвал разговоры об этом спекуляциями и добавил, что правительство еще не пришло к единому мнению о плане налогообложения в 2014 году. «Мы не комментируем подобные спекуляции. История показывает, однако, что в большинстве случаев налоги на алкоголь мы не увеличивали», — сказать он в заключение.
О состоянии российского рыбопромыслового флота и промыслового судостроения
Сегодня отечественные судостроители не могут предложить рыбодобытчикам какой-либо конкурентоспособный продукт, поэтому заверения о возможности строить в России современные рыбопромысловые суда вызывают большие сомнения.
Несмотря на проблематичность получения в настоящее время необходимых достоверных данных, ОАО «Гипрорыбфлот» за счет собственных средств, используя все доступные источники информации, продолжает ведущуюся в нем уже многие десятилетия работу по учету и ежегодному анализу состава рыбопромыслового флота России. Некоторые итоги такого анализа в отношении флота добывающих судов с мощностью главных двигателей 55 кВт и более по состоянию на 01.01.2012 года представлены ниже.
На рисунке 1 приведена диаграмма динамики изменения численности добывающих судов и доли в их составе судов со сверхнормативным сроком эксплуатации (СНС).
Прослеживается общая (с некоторыми вариациями) тенденция к сокращению численности флота. С 1995 по 2012 гг. количество добывающих судов сократилось на 28%. Однако, по оценкам института, имеющиеся промысловые мощности флота пока еще продолжают оставаться избыточными по отношению к заданным «Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» (далее Стратегия) на текущий период объемам вылова.
В таблице 1 приведены сведения о пополнении рыбопромыслового флота за 2002-2011 гг., а на рисунке 2 – соответствующие диаграммы.
Пополнение осуществлялось в основном (около 88%) бывшими в эксплуатации судами иностранной постройки. Доля судов новостроя составила около 12%, а судов новостроя, построенных в России, – около 10%. Причем из 52 судов, построенных в России, 50 единиц являются малыми и маломерными, и только 2 судна – среднетоннажные, построенные в 2002-2003 гг.
За рубежом новые суда заказывались в незначительном количестве – за 10 лет всего 11 судов, одно из которых – крупное, 6 – средних и 4 малых.
Основная часть флота (71,1%) сосредоточена на Дальневосточном бассейне. Доля численности флота остальных бассейнов составляет: Северного – 15,8%, Западного – 8,3%, Азово-Черноморского – 2,9%, Каспийского – 1,9%.
Доля судов, имеющих возраст, превышающий нормативный срок службы, неуклонно возрастает и к 2012 году достигла 89%, в то время как в 1995 г. она составляла 42%.
Средний возраст добывающих судов российского рыбопромыслового флота приведен в таблице 2.
Наиболее старый флот эксплуатируется на Западном (97,6% судов СНС) и Каспийском (97,4% судов СНС) бассейнах.
В связи с этим можно отметить, что средний возраст российских добывающих судов, составляющий около 27,5 лет, находится на уровне флота ЕС, Исландии и Норвегии, где в условиях экономического кризиса вместо строительства новых судов судовладельцы в значительной степени переориентировались на проведение модернизации уже имеющихся судов. Однако состояние иностранного судна предельного возраста и российского, как говорится, «две большие разницы». В развитых зарубежных странах имеется отлаженный рынок качественного технического обслуживания, ремонта и модернизации судов, что позволяет значительно увеличить сроки их эффективной эксплуатации. В России же такой рынок практически отсутствует, а необходимое для модернизации современное судовое оборудование не производится. Закупка оборудования и выполнение работ по модернизации за рубежом из-за высоких ввозных пошлин не по карману мелким компаниям, составляющим подавляющее большинство российских судовладельцев. В связи с этим значительное количество судов работает без должного технического обслуживания и модернизации, что влечет за собой их более быстрый износ и препятствует эффективной эксплуатации.
Качественное изменение состава российского добывающего флота за последние 10 лет характеризуется сведениями об изменении удельных значений основных технико-эксплуатационных характеристик судов.
Удельное полное водоизмещение судов по всему флоту, а также крупным, большим и средним судам оставалось на стабильном уровне, а по малым и маломерным судам имело тенденцию роста на 10% и 6% соответственно. Это обусловлено, по-видимому, тем, что в пополнении флота преобладали малые и маломерные суда, имеющие большее водоизмещение, чем списываемые старые суда аналогичного типа.
Удельный объем грузовых трюмов с 2004 года оставался на стабильном уровне для крупных и больших судов, а для судов остальных типов имел заметный рост. Это может говорить о том, что поступавшие в состав флота средние, малые и маломерные суда по данному показателю превосходили списываемые.
Удельная мощность главного двигателя в целом по флоту выросла на 2%. Если удельная мощность ГД на крупных судах не менялась, так как их обновление практически не осуществлялось, то по остальным судам наблюдался ощутимый рост данного показателя, особенно по группе малых судов (более 20%).
Происходящее постепенное сокращение численности флота определило некоторые положительные тенденции в изменении качественных показателей его работы. Так, за последние 10 лет почти в 1,6 раза увеличился удельный вылов на одно судно и на кВт мощности главных двигателей и почти в 1,8 раза увеличился удельный вылов на одну тонну водоизмещения и на одного члена экипажа.
В то же время основу добывающего флота страны продолжают составлять суда, построенные еще в советский период, т. е. 25-35 лет назад, и списание их неизбежно. Поэтому можно предположить, что численность добывающего флота в ближайшие годы приблизится к оптимальной с точки зрения соответствия его промысловых мощностей доступным сырьевым запасам российской экономической зоны, однако убыль старых судов продолжится. При этом во избежание потерь объемов добычи и закрепленных за ними долей квот вылова судовладельцы будут искать возможность обновления флота, которое может производиться путем модернизации имеющихся судов, покупки судов на вторичном рынке, в том числе с последующей их модернизацией, либо строительства новых судов.
Модернизация имеющихся судов из-за плохого технического состояния большинства из них может быть эффективным инструментом только на ближайшую перспективу в 5-10 лет и не решает вопроса обновления флота.
Приобретение судов на вторичном рынке с их модернизацией является приемлемым вариантом для поддержания состояния флота на минимально необходимом уровне, так как эти суда хоть и не являются новыми, но имеют более высокие технико-эксплуатационные характеристики в сравнении со списываемыми судами и смогут эффективно работать еще 10-20 лет в зависимости от их возраста.
Приобретение новых современных судов является наиболее оптимальным вариантом обновления флота, так как обеспечивает перспективу эффективной эксплуатации судна на 20-25 лет.
Вопрос способа обновления своего флота находится полностью в компетенции судовладельца и зависит от выбранных им в своей деятельности приоритетов. При этом его интересы, как правило, в первую очередь направленны на извлечение наибольшей прибыли от эксплуатации судов и не всегда могут совпадать с интересами государства, заинтересованного также в развитии на своей территории различных отраслей промышленности, связанных с рыболовством, в частности – промыслового судостроения.
Сегодняшнее общее состояние российского судостроения описано в «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», а также в ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы и всем известно. Можно лишь дополнить картину следующей информацией о постройке в России судов рыбопромыслового флота.
На территории Россииисторически располагались мощности промыслового судостроения, предназначенные для строительства только малых и маломерных, а также нескольких типов среднетоннажных судов. Однако в последние десятилетия даже эти незначительные мощности практически не были задействованы из-за отсутствия заказов со стороны раздробленных рыбохозяйственных предприятий.
Большинство судостроительных заводов, строивших ранее большими сериями средние и малые рыбопромысловые суда, утратили эту функцию (ОАО «Николаевский-на-Амуре ССЗ»; ООО «Сретенский ССЗ»; ОАО «Астраханская судостроительная верфь»; ОАО «Волгоградский ССЗ»; ЗАО «Азовская судоверфь»; ОАО «Рыбинская верфь»; Ейский СРЗ, АО «ССЗ «Остон»; ОАО «ССЗ «Авангард»).
За счет модернизации проектов маломерных судов, выпускавшихся еще в советское время, удалось выжить ОАО «ССЗ им. Октябрьской революции», на котором, хоть и в небольших количествах, продолжают строить малые рыболовные сейнеры пр. 1338 в обновленной комплектации.
ОАО «Ярославский ССЗ» поддержал производство за счет получения в 2009-2012 гг. заказов из Норвегии на постройку нескольких малых рыболовных сейнеров.
Был предпринят ряд попыток осуществлять строительство в основном маломерных рыболовных судов на предприятиях, ранее не имевших такого опыта (ЗАО «Приморский межколхозный СРЗ»; ОАО «Восточная верфь»; ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»; ОАО «Амурский ССЗ»; ОАО «Петропавловская судоверфь»; ОАО «Дальзавод»; ГМП «Звездочка»; ОАО «Ахтарская судоверфь»). Однако, судя по тому, что построены здесь были только единичные суда, такие попытки не имели большого успеха.
На ОАО «Выборгский судостроительный завод» в 2003-2004 гг. было построено 7 корпусов больших и средних рыболовных судов для заказчиков из Норвегии, Дании и Ирландии. Но после этого заказы промыслового судостроения здесь не выполнялись.
Единственной за последние годы попыткой начать в России строительство современного среднетоннажного рыбопромыслового судна для российского заказчика является закладка в мае 2012 года на ОАО «Пела»ярусника длиной 47,5 м. Однако проект судна разработан английской фирмой по норвежскому прототипу и практически все его комплектующее оборудование – импортное, т.е. Россия является только местом сборки судна, а не его создания. Кроме того, отсутствует информация о стоимости и системе финансирования данного проекта, а также о гарантированном источнике обеспечения судна квотами вылова после его ввода в эксплуатацию. В связи с этим судить о конкурентоспособности данного судна и дальнейшем использовании опыта его создания при обновлении отечественного флота затруднительно.
Внутренний рынок услуг в области проектирования современных рыбопромысловых судов в России резко сократился за последние 15 лет. Фактически только единичные КБ продолжали выполнять отдельные работы по проектированию новых промысловых судов. Однако решить поставленные задачи по обновлению рыбопромыслового флота России эти раздробленные и не скоординированные конструкторские подразделения не смогут по многим причинам, подробно обозначенным в статье «Проектирование судов рыбопромыслового флота в России» (Журнал «Рыбная промышленность» № 1, 2011 г.).
В России не производится практически все основное современное конкурентоспособное комплектующее оборудование, необходимое для постройки новых высокоэффективных рыбопромысловых судов или модернизации существующих.
С учетом указанных обстоятельств можно констатировать, что на сегодняшний день российское промысловое судостроение фактически не имеет серьезной поддержки государства, находится в глубоком упадке, не развивается и существует только за счет усилий руководства нескольких отдельных судостроительных предприятий.
Между тем потребность в постройке новых судов для рыбопромыслового флота России с учетом заданных Стратегией объемов добычи ВБР, по расчетам ОАО «Гипрорыбфлот», оценивается в очень значительном объеме – порядка 850 добывающих судов различных размерений и назначений. Очевидно, что такой объем судостроения за период оставшихся до 2020 года семи лет с учетом сегодняшних реалий не возможен не только на российских, но и на зарубежных верфях. Поэтому необходимая промысловая мощность флота в ближайшей перспективе будет поддерживаться за счет продления сроков службы старых, хотя и малоэффективных, но работоспособных судов, а также приобретения за рубежом судов, бывших в эксплуатации.
В последние годы вопрос о необходимости возрождения отечественного судостроения усиленно муссируется на всех уровнях государственного управления. То тут, то там провозглашаются грандиозные планы по постройке больших серий судов, строительства новых современных судостроительных верфей, разрабатываются и принимаются все новые различные концепции, стратегии, программы и даже законы. Однако практических результатов это почему-то не приносит, и в 2012 году в России уже не было построено ни одного добывающего судна.
В настоящее время отечественные судостроители не могут предложить рыбодобытчикам какой-либо конкурентоспособный продукт, поэтому заверения о возможности уже сегодня строить в России современные рыбопромысловые суда вызывают большие сомнения. Для этого просто нет необходимой базы, как нет растерянного за 20 лет опыта промыслового судостроения и соответствующих квалифицированных кадров.
Казалось бы, такой опыт можно нарабатывать, строя суда для федеральных нужд. Однако даже при выделении бюджетных средств на создание таких судов наши чиновники и судостроители не в состоянии реализовать поставленные задачи. Об этом говорит и попытка заказать строительство НИС на ОАО «Дальзавод», который не выполнил заключенный контракт, и невыполнение Госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах в части строительства 24 научно-исследовательских судов.
По-видимому, дело не только в поиске средств и создании механизма финансирования строительства судов, чему в последние годы уделяется основное внимание, но и в неспособности государственных структур реализовывать ими же намеченные планы. Поэтому и придумывают чиновники все новые ухищрения для решения поставленных задач вроде введения «квот под киль» или ручного управления заказами судов за рубежом. Это проще, чем заниматься реальным восстановлением промыслового судостроения.
Дмитрий НАУМОВ, главный специалист ОАО «Гипрорыбфлот», г. Санкт-Петербург
Газета «Fishnews Дайджест»
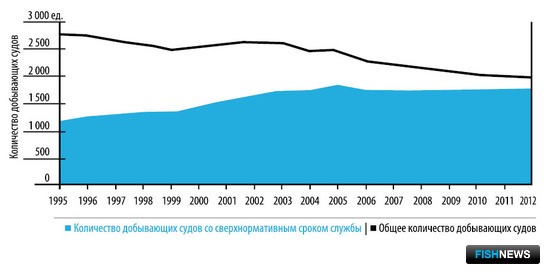
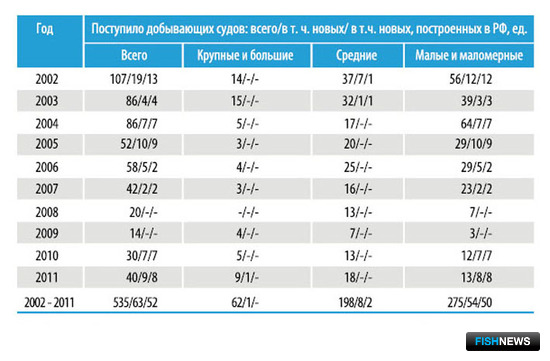
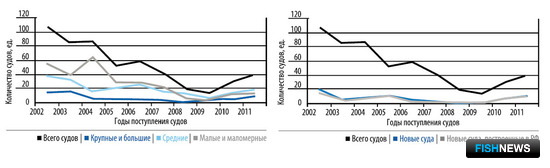
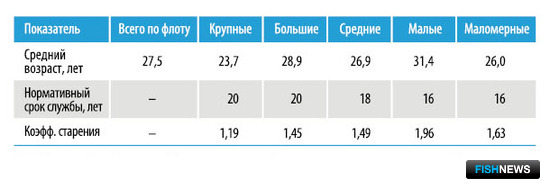
Первый самолет Sukhoi Superjet-100 прибыл в понедельник в Мексику, приземлившись на аэродроме города Толука.Самолет пилотировал мексиканский экипаж. Как рассказал РИА Новости пилот Диего Эрнандес, SSJ летел из Венеции через Исландию, Канаду и США, последний участок пути из города Бангор самолет пролетел без посадок прямо в Толуку, расстояние между городами составило почти 4 тысячи километров.
"Управление самолетом прекрасное, у него отсутствует штурвал, и все управление осуществляется с помощью джойстиков", - сказал пилот. По словам Эрнандеса, в этом году Interjet ожидает прибытия еще шести самолетов, остальные прибудут в 2014-2015 годах.
Пока Interjet заказала 20 российских самолетов. Они будут включены в работу новой сети авиамаршрутов по городам Мексики, причем большая часть из них будет летать не из Мехико, а из других населенных пунктов. В течение двух лет компания планирует заменить свой парк самолетов А320 на российские машины.
При этом у Interjet остается опцион еще на 10 самолетов. Как сообщил журналистам генеральный директор компании Хосе Луис Гарса, SSJ-100 идеально подходит для Мексики. "Этот самолет будет играть ключевую роль в обеспечении перевозок внутри страны", - сказал Гарса.
ГСС: АВАРИЯ ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ SSJ
После восстановления самолет продолжит сертификационные испытания
Инцидент, произошедший утром 21 июля в аэропорту города Кефлавик в Исландии, не повлияет на коммерческую эксплуатацию самолетов типа SSJ 100, сообщает пресс-служба ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".
Авария произошла во время завершающей стадии испытаний на получение сертификата CAT III A, который позволяет самолету выполнять посадку в полном автоматическом режиме до момента касания воздушным судном взлетно-посадочной полосы даже в сложных метеоусловиях. SSJ 100 заходил на автоматическую посадку при сильном боковом ветре с имитацией отказа одного из двигателей и коснулся взлетно-посадочной полосы с убранными шасси. Три члена экипажа и два эксперта сертификационных центров, находившиеся на борту, не пострадали, один из экспертов во время эвакуации с самолета повредил ногу.
По предварительной оценке специалистов "Сухого", после восстановления самолет продолжит сертификационные испытания.
Sukhoi Superjet 100 - пассажирский самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" при участии нескольких иностранных компаний. В марте 2013 года SSJ-100 уже совершал аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево". Наиболее крупным инцидентом с участием SSJ-100 стала авиакатастрофа в Индонезии в декабре 2012 года, которая привела к гибели 45 человек.
Новейший российский лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил посадку с убранными шасси в аэропорту Кефлавик (Рейкьявик, Исландия), погибших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".
"21 июля 2013 года, в 05.25 по местному времени в аэропорту г. Кефлавик (Рейкьявик, Исландия) произошел авиационный инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100, бортовой номер 97005. На завершающей стадии сертификационных испытаний по расширению условий эксплуатации - автоматическая посадка (программа сертификации по категории ИКАО CAT III А) при боковом ветре при выполнении посадки с имитацией отказа одного двигателя, произошло касание взлетно-посадочной полосы самолетом с убранными шасси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время инцидента на борту находилось пять человек: три члена экипажа и два эксперта сертификационных центров. При посадке никто из находившихся на борту не пострадал. Во время эвакуации с борта самолета один из экспертов получил травму ноги.
В компании заверяют, что в момент инцидента все системы самолета работали штатно. По предварительной оценке специалистов ЗАО "ГСС", самолет будет восстановлен и продолжит полеты по программе испытаний.
Как сообщает пресс-служба ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", инцидент, произошедший утром 21 июля 2013 г. в аэропорту г. Кефлавик не влияет на коммерческую эксплуатацию самолетов типа SSJ 100.
Испытания проводились по программе дополнительной сертификации самолета типа Sukhoi Superjet 100 в целях расширения условий эксплуатации по категории ИКАО CAT III А, полеты по которой авиакомпании в настоящее время на данных типах воздушных судов не выполняют.
Получение дополнения сертификата типа по категории CAT III A позволяет самолету выполнять посадку в полном автоматическом режиме до момента касания самолетом взлетно-посадочной полосы даже в сложных метеоусловиях.
Испытания автоматической посадки при сильном боковом ветре с имитацией отказа одного из двигателей - самая сложная часть испытаний, которые проводятся для предупреждения возникновения нештатных ситуаций в процессе эксплуатации самолета. При их проведении условия полета самолета максимально приближаются к критическим для определения границ его безопасной эксплуатации.
Целью испытаний по программе в Кефлавике была реализация большого числа автоматических посадок в различных погодных условиях, включая сильный боковой ветер, при различных конфигурациях самолета.
"На данный момент ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" уже получило достаточный объем реализации успешных посадок самолета. Полученная на данный момент информация позволяет завершить программу сертификации по категории ИКАО CAT III А в установленные сроки", говорит первый вице-президент по качеству и сертификации Игорь Виноградов.
Всего в рамках проведения программы испытаний на данный момент протестировано более 250 режимов посадки.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - 100-местный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" при участии Alenia Aermacchi. 19 мая 2008 г. SSJ100 совершил первый полет. Максимальная крейсерская скорость Sukhoi Superjet 100 - 0,81 Маха, крейсерская высота 12 200 м (40 000 футов). Длина полосы для базовой версии самолета составляет 1731 м, для версии с увеличенной дальностью полета - 2052 м. Дальность полета для базовой версии - 3048 км, для версии с увеличенной дальностью - 4578 км. В январе 2011 года SSJ100 получил сертификат типа АР МАК, в феврале 2012 - сертификат типа EASA.
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" - российская компания, производитель гражданских самолётов. Акционерами компании являются ОАО "Компания "Сухой" (75% - 1 акция) (ОАО "ОАК") и, с 7 апреля 2009, стратегический партнер - итальянская Alenia Aermacchi (25% + 1 акция). Компания "Гражданские самолеты Сухого" была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом компании является программа по созданию семейства российских среднемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Головной офис компании находится в Москве. ГСС имеет также филиалы на основных производственных площадках - в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Новосибирске и Воронеже.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого" совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты Superjet 100 - самолеты Embraer серии E-Jet, Bombardier CRJ серии, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.
Евросоюз накажет Фареры за «рыбацкую жадность»
Европейская комиссия намерена к концу июля ввести торговые санкции в отношении Фарерских островов за перелов сельди. Это решение продвигали Ирландия, Великобритания, Франция и Испания.
План введения санкций был представлен в Брюсселе на заседании Европейского совета по рыболовству. Планируется, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Фарерские острова не вернутся к устойчивому промыслу атланто-скандинавской сельди. Как сообщает корреспондент Fishnews, Еврокомиссия также еще раз подтвердила намерение наказать Исландию за перелов макрели. Конкретное предложение о санкциях против этой страны будет изложено участникам ЕС в установленном порядке.
Ранее в текущем году Фареры вышли за рамки соглашения о добыче сельди и установили для себя в одностороннем порядке квоту в три раза выше традиционной, увеличив ее до 105 тыс. тонн. В ответ на это Морской попечительский совет (MSC) недавно аннулировал сертификат об экомаркировке атлантической сельди, добытой фарерскими рыбаками.
Также Фарерские острова ввели для себя квоту на вылов макрели в 2013 г. в размере 159 тыс. тонн (29,3% годового лимита на добычу этой рыбы). Аналогичным образом поступила Исландия: ее автономная макрелевая квота составила 123 тыс. тонн, или 22,7% от общего допустимого улова. Таким образом, обе страны намерены освоить 52% ОДУ, хотя в 2006 г. они присоединились к соглашению об устойчивой добыче макрели. Тогда общая доля Исландии и Фарер была чуть больше 5%.
Побьют за свободу торговли
Евросоюз, США и еще более двух десятков стран намерены обложить Украину торговыми санкциями
В Женеве 11 июля состоялось заседание Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (ВТО). На нём обсуждался пакет претензий к Украине в ответ на введенные в апреле спецпошлины на импорт автомобилей, а также планы нашей страны пересмотреть таможенные ставки по 371 товарной позиции (см. «Торг уместен»).
Недовольство Украиной уже высказали Евросоюз и США, ассоциация десяти стран Юго-Восточной Азии, а также Россия, Япония, Турция, Австралия, Канада, Китай и Гонконг, Исландия, Израиль, Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия.
Конкретные требования выдвинули пока Россия и Турция. Москва оценивает свой ущерб от действий Киева в 36,12 млн долларов в год и уже заявила о намерении ввести пошлины на импорт из Украины шоколада и шоколадных изделий (0,10 евро/кг), флоат-стекла (15%) и угля (54%). Россия ожидает, что только «кондитерская» пошлина должна принести российскому бюджету дополнительно 13,4 млн долларов. А если учесть, что за 2012 год наша страна поставила РФ уголь на 36,1 млн долларов, несложно подсчитать, что пошлина на этот ресурс означает потери для Украины минимум в 19,49 млн долларов.
Турция заявила о намерении обложить 23-процентной пошлиной импорт украинских грецких орехов, что будет первым случаем применения такой санкции в истории ВТО. Вывоз орехов в Турцию в 2012 году составил 26,7 млн долларов, соответственно, сумма пошлины составит 6,1 млн долларов.
Впрочем, Киев пока рассматривает эти процедуры как попытку давления. «Санкций в ближайшее время вводить не будут, как и не будет решений, которые оформлялись бы тут же каким-то протоколом — пока что каждая сторона высказывает свое мнение», — считает правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.
Исландская лоу-кост авиакомпания Wow Air уже с 2014 г. намерен совершать трансатлантические перелеты из Рейкьявика в Бостон и Нью-Йорк."После этого остается лишь маленький шаг к дальнемагистральным маршрутам вроде рейсов из Нью-Йорка в Берлин с промежуточной посадкой в Рейкьявике", - рассказал основатель компании Скули Могенсен, отметив, что, таким образом, аэропорт исландской столицы превращается для его компании в базовую площадку - хаб.
По мнению экспертов, планы "исландского мечтателя" вполне реалистичны. "Рынок переживает сейчас настоящий бум, и тот, кто пойдет в правильном направлении, может добиться очень многого", - отметил аналитик Bankhaus Lampe Себастиан Хайн, указав на то, что "крупные авиакомпании типа Lufthansa страдают сейчас из-за убытков своих подразделений грузоперевозок". Между тем рост сегмента пассажирских перевозок остается стабильным и мощным, а ведь именно только на него и нацелены бюджетные операторы. "Завершения этого подъема пока не предвидится", - прогнозирует Хайн.
Сейчас многие небольшие аэропорты Европы располагают запасом мощностей. Чтобы их максимально загрузить, они охотно идут на предоставление бюджетным операторам льготных условий в том, что касается аэропортовых сборов. В этой связи неудивительно, что в последние годы лоукостеры-лидеры Ryanair и Easyjet испытывают со стороны новичков рынка все более сильную конкуренцию, пишет Fankfurter Rundschau. В первую очередь это норвежский оператор Norwegian, который, располагая парком в 72 самолета, занимает третье место в бюджетном сегменте. Кстати, в отличие от Ryanair и Easyjet норвежцы с недавних пор предлагают даже дальнемагистральные перелеты в Азию.
Так что, вполне вероятно, опыт Norwegian по развитию рейсов в отдаленные регионы весьма интересен для Скули Могенсена. Себастиан Хайн относится к дальнемагистральным проектам лоукостеров скептически. "Свое преимущество в виде низких издержек бюджетным операторам легче использовать на ближнемагистральных рейсах благодаря кратковременным стоянкам в аэропортах", - рассуждает эксперт. Тем не менее шансы на успех у бюджетных компаний на дальнемагистральных маршрутах, по его словам, все же есть.
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что Wow Air располагает пока лишь минимальным парком самолетов, имея в лизинге всего четыре Airbus 320. Поэтому в планах Скули Могенсена быстрое увеличение количества имеющихся лайнеров.
Эдвард Сноуден, разгласивший секреты американских спецслужб, доволен своим выбором и не страшится сложившейся ситуации, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на журналиста газеты Guardian Гленна Гринвальда (Glenn Greenwald), который взял эксклюзивное интервью у бывшего сотрудника ЦРУ.
"Он волнуется относительно будущего, но при этом у него по-настоящему хорошее настроение из-за тех споров (в обществе), которые он вызвал. Он очень серьезен, ничего не боится и определенно счастлив сделанным им выбором", - сообщил агентству Гринвальд.
Журналист также отметил, что в ходе интервью, взятого 6 и 9 июля и опубликованного в среду, он не обсуждал планы относительно выбора политического убежища, которое Сноуден попросил в 27 странах. Вместе с тем Гринвальд отметил, что ему кажется логичным, что Сноуден предпочтет в качестве убежища Венесуэлу. Помимо этой страны готовность предоставить разоблачителю убежище выразили Боливия и Никарагуа.
Как развивалась история нового разоблачителя США
Сноуден, который 23 июня прибыл из Гонконга в Москву как транзитный пассажир, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства нацбезопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах.
Где уже отказались принять Эдварда Сноудена
Почему Сноудена нигде не ждут
Ранее портал WikiLeaks опубликовал список из 21 страны, в которых Сноуден запросил убежище. По данным сайта, речь идет об Австрии, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Германии, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Китае, Кубе, Нидерландах, Никарагуа, Норвегии, Польше, России, Финляндии, Франции, Швейцарии, Исландии и Эквадоре. Предоставить убежище Сноудену уже отказались Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Австрия, Финляндия, Ирландия и Испания.
Почему экс-агент ЦРУ отказался остаться в России
Экс-сотрудник ЦРУ высказывал просьбу об убежище в России. Москва неоднократно заявляла, что по ряду причин не выдаст Сноудена США. Однако оставаться в России американец отказался. Он отозвал свою просьбу, узнав о поставленном президентом России Владимиром Путиным условии - перестать наносить ущерб американским партнерам.
Как Латинская Америка открыла двери американскому разоблачителю
В воскресенье глава венесуэльского МИД Элиас Хауа заявил, что власти Венесуэлы, предложившие беглому экс-сотруднику спецслужб США гарантии предоставления убежища, ждут от него ответа на это предложение. Ранее готовность принять у себя Сноудена, если он направит официальный запрос об этом, выразил и президент Боливии Эво Моралес. Третьей страной, решившей помочь американцу, стала Никарагуа.

Арктика на восьмерых
Эволюция роли НАТО в арктических широтах
Лев Воронков – доктор исторических наук, профессор кафедры европейской интеграции, руководитель североевропейского отделения Центра североевропейских и балтийских исследований МГИМО (У) МИД России.
Резюме В современных условиях все сложнее найти для НАТО как военно-политического союза такие миссии в Арктике, которые разделялись бы всеми его членами и были бы в состоянии смягчить или устранить существующие различия в интересах.
Поиски новой миссии после холодной войны заставляли Североатлантический альянс обращать внимание на разные регионы, в том числе и на Арктику.
Распад СССР устранил базовые предпосылки для постоянного институционального присутствия НАТО в Арктике и проведения согласованной военной политики членов альянса. Масштабы военной активности блока здесь заметно сократились, а ее направленность более не определяется противостоянием с каким-либо конкретным государством. Ни одна арктическая страна не воспринимает Россию как непосредственую военную угрозу. Альянс преобразовал часть своих северных военных структур, передав их функции государствам-членам. Закрыто региональное северное командование в Ставангере, его миссия перешла к функциональным структурам в голландском Брюнсуме и британском Нортвуде. Создано новое командование со штаб-кваритирой в Норфолке (США) и его отделениями в Ставангере (Норвегия) и Быгдоше (Польша).
Однако большинство военных структур блока в Арктике периода холодной войны сохраняется. Для поддержания боеготовности войск в регионе регулярно проводятся военные учения. В 2009 г. состоялись военные маневры Loyal Arrow с участием 10 государств, в 2010 г. учения Cold Response в районе норвежского Нарвика, в канадской Арктике регулярно проводятся маневры Operation Nanuk. На 2014 г. запланированы сухопутные и морские учения Response Force в Балтийском регионе, которым будут предшествовать учения по минному тралению.
Государства-члены на ротационной основе осуществляют патрульные полеты боевых машин над территориями Исландии и балтийских государств. В дополнение к американской системе ПРО альянс размещает на Аляске, в Гренландии и в Северной Канаде радары и станции слежения оборонительной системы против тактических ракет. Возможность арктических стран – членов НАТО получить помощь союзников служит своебразным страховым полисом на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
На семинаре НАТО в Рейкьявике в январе 2009 г. определены новые вызовы безопасности – изменение климата, таяние арктических льдов, растущая доступность важных энергетических и морских ресурсов и потенциальное открытие новых навигационных маршрутов в Арктике. Участники пришли к заключению, что современные и будущие миссии НАТО в регионе связаны главным образом с поддержанием «мягкой» безопасности. Однако возможности блока справляться с невоенными рисками в Арктике весьма ограниченны. Современные проблемы региона могут успешно решаться не методами военного давления, а средствами национальной политики арктических государств в зонах их юрисдикции и межправительственного взаимодействия в рамках Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона и других организаций.
В одобренной в Лиссабоне в ноябре 2010 г. новой Стратегической концепции НАТО в области обороны и безопасности Арктика не упоминается. Роль альянса является неопределенной в ситуации, когда, как гласит новая Концепция, «угроза нападения на территорию стран-членов НАТО незначительна». Одновременно прибрежные арктические государства блока опубликовали свои национальные стратегии. По мнению германского эксперта Хельги Хафтендорн, «национальные действия приходят на смену совместным акциям альянса».
НОВОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ
Открытие громадных углеводородных запасов на арктическом шельфе создало материальный базис для быстрого роста геополитического значения Арктики. Эти запасы привлекли пристальное внимание большого числа влиятельных государств, в том числе расположенных за географическими пределами региона. Наличие у ряда компаний и стран современных технологий добычи углеводородов на шельфе дополняется возможностями прямого доступа к их арктическим кладовым в связи с активным таянием льдов, вызванным климатическими изменениями. Появляется также вероятность создания в Арктике в ближайшие десятилетия новых глобальных торговых маршрутов, что привлекает внимание крупнейших торговых наций и судоходных компаний. В результате вопросы делимитации арктического шельфа и проблемы применимости международного морского права к Арктике превратились в важнейшие темы мировой политики.
Воздействие климатических изменений на флору и фауну Арктики, а также возможное негативное влияние производственной деятельности на состояние окружающей среды и условия жизни коренных народов придают экологическим проблемам геополитические и гуманитарные измерения.
В результате Арктика утратила статус периферийного района и оказалась в фокусе внимания многих наций. Между прибрежными арктическими государствами, в том числе странами – членами НАТО, существует ряд нерешенных проблем. США и Канада оспаривают морскую границу в море Буфорта между канадской территорией Юкон и Аляской, а также в районе Dixon Entrance, пролива Strait of Juan de Fuca, острова Machias Sea и North Rock. Не решен вопрос относительно принадлежности острова Ханс в проливе Нейрес. Соединенные Штаты продолжают утверждать, что Северо-Западный проход и Северный морской путь являются международными проливами. Канада с таким подходом решительно не согласна. Ни одно арктическое прибрежное государство, входящее в альянс, не ссылается на НАТО как на посредника в разрешении спорных вопросов.
Ратификация Россией, Канадой, Данией и Норвегией Конвенции ООН по морскому праву (1982) обеспечила распространение их национальных юрисдикций на арктический шельф шириной в 200 морских миль и на соответствующие исключительные экономические зоны. Фактически они разделили между собой находящиеся в этих пределах минеральные, углеводородные и биологические природные ресурсы. Положения Конвенции позволяют при определенных обстоятельствах расширить до 350 морских миль зону их национальной юрисдикции в Северном Ледовитом океане. В настоящее время Дания, Канада и Россия собирают доказательства в поддержку притязаний на расширение своих шельфов до 350 морских миль, чтобы предоставить их в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
Отказ американского Сената ратифицировать Конвенцию по морскому праву означает, что Соединенные Штаты не ограничивают ширину своего континентального шельфа в Арктике в принципе. В результате американцы могут использовать ресурсы арктического шельфа не только наравне с другими прибрежными странами, но и с определенными конкурентными преимуществами, так как финансовые и ограничительные обязательства Конвенции не могут применяться к США. Вместе с тем в 2008 г. Соединенные Штаты подписали Илулиссатскую декларацию пяти арктических прибрежных государств, а в 2013 г. Кирунскую декларацию Арктического совета, в соответствии с которыми взяли на себя обязательство действовать в соответствии с международным, в том числе морским правом. В утвержденной президентом Обамой 10 мая 2013 г. новой Национальной стратегии для Арктического региона указывается, что «хотя в настоящее время Соединенные Штаты не являются участником Конвенции, мы продолжим поддержку и соблюдение принципов, установленных обычным международным правом, нашедшим отражение в Конвенции».
Неарктические государства – члены НАТО, как и другие акторы, официально не ставят под вопрос права арктических государств, но продолжают изыскивать пути участия в распоряжении ресурсами Арктики. При этом союзники оказались в этом вопросе по разные стороны баррикад.
Усилия властей, экспертов и средств массовой информации некоторых неарктических государств блока направлены на то, чтобы изменить существующий международно-правовой статус арктического региона путем подписания специального договора по Арктике подобного Договору по Антарктике или трансформации Арктического совета в классическую международную межправительственную организацию, что означало бы де-факто заключение такого договора. Ссылаясь на глобальное значение устойчивого развития Арктики, они настаивают на установлении над ней режима международного управления, которое неизбежно затронуло бы суверенные права арктических государств на часть территорий и потребовало бы изменения международного статуса открытых морей, расположенных далеко за пределами региона. Их арсенал включает попытки противопоставить одни арктические государства другим, внести раскол в их ряды и драматизировать нерешенные проблемы.
Нередко в публичных дискуссиях используются аргументы эры холодной войны – Россию пытаются представить как агрессивную державу, незаконно претендующую на громадные арктические пространства и наращивающую для этого военную мощь. При этом ссылаются на российские планы разместить на Крайнем Севере две военные бригады, избегая упоминаний о том, что Москва вывела военные базы с арктических островов и радикально сократила пограничные войска в регионе сразу после окончания холодной войны. Подобные попытки призваны обеспечить постоянное присутствие НАТО в регионе и тем самым предоставить неарктическим странам блока право непосредственного участия в арктических делах.
Прибрежные арктические государства воспринимают такие планы иначе. В июле 2011 г. группа канадских экспертов пришла к заключению, что планы России разместить две новые бригады на Крайнем Севере «не дают повода для серьезного беспокойства». В этих условиях отношения между прибрежными арктическими государствами – членами Североатлантического альянса и Россией стали обретать прагматичный характер. Они склонны совместно защищать свои права и интересы в Арктике от притязаний других государств. Национальные интересы прибрежных арктических государств, входящих в НАТО, и интересы блоковой солидарности в Арктике далеко не всегда совпадают. Отстаивая свои национальные экономические, а не блоковые интересы, прибрежные арктические государства – члены НАТО обретают куда больше общего с Россией, чем с другими странами альянса, не располагающими международно-правовыми основами претендовать на юрисдикцию над арктическим шельфом и исключительными экономическими зонами в регионе. Эти обстоятельства превращают развивающееся сотрудничество пяти прибрежных арктических государств – четырех членов НАТО и России – в вопросах защиты их прав и интересов в Арктике в закономерное и устойчивое явление до тех пор, пока вопросы делимитации арктического шельфа не найдут окончательного решения. Участие других арктических государств, не имеющих зон юрисдикции в Северном Ледовитом океане, в обсуждении этих вопросов не является необходимым и обязательным. Очевидная общность интересов в фундаментальных вопросах побуждает прибрежные арктические государства согласовывать позиции и углублять взаимодействие.
СТРАТЕГИИ ПРИБРЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН – ЧЛЕНОВ НАТО
Четыре из пяти прибрежных арктических государств состоят в НАТО. Пять арктических государств, входящих в блок – постоянные члены Арктического совета. Правительства северных стран НАТО выступают за то, чтобы альянс уделял больше внимания национальной обороне, а не миссиям в других частях мира.
В 2008 г. вскоре после вывода американских вооруженных сил с военно-воздушной базы в Кефлавике (2006) парламент Исландии принял Оборонительный акт и Акт гражданской обороны, в основе которых лежит концепция «мягкой» безопасности. В специальном докладе, представленном в марте 2009 г. министру иностранных дел, отрицалось наличие какой-либо актуальной военной угрозы для Исландии. В резолюции, одобренной 28 марта 2011 г. парламентом страны, утверждается, что интересы безопасности в регионе должны обеспечиваться гражданскими мерами и путем противодействия милитаризации Арктики. Исландские законодатели предложили создать на севере Европы зону, свободную от ядерного оружия. Впервые такого рода инициатива выдвинута одним из государств НАТО, что стало отчетливым индикатором кардинальных стратегических сдвигов в Арктике и Северной Атлантике.
Норвегия, считающая НАТО краеугольным камнем своей национальной безопасности и обороны, также пошла на серьезную трансформацию политики. До недавнего времени она делала негласную ставку на поддержку ее позиций со стороны альянса во время переговоров с Россией по поводу раздела спорной зоны континентального шельфа в Баренцевом море. Норвежцы считали, что членство в НАТО позволяло вести переговоры с великой державой на равных и отстаивать свои национальные интересы. Заключение норвежско-российского Договора о морской делимитации и сотрудничестве в Баренцевом море и в Северном Ледовитом океане (согласно ему, углеводородные месторождения в Баренцевом море при определенных условиях могут эксплуатироваться двумя странами как общие) резко сократило потребность Осло оперировать своим членством в НАТО как аргументом в решении спорных вопросов с Москвой.
Полноправное участие стран блока в решении вопросов эксплуатации углеводородов на шельфе Баренцева моря не отвечает норвежским интересам. Норвегия укрепила присутствие национальных вооруженных сил на севере страны и проводит более интенсивное наблюдение за морскими районами с целью обеспечения своего суверенитета в управлении ресурсами. В этой специфической области Осло предпочитает опираться на потенциал своих национальных вооруженных сил, а не на военные возможности НАТО. Норвегия не может даже гипотетически рассчитывать на поддержку альянса в решении спорных вопросов с Россией и другими странами, касающихся рыболовства в Баренцевом море, так как большинство союзников не признают провозглашенную ею в одностороннем порядке рыболовную охранную зону вокруг Шпицбергена.
В объявленной в 2006 г. норвежским правительством новой стратегии развития северных областей отношения с Россией обозначены как «центральное двустороннее измерение политики Норвегии на Крайнем Севере», которая основана «на прагматизме, заинтересованности и сотрудничестве». «Норвегия уверена, что в сотрудничестве с Москвой она сможет наиболее успешно обеспечить свои региональные интересы в рамках многих двусторонних экономических и экологических проектов, отвечающих интересам каждой страны», – пришли к заключению американские эксперты Хизер Конли и Джейми Краут.
Дания благодаря Гренландии, своей автономной самоуправляющейся территории, также является прибрежным арктическим государством. Согласно исследованию Геологической службы США, находящиеся вдоль берегов Гренландии триллионы кубических футов газа и несколько миллиардов баррелей нефти могут позволить Гренландии занять 19-е место среди крупнейших нефтяных провинций мира. В этой связи главное внимание Копенгагена в Арктике сосредоточено теперь на защите ее экономических интересов.
В датском Соглашении об обороне на 2010–2014 гг. констатируется, что растущая активность в Арктике увеличивает нагрузку на вооруженные силы страны. В документе предусмотрена модернизация военных сооружений на Гренландии для придания датским боевым самолетам способности осуществлять мониторинг и обеспечивать суверенитет Дании в этом районе. Стремясь расширить возможности воздушного и морского патрулирования, датские военные запрашивают новые вертолеты, способные действовать в условиях Арктики, и патрульные суда, приспособленные для плавания в сложной ледовой обстановке. Все это в дополнение к 48 истребителям F-16, четырем транспортным самолетам C-30 Hercules, 21 вертолету Sea King и 14 – Merlin, одному эсминцу с тремя вспомогательными судами, четырем фрегатам и большому количеству патрульных судов и судов поддержки, а также системам наблюдения и раннего предупреждения. Соглашение об обороне не связывает обеспечение национальных экономических интересов в Арктике с помощью со стороны НАТО. Оно предлагает объединить Гренландское и Фарерское командования в единую структуру и создать мобильные Арктические силы быстрого реагирования.
Дания планирует модернизировать службы наблюдения за льдами и погодой, расширить станцию «Север», военно-воздушную базу в Туле и воздушную базу в Кангерлуссиаг, создать дополнительные армейские станции в Восточной Гренландии, а также обновить оборонительную инфраструктуру для поддержки инспекционных полетов на север и восток от Гренландии. Она намерена использовать также военно-воздушную базу в Туле, находящуюся в оперативном управлении военно-воздушных сил США в качестве места базирования датских самолетов дальнего действия, осуществляющих инспекционные полеты в регионе.
Канада рассматривает Арктику как неотъемлемую часть своей национальной идентичности. В декабре 2009 г. канадский парламент единогласно принял закон о переименовании морской арктической артерии страны в Канадский Северо-Западный проход, подтвердив тем самым его характер внутреннего пролива. Комитет по вопросам рыболовства канадского сената рекомендовал требовать от всех судов регистрировать свое присутствие в северных канадских водах.
Канада намерена создать мощности, способные «обеспечивать контроль и защищать суверенитет Канады в Арктике», обновить единственный глубоководный порт Нанисивик в Нунавуте на острове Баффин и построить там новую морскую базу. Предполагается также открыть тренировочный центр для действий в суровых условиях Арктики в заливе Резольют, увеличив там военное присутствие на 900 рейнджеров.
Канадское правительство намерено оснастить необходимым снаряжением береговую охрану, построить дополнительный полярный ледокол, 6–8 патрульных судов, закупить 65 современных истребителей F-35, приобрести 10–12 патрульных самолетов для наблюдения за морскими пространствами и создать мощную систему мониторинга с сенсорами, управляемыми беспилотными летательными аппаратами и спутниками. Канада не скрывает намерения при обеспечении своего суверенитета в Арктике и при решении спорных вопросов с другими прибрежными арктическими государствами действовать самостоятельно, руководствуясь национальными, а не блоковыми интересами. Сценарии ежегодных летних маневров Operation Nunalivut, проводимых на севере страны, связаны с решением именно этих задач. МИД Канады высказал намерение укреплять двусторонние отношения с арктическими государствами, усиливать Арктический совет и другие многосторонние институты. При этом министерство не сочло необходимым упомянуть о роли НАТО в канадской арктической политике. Канада, как известно, не позволила включить какую-либо ссылку на Арктику в новую Стратегическую концепцию альянса.
Одновременно Канада стремится к сотрудничеству с Россией по проблемам «мягкой» безопасности в Арктике, подчеркивая, что «геологические исследования и международное право, а не военные затрещины, в конечном счете позволят разрешить спорные вопросы разграничения подводных границ в Арктике».
Особый интерес представляет арктическая стратегия Вашингтона как политического и военного лидера НАТО. Директива, касающаяся новой политики США в Арктике, подписанная Джорджем Бушем в январе 2009 г., гласила: «Соединенные Штаты имеют широкие и фундаментальные для национальной безопасности интересы в арктическом регионе и готовы действовать либо самостоятельно, либо совместно с другими государствами для их защиты». Новая национальная арктическая стратегия Америки базируется на трех основных принципах: обеспечении интересов безопасности США, ответственном управлении арктическим регионом, укреплении международного сотрудничества. «Мы будем стремиться принимать меры как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних органов, включая Арктический совет, которые будут способствовать обеспечению коллективных интересов, содействовать благосостоянию арктических государств, защищать окружающую среду Арктики и укреплять региональную безопасность, и будем предпринимать усилия для присоединения Соединенных Штатов к Конвенции ООН по морскому праву».
Дорожная карта американских военно-морских сил в Арктике, опубликованная в октябре 2009 г., предусматривает расширение операций флота в северном направлении, приспособление боевых возможностей флота к условиям Арктики, усиление систем защиты от баллистических и крылатых ракет и обеспечение контроля над морскими пространствами. Соединенные Штаты планируют разместить 36 истребителей-невидимок F-22 Raptor и патрульных самолетов P-3 Orion на Аляске.
Территории союзных США государств в Арктике служат местом дислокации американской системы противоракетной обороны (Аляска, Северная Канада, Туле на Гренландии, радар в Кефлавике, управляемый исландскими силами обороны) и американо-канадской системы НОРАД.
Американская «Совместная стратегия морской державы ХХI века» утверждает, что нынешнее развитие в Арктике представляет собой «потенциальный источник соревнования и конфликта за доступ к природным ресурсам». Однако даже гипотетическое использование возможностей НАТО для разрешения этих проблем не стало предметом серьезного рассмотрения в этом документе. По мнению Хафтендорн, альянс «не является главным американским инструментом для обеспечения безопасности в Арктике».
Вместе с тем американские документы содержат призывы к укреплению различных форм сотрудничества восьми арктических государств, включая Россию. Соединенные Штаты поддерживают проведение совместных учений и тренировок, обмен информацией и накопленным опытом, а также улучшение механизмов многостороннего сотрудничества, координации и поддержки с военными других арктических государств при проведении поиска, спасения и оказания чрезвычайной помощи. Представитель НОРАД, например, был участником переговоров в рамках Российско-Американского центра предупреждения инцидентов в открытом море в 2009 году. По мнению Гейла Бреймена, операции НОРАД на Аляске могут стать средством «позитивного взаимодействия с российскими военными партнерами в ходе перезагрузки отношений между двумя нациями». «Мы будем изыскивать возможности для работы с Москвой по возникающим новым проблемам, таким как будущее Арктики», – говорится в докладе Quadrennial Defense Review Report за 2010 г., опубликованном Пентагоном.
США считают, что наиболее существенные угрозы для национальной безопасности исходят от негосударственных акторов, которые могут воспользоваться свободными ото льдов водами Арктики для контрабанды наркотиков, оружия, организации нелегальной иммиграции и переброски террористов. Подобные тревоги разделяются и другими прибрежными арктическими государствами, в частности Канадой и Россией. Это служит дополнительным аргументом в пользу более тесного взаимодействия прибрежных арктических государств.
Тем не менее было бы не вполне корректно выводить за скобки тот факт, что и у Москвы, и у Вашингтона сохраняются важные военные интересы в Арктике. Стратегические подводные лодки двух стран, оснащенные ядерным оружием, сохраняют возможность действовать в Арктике. В данном случае речь идет не о коллективных силах НАТО, а об инструментарии политики сдерживания, осуществляемой Россией и США. Военный потенциал Соединенных Штатов используется скорее как инструмент политики национальной безопасности и глобальной стратегии, чем как интегральная часть коллективных сил НАТО, предназначенных сдерживать конкретное враждебное государство в Арктике.
Арктические государства – члены альянса склонны обеспечивать свои интересы в Арктике, полагаясь главным образом на возможности своих национальных вооруженных сил, а не на объединенные силы блока. В современных условиях все сложнее найти такие миссии для НАТО как военно-политического союза в Арктике, которые безусловно разделялись бы всеми его членами и были бы в состоянии смягчить или устранить существующие различия в интересах.
АРКТИЧЕСКАЯ «ПЯТЕРКА» И АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Министр иностранных дел Канады Лоуренс Кэннон однажды назвал пять арктических прибрежных государств, включая Россию, странами, «имеющими общие интересы и несущими совместную ответственность в управлении районами Северного Ледовитого океана».
Первая встреча «Арктической пятерки» проходила в Илулиссате (Гренландия) в мае 2008 года. В Илулиссатской декларации, одобренной участниками, указывалось, что существующее морское право дает прочную основу для ответственного управления Арктикой силами пяти прибрежных арктических государств и других ее пользователей. Декларация говорит, что нет «необходимости в создании нового всеобъемлющего международного правового режима для управления Северным Ледовитым океаном». Для разрешения всех спорных вопросов достаточно уже существующей международно-правовой основы.
Участники встречи в Илулиссате выразили стремление сохранить уникальную экосистему Северного Ледовитого океана «как национальными усилиями, так и в сотрудничестве между пятью государствами и другими заинтересованными акторами» и содействовать сохранению жизнедеятельности на море «с помощью двусторонних и многосторонних мер имеющих к этому отношение государств».
«Арктическая пятерка» подтвердила свои суверенные права на северные территории, воды, шельфы, биологические и природные ресурсы Арктики и обязалась регулировать противоречия в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и другими нормами международного права. Она отвергла идею «установления в Арктике международного режима управления». Участники второй встречи «Арктической пятерки» в канадском Челси в марте 2010 г. заявили о намерении тесно сотрудничать по широкому кругу вопросов – от определения внешних границ их континентальных шельфов и заключения юридически обязательного соглашения о поиске и спасении терпящих бедствие до работы по установлению обязательного режима повышения безопасности судоходства.
Отстаивая совпадающие интересы прибрежных арктических государств от любых претензий со стороны других стран, «Арктическая пятерка» превратилась во влиятельный фактор международных отношений в регионе. Она готова «вносить активный вклад в работу Арктического совета и других международных форумов», не поддерживая предложения, касающиеся изменения его существующего статуса. «Арктический совет, – считают Соединенные Штаты, – должен оставаться форумом высокого уровня, занимающимся проблемами в рамках его действующего мандата, и не должен превращаться в формальную международную организацию».
В мае 2011 г. представители государств – членов Арктического совета подписали в Нууке (Гренландия) соглашение о сотрудничестве в осуществлении воздушного и морского поиска и спасения в Арктике, разделив ее на зоны ответственности участников соглашения, которые при необходимости могут прибегать к помощи не входящих в него государств. В мае 2013 г. в Кируне (Швеция) ими было подписано соглашение о сотрудничестве в борьбе против морских разливов нефти в Арктике.
Все страны «Арктической пятерки» являются постоянными членами Арктического совета. Скандинавские страны – члены НАТО также тесно сотрудничают с другими государствами Северной Европы в рамках Северного совета, Северного совета министров и многих других общих институтов, созданных в рамках «северного сотрудничества». Уровень интеграции между северными странами значительно глубже, чем тот, который достигнут государствами Европейского союза. На повестку дня встали вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в сфере внешней политики и политики безопасности. В феврале 2009 г. Торвальд Столтенберг, бывший министр иностранных дел Норвегии, предложил активизировать оборонное сотрудничество между пятью странами Северной Европы, и в 2010 г. североевропейские страны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В целом «северная пятерка» – стабильная группа единомышленников, чье тесное региональное взаимодействие в различных областях является неотъемлемой частью их внутриполитической и международной долгосрочной стратегии. Обозначение этого сотрудничества в сфере обороны как создание альтернативы НАТО трудно отнести к бесспорному. Если возникли проблемы в определении миссий всего альянса в Арктике, то их вряд ли можно преодолеть при помощи неких мини-НАТО.
Россия взаимодействует с «северной пятеркой» в Арктическом совете, Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евроарктического региона и в рамках Северного измерения. Любые попытки противопоставить одну группу северных стран другой носили бы контрпродуктивный характер для России, как и для других прибрежных арктических государств. «Арктическая пятерка» и Арктический совет занимаются различными проблемами, и их деятельность не противоречит, а дополняет друг друга.
По окончании холодной войны институализированную роль НАТО как военно-политического альянса в Арктике трудно обосновать. Страны – члены альянса, входящие в Арктический совет, совместно с Россией, Финляндией и Швецией заявили в Кируне в мае 2013 г., что «решения на всех уровнях в Арктическом совете являются исключительным правом и ответственностью восьми государств, подписавших Оттавскую декларацию». Они выразили единодушное намерение и далее укреплять Арктический Совет и стремиться к превращению его в орган, «делающий политику в Арктике». «Нам удалось превратить регион в пространство уникального международного сотрудничества, – подчеркивается в Декларации Арктического совета “Будущее Арктики”, – мы верим в то, что не существует проблем, которые мы не могли бы решить совместно, опираясь на наши отношения сотрудничества на базе существующих норм международного права и доброй воли».
При последовательном проведении Россией курса на взаимодействие с арктическими странами на основе принципов международного морского права и с учетом общности интересов c ними имеются все предпосылки для нейтрализации попыток оправдать более активную вовлеченность военно-политического блока в арктические дела.
Арктика на восьмерых
Эволюция роли НАТО в арктических широтах
Резюме: В современных условиях все сложнее найти для НАТО как военно-политического союза такие миссии в Арктике, которые разделялись бы всеми его членами и были бы в состоянии смягчить или устранить существующие различия в интересах.
Поиски новой миссии после холодной войны заставляли Североатлантический альянс обращать внимание на разные регионы, в том числе и на Арктику.
Распад СССР устранил базовые предпосылки для постоянного институционального присутствия НАТО в Арктике и проведения согласованной военной политики членов альянса. Масштабы военной активности блока здесь заметно сократились, а ее направленность более не определяется противостоянием с каким-либо конкретным государством. Ни одна арктическая страна не воспринимает Россию как непосредственую военную угрозу. Альянс преобразовал часть своих северных военных структур, передав их функции государствам-членам. Закрыто региональное северное командование в Ставангере, его миссия перешла к функциональным структурам в голландском Брюнсуме и британском Нортвуде. Создано новое командование со штаб-кваритирой в Норфолке (США) и его отделениями в Ставангере (Норвегия) и Быгдоше (Польша).
Однако большинство военных структур блока в Арктике периода холодной войны сохраняется. Для поддержания боеготовности войск в регионе регулярно проводятся военные учения. В 2009 г. состоялись военные маневры Loyal Arrow с участием 10 государств, в 2010 г. учения Cold Response в районе норвежского Нарвика, в канадской Арктике регулярно проводятся маневры Operation Nanuk. На 2014 г. запланированы сухопутные и морские учения Response Force в Балтийском регионе, которым будут предшествовать учения по минному тралению.
Государства-члены на ротационной основе осуществляют патрульные полеты боевых машин над территориями Исландии и балтийских государств. В дополнение к американской системе ПРО альянс размещает на Аляске, в Гренландии и в Северной Канаде радары и станции слежения оборонительной системы против тактических ракет. Возможность арктических стран – членов НАТО получить помощь союзников служит своебразным страховым полисом на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
На семинаре НАТО в Рейкьявике в январе 2009 г. определены новые вызовы безопасности – изменение климата, таяние арктических льдов, растущая доступность важных энергетических и морских ресурсов и потенциальное открытие новых навигационных маршрутов в Арктике. Участники пришли к заключению, что современные и будущие миссии НАТО в регионе связаны главным образом с поддержанием «мягкой» безопасности. Однако возможности блока справляться с невоенными рисками в Арктике весьма ограниченны. Современные проблемы региона могут успешно решаться не методами военного давления, а средствами национальной политики арктических государств в зонах их юрисдикции и межправительственного взаимодействия в рамках Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона и других организаций.
В одобренной в Лиссабоне в ноябре 2010 г. новой Стратегической концепции НАТО в области обороны и безопасности Арктика не упоминается. Роль альянса является неопределенной в ситуации, когда, как гласит новая Концепция, «угроза нападения на территорию стран-членов НАТО незначительна». Одновременно прибрежные арктические государства блока опубликовали свои национальные стратегии. По мнению германского эксперта Хельги Хафтендорн, «национальные действия приходят на смену совместным акциям альянса».
НОВОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ
Открытие громадных углеводородных запасов на арктическом шельфе создало материальный базис для быстрого роста геополитического значения Арктики. Эти запасы привлекли пристальное внимание большого числа влиятельных государств, в том числе расположенных за географическими пределами региона. Наличие у ряда компаний и стран современных технологий добычи углеводородов на шельфе дополняется возможностями прямого доступа к их арктическим кладовым в связи с активным таянием льдов, вызванным климатическими изменениями. Появляется также вероятность создания в Арктике в ближайшие десятилетия новых глобальных торговых маршрутов, что привлекает внимание крупнейших торговых наций и судоходных компаний. В результате вопросы делимитации арктического шельфа и проблемы применимости международного морского права к Арктике превратились в важнейшие темы мировой политики.
Воздействие климатических изменений на флору и фауну Арктики, а также возможное негативное влияние производственной деятельности на состояние окружающей среды и условия жизни коренных народов придают экологическим проблемам геополитические и гуманитарные измерения.
В результате Арктика утратила статус периферийного района и оказалась в фокусе внимания многих наций. Между прибрежными арктическими государствами, в том числе странами – членами НАТО, существует ряд нерешенных проблем. США и Канада оспаривают морскую границу в море Буфорта между канадской территорией Юкон и Аляской, а также в районе Dixon Entrance, пролива Strait of Juan de Fuca, острова Machias Sea и North Rock. Не решен вопрос относительно принадлежности острова Ханс в проливе Нейрес. Соединенные Штаты продолжают утверждать, что Северо-Западный проход и Северный морской путь являются международными проливами. Канада с таким подходом решительно не согласна. Ни одно арктическое прибрежное государство, входящее в альянс, не ссылается на НАТО как на посредника в разрешении спорных вопросов.
Ратификация Россией, Канадой, Данией и Норвегией Конвенции ООН по морскому праву (1982) обеспечила распространение их национальных юрисдикций на арктический шельф шириной в 200 морских миль и на соответствующие исключительные экономические зоны. Фактически они разделили между собой находящиеся в этих пределах минеральные, углеводородные и биологические природные ресурсы. Положения Конвенции позволяют при определенных обстоятельствах расширить до 350 морских миль зону их национальной юрисдикции в Северном Ледовитом океане. В настоящее время Дания, Канада и Россия собирают доказательства в поддержку притязаний на расширение своих шельфов до 350 морских миль, чтобы предоставить их в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
Отказ американского Сената ратифицировать Конвенцию по морскому праву означает, что Соединенные Штаты не ограничивают ширину своего континентального шельфа в Арктике в принципе. В результате американцы могут использовать ресурсы арктического шельфа не только наравне с другими прибрежными странами, но и с определенными конкурентными преимуществами, так как финансовые и ограничительные обязательства Конвенции не могут применяться к США. Вместе с тем в 2008 г. Соединенные Штаты подписали Илулиссатскую декларацию пяти арктических прибрежных государств, а в 2013 г. Кирунскую декларацию Арктического совета, в соответствии с которыми взяли на себя обязательство действовать в соответствии с международным, в том числе морским правом. В утвержденной президентом Обамой 10 мая 2013 г. новой Национальной стратегии для Арктического региона указывается, что «хотя в настоящее время Соединенные Штаты не являются участником Конвенции, мы продолжим поддержку и соблюдение принципов, установленных обычным международным правом, нашедшим отражение в Конвенции».
Неарктические государства – члены НАТО, как и другие акторы, официально не ставят под вопрос права арктических государств, но продолжают изыскивать пути участия в распоряжении ресурсами Арктики. При этом союзники оказались в этом вопросе по разные стороны баррикад.
Усилия властей, экспертов и средств массовой информации некоторых неарктических государств блока направлены на то, чтобы изменить существующий международно-правовой статус арктического региона путем подписания специального договора по Арктике подобного Договору по Антарктике или трансформации Арктического совета в классическую международную межправительственную организацию, что означало бы де-факто заключение такого договора. Ссылаясь на глобальное значение устойчивого развития Арктики, они настаивают на установлении над ней режима международного управления, которое неизбежно затронуло бы суверенные права арктических государств на часть территорий и потребовало бы изменения международного статуса открытых морей, расположенных далеко за пределами региона. Их арсенал включает попытки противопоставить одни арктические государства другим, внести раскол в их ряды и драматизировать нерешенные проблемы.
Нередко в публичных дискуссиях используются аргументы эры холодной войны – Россию пытаются представить как агрессивную державу, незаконно претендующую на громадные арктические пространства и наращивающую для этого военную мощь. При этом ссылаются на российские планы разместить на Крайнем Севере две военные бригады, избегая упоминаний о том, что Москва вывела военные базы с арктических островов и радикально сократила пограничные войска в регионе сразу после окончания холодной войны. Подобные попытки призваны обеспечить постоянное присутствие НАТО в регионе и тем самым предоставить неарктическим странам блока право непосредственного участия в арктических делах.
Прибрежные арктические государства воспринимают такие планы иначе. В июле 2011 г. группа канадских экспертов пришла к заключению, что планы России разместить две новые бригады на Крайнем Севере «не дают повода для серьезного беспокойства». В этих условиях отношения между прибрежными арктическими государствами – членами Североатлантического альянса и Россией стали обретать прагматичный характер. Они склонны совместно защищать свои права и интересы в Арктике от притязаний других государств. Национальные интересы прибрежных арктических государств, входящих в НАТО, и интересы блоковой солидарности в Арктике далеко не всегда совпадают. Отстаивая свои национальные экономические, а не блоковые интересы, прибрежные арктические государства – члены НАТО обретают куда больше общего с Россией, чем с другими странами альянса, не располагающими международно-правовыми основами претендовать на юрисдикцию над арктическим шельфом и исключительными экономическими зонами в регионе. Эти обстоятельства превращают развивающееся сотрудничество пяти прибрежных арктических государств – четырех членов НАТО и России – в вопросах защиты их прав и интересов в Арктике в закономерное и устойчивое явление до тех пор, пока вопросы делимитации арктического шельфа не найдут окончательного решения. Участие других арктических государств, не имеющих зон юрисдикции в Северном Ледовитом океане, в обсуждении этих вопросов не является необходимым и обязательным. Очевидная общность интересов в фундаментальных вопросах побуждает прибрежные арктические государства согласовывать позиции и углублять взаимодействие.
СТРАТЕГИИ ПРИБРЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН – ЧЛЕНОВ НАТО
Четыре из пяти прибрежных арктических государств состоят в НАТО. Пять арктических государств, входящих в блок – постоянные члены Арктического совета. Правительства северных стран НАТО выступают за то, чтобы альянс уделял больше внимания национальной обороне, а не миссиям в других частях мира.
В 2008 г. вскоре после вывода американских вооруженных сил с военно-воздушной базы в Кефлавике (2006) парламент Исландии принял Оборонительный акт и Акт гражданской обороны, в основе которых лежит концепция «мягкой» безопасности. В специальном докладе, представленном в марте 2009 г. министру иностранных дел, отрицалось наличие какой-либо актуальной военной угрозы для Исландии. В резолюции, одобренной 28 марта 2011 г. парламентом страны, утверждается, что интересы безопасности в регионе должны обеспечиваться гражданскими мерами и путем противодействия милитаризации Арктики. Исландские законодатели предложили создать на севере Европы зону, свободную от ядерного оружия. Впервые такого рода инициатива выдвинута одним из государств НАТО, что стало отчетливым индикатором кардинальных стратегических сдвигов в Арктике и Северной Атлантике.
Норвегия, считающая НАТО краеугольным камнем своей национальной безопасности и обороны, также пошла на серьезную трансформацию политики. До недавнего времени она делала негласную ставку на поддержку ее позиций со стороны альянса во время переговоров с Россией по поводу раздела спорной зоны континентального шельфа в Баренцевом море. Норвежцы считали, что членство в НАТО позволяло вести переговоры с великой державой на равных и отстаивать свои национальные интересы. Заключение норвежско-российского Договора о морской делимитации и сотрудничестве в Баренцевом море и в Северном Ледовитом океане (согласно ему, углеводородные месторождения в Баренцевом море при определенных условиях могут эксплуатироваться двумя странами как общие) резко сократило потребность Осло оперировать своим членством в НАТО как аргументом в решении спорных вопросов с Москвой.
Полноправное участие стран блока в решении вопросов эксплуатации углеводородов на шельфе Баренцева моря не отвечает норвежским интересам. Норвегия укрепила присутствие национальных вооруженных сил на севере страны и проводит более интенсивное наблюдение за морскими районами с целью обеспечения своего суверенитета в управлении ресурсами. В этой специфической области Осло предпочитает опираться на потенциал своих национальных вооруженных сил, а не на военные возможности НАТО. Норвегия не может даже гипотетически рассчитывать на поддержку альянса в решении спорных вопросов с Россией и другими странами, касающихся рыболовства в Баренцевом море, так как большинство союзников не признают провозглашенную ею в одностороннем порядке рыболовную охранную зону вокруг Шпицбергена.
В объявленной в 2006 г. норвежским правительством новой стратегии развития северных областей отношения с Россией обозначены как «центральное двустороннее измерение политики Норвегии на Крайнем Севере», которая основана «на прагматизме, заинтересованности и сотрудничестве». «Норвегия уверена, что в сотрудничестве с Москвой она сможет наиболее успешно обеспечить свои региональные интересы в рамках многих двусторонних экономических и экологических проектов, отвечающих интересам каждой страны», – пришли к заключению американские эксперты Хизер Конли и Джейми Краут.
Дания благодаря Гренландии, своей автономной самоуправляющейся территории, также является прибрежным арктическим государством. Согласно исследованию Геологической службы США, находящиеся вдоль берегов Гренландии триллионы кубических футов газа и несколько миллиардов баррелей нефти могут позволить Гренландии занять 19-е место среди крупнейших нефтяных провинций мира. В этой связи главное внимание Копенгагена в Арктике сосредоточено теперь на защите ее экономических интересов.
В датском Соглашении об обороне на 2010–2014 гг. констатируется, что растущая активность в Арктике увеличивает нагрузку на вооруженные силы страны. В документе предусмотрена модернизация военных сооружений на Гренландии для придания датским боевым самолетам способности осуществлять мониторинг и обеспечивать суверенитет Дании в этом районе. Стремясь расширить возможности воздушного и морского патрулирования, датские военные запрашивают новые вертолеты, способные действовать в условиях Арктики, и патрульные суда, приспособленные для плавания в сложной ледовой обстановке. Все это в дополнение к 48 истребителям F-16, четырем транспортным самолетам C-30 Hercules, 21 вертолету Sea King и 14 – Merlin, одному эсминцу с тремя вспомогательными судами, четырем фрегатам и большому количеству патрульных судов и судов поддержки, а также системам наблюдения и раннего предупреждения. Соглашение об обороне не связывает обеспечение национальных экономических интересов в Арктике с помощью со стороны НАТО. Оно предлагает объединить Гренландское и Фарерское командования в единую структуру и создать мобильные Арктические силы быстрого реагирования.
Дания планирует модернизировать службы наблюдения за льдами и погодой, расширить станцию «Север», военно-воздушную базу в Туле и воздушную базу в Кангерлуссиаг, создать дополнительные армейские станции в Восточной Гренландии, а также обновить оборонительную инфраструктуру для поддержки инспекционных полетов на север и восток от Гренландии. Она намерена использовать также военно-воздушную базу в Туле, находящуюся в оперативном управлении военно-воздушных сил США в качестве места базирования датских самолетов дальнего действия, осуществляющих инспекционные полеты в регионе.
Канада рассматривает Арктику как неотъемлемую часть своей национальной идентичности. В декабре 2009 г. канадский парламент единогласно принял закон о переименовании морской арктической артерии страны в Канадский Северо-Западный проход, подтвердив тем самым его характер внутреннего пролива. Комитет по вопросам рыболовства канадского сената рекомендовал требовать от всех судов регистрировать свое присутствие в северных канадских водах.
Канада намерена создать мощности, способные «обеспечивать контроль и защищать суверенитет Канады в Арктике», обновить единственный глубоководный порт Нанисивик в Нунавуте на острове Баффин и построить там новую морскую базу. Предполагается также открыть тренировочный центр для действий в суровых условиях Арктики в заливе Резольют, увеличив там военное присутствие на 900 рейнджеров.
Канадское правительство намерено оснастить необходимым снаряжением береговую охрану, построить дополнительный полярный ледокол, 6–8 патрульных судов, закупить 65 современных истребителей F-35, приобрести 10–12 патрульных самолетов для наблюдения за морскими пространствами и создать мощную систему мониторинга с сенсорами, управляемыми беспилотными летательными аппаратами и спутниками. Канада не скрывает намерения при обеспечении своего суверенитета в Арктике и при решении спорных вопросов с другими прибрежными арктическими государствами действовать самостоятельно, руководствуясь национальными, а не блоковыми интересами. Сценарии ежегодных летних маневров Operation Nunalivut, проводимых на севере страны, связаны с решением именно этих задач. МИД Канады высказал намерение укреплять двусторонние отношения с арктическими государствами, усиливать Арктический совет и другие многосторонние институты. При этом министерство не сочло необходимым упомянуть о роли НАТО в канадской арктической политике. Канада, как известно, не позволила включить какую-либо ссылку на Арктику в новую Стратегическую концепцию альянса.
Одновременно Канада стремится к сотрудничеству с Россией по проблемам «мягкой» безопасности в Арктике, подчеркивая, что «геологические исследования и международное право, а не военные затрещины, в конечном счете позволят разрешить спорные вопросы разграничения подводных границ в Арктике».
Особый интерес представляет арктическая стратегия Вашингтона как политического и военного лидера НАТО. Директива, касающаяся новой политики США в Арктике, подписанная Джорджем Бушем в январе 2009 г., гласила: «Соединенные Штаты имеют широкие и фундаментальные для национальной безопасности интересы в арктическом регионе и готовы действовать либо самостоятельно, либо совместно с другими государствами для их защиты». Новая национальная арктическая стратегия Америки базируется на трех основных принципах: обеспечении интересов безопасности США, ответственном управлении арктическим регионом, укреплении международного сотрудничества. «Мы будем стремиться принимать меры как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних органов, включая Арктический совет, которые будут способствовать обеспечению коллективных интересов, содействовать благосостоянию арктических государств, защищать окружающую среду Арктики и укреплять региональную безопасность, и будем предпринимать усилия для присоединения Соединенных Штатов к Конвенции ООН по морскому праву».
Дорожная карта американских военно-морских сил в Арктике, опубликованная в октябре 2009 г., предусматривает расширение операций флота в северном направлении, приспособление боевых возможностей флота к условиям Арктики, усиление систем защиты от баллистических и крылатых ракет и обеспечение контроля над морскими пространствами. Соединенные Штаты планируют разместить 36 истребителей-невидимок F-22 Raptor и патрульных самолетов P-3 Orion на Аляске.
Территории союзных США государств в Арктике служат местом дислокации американской системы противоракетной обороны (Аляска, Северная Канада, Туле на Гренландии, радар в Кефлавике, управляемый исландскими силами обороны) и американо-канадской системы НОРАД.
Американская «Совместная стратегия морской державы ХХI века» утверждает, что нынешнее развитие в Арктике представляет собой «потенциальный источник соревнования и конфликта за доступ к природным ресурсам». Однако даже гипотетическое использование возможностей НАТО для разрешения этих проблем не стало предметом серьезного рассмотрения в этом документе. По мнению Хафтендорн, альянс «не является главным американским инструментом для обеспечения безопасности в Арктике».
Вместе с тем американские документы содержат призывы к укреплению различных форм сотрудничества восьми арктических государств, включая Россию. Соединенные Штаты поддерживают проведение совместных учений и тренировок, обмен информацией и накопленным опытом, а также улучшение механизмов многостороннего сотрудничества, координации и поддержки с военными других арктических государств при проведении поиска, спасения и оказания чрезвычайной помощи. Представитель НОРАД, например, был участником переговоров в рамках Российско-Американского центра предупреждения инцидентов в открытом море в 2009 году. По мнению Гейла Бреймена, операции НОРАД на Аляске могут стать средством «позитивного взаимодействия с российскими военными партнерами в ходе перезагрузки отношений между двумя нациями». «Мы будем изыскивать возможности для работы с Москвой по возникающим новым проблемам, таким как будущее Арктики», – говорится в докладе Quadrennial Defense Review Reportза 2010 г., опубликованном Пентагоном.
США считают, что наиболее существенные угрозы для национальной безопасности исходят от негосударственных акторов, которые могут воспользоваться свободными ото льдов водами Арктики для контрабанды наркотиков, оружия, организации нелегальной иммиграции и переброски террористов. Подобные тревоги разделяются и другими прибрежными арктическими государствами, в частности Канадой и Россией. Это служит дополнительным аргументом в пользу более тесного взаимодействия прибрежных арктических государств.
Тем не менее было бы не вполне корректно выводить за скобки тот факт, что и у Москвы, и у Вашингтона сохраняются важные военные интересы в Арктике. Стратегические подводные лодки двух стран, оснащенные ядерным оружием, сохраняют возможность действовать в Арктике. В данном случае речь идет не о коллективных силах НАТО, а об инструментарии политики сдерживания, осуществляемой Россией и США. Военный потенциал Соединенных Штатов используется скорее как инструмент политики национальной безопасности и глобальной стратегии, чем как интегральная часть коллективных сил НАТО, предназначенных сдерживать конкретное враждебное государство в Арктике.
Арктические государства – члены альянса склонны обеспечивать свои интересы в Арктике, полагаясь главным образом на возможности своих национальных вооруженных сил, а не на объединенные силы блока. В современных условиях все сложнее найти такие миссии для НАТО как военно-политического союза в Арктике, которые безусловно разделялись бы всеми его членами и были бы в состоянии смягчить или устранить существующие различия в интересах.
АРКТИЧЕСКАЯ «ПЯТЕРКА» И АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Министр иностранных дел Канады Лоуренс Кэннон однажды назвал пять арктических прибрежных государств, включая Россию, странами, «имеющими общие интересы и несущими совместную ответственность в управлении районами Северного Ледовитого океана».
Первая встреча «Арктической пятерки» проходила в Илулиссате (Гренландия) в мае 2008 года. В Илулиссатской декларации, одобренной участниками, указывалось, что существующее морское право дает прочную основу для ответственного управления Арктикой силами пяти прибрежных арктических государств и других ее пользователей. Декларация говорит, что нет «необходимости в создании нового всеобъемлющего международного правового режима для управления Северным Ледовитым океаном». Для разрешения всех спорных вопросов достаточно уже существующей международно-правовой основы.
Участники встречи в Илулиссате выразили стремление сохранить уникальную экосистему Северного Ледовитого океана «как национальными усилиями, так и в сотрудничестве между пятью государствами и другими заинтересованными акторами» и содействовать сохранению жизнедеятельности на море «с помощью двусторонних и многосторонних мер имеющих к этому отношение государств».
«Арктическая пятерка» подтвердила свои суверенные права на северные территории, воды, шельфы, биологические и природные ресурсы Арктики и обязалась регулировать противоречия в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и другими нормами международного права. Она отвергла идею «установления в Арктике международного режима управления». Участники второй встречи «Арктической пятерки» в канадском Челси в марте 2010 г. заявили о намерении тесно сотрудничать по широкому кругу вопросов – от определения внешних границ их континентальных шельфов и заключения юридически обязательного соглашения о поиске и спасении терпящих бедствие до работы по установлению обязательного режима повышения безопасности судоходства.
Отстаивая совпадающие интересы прибрежных арктических государств от любых претензий со стороны других стран, «Арктическая пятерка» превратилась во влиятельный фактор международных отношений в регионе. Она готова «вносить активный вклад в работу Арктического совета и других международных форумов», не поддерживая предложения, касающиеся изменения его существующего статуса. «Арктический совет, – считают Соединенные Штаты, – должен оставаться форумом высокого уровня, занимающимся проблемами в рамках его действующего мандата, и не должен превращаться в формальную международную организацию».
В мае 2011 г. представители государств – членов Арктического совета подписали в Нууке (Гренландия) соглашение о сотрудничестве в осуществлении воздушного и морского поиска и спасения в Арктике, разделив ее на зоны ответственности участников соглашения, которые при необходимости могут прибегать к помощи не входящих в него государств. В мае 2013 г. в Кируне (Швеция) ими было подписано соглашение о сотрудничестве в борьбе против морских разливов нефти в Арктике.
Все страны «Арктической пятерки» являются постоянными членами Арктического совета. Скандинавские страны – члены НАТО также тесно сотрудничают с другими государствами Северной Европы в рамках Северного совета, Северного совета министров и многих других общих институтов, созданных в рамках «северного сотрудничества». Уровень интеграции между северными странами значительно глубже, чем тот, который достигнут государствами Европейского союза. На повестку дня встали вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в сфере внешней политики и политики безопасности. В феврале 2009 г. Торвальд Столтенберг, бывший министр иностранных дел Норвегии, предложил активизировать оборонное сотрудничество между пятью странами Северной Европы, и в 2010 г. североевропейские страны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В целом «северная пятерка» – стабильная группа единомышленников, чье тесное региональное взаимодействие в различных областях является неотъемлемой частью их внутриполитической и международной долгосрочной стратегии. Обозначение этого сотрудничества в сфере обороны как создание альтернативы НАТО трудно отнести к бесспорному. Если возникли проблемы в определении миссий всего альянса в Арктике, то их вряд ли можно преодолеть при помощи неких мини-НАТО.
Россия взаимодействует с «северной пятеркой» в Арктическом совете, Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евроарктического региона и в рамках Северного измерения. Любые попытки противопоставить одну группу северных стран другой носили бы контрпродуктивный характер для России, как и для других прибрежных арктических государств. «Арктическая пятерка» и Арктический совет занимаются различными проблемами, и их деятельность не противоречит, а дополняет друг друга.
По окончании холодной войны институализированную роль НАТО как военно-политического альянса в Арктике трудно обосновать. Страны – члены альянса, входящие в Арктический совет, совместно с Россией, Финляндией и Швецией заявили в Кируне в мае 2013 г., что «решения на всех уровнях в Арктическом совете являются исключительным правом и ответственностью восьми государств, подписавших Оттавскую декларацию». Они выразили единодушное намерение и далее укреплять Арктический Совет и стремиться к превращению его в орган, «делающий политику в Арктике». «Нам удалось превратить регион в пространство уникального международного сотрудничества, – подчеркивается в Декларации Арктического совета “Будущее Арктики”, – мы верим в то, что не существует проблем, которые мы не могли бы решить совместно, опираясь на наши отношения сотрудничества на базе существующих норм международного права и доброй воли».
При последовательном проведении Россией курса на взаимодействие с арктическими странами на основе принципов международного морского права и с учетом общности интересов c ними имеются все предпосылки для нейтрализации попыток оправдать более активную вовлеченность военно-политического блока в арктические дела.
Л.С. Воронков – доктор исторических наук, профессор кафедры европейской интеграции, руководитель североевропейского отделения Центра североевропейских и балтийских исследований МГИМО (У) МИД России.
ГОНКОНГ ПОКА НЕ ОТВЕТИЛ НА ПРОСЬБУ США ЗАДЕРЖАТЬ СНОУДЕНА
В США экс-сотруднику ЦРУ предъявлено обвинение в шпионаже
Власти США предъявили бывшему аналитику ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обвинение в шпионаже. В настоящее время Сноуден находится в Гонконге, и эксперты полагают, что переговоры о его выдаче Соединенным Штатам могут затянуться на годы, передает Reuters.
Источники агентства в Гонконге сообщили, что с того момента, как Сноуден разгласил информацию о масштабных программах слежки за гражданами правительства США, бывший сотрудник ЦРУ пытался заручиться поддержкой адвокатов, специализирующихся на защите прав человека, чтобы не допустить своей экстрадиции на родину.
Власти США обвинили Сноудена в хищении американской государственной собственности, а также несанкционированном разглашении информации, касающейся национальной безопасности. США обратились к властям Гонконга с требованием задержать Сноудена в том случае, если он все еще находится в этой стране.
Соглашение об экстрадиции между США и Гонконгом вступило в силу в 1998 году. С этого момента множество американцев были отправлены в США для того, чтобы предстать там перед судом. Хотя шпионаж и кража государственной собственности в соглашении отдельно не прописаны, в Гонконге Сноудену может быть предъявлено обвинение по похожим статьям местного законодательства. В том случае, если этого не произойдет, экстрадировать экс-сотрудника ЦРУ будет невозможно. Один из экспертов, опрошенных агентством, утверждает, что Сноуден, теоретически, сможет свободно жить в Гонконге, если там ему не будет предъявлено обвинений в аналогичном преступлении.
В начале июня газеты The Washington Post и The Guardian опубликовали сенсационные статьи о том, что правительство США следит за интернет-пользователями через популярные соцсети. Оказалось, что секретной информацией журналистов снабдил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. В настоящее время он пытается получить политическое убежище в Исландии. В этом ему помогает WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта, Украина вышла из его "черного списка". Такое решение стало следствием существенного повышения качества государственного надзора со стороны Укрморричинспекции за соответствием судов под украинским флагом международным и требованиям в сфере безопасности на морском и речном транспорте .
Вывод флага Украины из "черного списка" Парижского меморандума - одно из условий вступления Украины в ЕС, поставленных Европейским союзом, неоднократно обсуждался на Совместном Комитете старших должностных лиц по Повестки дня ассоциации Украина - ЕС, Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.
Заметим, что качественные и количественные показатели по проверкам судов под иностранными флагами значительно повысились и остаются одними из самых высоких в Черноморском регионе: за первое полугодие проверено 636 судов, что на 80 проверок больше, чем в Российской Федерации, и почти в 4 раза больше, чем в Республики Турции.
Данные улучшения подтвердил в своем письме от 27 мая 2013 № 035/13 капитан Хусейн Юче Секретарь Черноморского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта в Черноморском регионе (далее - Черноморский меморандум), а именно: "Таких высоких количественных и качественных показателей не показала ни одна из морских администраций в Черноморском регионе, что является доказательством правильных решений, принятых руководством страны, и понимания важности вопроса улучшения уровня безопасности судоходства в Черноморском регионе. Украинские инспекторы демонстрируют высокий уровень знаний и практических навыков во время международных семинаров и программ по обмену опытом, проводимым в рамках сотрудничества Черноморского и других меморандумов ".
Вместе с тем, это не первое письмо благодарности от Секретаря Черноморского меморандума к руководству страны, в котором отмечено уделение повышенного внимания со стороны морской администрации уровню контроля судов государством порта в портах Украины за последние два года и улучшения взаимоотношений с международными организациями и сообществами по государственному надзору и контроля за безопасностью судоходства.
Справка: в состав Парижского меморандума входят следующие страны: Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия , Российская Федерация, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция (Секретариат - Нидерланды).
В состав Черноморского меморандума входят Республика Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Республика Турция, Украина (Азербайджанская Республика - страна наблюдатель).
ЭКВАДОР МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ УБЕЖИЩЕ ЭКС-АГЕНТУ ЦРУ СНОУДЕНУ
По неофициальной информации, новым местом жительства бывшего сотрудника ЦРУ может также стать Исландия
Если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж когда-нибудь сможет уехать в Эквадор, где ему предоставили политическое убежище, то там он может встретиться с экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Как сообщил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино, власти страны готовы рассмотреть вопрос о предоставлении убежища и Сноудену, который обвиняется в рассекречивании документов американской спецслужбы. Об этом пишет Ninemsn.
"Если он обратится с просьбой предоставить ему убежище в Эквадоре, конечно, мы проанализируем эту ситуацию, взяв на себя всю ответственность за принятие окончательного решения", - сказал Патино, общаясь с журналистами в Лондоне. В столице Великобритании глава МИД Эквадора встретился со своим британским коллегой Уильямом Хейгом. Он безуспешно пытался разрешить ситуацию вокруг австралийца Джулиана Ассанжа, который уже почти год не покидает территорию эквадорского посольства в Лондоне. Основатель WikiLeaks опасается, что его могут арестовать и передать американским властям. По его словам, он готов провести в посольстве Эквадора еще пять лет.
Что касается Сноудена, которого также преследуют американские спецслужбы, то он, по данным СМИ, сейчас находится в Гонконге. Ранее он распространил в прессе информацию, что правительство США следит за интернет-пользователями через популярные соцсети.
На прошлой неделе известный австралийский адвокат Джеффри Робертсон предложил Сноудену бежать в Новую Зеландию. С ним не согласился Ассанж. "Новая Зеландия - отличное местечко, но она обменивается разведданными с США", - сказал он, предложив Сноудену подумать о побеге в Россию или в Латинскую Америку.
По данным Reuters, Сноуден не стал прислушиваться к советам Ассанжа и Робертсона, а принял самостоятельное решение. Как передает агентство, Исландия получила неформальный запрос представителя Сноудена, в котором говорится, что бывший работник ЦРУ хочет получить убежище в этой стране. Сообщается, что запрос был передан пресс-секретарю WikiLeaks Кристин Храфнссон. "12 июня я получила сообщение от Эдварда Сноудена, в котором он просил меня уведомить исландское правительство, что он хочет получить убежище в Исландии", - сказала Храфнссон, которая работает журналистом в этой стране и ведет колонку в газете Frettabladid.
В правительстве Исландии подтвердили, что получали от Храфнссон подобное сообщение
Правительство Мальты объявило о «запуске» с 1 июня этого года новой программы получения вида на жительство для иностранцев – неграждан Европейского союза.
Глобальная программа резиденства (Global Residence Programme) - это предложение для обеспеченных категорий иностранных граждан получить ВНЖ на Мальте в обмен на приобретение недвижимости и добросовестную уплату налогов.
Раньше - по приостановленной в 2011 году (и, как оказалось, неработоспособной) Программе налогового резидентства для состоятельных граждан (High Net Worth Individuals TaxResidence Scheme) - от желающих получить статус резидента Мальты (граждан ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна или Швейцарии) требовалось приобрести недвижимость на сумму не менее 400 000 евро или арендовать жильё на сумму не менее 20 000 евро в год.
Для граждан из третьих стран (в том числе и из Украины), вдобавок к этому, существовало дополнительное условие - о размещении в банке Мальты беспроцентного правительственного депозита на сумму 500000 евро (и дополнительно по 150000 евро на каждого члена семьи). Требования о приобретении/аренде недвижимости при этом были такими же, как и для иностранцев из ЕС.
В соответствии с Глобальной программой резидентства, возможности для кандидатов в резиденты Мальты существенно расширены:
Снижен минимальный порог цен на жильё: новая схема получения экономического резидентства предполагает предоставление ВНЖ в обмен на покупку недвижимости на Мальте стоимостью от 275 000 евро, а в южной Мальте или на острове Гозо – по минимальной цене 220 000 евро. Для состоятельных иностранцев, которые предпочитают арендовать жильё для получение ВНЖ, минимальная стоимость аренды должна составлять не менее 9 600 евро, а также минимум 8 750 евро - для острова Гозо и южной Мальты. Из программы исключено требование о внесении гражданами третьих стран, которые желают поселиться на Мальте, правительственного депозита (бонда) за себя и членов семьи. Авансовая сумма подоходного налога, которая должна быть уплачена иностранцами, получившими резидентство по новой программе, уменьшена с 25 000 евро (и дополнительных 5 000 евро за каждого из членов семьи) до 15 000 евро. В дальнейшем ставка налога на полученный на территории Мальте доход составляет 15%. Иностранцы и члены их семей, которые планируют переехать на Мальту по новой программе экономического резидентства, обязаны оформить медицинскую страховку (на них не распространяется предоставление государством бесплатных медицинских услуг).
Парламентский секретарь Мальты Эдвард Заммит Льюис заявил, что правительство страны планирует принять и ввести в действие законодательные акты, необходимые для внедрения программы резидентства, уже к концу июня 2013 года.
МЭР РЕЙКЬЯВИКА ВЫРАЗИЛ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИНЯТОМУ ДУМОЙ АНТИГЕЙСКОМУ ЗАКОНУ
"Гомосексуалисты веселые, а вы (депутаты) и ваша церковь - просто страшные", - написал Йон Гнарр
Мэр столицы Исландии Рейкьявика Йон Гнарр выразил свое отношение к недавно принятому Госдумой России антигейскому закону. На своей странице в сети Facebook он написал: "Если вам не нравятся гомосексуалисты, то вы, должно быть, ненавидите и гетеросексуалов. Ваша религия - более опасная, чем гомосексуализм. Дорогая Дума. Гомосексуалы веселые. А вы и ваша религия просто страшные", - полагает Йон Гнарр.
Йон Гнарр по своей первой профессии - актер и комик. Россиянам он, в частности, известен тем, что в августе 2012 года поддержал участниц Pussy Riot, проехав по городу в платье и балаклаве. Гнарр ехал на помосте, смонтированном в кузове грузовика. Автомобиль был украшен плакатом "Свободу Pussy Riot" и надписью Gayor ("Гей-мэр"). Из колонок при этом играли песни Pussy Riot. Акция Гнарра прошла в рамках традиционного гей-фестиваля, который в 2012 году проходит в Рейкьявике с 7 по 12 августа.
Гнарр основал партию, которую назвал просто: "Лучшая партия". На выборах в 2010 году она получила 6 из 15 мест в муниципальном собрании Рейкявика. Партия при этом характеризовала себя как "открыто коррумпированную" и обещала не выполнять своих предвыборных обещаний. На выборах в совет столицы Исландии партия Гнарра гарантировала своим избирателям бесплатные полотенца в бассейнах, белого медведя в зоопарке, "Диснейленд" в аэропорту Рейкьявика.
11 июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете гей-пропаганды, наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений - в законе это называется именно так - ужесточили. Для граждан - штраф до 5 тысяч рублей, для юрлиц - до 1 млн. Если в дело вступят СМИ, им грозит приостановка лицензии, а штраф для физлиц увеличится до 100 тысяч.
В течение ближайших нескольких дней на южнокорейский рынок поступят первые партии пакистанского манго. Местные производители считают это событие знаковым, так как отгрузка этого вида фруктов будет первой за всю историю отношений двух стран.
Как ожидается, закончится экспорт примерно 5 августа.
Инициатором поставок в Южной Корее стала продовольственная компания Lotte Group, которая намеревается получить за лето 2013 года в общей сложности около 100 тонн авокадо, выращенного в Пакистане.
Напомним, что запланированный уровень выращивания манго в стране в этом году может достичь 1,55 млн тонн продукции, что на 20% меньше, чем в прошлом периоде. Пакистан осуществляет экспорт этого вида фруктов в 40 стран мира - Канаду, Германию, Великобританию, Францию, Италию, Исландию, Данию, Голландию, Швейцарию, Бельгию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Ливан и другие.
КИТАЙ ВПЕРВЫЕ ПОБОРЕТСЯ ЗА МЕСТОРОЖДЕНИЕ В АРКТИКЕ
Китайская компания Cnooc подала совместно исландской Eykon Energy заявку на получение лицензии на освоение шельфового месторождения
Предприятие Cnooc стало первой китайской компанией, претендующей на добычу нефти в Арктике. Как пишет The Financial Times, она подала совместно с исландской Eykon Energy заявку на получение лицензии на разработку и добычу нефти и газа на острове Ян-Майен, находящемся между Гренландским и Норвежским морями.
В Eykon отмечают всплеск интереса к нефтяным месторождениям в Арктике: иностранные компании готовы инвестировать в эти проекты. "Эти месторождения богаты не только нефтью и газом, но и минералами. Кроме того, их освоение предполагает открытие новых морских путей", - считают в исландской компании.
По данным FT, Eykon обратился к Cnooc с предложением о сотрудничестве после того, как Национальное управление по энергетике Исландии обязало компанию найти партнера для получения лицензии на освоение шельфового месторождения.
В исландской компании заявляют, что выбор делового партнера не был политически мотивированным решением. Там пояснили, что, несмотря на большое количество претендентов, у Cnooc было преимущество в виде необходимых ресурсов для ведения совместного бизнеса.
Между тем издание напоминает, что в последнее время Китай и Исландия работают над укреплением сотрудничества. В частности, Исландия в апреле этого года стала первой страной в Европе, подписавшей договор о свободной торговле с КНР.
В июне 2013 года исландский авиаперевозчик Icelandair и ОАО "Авиакомпания "Россия", входящее в группу компаний "Аэрофлот", приступили к эксплуатации совместной воздушной линии Санкт-Петербург - Рейкьявик.
Полеты в столицу Исландии начали выполняться из Санкт-Петербурга впервые. Согласно код-шеринговому договору, действующему между двумя авиаперевозчиками, оператором на линии является Icelandair, авиакомпания "Россия" выступает маркетинговым партнером.
В настоящий момент авиакомпания "Россия" осуществляет продажу билетов на согласованный блок мест. В дальнейшем планируется реализация билетов по системе free flow, то есть без ограничения по числу продаваемых мест.
Рейсы, выполняющиеся под двойным кодом FI392/391 и FV4392/4391, отправляются по вторникам и субботам из Рейкьявика в 08:10, из Санкт-Петербурга - в 09:40.
На линии эксплуатируются воздушные суда Boeing 757/200 и 757/300 с тремя классами обслуживания: экономический, эконом комфорт и бизнес-класс.
Открытие нового рейса в Исландию, расположенную между Европой и Северной Америкой, дает пассажирам дополнительные возможности для удобных стыковочных рейсов. В частности, воздушная линия Санкт-Петербург - Рейкьявик стала кратчайшим маршрутом при полетах со стыко! вкой из Северной столицы России в Америку.
ПЛАТА ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ
АНАСТАСИЯ МАТВЕЕВА
Идем на четыре буквы Россия вступает в ОЭСР
Какова цена будущего членства России в ОЭСР
Сегодня в Париже открывается форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основные дискуссии, как предполагается, развернутся вокруг поддержания роста экономик, создания рабочих мест и поддержания социальной справедливости в 34 странах - участницах ОЭСР. Россия, которую на площадках форума представит экс-министр финансов Алексей Кудрин, пока не стала участницей ОЭСР, но в настоящее время ведет переговоры о вступлении в эту организацию.
Вступление России в ОЭСР - следующая стратегическая задача правительства после того, как Россия стала членом ВТО. Судя по всему, решение российского руководства вступить в этот "клуб" развитых экономик окончательное. Зимой президент Путин встречался с руководством ОЭСР, а в мае в ходе конференции по вопросам налогового администрирования уже сравнивал Россию по этому показателю с уровнем стран - членов этой организации: по его словам, по качеству администрирования в налоговой сфере наша страна обошла 14 из 34 этих государств.
НЕ ВТО
Россия ведет переговоры о вступлении в эту организацию, и, как считают эксперты, они должны завершиться успешно к 2014-2015 году. По мнению экспертов Высшей школы экономики, подготовивших доклад на эту тему, выгоды от членства в ОЭСР прежде всего репутационные. Они прогнозируют возможное повышение инвестиционного и кредитного рейтинга РФ, расширение доступа российских компаний к международным финансовым рынкам, появление дополнительного стимула для потенциальных инвесторов. В целом членство в этой организации способно положительно влиять на деловой климат и стимулировать экономический рост.
Однако вступление в ОЭСР требует от России определенной платы. Включая изменения в уголовном праве, выделение значительных финансовых средств на экологию и даже штрафы за неучастие в переписи населения. Правда, это членство не сопряжено, как в ВТО, с обязательным выполнением большого числа требований - лишь часть из них носит характер норм, а остальное имеет характер рекомендаций.
Переговоры о вступлении России в ОЭСР начались в 2007 году, и имеются все шансы, что они завершатся не через 18 лет, как это было в случае с ВТО, а раньше. В конце апреля первый зампред правительства Игорь Шувалов сообщил, что кабинет ожидает до конца 2013 года получить от половины рабочих комитетов ОЭСР положительное решение о вступлении России. Характерно, что ОЭСР в отличие от ВТО не вызывает аллергии у определенной части общества, поэтому митингов протеста и демаршей в Госдуме относительно факта присоединения к этой организации вряд ли стоит ожидать.
ЧИЩЕ И ДОРОЖЕ
Тем не менее на этом пути не все так гладко. Эксперты ВШЭ в своем докладе предупреждают, что выполнение Россией обязательств перед ОЭСР будет наиболее чувствительным в сфере экологии - здесь будут неизбежны серьезные финансовые затраты. В ОЭСР действует принцип "загрязнитель платит", кроме того, охрана окружающей среды строится на принципах предотвращения загрязнений. "Существующая в России система платы за загрязнение неэффективна, а экономические стимулы недостаточны в связи с низкими ставками по сравнению с требуемыми природоохранными расходами", - говорит главный научный сотрудник Института экономики природопользования и экологической политики ВШЭ Андрей Терентьев. России придется постепенно снижать энергоемкость транспорта до уровня показателей стран - членов ОЭСР и переходить на экологичные виды топлива, отметил он.
Будет затронута химическая промышленность: российские правила и методы испытания химических веществ сильно отличаются от действующих в ОЭСР, к примеру, по оценке токсичности и видам воздействия. В России отсутствуют лаборатории, признанные инспекционными органами ОЭСР, это приведет (если таковые не появятся) к необходимости проводить исследования за рубежом, что весьма затратно.
Фармацевтика также может почувствовать эффект членства. "Прямые потери наших российских лабораторий составят до 20% объема рынка лекарственных и ветеринарных препаратов", - предсказывает Терентьев.
Кстати, в связи со вступлением в ОЭСР от России могут потребоваться и другие дополнительные затраты. Как члену престижной международной организации ей придется тратить больше денег на помощь бедным странам в рамках программ содействия международному развитию.
ЮРЛИЦ - К ОТВЕТУ
В области уголовного права также есть проблемы. С одной стороны, рекомендации ОЭСР по усилению борьбы с коррупцией можно только приветствовать - они подразумевают серьезное ужесточение законодательства в этой области.
Речь идет о таких рекомендациях, как внедрение уголовной ответственности юридических лиц (к этому призывает и глава СКР Александр Бастрыкин) и наказание за обещание и предложение дать взятку. ОЭСР рекомендует также увеличить срок давности при даче взятки иностранным должностным лицам и отменить практику освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием по делам о подкупе иностранных должностных лиц.
Однако в российских условиях введение ответственности юрлиц может быть использовано в качестве инструмента недобросовестной конкурентной борьбы, подчеркнул Алексей Конов из Центра развития государственной службы ВШЭ. Ужесточая наказание за коррупцию, необходимо думать и о возможности раскрытия подобных преступлений: если отменить такой важнейший стимул к сотрудничеству со следствием, как освобождение от наказания, раскрываемость снизится, убежден эксперт. Внесение же в Уголовный кодекс новых составов преступлений увеличит нагрузку на пенитенциарную систему, которая и так огромна.
СОМНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
ОЭСР рекомендует России ввести прогрессивное налогообложение доходов физлиц, хотя формально это не регулируется нормами организации. Тем не менее большинство стран ОЭСР придерживаются именно прогрессивного налогообложения. Российские власти же склонны считать 13-процентную плоскую шкалу налога на доходы серьезным достижением. Кстати, и в некоторых зарубежных странах, включая развитые, российский опыт рассматривают как позитивный.
"Несмотря на отсутствие единой позиции в российском экспертном обществе, преобладающей является та оценка, что введение прогрессивного налогообложения физлиц может негативно сказаться на экономическом росте и усилить неустойчивость налогового законодательства", - отмечается в докладе ВШЭ.
ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ
Вступление в ОЭСР может повлечь за собой пересмотр применяемых у нас методов статистических расчетов. В особенности это касается доходов населения (к примеру, в российских мониторингах уровня доходов редко учитывается владение недвижимостью). Организация сомневается в верности российских статистических данных, поэтому главный статистик ОЭСР Мартин Дюран рекомендовал России сделать обязательным участие в переписи населения - сейчас оно добровольное. "Когда РФ вступит в ОЭСР, у нас должна быть возможность сравнивать ее статистику со статистикой других стран, входящих в организацию", - заявил он на недавней пресс-конференции. Росстат поддержал коллег из ОЭСР, поэтому уклонение от участия в переписи может стать наказуемым деянием.
Чиновники полагают, что, несмотря на выводы доклада ВШЭ, выгод во вступлении России в ОЭСР гораздо больше, чем рисков, и стоит приложить усилия, чтобы попасть в такую престижную международную организацию. "Требования ОЭСР к нам достаточно вменяемые. Больших рисков их соблюдения нет. Ничего противоестественного, от чего сразу посыплется наша экономика и безопасность, там нет", - сказал в ходе обсуждения доклада замдиректора департамента корпоративного управления МЭР Руслан Кокорев. Это относится, по его мнению, и к проблеме соблюдения прав миноритарных акционеров, на чем настаивает ОЭСР.
Членство России не связано с жесткими обязательствами по изменению своего законодательства. "Ни в одной стране ОЭСР ни одна рекомендация этой организации в полной мере не реализована. Вряд ли и мы должны все рекомендации у себя внедрять именно в том виде, как нам предлагают", - уверен директор департамента госрегулирования в экономике МЭР Алексей Херсонцев.
Вступление России в ОЭСР - следующая стратегическая задача правительства после того, как Россия стала членом ВТО
347 млн евро составляет бюджет ОЭСР
***
ЧТО ТАКОЕ ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) - международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. ОЭСР была образована в 1961 году по инициативе США на базе существовавшей с 1948 года Организации европейского экономического сотрудничества, которая координировала американскую и канадскую помощь пострадавшим во время Второй мировой войны европейским странам в рамках плана Маршалла. Штаб-квартира организации располагается в Париже. Генеральный секретарь (с 2006) - Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран - членов организации. Все решения в нем принимаются на основе консенсуса.
Цели организации: достижение высокого и устойчивого экономического роста и повышение жизненного уровня стран-членов при соблюдении финансовой стабильности; продвижение разумных экономических взглядов и методов в странах-членах, а также в невходящих в ОЭСР государствах, идущих по пути экономического развития; развитие международной торговли на многосторонней, не дискриминационной основе в соответствии с международными обязательствами.
В ОЭСР входит 34 страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Словакия, США, Турция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония. Бюджет организации составляет 347 млн евро. Россия с помощью сотрудничества с этой организацией надеется продолжить интеграцию в мировую экономику, расширить партнерские взаимоотношения с развитыми странами и получить доверие инвесторов, чтобы обеспечить устойчивый рост своей экономики.
Специалисты Россельхознадзора по Мурманской области не допустили ввоз из Норвегии 25 тонн произведенной в Исландии печени трески неизвестного качества, сообщает ведомство во вторник.
"Часть груза не соответствовала заявленной в документах продукции: было указано название "икра трески", фактически поступила печень трески. При этом разрешение на ввоз, ветеринарные и товаросопроводительные документы на печень отсутствовали, в результате чего установить безопасность данной продукции не представлялось возможным", - говорится в сообщении.
Сомнительный груз прибыл в порт Мурманск на иностранном судне Holmfoss, всего на борту было 800 тонн товаров - норвежская и исландская рыбопродукция, а также продукция российского производства, находившаяся на временном хранении на терминалах в Норвегии.
Среди нее и была обнаружена сомнительная печень трески.
"С целью недопущения попадания на рынок продукции неустановленного происхождения, безопасность которой не подтверждена ветеринарными документами, было принято решение о ее возврате. В результате печень трески была возвращена этим же судном фирме-отправителю", - говорится в сообщении.
Американские фармкомпании Bristol-Myers Squibb и Pfizer Inc. объявили о результатах клинического испытания ARISTOTLE, опубликованных в журнале Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) "Кровообращение" (Circulation). Препарат Эликвис (Eliquis) уменьшил риск инсульта или системной эмболии, а также количество кровотечений и летальных случаев, после пережитых сердечных приступов по сравнению с варфарином (warfarin).
Как отметил ведущий автор исследований доктор Ларс Валлентин (Lars Wallentin) из Уппсальского университета, что касается качества лечения варфарином, то существует огромная разница во времени в терапевтическом диапазоне между разными странами и центрами, что тоже влияет на результаты исследований. Данный субанализ был проведен с целью определения был ли терапевтический эффект от апиксабана (apixaban) похожим на тот, который исследователи наблюдали с варфарином. Дополнительные анализы подтвердили первичные результаты исследования ARISTOTLE и они были постоянными во время всего лечения.
Испытание ARISTOTLE было разработано для оценки эффективности и безопасности препарата Эликвис по сравнению с варфарином для профилактики системной эмболии и инсульта у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий. В ходе клинического испытания, 18, 201 пациент был рандомизирован на получение лечения (9,120 пациентов принимали Эликвис и 9,081 – варфарин). ARISTOTLE является контролируемым рандомизированным двойным слепым международным исследованием пациентов, страдающих неклапанной фибрилляцией предсердий, трепетанием предсердий или тех, кто имеет хотя бы один фактор риска инсульта. Пациенты были рандомизированы на прием препарата Эликвис в дозе 5 мг перорально два разы в день или варфарина.
Препарат Эликвис/апиксабан (Eliquis/ apixaban) является пероральным прямым ингибитором фактора Xa. Ингибируя фактор Xa – основной белок свёртывания крови, Эликвис предупреждает выработку тромбина и образование тромбов. Ранее Эликвис был одобрен для профилактики риска инсульта и системной эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий в США, Европейском союзе, Канаде, Японии, Корее, Мексике, Колумбии, России, Израиле и Австралии. Также Эликвис одобрен для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у взрослых, которые пережили реконструктивную хирургию колена или бедра в 17 регионах: Аргентине, Астралии, Бразилии, Канаде, Колумбии, Европейском союзе (который включает 27 стран-членов, а также Исландии и Норвегии), Гонконге, Индии, Индонезии, Израиле, Перу, России, Южной Корее, Швейцарии, Таиланде, Турции и Арабских Эмиратах.
Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в понедельник дал одобрение предоставлению очередного транша финансовой помощи Греции.
В 2008 году в мире начался финансовоэкономический кризис, который проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в глобальную рецессию (замедление) экономики.
Возникновение кризиса связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития; перегревом кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса; высокими ценами на сырьевые товары (в том числе, нефть); перегревом фондового рынка.
Европейская экономика подверглась жесткому воздействию финансового кризиса сразу же вслед за США, где стали банкротами крупнейшие инвестиционные банки страны.
В Германии первой компанией, входящей в важнейший немецкий биржевой индекс DAX, которая оказалась на грани банкротства в результате глобального финансового кризиса, стал мюнхенский Hypo Real Estate - ведущий немецкий банк, работающий на рынке недвижимости. Вначале банку была выделена помощь в 35 миллиардов евро под госгарантии, но этой суммы оказалось недостаточно. Чтобы не допустить банкротства HRE, германский стабфонд SoFFin предложил выкупить обесценившиеся акции у акционеров банка и до мая 2009 года ему удалось приобрести 47,3% акций.
Правительство Германии приняло антикризисный пакет мер общим объемом порядка 500 миллиардов евро, который предполагал до конца 2009 года не только государственные гарантии межбанковских кредитов, но и прямые финансовые вливания для увеличения собственных капиталов банков. Для финансирования антикризисного пакета был создан стабилизационный фонд в объеме 400 миллиардов евро.
Правительство Франции в рамках поддержания банковской системы страны в условиях глобального финансового кризиса в октябре 2008 года выделило шести крупнейшим банкам страны 10,5 миллиардов евро. Среди банков, получивших кредит - Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale.
В октябре 2008 года главы государств, входящих в еврозону, приняли проект плана совместных действий по борьбе с мировым финансовым кризисом. Суть программы заключалась в предоставлении гарантий по обеспечению банковской ликвидности и рекапитализации банков в случае необходимости сроком до 31 декабря 2009 года.
Глобальный экономический кризис, начавшийся в 2008 году, в 2010 году в ЕС вылился в серьезный кризис суверенных долгов. Весной 2010 года возникла реальная угроза дефолта Греции, а вслед за ней и ряда других стран южной (Португалия, Испания, Италия), восточной (Венгрия, Румыния, Болгария, Украина, Латвия и Литва) и северной (Исландия, Ирландия) Европы, накопивших в ходе кризиса колоссальные государственные долги и дефициты бюджетов.
В мае 2010 года министры финансов стран еврозоны объявили о создании механизма финансовой стабильности, в рамках которого обремененные долгами страны могут рассчитывать на помощь партнеров по валютному союзу из фонда экстренной помощи общим размером до 750 миллиардов евро. Было объявлено, что большая часть из этих средств будет предоставляться самими странами еврозоны, также участие в фонде примет Международный валютный фонд.
В мае 2010 года Греция избежала дефолта по 300миллиардному долгу, согласившись провести ряд жестких экономических реформ, стабилизировать бюджет и реформировать социальную отрасль в обмен на трехлетний 110миллиардный пакет кредитов, 30 миллиардов евро из которого должны поступить от МВФ. В марте 2012 года МВФ и Европейский фонд финстабильности (ЕФФС) одобрили вторую программу финансовой помощи Греции, общий объем которой составил 130 миллиардов евро.
В декабре 2010 года была одобрена финпомощь Ирландии на сумму до 85 миллиардов евро от ЕС и МВФ, а также за счет внутренних ресурсов страны.
Португалия стала третьим, после Греции и Ирландии, государством еврозоны, изза долговых проблем и проблем финансового рынка обратившейся за внешней поддержкой. В мае 2011 года Совет министров экономики и финансов ЕС (Экофин) одобрил программу поддержки Португалии от ЕС и МВФ общим объемом 78 миллиардов евро.
В июле 2012 года Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) одобрил выделение финансовой поддержки проблемным банкам Испании на сумму до 100 миллиардов евро. Страна считается одной из наиболее проблемных в еврозоне.
В Австрии международный финансовый кризис и последующий глобальный экономический спад привел к резкому, но недолгому падению австрийской экономики. ВВП страны сократился на 3,9% в 2009 году, но приобрел положительные темпы роста (около 2%) уже в следующем 2010 году и 3% - в 2011 году.
В феврале 2012 года правительство Австрии утвердило план экономии бюджетных средств и увеличения налогов на общую сумму 27 миллиардов евро, который властям предстоит реализовать в течение 20122016 годов.
Италия на протяжении 2012 года переживала серьезные экономические трудности. В феврале 2012 года страна вступила в стадию технической рецессии после того, как в течение двух кварталов продемонстрировала отрицательный прирост экономики, что и является основным показателем вступления в эту стадию. Правительство было вынуждено принять несколько жестких антикризисных программ, которые направлены на сокращение расходов и восстановление экономики страны, а также запустить ряд реформ, в том числе пенсионную и трудового законодательства.
Нидерланды в период экономического спада пострадали от падения цен на жилье, сокращения объемов строительства, снижения потребительских расходов и инвестиций, правительственных мер жесткой экономии, сокращения экспорта и долгового кризиса еврозоны. По данным Евростата, в третьем квартале 2012 года нидерландская экономика сократилась на 1,1% в годовом исчислении - хуже, чем в Испании, Португалии и Италии, а уровень безработицы подскочил до 15летних максимумов.
В декабре 2011 года Кипр, испытывающий серьезные экономические трудности изза долговых проблем соседней Греции, получил от России кредит в 2,5 миллиарда евро.
В марте 2013 года экономика Кипра оказалась на грани краха после требования Еврогруппы ввести налог на депозиты. Однако Кипру пришлось согласиться на санацию своей банковской системы и списание части депозитов в обмен на 10миллиардный пакет помощи ЕС. 18 апреля 2013 года парламент Кипра одобрил повышение налога на компании с 10% до 12,5%; увеличение налога на проценты по депозитам с 15% до 30%, которые будут идти на оборону; увеличение специального налога на финансовые учреждения с 0,11% до 0,15%. Принятие данных законов открывает путь для предоставления ликвидности примерно на 2 миллиарда евро из Европейского механизма финансовой стабилизации.
В апреле 2013 года на пороге долгового кризиса оказалась Словения. Дефицит бюджета страны значительно вырос во время экономического спада, и восстановление государственных финансов оказалось более трудным, несмотря на заметный прогресс в 2012 году. В случае если власти не смогут изменить свою экономическую политику, госдолг Словении может удвоиться и превысить ее ВВП. Осложняет положение дел Словении и то, что страна переживает серьезный банковский кризис, вызванный чрезмерными внешними рисками, слабым корпоративным управлением в государственных банках и недостаточно эффективными инструментами контроля в секторе.
3 мая 2013 года Еврокомиссия опубликовала весенний прогноз развития ситуации в экономиках еврозоны и ЕС. ЕК ожидает сокращения ВВП региона единой валюты в текущем году на 0,4% и его роста на 1,2% в следующем году, инфляция предполагается на уровне 1,6% и 1,5% соответственно. В своем зимнем прогнозе ЕК предполагала менее серьезное сокращение ВВП еврозоны в нынешнем году - на 0,3%, и большего роста в следующем - на 1,4%. Инфляция ожидалась на уровнях 1,8% и 1,5% соответственно.
ЕК попрежнему пессимистично смотрит на динамику безработицы в регионе единой валюты: в текущем году она прогнозируется на уровне 12,2%, а в 2014 году может сократиться лишь незначительно - до 12,1%.
Госдолг еврозоны продолжит расти в текущем и следующем годах. По итогам 2012 года показатель составил 92,7% ВВП. На текущий год ЕК прогнозирует 95,5% ВВП, на 2014 - 96,0% ВВП.
Прогноз дефицита бюджета еврозоны тоже ухудшен: до 2,9% ВВП региона на текущий год и 2,8% на следующий год, с 2,8% и 2,7% в зимнем прогнозе соответственно.
Финляндия на первом месте, а Швеция на втором в мировом рейтинге самочувствия матерей. Рейтинг, включающий также показатели здоровья и смертности детей, опубликован всемирной организацией "Спасите детей".
В первую пятёрку по материнскому благосостоянию входят также Норвегия, Исландия и Голландия. США занимают лишь 30 место в этом списке, отставая от Эстонии, Чехии, Израиля, Беларуси, Литвы и Польши. Россия на 59 месте.
Самая низкая смертность среди новорождённых в мире в Люксембурге и Швеции. По этому показателю США отстают от Российской Федерации, где на тысячу детей в первый день умирают два младенца, в США три. В Швеции этот показатель 0.5 на 1000 новорождённых.
Для того, чтобы наглядно представить себе число испанских безработных –а это 6 млн человек – можно использовать множество графических примеров. Издание El Mundo выбрало самые необычные эквиваленты. Например, чтобы вместить всех безработных жителей Испании, нужно 70 стадионов «Сантьяго Бернабеу». А цепочка из выстроившихся в ряд безработных заняла бы расстояние от Кордовы до Москвы.
По подсчетам Google Maps, Мадрид и Берлин расположены друг от друга на расстоянии 2 164 км. Если исходить из того, что каждый человек занимает примерно 70 см, то все испанские безработные смогли бы дважды покрыть это расстояние. Самый короткий пеший маршрут от андалусского города Кордова до Москвы имеет протяженность 4 256 км, и испанские безработные могли бы занять всю эту линейку, пройдя через такие страны, как Франция, Германия, Чехия и Польша. Об этом сообщает портал Noticia.ru.
"Сантьяго Бернабеу", стадион мадридского "Реала", вмещает 85 000 человек. Таким образом, для размещения 6 млн безработных потребовалось бы 70 таких стадионов. "Камп Ноу", на котором играет "Барселона", способен вместить 99 354 зрителя; безработных же в стране в 60 раз больше.
Для того, чтобы в ходе манифестации заполнилась столичная площадь Пуэрта-дель-Соль (11 570 кв.м), необходимо разместить на ней 46 280 человек; если бы все испанские безработные вышли на манифестацию, им потребовалось бы 130 таких площадей.
Мекку ежегодно посещают тысячи паломников. В прошлом году их число составило 1,7 млн человек. Эта цифра кажется впечатляющей, однако она составляет меньше трети от общего числа испанцев, которые не могут найти работу.
Интересно, что безработных в Испании больше, чем жителей в Дании (5,58 млн) или Финляндии (5 401 257 человек) и в семь раз больше, чем на Кипре (862 000). Эта цифра также превышает численность населения 15 европейских стран – Исландии, Ирландии, Финляндии, Дании, Эстонии, Кипра, Литвы, Латвии, Люксембурга, Мальты, Словении, Словакии, Лихтенштейна, Норвегии, Хорватии и Македонии.
Как известно, уровень занятости населения является важным фактором, влияющим на рынок недвижимости страны. Так, в Греции экономический кризис и высокий уровень безработицы привели к тому, что многие наниматели жилья просто неспособны расплачиваться за аренду. А в самой Испании из-за большого уровня безработицы сократился спрос на жилье.
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ИСЛАНДИИ ЛИДИРУЕТ ОППОЗИЦИЯ
Партии, расположившиеся на первом и втором местах, выступают против присоединения Исландии к Евросоюзу
Подсчет голосов начался на выборах в парламент Исландии, лидирует правоцентристская оппозиция, сообщает агентство AFP. По результатам частичного подсчета голосов, либерально-центристская Прогрессивная партия набирает 33,5% голосов, за ней следует консервативная Партия независимости с 28,4%. Обе партии выступают против присоединения Исландии к ЕС. Крупнейшая с 2009 года партия правящей левоцентристской коалиции - Социал-демократический альянс пока набирает всего 10,5% голосов избирателей.
Причиной поражения правящей партии стала ее жесткая посткризисная экономическая политика. Несмотря на проводимые влястями меры, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's дает ей "мусорный рейтинг".
Шесть избирательных участков на выборах в старейший в мире парламент закрылись в 02:00 мск. В выборах приняли участие 15 политических партий. Исландия является парламентской республикой. Парламент островного государства считается старейшим в мире, его первое собрание было задокументировано в 930 году. Сейчас в парламенте всего 63 места.
Лидер консервативной Партии независимости Исландии Бьярни Бенедиктссон (Bjarni Benediktsson) объявил о победе своей партии на состоявшихся в субботу парламентских выборах, заявив, что ему достается пост премьер-министра страны, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс.
Согласно результатам подсчета 33% голосов, которые приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, возглавляемая Бенедиктссоном Партия независимости получает около 20 из 63 мест в старейшем в мире парламенте. Либерально-центристская Прогрессивная партия, партия "Светлое будущее" (Bright Future), а также крупнейшая партия правящей с 2009 года левоцентристской коалиции - Социал-демократический альянс получают всего по девять мест каждая.
"Партия независимости вновь призывается исполнять свой долг", - заявил Бенедиктссон, выразив готовность к переговорам о создании новой правящей коалиции.
Партия независимости стояла у руля Исландии 18 лет до выборов 2009 года, когда исландцы, разочарованные ее правлением, отдали предпочтение Социал-демократическому альянсу. Выборы же 2013 года, как ожидается, приведут к смене левоцентристской коалиции, жесткая посткризисная экономическая политика которой оказалась слишком болезненной для жителей Исландии.
Исландия является парламентской республикой. Парламент островного государства считается старейшим в мире, его первое собрание было задокументировано в 930 году. Ныне в парламенте всего 63 места.
Выборы в старейший в мире парламент начались в субботу в Исландии, аналитики пророчат победу правоцентристам, которые обещают сократить налоги и внешний долг, но могут затормозить вступление государства в Евросоюз, сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
Как ожидается, выборы, в которых принимают участие 15 политических партий, приведут к смене правящей левоцентристской коалиции, жесткая посткризисная экономическая политика которой оказалась "слишком болезненной" для жителей страны. По данным соцопросов, фаворитами выборной гонки являются две партии - Независимая партия (Independence Party) и Прогрессивная партия (Progressives), которые находились в докризисном правительстве. Обе партии выступают против присоединения Исландии к ЕС, отмечает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
В последнее время инфляция и безработица в стране, чье население составляет около 300 тысяч человек, снизились, но у многих компаний и частных лиц по-прежнему остаются большие задолженности.
Исландия является парламентской республикой. Парламент островного государства считается старейшим в мире, его первое собрание было задокументировано в 930 году. Ныне в парламенте всего 63 места.
Установленные во льдах Северного ледовитого океана радиобуи в ближайшие полтора года помогут определить дрейф исчезнувшего столетие назад судна полярного исследователя Георгия Брусилова, рассказал на пресс-конференции в РИА Новости действительный член Русского географического общества Олег Продан.
О судьбе судна "Св. Анна" полярной экспедиции Брусилова (1912-1914 года) до сих пор почти ничего неизвестно, при этом дневники одного из членов экипажа легли в основу романа Вениамина Каверина "Два капитана". Ранее в ходе работ в 2010-2012 годов на Земле Франца Иосифа были обнаружены останки моряка, снаряжение и фрагменты дневника с выпиской из судового журнала с координатами места, где в последний раз видели "Св. Анну".
"Участники экспедиции 7 апреля на легком вертолете вышли на координаты, указанные в выписке из судового журнала "Св. Анны" и опубликованные в дневниках и установили буи для получения через интернет треков дрейфа. Данные по движению буев будут в открытом доступе на сайте клуба "Живая природа". Мы надеемся, что за полтора года работы буев хоть один из них окажется на берегу и тогда появится шанс отыскать "Святую Анну", - сказал Продан.
Как рассказал почетный полярник России, буи были установлены на льдах океана в примерно ста километрах к северу от самой северной точки Евразии на мысе Флигели острова Рудольфа Земли Франца Иосифа. При этом желательно набрать статистику движения буев не по одному году - в этом случае вероятность обнаружения остатков судна резко увеличится.
"Течения на земном шаре не меняются вне зависимости от того, что творится с нашими льдами. В конечном итоге сектор, куда вынесет наши буи, примерно совпадает с сектором, куда могло вынести шхуну или ее обломки. За Землей Франца Иосифа идет Шпицберген, Исландия и Гренландия. Даже если судно целиком вынесло на северную часть Гренландии - это терра инкогнита до сих пор. Не исключено, что в той части, куда могло вынести судно, людей не было никогда", - добавил полярник.
Готовность норвежского правительства приступить к бурению скважин в бывшей спорной зоне Баренцева моря откроет не только новую нефтегазоносную провинцию, но и новую фазу отношений с Россией.
«Это исторический момент, – сказал на этой неделеминистр нефти и энергетики Норвегии Ула Буртен Муэ, комментируя решение правительства открыть для нефтяников юго-восточную часть норвежского сектора Баренцева моря. – Впервые с 1994 года мы можем открыть новый регион и приступить к поискам нефти и газа в новых многообещающих водах».
Новые акватории открыли для нефтегазопоисковых работ меньше чем через два года после вступления в силу норвежско-российского соглашения о морской границе в Баренцевом море, то есть в беспрецедентно короткий срок. Как уже сообщалось, Норвегия направила суда сейсмогеологической разведки в эту зону площадью 175000 кв. км 7 июля 2011 г., в тот самый день, когда соглашение вступило в силу.
Исследование возможных последствий для этого района было представлено уже в октябре 2012 г.
Последние месяцы в норвежском правительстве развернулась широкая дискуссия по вопросу о разведке и добыче в арктических водах. Если три коалиционных партии решили поберечь район Ян-Майена и Лофотен, в отношении бывшей спорной зоны на границе с Россией они единодушно придерживаются другого мнения.
Такая позиция имеет политическую мотивацию. «Юго-восток Баренцева моря граничит с Россией, Ян-Майен граничит с Исландией, а между Россией и Исландией имеется большая разница», – подчеркнул в газетном интервью министр окружающей среды Норвегии Борд Вегар Сулхьель.
В недрах акватории площадью около 44000 кв. км, открытой теперь для нефтяных компаний, имеется, по оценкам, около 1,9 млрд. баррелей в нефтяном эквиваленте.
Решение норвежского правительства поступило как раз тогда, когда итальянская ENIв рамках сотрудничества с Роснефтью готовится к сейсмическим съёмкам свода Федынского в бывшей российско-норвежской спорной зоне Баренцева моря. По информации Роснефти, Федынский участок изучен сейсмикой в 2D, по результатам которой просматриваются 9 перспективных структур с извлекаемыми ресурсами углеводородов в объёме18,7 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. В соответствии с лицензионными обязательствами, на Федынском участке необходимо выполнить 6500 км сейсмики в 2D до 2017 г. и 1000 кв. км сейсмики в 3D до 2018 г., пробурить одну поисково-оценочную скважину до 2020 г. и в случае успеха еще одну разведочную скважину до 2025 г.
Роснефть с её эскпансионистской политикой в Арктике постепенно становится ключевым игроком и в норвежско-российских пограничных водах. Рано или поздно будут открыты месторождения, простирающиеся обе стороны границы, и двум странам нужно будет искать компромиссы по вопросу разделения обязанностей и доходов. В этой игре Роснефть и её влиятельный лидер Игорь Сечин будут играть одну из главных ролей.
Роснефть, более того, обеспечивает себе присутствие и на норвежской стороне. Соглашение Роснефти и «Статойла» предоставляет российской компании 33% в совместных предприятиях, при этом основной интерес для Роснефти представляет норвежский сектор Баренцева моря.
Наши соотечественники занимают второе место в рейтинге самых активных покупателей турецкой недвижимости - за год россияне провели 2053 сделки. На первом месте – немцы, которые купили 2374 объекта.
В число основных иностранных покупателей жилья в Турции входят также англичане, граждане Норвегии, Саудовской Аравии, Швеции и Кувейта. Об этом сообщает портал Antalya Today.
Согласно данным, опубликованным Управлением земельного кадастра, между 18 мая 2012 года и 11 апреля 2013 года иностранцам были проданы 2522 земельных участка и 9990 зданий.
Выходцы из таких стран, как Боливия, Доминиканская Республика, Индонезия, Исландия, Либерия, Люксембург, Норфолкские острова, Сингапур, Судан, Танзания и Тунис, купили всего по одному объекту недвижимости в Турции за указанный период.
Министерство окружающей среды и городского планирования собирается начать широкомасштабную рекламную кампанию в 183 странах, гражданам которых разрешена покупка недвижимости в Турции.
Власти подготовят буклеты на разных языках, включая английский, немецкий, французский, испанский, португальский, арабский и китайский. В буклетах будут объясняться тонкости покупки недвижимости в Турции и тот факт, что теперь турецкие дома, квартиры и земельные участки могут приобретать граждане разных стран лишь с небольшими ограничениями.
ИНТЕРНЕТ - ДЕЛО ТОНКОЕ
О проблемах регулирования интернета в России и в мире размышляет главный аналитик РАЭК Карен Казарьян
О диалоге власти и общества
От того, что политики, чиновники и ведомства имеют свои аккаунты в соцсетях, диалог не особенно складывается. Обычно это всего лишь еще один канал политической рекламы и пропаганды.
У Барака Обамы есть великолепная команда, которая работает исключительно в социальных медиа. Их общение с народом в соцсетях - настоящее искусство, но это профанация, иллюзия диалога. Уровень недоверия к ветвям власти, к законам в США сопоставим с уровнем недоверия в России.
Лучше обстоят дела в Европе и Австралии. Чем меньше государство, тем лучше диалог властей и общества через интернет. Замечательный пример - краудсорсинговая конституция в Исландии. Впервые в мировой истории текст Основного закона написан рядовыми гражданами, причем обсуждение велось в соцсетях интернета. Вскоре после парламентских выборов, которые пройдут в последних числах апреля, конституция от интернет-сообщества должна вступить силу.
Попытки наладить доверительное общение между властью и народом в нашей стране, казалось бы, предпринимаются, но получается плохо. По пальцам можно пересчитать личные аккаунты и ведомственные сайты, которые умеют поддерживать диалог.
Отчасти это удается Министерству связи, а также департаменту информации г. Москвы. На неофициальном твиттере российской службы судебных приставов отвечают на вопросы, связанные с выездами за границу, со штрафами. Это не фейк, кто-то очень серьезно ведет страницу. Интерес- ные аккаунты у министра связи Николая Никифорова и министра "открытого правительства" Михаила Абы зова. Понятно, что и там достаточно официоза, но одновременно много полезного.
О регулировании интернета: боязнь или безграмотность?
Я много изучал опыт разных государств по интернет-регулированию. Подобные процессы происходят сейчас практически во всем мире. Другое дело, в какую сторону смещен баланс. Невероятно часто сталкиваешься с тем, что менталитет политиков и спецслужб, независимо от страны, похож. Они, как правило, не осознают, что интернет - это не новый рупор, не медиа, не телевидение, не еще одно средство передачи информации, а совсем иная среда. Так что стремление отследить, проконтролировать, прорегулировать и заключить в привычные рамки массмедиа встречается почти везде, почти всегда. Вопрос, насколько общество может держать такие вещи под контролем и насколько та или иная позиция превалирует.
В России последние законодательные инициативы, касающиеся регулирования интернета, - это, на мой взгляд, прежде всего безграмотность и самоуверенность их авторов. Перед принятием 139-го закона о "черных списках" сайтов мы неоднократно предупреждали обо всех проблемах, которые потом вылезли. Предсказали блокировку Википедии и другие скандалы. Авторы проигнорировали мнение экспертов, причем с бравадой. Когда шли дебаты, господин Железняк прямо высказывался, что это вранье, и аргументировал, мол, ему рассказали, как правильно. Правда, не уточнил, кто именно рассказал.
Словом, не думаю, что за такими инициативами кроются какие-то страхи. Есть нежелание слушать общество, слушать профессиональные организации под предлогом "мы лучше вас знаем". А главное, есть непонимание того, что интернет достаточно тонкая среда, которая живет по своим, уже сформировавшимся, традициям и правилам. Чтобы писать законы о его регулирования, нужно хорошо разбираться в теме.
Об авторском праве и персональных данных
Постепенно понимание приходит. В последней редакции концепции о регулировании правоотношений в интернете учтены практически все предложения и замечания экспертов отрасли. Но этого недостаточно. Невозможно написать полноценный закон, когда отсутствуют опорные правила.
Сначала нужно принять 4-ю часть Гражданского кодекса (все, что касается авторских прав). На нее завязано большое количество регулирования, которое может быть. Гражданский кодекс - это основа права. И пока он лежит в Госдуме, продолжают появляться безумные инициативы наподобие той, что выдвинул Минкульт, - добавлять сайты в "черный список" за нарушение авторских прав. Проблему нужно решать как можно скорее, потому что есть текст, заверенный, одобренный и отраслевыми организациями, и правообладателями.
В России очень странный закон об использовании персональных данных, который требует серьезной редакции. Он написан скорее не для того, чтобы защищать персональные данные, а чтобы сертифицировать компании на соответствие правилам ФСБ.
Закон нарушается каждый день многими компаниями, и Роскомнадзор, понимая, почему нарушается, закрывает на это глаза. Когда нарушители все - значит, что-то не так с законом, а не с людьми.
Что касается использования персональных данных, опубликованных в интернете, при приеме на работу или, как в США, в колледж, - это сейчас серая зона для всего мирового сообщества. Существуют различные юридические теории, как эта сфера должна регулироваться, но пока ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты серьезно не брались за проблему. Не существует и международных договоров. Такие вещи по большому счету должны регулироваться именно международным правом. Как, например, регулировать использование персональных данных российского пользователя фейсбука, если нет соответствующего соглашения между Россией и США?
Видимо, до определенной поры с этим придется как-то жить и как-то подстраиваться. Хотя в Евросоюзе рассматривается проект - право на удаление личной информации, я не очень верю в его реализацию, по крайней мере в полном объеме. Если что-то попало в интернет, то навсегда.
О клевете и свободе слова
Вычистить интернет от "нежелательной" информации технически практически невозможно. Для примера, в Великобритании некоторые судебные предписания звучат так: "удалить из твиттера все сообщения на данную конкретную тему". Как бы исполнители ни планировали осуществить предписание, полным успехом попытки не увенчаются.
В Британии вообще закон о клевете очень жесткий и подразумевает еще до судебного разбирательства удаление порочащей информации, запрет на ее публикацию и распространение, поэтому там самое большое в мире количество судебных исков о защите чести и достоинства. Но в эпоху интернета и социальных сетей этот закон слабо работает.
К слову, последний российский закон о клевете во многом скопирован с британского. Это, на мой взгляд, большая ошибка. Законы нужно создавать такие, которые бы уважали население, а не были явно направлены на то, чтобы защищать от критики власти предержащие.
Но и США, где свобода слова ставится превыше всего, не стоит копировать. Список высказываний, за которые можно реально поплатиться, довольно скромный. Скажем, если вы крикнете в театре "Пожар!" и во время возникшей паники никто не пострадает, вам это может сойти с рук. Однако именно в Штатах спецслужбы недавно предприняли попытку легализовать слежку в социальных сетях и получить доступ к электронной переписке в режиме реального времени. Законопроект пока одобрен конгрессом, несмотря на яростное сопротивление интернет-сообщества и угрозы вето со стороны Барака Обамы.
Если охотиться за каждым неприятным для вас словом, написанным в интернете, - это приведет лишь к еще большему его распространению. Есть такой интернет-термин - "эффект Стрейзанд". Некий блог выложил в сеть фотографии нового дома Бар бры Стрейзанд. Никто бы и не заметил, если б актриса не подала в суд. В результате снимки распространились по всему интернету. То же случилось с "черными списками" в России.
О вкладе соцсетей в общественную активность
На тему о том, "как слово наше отзовется", существуют совершенно противоположные мнения. Ряд авторитетных политологов и социологов, как западных, так и отечественных, считают, что роль соцсетей в поднятии общественного тонуса чрезвычайно преувеличена и не следует ее превозносить. Большое число гражданских активистов с мировой известностью считают, что, наоборот, соцсети очень влиятельны и именно они ответственны за определенные события в мире и стране. На мой взгляд, обе стороны в чем-то правы, в чем-то нет.
Жизнь сообщения в блогосфере подчиняется определенной схеме. У обычного пользователя соцсетей в среднем 300-500 "друзей", но это в основном кратковременные, слабые связи. Внутри группы лишь у немногих крепкие социальные связи (в их классическом, а не интернет-понимании).
Есть некое число Данбара - количество постоянных социальных связей, которое способен поддерживать каждый из нас. Оно укладывается в диапазон от 100 до 230 человек. Как правило, месседж (политический, общественный, социальный - любой) получает реальную силу, когда распространяется через ответвления такой группы с крепкими социальными связями.
То же происходит с сообщением в интернете, только быстрее. С одной стороны, в этом состоит привлекательность соцсетей, с другой - кроется недостаток.
Есть прекрасный шутливый термин в английском языке - slacktivism (от слов slacker - лентяй и activism): грубо говоря, что-то делать, ничего не делая. Например, вы, прочитав в сети какой-то манифест или призыв, или информацию о сборе денег на благое дело, или просьбу помочь в поиске потерявшегося, лайкнули или сделали репост. Кто-то повторил эти действия уже с вашей странички, и так далее. По сути, вы ничего значимого не сделали, но, видя эффект одного клика, почувствовали себя лучше, и этого вам более чем достаточно. Так что к общественной активности в соцсетях надо относиться с определенной долей скепсиса: она редко переносится в реальную жизнь.
Селебрити vs политика
Политика и общественная жизнь отнюдь не в лидерах по интересам у завсегдатаев социальных сетей. Первое место почти во всем мире занимают развлекательная информация, лайфстайл, селебрити. На втором - новости от друзей, близких. Более 40% времени в интернете отводится социальным сетям, но внутри этого сегмента довольно сложно провести срез, политического они характера или иного рода, протестного содержания, лояльного или нейтрального. Хотя уже появились технологии, с помощью которых эту информацию можно вычленять и на ее основе составлять рейтинги общественного мнения, общественных настроений. Новостная информация в приоритете лишь в тех нестабильных странах, где интернет - единственный ее источник, где люди выходят в сеть только затем, чтобы узнать последние события и понять, что происходит в мире.
Карен Казарьян эксперт по интернет-экономике и международной практике регулирования интернета. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), заместитель главного редактора журнала "Интернет в цифрах", редактор журналов "Хакер", "Железо". Автор исследования РАЭК и ВШЭ "Экономика Рунета 2011-2012"
100 минут онлайн
Активных пользователей интернета в России уже более 50 миллионов. Из них лишь около 20% - это люди старше 35-40 лет. По несколько часов в день проводят во всемирной паутине 90% российских подростков - это порядка 7 млн. С учетом же нерегулярных посетителей сетью пользуются около 76 млн россиян. По данным РАЭК, российские пользователи проводят онлайн окол 100 минут в день, это делает нас одной из самых вовлеченных интернет-аудиторий мира.
Санкт-Петербургская авиакомпания "Трансаэро" продолжает увеличивать объемы перевозок и расширять маршрутную сеть полетов, выполняемых из аэропорта "Пулково". Наглядным свидетельством этого является летняя программа "Трансаэро" 2013 года. В соответствии с ней авиакомпания будет выполнять полеты по 29 направлениям. Обширная география полетов "Трансаэро" включает рейсы из Санкт-Петербурга в города России, Украину, Австрию, Болгарию, Грецию, Египет, Испанию, Италию, Тунис, Турцию, Хорватию, Черногорию и Чехию.
В летнем сезоне 2013 года авиакомпания "Трансаэро" расширяет свою географию полетов из Санкт-Петербурга и в дополнение к ранее выполнявшимся рейсам открывает 11 новых направлений. Это рейсы в Сочи, Калининград, Киев, Вену, Пардубице, Закинтос, Санторини, Керкиру, Ханью, Пулу и Тиват. "Трансаэро" - единственный перевозчик, выполняющий из Санкт-Петербурга рейсы в Пардубице, Пунта-Кана, Варадеро, а также чартерный рейс на Санторини.
В соответствии с планами авиакомпании в летнем сезоне 2013 года "Трансаэро" планирует выполнить через аэропорт Пулково более 6570 рейсов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем летнем сезоне.
Впервые в истории "Трансаэро" будет на постоянной основе выполнять полеты из "Пулково" на самых больших своих воздушных судах Boeing 747-400, вмещающих до 522 пассажиров.
Активное развитие авиакомпании в аэропорту "Пулково" идет в соответствии с подписанным в июне 2011 года меморандумом о стратегическом партнерстве между ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" и ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Успешная реализация этого соглашения в полной мере отвечает интересам клиентов авиакомпании и аэропорта.
Авиакомпания "Трансаэро" зарегистрирована в Санкт-Петербурге с января 2006 года. В Северной столице России у "Трансаэро" находятся объединенный летный отряд, техническая база, служба бортпроводников, служба перевозок, служба продаж, подразделение службы авиационной безопасности, а также учебный центр, осуществляющий подготовку авиационных специалистов.
Новинки весенне-летнего сезона 2013 года
С 31 марта по 26 октября 2013 года в аэропорту "Пулково" действует весенне-летнее расписание. В начавшемся сезоне греческая авиакомпания Aegean Airlines расширит географию полетов из Санкт-Петербурга и в летнем сезоне будет осуществлять регулярные рейсы сразу в 9 греческих городов (Александрополис, Афины, Ираклион, Каламата, Керкира, Кос, Родос, Скиатос, Салоники). Авиакомпания Air One в дополнение к Венеции открывает рейсы в Катанию, Милан и Пизу. Авиакомпания Blue Bird Airways к уже выполняющимся рейсам в Ираклион открывает рейсы на Родос. Национальный авиаперевозчик Исландии Icelandair запускает прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Рейкьявиком с частотой 2 рейса в неделю. Санкт-Петербург станет первым российским городом, который будет связан регулярными рейсами со столицей Исландии. В конце апреля 2013 года авиакомпания "Ютэйр" откроет свое первое международное направление из Санкт-Петербурга. Рейсы в Будапешт будут выполняться с регулярнос тью 2 раза в неделю. Авиакомпания "Руслайн" запустит рейсы в Ярославль, Ульяновск, Воронеж. Авиакомпания "Северсталь" увеличит частоту рейсов в Череповец и открыла рейсы в Ухту с частотой 2 раза в неделю, авиакомпания "Ямал" начнет выполнять полеты в Анапу.
ПАРЛАМЕНТ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ЛЕГАЛИЗОВАЛ ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ
Изменение законодательства поддержали 77 депутатов, против высказались 44 народных избранника
Парламент Новой Зеландии одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий однополые браки. Изменение законодательства поддержали 77 депутатов, против высказались 44 народных избранника, сообщает The New Zealand Herald. Когда результаты голосования были объявлены, зал заседаний заполнился громкими возгласами ликования со стороны граждан, наблюдавших за историческим событием, отмечает издание.
Новый закон вступит в силу в августе. Его лоббировала лейбористка и защитница прав гомосексуалистов Луиза Уолл. "Это начало процесса излечения", - провозгласила она в начале своего выступления. Ее речь была встречена бурными овациями и аплодисментами, отмечает телеканал TV NZ. "Дебатов почти не было. Имело место лишь небольшое, но активное меньшинство. Каждый, кто не согласен [с законом о легализации] - ханжа", - объявила Уолл.
Гомосексуализм являлся уголовно наказуемым деянием в Новой Зеландии на протяжении многих лет. Он был декриминализован 27 лет назад.
Однополые браки полностью законны и регистрируются в следующих странах: Аргентине, Бельгии, Бразилии, Канаде, Дании, Исландии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Южноафриканской Республике, Испании, Швеции. В скором времени легализация должна вступить в силу в Уругвае и во Франции (в этой стране принятие соответствующих законов встретило публичное сопротивление граждан).
Исландия станет первой европейской страной, подписавшей соглашение о свободной торговле с Китаем. Премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир, которая посетила Пекин в пятницу, сообщила, что подписание соглашения запланировано на следующую неделю. Йоханна Сигурдардоттир заявила, что соглашение будет способствовать снижению цен на китайские товары в Исландии, снижению или полной отмене таможенных пошлин, а также окажет позитивное влияние на сокращение дефицита. Премьер-министр Исландии назвала соглашение «историческим» для обеих стран, так как Исландия станет первой европейской страной, подписавшей соглашение о свободной торговле с Китаем, чья экономика является второй по величине в мире.
По материалам China Daily.
Ежегодный праздник День селедки отметят в субботу в Калининграде на территории музея Мирового океана; всех гостей ждут конкурсы, концерты, музейные выставки и рыбный карнавал, сообщила РИА Новости представитель учреждения культуры Инесса Зайковская.
"В этом году День селедки особенный и пройдет под девизом "Время перемен". Музей начинает стремительно меняться, и как бы предвосхищая эти перемены, пройдет новый День селедки. На каждом музейном объекте для посетителей подготовлены сюрпризы и подарки, а на среднем рыболовном траулере (СРТ-129) можно будет познакомиться с новой выставкой "На шутливой волне", - рассказала Зайковская.
Традиционно в программе запланировано и шествие королевы праздника - госпожи селедки и ее верных рыцарей. Организаторы обещают гостям много рыбы: вяленой, копченой, жареной, вареной. Развлекательные мероприятия предусмотрены, как для маленьких, так и для взрослых.
День селедки проходит в Калининграде уже в восьмой раз. Праздник связан с первой сельдяной экспедицией, ушедшей к берегам Исландии из калининградского порта в апреле 1948 года. С этой экспедиции и начался рыболовецкий флот региона. Анна Шонова.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























