Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
В Циндао создадут новую пилотную финансовую зону
В городе Циндао на территории восточно-китайской провинции Шаньдун будет создана пилотная финансовая зона. Эти планы утвердили в 11 министерствах и комитетах КНР.
В зоне предполагается введение преференций для организаций по управлению сбережениями. Планируется поощрять инновации в этой сфере.
Напомним, что в Китае создано 18 зон свободной торговли или особых экономических зон (ОЭЗ). Деятельность этих зон направлена на сотрудничество с 31 страной мира. Среди стран, с которыми уже налажено сотрудничество, – государства АСЕАН, Сингапур, Пакистан, Новая Зеландия, Чили, Перу, Коста-Рика, Исландия и Швейцария.
Ранее сообщалось, что в Китае созданы первые девять государственных показательных зон по обеспечению качества и безопасности экспортной промышленной продукции. Среди указанных ОЭЗ – Шэньянская зона экспортных станков в провинции Ляонин, Пекинская зона экспортных автомобилей, Цзимоская зона экспортной одежды в провинции Шаньдун, Гуанжаоская зона экспортных шин в провинции Шаньдун, Куньшаньская зона экспортных велосипедов в провинции Цзянсу, Чаншуская зона экспортной электронно-информационной продукции в провинции Цзянсу. В этих зонах будут разрабатывать отраслевые стандарты, технические инновации, создавать собственные бренды и др.
Всего в Китае действуют 102 ОЭЗ на территории более чем 20 провинций.

Непонимание причин обновления флота – тормоз нового облика отрасли
Различные совещания федерального, отраслевого и бассейновых уровней по вопросам обновления и развития рыбопромыслового флота, наверное, исчисляются к началу 2014 года уже многими десятками. Еще в 2007 году была утверждена Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу. Принят ряд федеральных целевых программ. Но, к сожалению, практических результатов это не принесло. Мы, как и прежде, остаемся со старым флотом, спроектированным 40-50 лет назад. Причина не только в возможностях, стоимости новостроя, сроках и качестве, которые в состоянии обеспечить отечественные верфи при постройке современных рыболовных судов. Причины глубже. Они в непонимании основ обновления флота, что определяет вектор развития рыбной отрасли. Именно в этом тот ключ, который не дает делу сдвинуться с мертвой точки, считает генеральный директор «Русской пелагической исследовательской компании» Олег Братухин.
– Олег Игоревич, многие специалисты отрасли читали Ваши критические статьи, связанные с вопросами обновления рыболовного флота. Есть и другие, противоположные точки зрения на этот вопрос, которые мы также публикуем. Так в чем же суть противоречий?
– Критика связана с тем, что по вопросу обновления нашего флота мы имеем точку зрения, диаметрально противоположную той позиции, что имеют наши головные ведомства, включая и Росрыболовство, и Минпромторг, то есть чиновничья среда, и обслуживающие ее институты типа Гипрорыбфлота. Эта среда определяет развитие рыбной и судостроительной отраслей совершенно в противоположную сторону, чем того требует руководство страны, которое ставит задачи по достижению технологического лидерства. И это главное, что нас беспокоит.
Для того чтобы это наглядно продемонстрировать, хотел бы вернуться к очень характерному документу, где четко видна позиция по принципиальным вопросам, связанным с обновлением флота и развитием отрасли, а именно к «Концепции обновления рыбопромыслового флота на 2010-2020 годы», которую разработал Гипрорыбфлот в марте 2010 года по заказу Росрыболовства.
В условиях, когда приоритетные задачи отрасли были сформулированы Правительством очень емко и точно: «Главная стратегическая цель развития рыбного хозяйства в долгосрочной перспективе состоит в достижении к 2020 году лидирующих позиций России среди мировых рыболовных держав путем перехода отрасли от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития…», – была подготовлена «бомба», которая на десятилетия, если не навсегда, определяла нам роль аутсайдера мирового рыболовства.
Неважна даже та каша в голове разработчиков концепции, которые предлагали одновременно несовместимые вещи в виде и «квот под киль», и введения олимпийской системы промысла – оставим распределение квот в стороне, тем более что этот аспект в последующих редакциях концепции менялся. Посмотрим на суть: как видится нашим чиновникам процесс обновления флота и развития отрасли в целом – путем государственного регулирования пополнения флота морально устаревшими судами, через государственную экспертизу, даже ставится задача ограничения пополнения флота, иначе флот будет пополняться судами «не приоритетными для отрасли»! То есть обновление флота по причине того, что он десятилетиями нерационально использует наши национальные биоресурсы, не требуется. И, конечно, приоритетные для отрасли суда будут определять чиновники. Вот такое представление об инновационном развитии!
А для открытого океана предлагался экстенсивный сценарий развития – строительство большого количества относительно недорогих судов, которые требуют госдотаций, о чем прямо и пишется. Например, для промысла ставриды - 38 единиц 100-метровых траулеров по 30 млн. долларов, что потребует ежегодных госдотаций в десятки и сотни миллиардов рублей. То есть под прикрытием правильных слов об инновациях предлагалось создать «новый» дотационный флот, который на голову уступает давно существующему флоту ведущих рыболовных держав. Как этим флотом добиться тех целей, которые совершенно оправданно ставятся государством?
Характерны и рассуждения: в связи с тем, что основная масса неиспользуемых сегодня биоресурсов открытого океана является низкорентабельными, для работы на них нужны госдотации. То есть нужна не качественно иная техника, иные решения и новые технологии, чтобы эти промыслы сделать рентабельным, а дотации – таким представляется инновационный путь развития. Неужели забыли, что огромные дотации уже угробили одну нашу с вами страну? Причем такая позиция высказывалась в то время, когда на той же самой чилийской ставриде самые современные траулеры мирового флота под флагом ЕС наглядно демонстрировали на практике, каким образом нужно работать на низкорентабельных объектах промысла.
Тот «перспективный» крилевый проект Гипрорыбфлота, разработанный для Антарктики, о котором я уже рассказывал вам в одном из интервью, со строительством 5 траулеров, общий вылов которых составляет половину вылова одного современного норвежского судна на этом промысле, характерно соответствует их представлениям о том, каким должен быть современный российский флот.
Мы долго пытались понять, с чем связана такая позиция, и пришли к выводу, что помимо понятного желания чиновников порулить любым процессом такая позиция может быть сформирована только на основе непонимания того, что собой представляет наш сегодняшний флот с точки зрения техники, технологии переработки и производства продукции. Непонимания того, как он работает, что происходит на промысле и, главное, как должно быть, чего добились ведущие страны и за счет каких технических и организационных решений. Видят чиновники перед собой только бумажки с цифрами ОДУ, выловом, количеством судов и так далее, но абсолютно не понимают, что же реально скрывается за этими цифрами. И тогда у них в голове рождаются различного рода умозаключения, которые не только полностью игнорируют все достижения мировой рыбной индустрии, но и полностью им противоречат.
– А вы что предлагаете?
– Мы имеем и пытаемся донести до всех заинтересованных сторон совершенно другую позицию, основанную на многолетнем изучении передового зарубежного опыта работы на различных объектах промысла, на детальном анализе особенностей передовых судов, новых технологий и новых решений. Мы учились и у американцев, и у норвежцев, и у голландцев. И нам не стыдно в этом признаться, ведь для того чтобы догнать и перегнать, нужно досконально изучить передовой опыт своих конкурентов. Вместе с накоплением и анализом этого опыта менялось и наше представление о современных судах и об организации промысла.
В мире два последних десятилетия были периодом интенсивного развития новых технологий и новых подходов, важных для дальнейшего развития отечественного рыболовного промысла, но, к сожалению, с ними мало знакомы те, кто готовит и принимает решения, определяющие дальнейшее развитие рыбной отрасли в России.
Без сомнения, наиболее важной и значимой в этот период была реализация резкого повышения экономической эффективности промысла, в том числе и при работе на малоценных массовых объектах за счет резкого увеличения производственной мощности промысловых судов (прошу не путать с мощностью судна), за счет использования новой техники и новых технологий. Одновременно в собственных экономических зонах вводились новые правила и стандарты ответственного рыболовства, направленные на рациональное, наиболее полное и эффективное освоение национальных ресурсов. Поэтому для нас совершенно очевидно, что для решения государственных задач - существенного повышения эффективности и достижения лидирующих позиций среди мировых рыболовных держав - России нужна самая конкурентоспособная во всех отношениях, а значит, наиболее эффективная техника.
Современный флот в нашем представлении только тот, который в полной мере использует прежде всего накопленный передовой опыт промысла того или иного объекта и при создании которого использованы новые технические решения, самая современная техника, новые технологии, выполняются современные экологические требования, - то, что за рубежом называется green vessels.
При этом спорить о том, современное судно или нет, не нужно. Достаточно посмотреть на одном листе бумаги основные общепроектные, технические, производственные характеристики и срок окупаемости судна в сравнении с аналогами. Все остальное – слова. И это не имеет отношения к размерениям судна. Это касается всех групп, включая малые суда для прибрежного промысла, для которых также появился ряд современных решений, направленных на увеличение эффективности промысла, что позволило бы нам существенно увеличить объем освоения «прибрежки». Только имея суперсовременный флот - и малый, и маломерный, и средне-, и крупнотоннажный – мы сможем действительно решить задачу, которую ставит руководство страны.
Конечно, нам давно пора уходить от нерационального рыболовства, переходить на так называемые «зеленые стандарты» промысла и на полностью безотходное производство. Необходимо менять ситуацию, когда система организации рыболовства является заложницей отсталого флота.
А для открытого океана нужно ставить и решать амбициозные задачи: необходимо не просто участие, хотя и об этом уже все забыли, а доминирующее участие в разделе биоресурсов открытых районов мирового рыболовства, закрепление за страной наибольшего объема биоресурсов за счет самой передовой, конкурентоспособной техники. Ведь у нас есть для этого все основания, у нас есть на что опереться, поскольку мы доминировали во многих районах Мирового океана и, соответственно, есть историческое право закрепить за страной миллионы тонн ресурсов.
Ведь тот же антарктический криль - это уникальное сырье для развития ряда отраслей экономики – животноводства, птицеводства, аквакультуры, фармакологии, медицины, производства пищевых продуктов. А результаты работы созданного в Китае индустриального парка антарктического криля настолько позитивны, что на его базе к 2016 году планируется создание уже 6 технопарков - парк биофармацевтики, парк индустриальных добавок, парк сельскохозяйственных добавок, парк пищи, парк пищевых добавок для здравоохранения, парк высококачественных кормов с планируемой ежегодной стоимостью произведенной продукции более 10 млрд. юаней, или около 1,6 млрд. долларов.
У нас есть возможности в виде современных отечественных разработок самых высокопроизводительных судов, которые являются результатом многолетней работы консорциумов ведущих мировых исследовательских, проектных и производственных компаний. Причем за счет использования «ноу-хау», новых технологий и новых разработок это не самые крупные и не самые мощные суда - это к сведению Гипрорыбфлота, с которым мы ведем полемику по основополагающим вопросам судостроения. Эти проекты имеют международный аудит компаний «большой четверки» и заключения западных банков, которые привлекают экономически ответственных и понимающих тонкости промысла экспертов.
Все, о чем я сказал выше, к сожалению, отсутствует не только в головах наших чиновников, но и в программных документах по развитию отрасли. Причем не только в старых, но и в актуальных сегодня. Внимательно почитайте Государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В начале программы - красивый лозунг в виде обеспечения перехода отрасли к инновационному типу развития, а далее трехкилограммовый, 450-страничный абсолютно пустой документ, который полностью противоречит красивому лозунгу, плюс десятки миллиардов впустую потраченных рублей госфинансирования.
Причем никакого развития отрасли по базовому сценарию не предусматривается - увеличения вылова к 2020 году практически не будет. А вот если денег под эту госпрограмму дадут побольше, тогда будет реализован оптимальный сценарий. Во-первых, мы знаем, насколько эффективно расходуются госсредства, а во-вторых, за счет чего произойдет скачок? Может быть, вернемся в открытый океан? Нет. Все гораздо проще: просто увеличим освоение ОДУ в собственной экономической зоне с нынешних 60 до 85% и будем ловить уже к 2020 году аж 6,1 млн. тонн. А что мешает сейчас это сделать? Или расчет строится на несуществующих ресурсах, если сейчас они рыбаками не используются?
То есть под прикрытием красивых слов о закреплении ресурсов открытого океана практически идет добровольный отказ от их использования. Предметных мер, направленных как на эффективное использование собственных биоресурсов, так и на участие в борьбе за ресурсы в глобальном масштабе и возврат в число лидеров мирового рыболовства - приоритетов развития отрасли, о которых красиво любят говорить чиновники на съездах, конгрессах и отчетах в правительстве, - нет.
- Но проекты судов на перспективу все-таки заказывают в Минпромторге, рыбаков, конечно, приглашают на совещания по вопросам обновления флота, но они не участвуют в приемке работ по госзакупкам.
- Это еще один момент, по которому мы не можем согласиться с нашими оппонентами. Вопрос о роли чиновников в процессе обновления флота. Недопустимо чиновникам заниматься вопросами проектирования судов - у них достаточно основных функций, связанных с управлением и организацией отрасли. Это же нонсенс, что приемная комиссия по концептуальному проектированию в рамках ФЦП «Развитие морской гражданской техники» полностью состоит из чиновников Минпромторга, то есть сами заказываем проекты, сами их и принимаем. В этом и кроется ответ на вопрос, почему проекты в рамках федеральной целевой программы разрабатываются негодные. Как чиновники могут самостоятельно определить: что разработано, современный это проект или нет? Есть бумажка для отчета - хорошо, проект разработан. Но ведь главное - что в этой бумажке! Не могут и не должны чиновники разбираться в основах проектирования самой сложной техники гражданского назначения и в то же время в особенностях добычи и минтая, и тунца, и криля, и ставриды. У чиновников ведь другие обязанности - с помощью управленческих решений создать условия, которые приведут к обновлению флота. Наверное, для них это трудно, потому и лезут в проектирование. Но ведь проектирование судов – это не легче.
Еще хотелось бы обратить внимание на позицию бизнеса. Рыбаки должны четко осознавать, что их сегодняшнее положение с нападками на них с разных сторон есть неизбежная плата за ту ситуацию, которая существует в отрасли. Несмотря на то что они объединены в различные союзы и ассоциации и успешно лоббируют свои интересы, эта ситуация создает для их бизнеса очень высокие риски, поскольку неизбежно обрекает их на сопротивление различным волевым решениям разного рода.
До тех пор, пока бизнес не начнет двигаться в цивилизованном направлении рационального и ответственного рыболовства, принимая во внимание главное - свою ответственность за использование общенационального достояния, то есть квот, которое общество не случайно передало именно им, - их никто не оставит в покое.
- Но перед ними никто не ставит такие задачи.
- К сожалению, вы правы. Поскольку в программных документах по развитию отрасли нет приоритетов, принятых в мире. Приоритеты, к которым стремятся все развитые рыболовные страны, по рациональному, бережному и наиболее эффективному использованию национальных биоресурсов в них отсутствуют. А они и определяют необходимость замены морально устаревшей техники. Так же, как и отсутствуют меры, направленные на реальное стремление участвовать в борьбе за ресурсы Мирового океана и вернуть утраченные позиции. А там без современной техники делать нечего.
Одновременно с передачей рыбакам права вылова в нашей экономической зоне, то есть квот, необходимо сформулировать, как эти квоты должны быть использованы. Без этого нельзя, ведь это общенациональная собственность и государству не должно быть все равно, как она используется. Необходимо предусматривать переход на новые стандарты промысла, которые гарантируют наибольший выпуск продукции из национальных ресурсов и полное использование сырья, поднятого на борт. Безусловно, объявить о переходе надо заранее, чтобы рыбаки могли к этому подготовиться и имели время это сделать. Такие условия требуют введения современной системы прямого учета вылова с запретом любых выбросов за борт вместо нашей устаревшей, еще послевоенной системы учета вылова по выпуску продукции. Прямая система учета стимулирует производство большего количество продукции из каждого килограмма сырья, поднятого на борт, и полного его использования.
Существующий флот прежде всего по экономическим причинам в системе прямого учета вылова и с многоступенчатой системой контроля работать сегодня не сможет. Такой уж флот достался нашим рыбакам. Но из-за этого мы каждый год теряем многие сотни тысяч тонн пищи и технической продукции. На дворе век новых технологий, что ж мы живем в прошлом и считаем, что там наше место?
Еще и еще раз привожу факты: действие системы прямого учета вылова на промысле минтая в США с закреплением квот за компаниями привело к увеличению выпуска продукции из одной тонны минтая более чем на 50%, а показатели выброса рыбы (которых у нас просто не существует, потому что это никто не считает) уменьшились до десятых долей процента. Еще раз прошу вдуматься в эти цифры: из каждого килограмма национальных квот возможно произвести продукции в полтора раза больше, чем мы производим сегодня. Именно для этого нам нужен качественно новый флот, а отнюдь не потому, что он физически старый.
Все эти вопросы находятся полностью в компетенции Минсельхоза и Росрыболовства, и у них достаточно полномочий, чтобы, например, загодя вводить эти требования в те же Правила рыболовства. Ведь эти условия понятны и логичны. В таком случае неизбежно появится решение вопроса строительства нового флота, поскольку введение таких требований потребует качественно новых судов. Подчеркну это особо: не просто нового, а качественно иного флота. В этом случае уже бизнес, поставленный в условия необходимости выполнения новых требований, будет заинтересован в полном использовании всего улова, поднятого на борт, а значит, и в новых технологиях, и новых технических решениях, и в конечном итоге в создании самых эффективных судов. Причем без всякого давления и участия со стороны чиновников. Немаловажно, что в конечном итоге появление таких современных, быстро окупаемых судов будет в интересах бизнеса, поскольку это поднимет экономику компаний на совершенно иной уровень.
С введением в эксплуатацию современного флота, с регламентацией правил использования национальных биоресурсов и использованием многоуровневой, дублирующей системы контроля будет очевидно, что мы с максимальной эффективностью и самым рациональным и ответственным образом используем собственные биоресурсы. И тогда следующим шагом должна быть скорректирована система работы отрасли.
Во-первых, квотами должны наделяться действующие рыболовные компании, которые примут новые условия и выполнят их. Бизнес должен быть уверен, что без всякого вмешательства со стороны чиновников любых ведомств и кого бы то ни было при соблюдении обязательных и добровольно принятых ими новых стандартов промысла квоты будут закреплены за ними БЕССРОЧНО.
Во-вторых, такое положение позволит всю квоту передать самим рыбакам, как это законодательно принято конгрессом США, например, для минтая. То есть сформированному кооперативу, который бы самостоятельно не только распределял квоту внутри кооператива, но и самое главное - нес всю полноту ответственности за ее полное освоение, а главное – за точное выполнение взятых на себя обязательств и отсутствие нарушений. На самых жестких условиях вплоть до ликвидации кооператива в случае серьезных системных нарушений, что будет фиксироваться многоступенчатыми современными системами контроля.
Такая система организации, как показывает мировой опыт, поднимет эффективность использования национальных биоресурсов на качественно иной уровень, неизбежно определит существенный рост квот вследствие роста ОДУ и объема национальных биоресурсов. Кроме того, необходимость использования только современных судов неизбежно приведет к формированию портфеля заказов со стороны действующих рыбаков на строительство рыболовных судов нового поколения. А существенный портфель заказов – ключ к возникновению у нас высокотехнологичного сектора гражданского судостроения.
По нашему мнению, серьезный портфель заказов – в сотни единиц рыболовных судов различных размерений – может привлечь в Россию ведущих игроков в этом очень специфическом сегменте технически сложного гражданского судостроения, который совершенно не подходит ОСК по многим причинам, о которых мы уже также подробно писали. Зарубежные судостроители принесут главное – отсутствующие у нас сегодня апробированные, современные технологии этого сегмента судостроения и современную организацию производства. За счет новых технологий формирования и спуска на воду судов методом причальной либо полной береговой сборки с их последующим спуском без традиционных доков, стапелей и слипов в кооперации с зарубежными судостроительными предприятиями возможно обеспечить строительство судов на новых площадках. В этом отношении именно здесь на Дальнем Востоке у нас есть гигантское преимущество, поскольку три мировых судостроительных лидера совсем рядом и в кооперации с этими владельцами новых технологий есть все возможности начать строительство судов очень быстро.
Появление относительно небольших частных верфей обеспечит необходимый уровень конкуренции, когда верфи не смогут назначать непонятные рыбакам и далекие от реальности цены на рыболовные суда, и гарантирует выполнение работ в контрактные сроки и с требуемым качеством. Появятся высокотехнологичные, конкурентоспособные верфи в глобальном масштабе, которые готовы будут строить не только рыболовные суда, но и крайне необходимые экономике оффшорные суда для работы на шельфе, малые грузопассажирские суда, грузопассажирские паромы и другие относительно небольшие, но технически насыщенные и удельно дорогие суда.
И конечно, говоря о развитии отечественного рыбопромыслового судостроения, следует по умолчанию подразумевать необходимость одновременного создания производства основного специализированного оборудования за счет выпуска лицензионной продукции. Ведь сейчас из базового оборудования у нас не производится ничего. Желающие из числа ведущих мировых производителей в настоящих условиях наверняка найдутся, тем более что многие компании рассматривают сегодня различные возможности переноса своих производств.
К сожалению, такие возможности создания у нас технически сложного сектора гражданского судостроения не предусмотрены в госпрограмме «Развитие судостроения на 2013-2030 годы», несмотря на множество красивых и правильных слов. Но зато в документе предусмотрено изменение системы распределения квот.
- Пока предлагаю поставить точку, а в следующий раз поговорить более конкретно о проектах современных судов, которые позволяют вести эффективный промысел в соответствии с вышеобозначенными стандартами.
Елена ФИЛАТОВА, главный редактор газеты «Fishnews Дайджест»
Олег БРАТУХИН, Генеральный директор «Русской пелагической исследовательской компании»
В октябре-декабре 2013 г. продажи Louisiana-Pacific Corporation (г. Нэшвилл, шт. Теннесси, США) выросли в годовом исчислении на 6%, составив $480 млн, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.
Убыток от продолжающихся операций за отчетный период составил $19 млн, показатель EBITDA в 4 кв. 2013 г. снизился в годовом исчислении в 2,3 раза до $24 млн.
По итогам 2013 г. продажи выросли на 23% до $2,1 млрд, прибыль от продолжающих операций составила $177 млн, показатель EBITDA увеличился в 1,7 раза до $330 млн.
Продажи OSB-плит в 4 кв. 2013 г. снизились в годовом исчислении на 5% до $230 млн, причем объемы продаж выросли на 17%, тогда как цены снизились на 20%. Всего в 2013 г. продажи OSB-плит составили $1 млрд, что на 15% выше, чем в 2012 г., объемы продаж по итогам года выросли на 11%, цены — на 20%.
Продажи отделочных материалов в октябре-декабре 2013 г. выросли в годовом исчислении на 19%, составив $117 млн, по итогам 2013 г. продажи в этом сегменте составили $268 млн, что на 15% больше, чем в 2012 г.
Продажи клееного бруса в 4 кв. 2013 г. увеличились на 39% до $72 млн, рост был зафиксирован и по итогам года — на 25% до $268 млн.
Продажи южноамериканского подразделения компании (в него входят предприятия по производству OSB-плит, расположенные в Чили и Бразилии) в октябре-декабре 2013 г. снизились на 3% до $41 млн., а по итогам 2013 г. выросли на 2%, составив $172 млн.
Старинный район Юнгай (Barrio Yungay) в Сантьяго-де-Чили, основанный в 1839 году и недавно объявленный культурно-историческим наследием страны, открывает свои двери для туристов. Здесь будет создан небольшой интерактивный музей, посвященный истории района и его жителям, а также экскурсионный маршрут.
Путешественники смогут увидеть оригинальные фотографии, мебель, посуду и личные вещи испанских эмигрантов, которые в свое время и основали Юнгай, услышать мифы, легенды и трогательные истории от потомков здешних жителей и познакомиться с уникальной атмосферой этого района чилийской столицы.
По мнению создателей проекта, подобный туристический аттракцион составит отличную конкуренцию стандартным историческим музеям и маршрутам. Подобные выставочные площадки, экспонатами которых являются обычные люди и их реальная "живая" история, уже успешно существуют в США (район Anacostia, Вашингтон), в Перу, Мексике и Аргентине.
Молдова по итогам 2013 г. заняла всего лишь шестое место в списке крупнейших поставщиков вина в Россию, экспортировав на российский рынок 1,71 млн. декалитров вина, что составило 6,32% от общего объема закупок Россией вина в натуральном выражении, пишет NOI.md
По данным Таможенной службы РФ, в пятерку крупнейших поставщиков вина в Россию в 2013 г. вошли: Франция — 5,47 млн. дал, (20,18% от общего объема), Италия — 4,3 млн. дал (15,87%), Испания — 3,68 млн. дал. (13,59%), Украина — 1,8 млн. дал (6,67%), Германия —1,75 млн. дал (6,45%).
По итогам 2013 г. молдавским винам в России уступили вина из Чили — 1,57 млн. дал (доля 5,79%), Грузии —1,47 млн. дал (5,45%), Болгарии —1,34 млн. дал (4,96%), Абхазии — 1 млн. дал (3,71%). На страны, не вошедшие в топ-10 крупнейших поставщиков вина в Россию, пришлось около 11% импорта (2,98 млн. дал). Напомним, что в сентябре 2013 г.
Россия запретила импорт молдавской винодельческой продукции. В 2005 г. на долю молдавских вин приходилось около 50% импорта в Россию винодельческой продукции.
Сербия выступила с предложением объединить ряд посольств страны с дипмиссиями других государств бывшей Югославии в целях сокращения расходов на их содержание. Об этом сообщил сербский министр иностранных дел Иван Мркич. По его словам, речь идет в первую очередь "о посольствах в странах Африки, Азии и Латинской Америки". Сербия в этом году планирует открыть дипмиссии в Саудовской Аравии, Катаре и Гане, Венесуэле, Чили, Перу, Вьетнаме и Камбодже.
По мнению главы сербского МИД, дипмиссии в этих странах могли бы начать функционировать по "скандинавской модели"- то есть действовать от имени нескольких стран. Мркич сообщил, что соответствующие переговоры с внешнеполитическими ведомствами Черногории, Словении, Македонии, Боснии и Герцеговины уже ведутся. По его мнению, соглашения могут быть достигнуты уже к концу текущего года. "Дальше всех мы продвинулись в переговорах с Македонией и Черногорией", - сообщил он.
По словам главы сербской дипломатии, объединение посольств за рубежом не только приведет к сокращению расходов, но сделает эти совместные дипмиссии "более заметными" в разных частях мира.
По предварительным оценкам, около 13 тысяч тонн черники были потеряны в портах Чили из-за продолжавшейся в течение трех недель забастовки.
Напомним, что обыкновенно, в разгар сезона поставок, порядка 900 тысяч тонн различных фруктов или 37% от всего экспортного объема транспортируются через порт Сан-Антонио. Между первой и четвертой неделями текущего года из порта на внешние рынки было отправлено лишь 2,1 тысячи тонн продукции. Это гораздо меньше показателя более раннего периода прошлого года в размере 45,8 тысяч тонн.
В то же время, некоторые отраслевые эксперты высказывают мнение о том, что портовые забастовки не стали главным фактором, повлиявшим на экспорт. Чилийские садоводы в текущем году испытали сильное влияние заморозков, которые серьезно сказались на производстве многих культур, в том числе черники и косточковых фруктов.
Индия уже начала реализовать экспорт винограда, и его объем быстро вырастит в течение Февраля.
Инвестиции в технологии полива, мониторинг погоды, обучение специалистов благотворно повлияли на качество поставляемого винограда, что в свою очередь привело к положительному отклику на рынке. Более того, в связи с тяжелой ситуацией в Чили и Южной Африке большие поставки винограда из Индии как нельзя кстати.
Основными сортом винограда из Индии остается Томпсон сидлис (Белый кишмиш), но так же растут поставки темного винограда. В этом сезоне Индия поставит 4000 контейнеров винограда в такие страны, как Нидерланды, Германия, Чехия, Россия, Сингапур, Скандинавия и Швейцария.
Чилийский комитет по киви (Chilean Kiwifruit Committee) подписал соглашение о сотрудничестве с итальянской группой компаний Kiwifruit of Italy в области разработок и продвижения этой ягоды.
Carlos Cruzat, президент комитета пояснил, что производители и импортеры киви должны прилагать совместные усилия по продвижению данной категории. "Когда комитет только сформировался, все усилия были направлены на улучшения качества продукта на уровне производства, а так же на удовлетворение потребностей покупателей" - отмечает Carlos Cruzat. "Пять лет работы привели к нынешнему соглашению с Италией, так как за это время нам приходилось многие свои действия координировать с Kiwifruit of Italy, представители которой импортируют фрукты в Чили. Подписанное соглашение не относится к коммерческим вопросам и не будет влиять на сферу бизнеса".
Россия отстояла право на добычу ставриды
На международной сессии Российскую Федерацию попытались лишить квот на вылов ставриды юго-восточной части Тихого океана в текущем году. Однако делегация Росрыболовства добилась положительного для страны решения.
В городе Манта (Республика Эквадор) прошла вторая сессия Комиссии в рамках Конвенции по сохранению промысловых ресурсов в открытом море южной части Тихого океана и управления ими. В обсуждении участвовали представители России, Австралии, Новой Зеландии, Евросоюза, Фарерских островов, Франции, Чили, Перу, Колумбии, США, Китая, Южной Кореи, Эквадора, Вануату, Тонго, островов Кука, Тайваня, а также международных организаций.
Перед началом сессии с приветственным словом выступили министр рыболовства и аквакультуры и глава МИД Эквадора. Как сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства, на повестке дня были членство в организации, отчет научного комитета, финансы и управление, меры по сохранению и управлению водными биоресурсами. Особое внимание стороны уделили ставриде юго-восточной части Тихого океана. Специалисты констатировали низкий уровень пополнения запаса, однако отметили тенденцию к постепенному росту численности этой рыбы в ближайшие годы.
Главными вопросами для всех участников сессии стали установление и распределение общего допустимого улова ставриды на 2014 г. Россию лишили квоты на добычу этой рыбы на 2013 г. 1 и 2 июля в гаагском Международном Арбитражном суде состоялось разбирательство, в ходе которого удалось отстоять интересы российской рыбной отрасли.
Некоторые страны попытались блокировать выделение России квот на вылов водных биоресурсов на 2014 г. Тем не менее в ходе заседания комиссии делегация Росрыболовства добилась положительного решения. Это позволит отечественным рыбакам вести промысел в зоне действия конвенции в текущем году.
Международный суд ООН поставил точку в споре между Перу и Чили по вопросу морской границы. В результате Перу получила новые акватории, которые будут использованы для добычи водных биоресурсов.
По результатам голосования (15 – «за» и 1 – «против») суд утвердил расположение начальной точки проведения границы между республиками. Далее условная линия проходит на 80 морских миль на запад до точки А.
От нее морской рубеж продолжается в юго-западном направлении до точки B, находящийся на расстоянии 200 морских миль от территории Чили. За это проголосовало 10 независимых судей из 16.
От точки B линия границы проходит на юг до точки С, которая является пересечением 200-мильных зон двух государств. Как сообщает корреспондент Fishnews, решение суда окончательное и пересмотру не подлежит.
В результате Перу приобрела новые морские территории. Президент республики Ольянта Умала Тассо назвал решение Международного суда ООН историческим моментом и триумфом мира. Чилийская рыболовная ассоциация Sonapesca, напротив, выразила сожаление. По ее мнению, позиция Чили не была полностью учтена. Тем не менее чилийцы заявили о желание сотрудничать в области устойчивого использования общих морских биоресурсов.
Первые официальные курсы по выращиванию марихуаны прошли в Уругвае, недавно легализовавшем коноплю, сообщают латиноамериканские СМИ.
Обучение организовано национальной федерацией производителей каннабиса. Курс включает в себя обучение всем этапам выращивания растения, а также дает информацию, как снизить вред для потребителя марихуаны.По словам организаторов, выращивание конопли в домашних условиях для самого потребителя выгодно тем, что в этом случае он сам знает, что курит и на каких ингредиентах было выращено растение.
Закон о легализации марихуаны был подписан президентом Уругвая Хосе Мухикой в конце декабря прошлого года. Документ предусматривает, что жители страны смогут выращивать коноплю в ограниченных количествах самостоятельно или в клубах любителей каннабиса, а также покупать ее в аптеках при предъявлении специальной карточки (до 40 граммов ежемесячно).
После данного решения в Уругвай начали поступать многочисленные запросы относительно возможности легальной покупки марихуаны из-за рубежа. По данным СМИ, такие запросы направили компании из Канады, Израиля и Чили. В обращениях подчеркивается, что возможные закупки могут осуществляться в медицинских и исследовательских целях.
Кроме того, ряд зарубежных компаний готовы открыть свои представительства в Уругвае с целью проводить исследовательские работы с каннабисом на месте в фармакологических целях. Дмитрий Знаменский.
Ученые из лаборатории Ферми приступили к работе над камерой телескопа, предназначенного для поиска следов темной энергии. Детекторы, установленные на этом планируемом телескопе, будут работать на иных физических принципах, чем традиционные CCD. О работе ученых можно прочитать на сайте лаборатории.
Новая камера будет построена на базе нового типа чувствительных элементов, микроволновых детекторов кинетической индуктивности (MKID). Попадание в них фотона разрушает куперовские пары в сверхпроводящем материале сенсора. В отличие от CCD-сенсоров, работа которых требует наличия призмы или светофильтров, в MKID-детекторах энергия фотона измеряется напрямую, что делает их гораздо чувствительнее и дает больше информации о спектре излучения.
Кроме того, MKID-детекторы работают значительно быстрее CCD-сенсоров, что позволяет избежать смазывания изображения. Это особенно важно, когда особенно когда речь идет об адаптивной оптике в телескопах - то есть когда зеркало телескопа постоянно двигается таким образом, чтобы компенсировать искажения в атмосфере.
MKID-детекторы были придуманы в Калифорнийском институте в 2003 году. С тех пор ученые из нескольких исследовательских центров пытаются создать на их основе <идеальные> камеры для телескопов. С точки зрения астрономических наблюдений, MKID-детекторы обладают только одним существенным недостатком - они требуют очень глубокого охлаждения, не выше 0,3 кельвина.
По словам сотрудников лаборатории Ферми, работа над камерой займет несколько лет. Планируется, что телескоп, построенный на ее основе, заменит телескоп эксперимента DES (The Dark Energy Survey), который начал работу в Чили в 2013 году. Этот телескоп построен на традиционной технологии CCD, его разрешение составляет 570 мегапикселей. Телескоп наблюдает за участком неба в 5 тысяч квадратных градусов и <ищет> следы гравитационного линзирования и динамикой расширения Вселенной.
Начиная с 15 марта 2014 года, авиакомпания Seaborne два раза в день будет осуществлять прямые перелеты между столицей Пуэрто-Рико, городом Сан-Хуан (аэропорт Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin) и городом Сантьяго в Республике Доминикана (аэропорт Aeropuerto Internacional del Cibao).
Из Сантьяго в Пуэрто-Рико можно будет вылететь в 13-45 и 16-00, а из Пуэрто-Рико в направлении Доминиканы самолеты Seaborne будут стартовать утром: в 6-45 и 9-00. В рамках презентации нового маршрута авиакомпания объявляет распродажу: до 28 февраля 2014 года туристы смогут купить билет на этот рейс всего за 99 долларов (включая налоги и сборы), чтобы осуществить поездку с 15 марта по 26 июня.
Также представители Seaborne анонсировали расширение расписания полетов, начинающихся из доминиканских городов Ла-Романа и Пунта-Кана, и несколько нововведений, касающихся комфорта пассажиров на борту. В частности, Seaborne является на данный момент единственной авиакомпанией на Карибах, клиенты которой могут использоваться во время полета мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты в режиме "самолет".
Компания Australis, специализирующаяся на экскурсиям по каналам чилийской и аргентинской Патагонии, объявила об открытии в новом круизном сезоне 2014\2015 нового маршрута по Ушуайе.
Первое путешествие в рамках этого круизного тура состоится 8 апреля 2014 года на судне Buque Vía Australis. В течение 3-х дней туристы получат возможность познакомиться с патагонскими фьордами и знаковыми природными достопримечательностями Аргентины, расположенными между Пунта-Аренас и Ушуайей: мысом Горн (Cabo de Hornos), заливом Вулайя (Bahía Wulaia), и ледниками Glaciares Pía, Garibaldi y Avenida de los Glaciares.
Маршрут Ushuaia-Ushuaia станет дополнением к уже существующим круизам от Australis в этом регионе: "Пути Дарвина" (Ruta de Darwin), экскурсиям, посвященным наблюдению за китами, пингвинами и другими обитателями Огненной Земли.
Перу по решению международного суда в Гааге, принятому в понедельник, получило право примерно на 50 тысяч квадратных километров акватории Тихого океана, заявил президент страны Ольянта Умала.
Как сообщалось ранее, суд в Гааге в понедельник частично удовлетворил иск Перу к Чили о территориальном споре и установил новую морскую границу между странами. По словам перуанского президента, в целом можно сказать, что власти Перу довольны проделанной работой, так как решением суда удовлетворено более 70% требований перуанской стороны.
"Сегодня мы можем заявить о победе мира, это — победа всего перуанского народа", — сказал Умала, чьи слова приводят местные СМИ.
В 2008 году Лима подала иск, в котором просила об установлении морской границы с Чили по равноудаленной линии от побережья обеих стран, настаивая на том, что ранее эта граница никогда не была установлена. Чили же настаивала на сохранении границы, закрепленной, как полагают в Сантьяго, договорами 1952 и 1954 годов, которые в Перу считают соглашениями о рыболовстве. Дмитрий Знаменский.

Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в США в 2013 году.
Основные направления американской внешнеэкономической политики в 2013 году изложены в ежегодном докладе «Повестка торговой политики на 2013 год и годовой отчет за 2012 год». Как отмечается в докладе, целями внешнеэкономической политики США являются обеспечение устойчивого роста национальной экономики, создание новых рабочих мест, либерализация международной торговли и ее сбалансированное развитие в целом.
В докладе выделяются пять приоритетов торговой политики, на которых Администрация США планирует делать акцент:
- расширение международной торговли, направленное на повышение уровня занятости (дальнейшая реализация мероприятий в рамках Новой экспортной инициативы, интенсификация переговоров о создании зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство», начало переговоров с ЕС по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, активное использование механизмов ВТО для увеличения открытости рынков, соблюдение правил международной торговли и борьбы с протекционизмом, поддержка занятости путем стимулирования торговли в сферах услуг, производства и сельского хозяйства, расширение экономических возможностей за счет региональной экономической интеграции и др.);
- защита прав американского бизнеса путем обеспечения соблюдения правил международной торговли (оспаривание мер торговой политики иностранных государств, противоречащих правилам ВТО, интенсификация работы постоянных комитетов ВТО, обеспечение исполнения обязательств по заключенным США дву- и многосторонним торговым соглашениям);
- дальнейшее развитие и укрепление торговых отношений с партнерами США по всему миру;
- борьба с бедностью и поддержка глобального экономического роста посредством расширения торговли;
- выработка сбалансированной торговой политики, учитывающей мнения всех заинтересованных лиц.
Большое внимание вопросам внешнеэкономической политики было уделено и в ежегодном докладе «О положении страны», с которым Президент США Б.Обама выступил 12 февраля 2013 г. перед членами Конгресса США. Среди прочего, в докладе было заявлено о планах Администрации США инициировать переговоры с ЕС о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, целями которого будут взаимное расширение торговли, упрощение доступа на рынки, урегулирование разногласий в вопросах нетарифных ограничений в торговле (первый раунд состоялся 8-12 июля 2013 г.). Кроме того, в докладе была подтверждена приверженность Администрации США ранее заявленной цели по завершению переговорного процесса о создании зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство» к концу 2013 года (цель не достигнута).
В отчетном периоде Президент США выступил с рядом инициатив по внешнеэкономической тематике. Так, 15 января АТП США от имени Администрации Президента США направил официальное извещение в Конгресс США об инициировании многостороннего переговорного процесса с 20 торговыми партнерами (включая ЕС, Канаду, Мексику, Японию, Швейцарию, Гонконг, Тайвань, Израиль, Корею, Австралию, др.) в целях подписания плюрилатерального соглашения в сфере международной торговли услугами. На участвующие в переговорах страны приходится 2/3 мирового оборота торговли услугами.
22 января Администрацией Президента США было объявлено о создании новой рабочей группы (в составе АТП США), направленной на выявление барьеров в торговле, связанных с предъявляемыми рядом стран требованиями о локализации производства как условии выхода на рынок. Деятельность рабочей группы будет, в первую очередь, направлена на работу в рамках ВТО и ОЭСР, а также подписанных США двухсторонних торговых соглашений.
20 февраля Администрация Президента США опубликовала стратегический план по противодействию коммерческому шпионажу и незаконному доступу к сведениям, составляющим коммерческую тайну, положения которого среди прочего предусматривают необходимость усиления правоприменительных мер и кооперации на международном уровне, включая введение соответствующих положений в согласовываемые в настоящее время Администрацией США двусторонние и многосторонние соглашения. Кроме того, АТП США предлагается обратить особое внимание на данную проблему в ходе подготовки доклада по т.н. «статье 301-спец.» Закона США о торговле 1974 г., включив соответствующий раздел в его состав.
В русле данной инициативы находится Указ Президента США № 13636 от 12 февраля (опубликован в Federal Register 19.02.13.) «Об улучшении кибербезопасности критически важных объектов инфраструктуры США». Укреплять кибербезопасность планируется путем оперативного обмена информацией о киберугрозах между правительством и владельцами (операторами) критически важных объектов инфраструктуры США, а также путем введения для компаний частного сектора стандартов по защите компьютерных систем и баз данных от кибератак, включая незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
3 апреля Администрация Президента США объявила, что шесть федеральных агентств США примут участие в реализации новой межведомственной инициативы «U.S. Global Business Solutions», целью которой является вовлечение к 2017 году в экспортную деятельность не менее 50 000 новых малых предприятий. Данная инициатива предполагает необходимость разработки мер поддержки, учитывающих особенности малого бизнеса, а также усиление межведомственного взаимодействия в сфере поддержки экспортной деятельности малого бизнеса, включая создание информационного портала, который будет содержать информацию об имеющихся мерах государственной поддержки и способах ее получения. Ключевыми участниками инициативы будут являться Администрация малого бизнеса, Минсельхоз США, Минторг США, Агентство США по торговле и развитию, а также Государственная корпорация США по частным инвестициям за рубежом и Эксимбанк США.
7 августа Президент США подписал указ, прекращающий действия импортных ограничений на широкую номенклатуру товаров происхождением из Мьянмы. В то же время запрет на импорт жадеита, рубинов и ювелирных изделий из них происхождения из Мьянмы оставлен в силе.
12 августа на основании полномочий, предусмотренных положениями закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях», Президент США подписал прокламацию, продлевающую срок действия системы экспортного контроля США на очередной однолетний период.
23 декабря Президент США издал Прокламацию № 9072, положения которой добавили Мали в перечень стран бенефициаров региональной преференциальной системы, предусмотренной законом «О росте и возможностях для стран Африки», а также продлил до 31 декабря 2014 года срок действия двустороннего Соглашения с Израилем «О торговле сельскохозяйственными товарами» 2004 г.
Администрация США в 2013 году продолжала активно применять различные защитные меры во внешней торговле, главным образом направленные на ограничение воздействия конкуренции со стороны иностранных поставщиков на интересы местных производителей, в частности используя механизм антидемпинговых и компенсационных разбирательств.
Так, в 2013 году было инициировано 40 антидемпинговых и 19 компенсационных расследований. Предметом антидемпинговых расследований являются поставки следующей продукции: гомогенизированная никелированная полосовая сталь (Diffusion-Annealed, Nickel-Plated Flat-Rolled Steel Products) происхождением из Японии; древесина твердых пород и декоративная клееная фанера (Hardwood and Decorative Plywood) происхождением из Китая; стальная арматурная проволока для железобетонных шпал (Prestressed Concrete Steel Rail Tie Wire) происхождением из Мексики, Китая, Таиланда; сварные нагнетательные нержавеющие трубы (Welded Stainless Pressure Pipe) происхождением из Малайзии, Таиланда, Вьетнама; стальные резьбовые шпильки (Steel Threaded Rod) происхождением из Индии и Таиланда; трубы нефтепромыслового сортамента (Oil Country Tubular Goods) происхождением из Индии, Кореи, Филиппин, Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, Украины, Вьетнама; ферросилиций (Ferrosilicon) происхождением из России и Венесуэлы; хлорированный исокуанурат (Chlorinated Isocyanurate) происхождением из Японии; стальные стержни для армирования бетона (Steel Concrete Reinforcing Bar) происхождением из Мексики и Турции; усилитель вкуса моносодиум глютамат (Monosodium Glutamate) происхождением из Китая и Индонезии; анизотропная (текстурированная) электротехническая сталь (Grain-Oriented Electrical Steel) происхождением из КНР, Чехии, ФРГ, Японии, Кореи, Польши и России; изотропная электротехническая сталь (Non-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая, Германии, Японии, Кореи, Швеции и Тайваня; 1,1,1,2-тетрафторэтан (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) происхождением из Китая. Кроме того в отчетном периоде по решению КМТ США (отсутствует ущерб) было прекращено одно антидемпинговое расследование в отношении поставок динасового кирпича (Silica Bricks), инициированное в ноябре 2012 года.
Предметом компенсационных расследований являются поставки следующей продукции: замороженные тепловодные креветки (Frozen Warmwater Shrimp) происхождением из Китая, Эквадора, Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама; стальные резьбовые шпильки (Steel Threaded Rod) происхождением из Индии; трубы нефтепромыслового сортамента (Oil Country Tubular Goods) происхождением из Индии и Турции; хлорированный исокуанурат (Chlorinated Isocyanurate) происхождением из Китая; анизотропная (текстурированная) электротехническая сталь (Grain-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая; стальные стержни для армирования бетона (Steel Concrete Reinforcing Bar) происхождением из Турции; усилитель вкуса моносодиум глютамат (Monosodium Glutamate) происхождением из Китая и Индонезии; изотропная электротехническая сталь (Non-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая, Кореи и Тайваня; 1,1,1,2-тетрафторэтан (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) происхождением из Китая. Семь из вышеупомянутых компенсационных расследований (а именно: расследования в отношении поставок замороженных тепловодных креветок происхождением из Индонезии, Таиланда, Эквадора, Индии, Малайзии, Китая и Вьетнама) были прекращены в отчетном периоде без принятия приказа (Минторг США признал факт отсутствия субсидирования).
За отчетный период Минторг США принял восемь антидемпинговых (в том числе восстановил действие двух ранее отмененных по итогам пятилетнего пересмотра приказа по решению суда) и четыре компенсационных приказов, а также отменил (по итогам пятилетнего пересмотра) два антидемпинговых и один компенсационный приказ. Кроме того, по итогам пятилетнего пересмотра было прекращено действие одного соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок лимонного сока происхождением из Мексики. Также одно соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок свежих томатов происхождением из Мексики было изложено в новой редакции.
Предметом принятых в 2013 году антидемпинговых приказов являются: решетчатые мачтовые вышки для установки ветряных электрогенераторов (Utility Scale Wind Towers) происхождением из Китая и Вьетнама; стальные проволочные вешалки для одежды (Steel Wire Garment Hangers) происхождением из Вьетнама; бытовые стиральные машины (Large Residential Washers) происхождением из Мексики и Кореи; раковины из тянутой нержавеющей стали (Drawn Stainless Steel Sinks) происхождением из Китая; шарикоподшипники и их части (Ball Bearings and Parts Thereof) происхождением из Великобритании и Японии.
Отмечаем, что по данным ВТО по состоянию на 01 июля 2013 года в мире насчитывалось 1374 действующих антидемпинговых приказов, из которых 243 применялись в США, а 215, 120, 118 и 111 антидемпинговых приказов применялись в Индии, Турции, Китае и ЕС соответственно.
Предметом принятых в 2013 году компенсационных приказов являются: решетчатые мачтовые вышки для установки ветряных электрогенераторов (Utility Scale Wind Towers) происхождением из Китая; бытовые стиральные машины (Large Residential Washers) происхождением из Кореи; стальные проволочные вешалки для одежды (Steel Wire Garment Hangers) происхождением из Вьетнама; раковины из тянутой нержавеющей стали (Drawn Stainless Steel Sinks) происхождением из Китая.
Предметом двух отмененных антидемпинговых приказов является коррозионностойкий высокоуглеродистый стальной листовой прокат (Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products) происхождением из Германии и Кореи. В свою очередь предметом отмененного компенсационного приказа является коррозионностойкий высокоуглеродистый стальной листовой прокат (Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products) происхождением из Кореи.
Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013 года в США насчитывается 245 антидемпинговых (также действуют 6 соглашений о приостановлении антидемпинговых расследований) и 52 компенсационных приказа, 27 из которых защищает внутренний рынок США от импорта китайского происхождения (8 компенсационных приказов действуют против индийского импорта и по три приказа против импорта из Индонезии и Южной Кореи). 92 антидемпинговых приказа (38%) защищают рынок США от китайского импорта, в то время как 22, 18, 15, 14, 12 антидемпинговых приказов защищают рынок США от продукции происхождением из ЕС, Тайваня, Индии, Японии и Южной Кореи соответственно. Около 45% антидемпинговых и 50 % компенсационных приказов относятся к поставкам стальной продукции. При этом, средний срок действия антидемпингового приказа в настоящее время составляет 18 лет (при максимальном значении продолжительности действия приказа 34 года).
Озабоченность торговых партнеров США продолжает вызывать существующая практика распределения Службой США по таможенному контролю и охране границ среди национальных производителей, подвергшихся негативному воздействию демпинга со стороны иностранных производителей, сумм антидемпинговых и компенсационных пошлин, учтенных Службой до 1.10.2007 г. (поправка Берда). Так, в 2007 ф.г. было распределено 264 млн.долл., в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 фин.гг. – 180, 248, 69.4, 85, 118.7, 61.7 млн.долл. соответственно. На 2014 ф.г. запланировано к распределению 37.7 млн. долл. Данная практика признана несоответствующей правилам ВТО, в связи с чем Япония и ЕС (из 11 таможенных территорий, обжаловавших данную меру в ВТО) применяют к американскому импорту по отдельным товарным позициям (13 – Япония, 5 - ЕС) дополнительные пошлины, введенные в порядке реторсии, размер которой подлежит ежегодному определению и в 2013 году составил 74.47 и 61 млн. долл. США соответственно.
В рамках мероприятий по поддержке национальных производителей и обнародованного Администрацией США перечня предлагаемых мер по усилению правоприменительной практики в области антидемпингового законодательства в 2013 году был принят ряд нормативных правил, Так, 10 апреля в «Federal Register» опубликовано окончательное решение Минторга США о модификации применимых правил в области антидемпинговых процедур в части определения термина «фактическая информация», а также сокращения максимально возможных сроков для предоставления «заинтересованными» лицами фактической информации в Минторг США в рамках антидемпинговых и компенсационных процедур.
17 июля Минторг США опубликовал в Federal Register окончательную редакцию новых процедурных правил удостоверения фактической информации, предоставляемой (в том числе) от имени правительственных органов иностранных государств в Минторг США в рамках осуществления антидемпинговых и компенсационных процедур. По сравнению с текстом упомянутых правил в редакции от 10 февраля 2011 года (interim final rule) в порядок удостоверения правительственными органами иностранных государств (government certification) полноты и достоверности фактической информации, предоставляемой в Минторг США в рамках осуществления антидемпинговых и компенсационных процедур, внесены изменения и дополнения, исключившие ссылки на уголовное законодательство США. Кроме того, текст удостоверительной надписи изложен в новой редакции, которой с 16 августа 2013 г. необходимо придерживаться при оформлении соответствующих подач в Минторг США.
2 августа в «Federal Register» опубликован окончательный вариант изменений и дополнений в правила осуществления антидемпинговых процедур в части использования Минторгом США данных о ценах на ресурсы (факторы производства), приобретаемые в странах с рыночной экономикой, применительно к расчету уровня «нормальных цен» в рамках антидемпинговых процедур, затрагивающих страны с нерыночной экономикой. Данные изменения вступают в силу с 3 сентября с.г. Кроме того 4 ноября в «Federal Register» опубликован окончательный вариант изменений и дополнений в правила осуществления антидемпинговых процедур в части расширения использования метода случайной выборки при отборе респондентов для проведения антидемпингового расследования и пересмотров ранее принятых приказов.
В соответствии с предписаниями национального законодательства в отчетном периоде торгово-экономическим блоком Администрации США был осуществлен ряд публикаций нормативного характера, а также были обнародованы восемь докладов (обзора, отчета) по тематике ВЭД. Так, 8 января АТП США опубликовал в «Federal Register» уведомление о возможности исключения Бангладеш из перечня стран-бенефициаров преференциального режима ГСП США в связи с отсутствием прогресса в вопросе соблюдения прав трудящихся, включая право на объединение в профсоюзы и проведение коллективных переговоров с работодателями.
16 января Служба США по таможенному контролю и охране границ (совместно с Бюро расследования нарушений таможенного и иммиграционного законодательства) опубликовала годовой отчет за 2012 ф.г. о результатах деятельности в области пресечения незаконного ввоза на территорию США товаров, нарушающих исключительные права интеллектуальной собственности американских правообладателей. Так, в отчетный период был осуществлен 691 арест, оформлено 423 обвинительных заключения, инициировано 334 судебных дела в отношении физических лиц, вовлеченных в вышеупомянутую противоправную деятельность. В отчетном периоде был заблокирован доступ к 697 интернет-сайтам, посредством которых осуществлялось распространение контрафактной продукции. В 2012 ф.г. было конфисковано 22 848 партий контрафактных товаров (из которых 9 852, 8 490 и 1 526 поставлялись посредством почты, служб экспресс-доставки и экспедиторскими компаниями соответственно) на общую сумму 1,262 млрд. долл. (в 2011 ф.г. – 24 792 на общую сумму 1,11 млрд. долл.). Наибольший объем контрафактной продукции (в ценовом выражении) приходился в 2012 ф.г. на следующие товары: сумки и кошельки (40%); часы и украшения (15); одежда (11%); бытовая электроника (8%); обувь (8%); лекарственные средства (7%). Крупнейшими странами-импортерами контрафактной продукции (в ценовом выражении) в 2012 ф.г. оставались Китай (72%) и Гонконг (14%).
19 февраля Минторг США опубликовал отчет о ходе реализации Новой экспортной инициативы в 2012 г. Так, согласно отчета, объем экспорта товара и услуг рос в 2012 году опережающими темпами по сравнению с увеличением объема импорта в США, достигнув значения 2,2 трлн. долл. (13,9% ВВП США), из которых 1,35 трлн. долл. приходится на товары промышленного производства (рост на 47% за период 2009-12 гг.). Экспорт услуг в 2012 году увеличился на 4,4% и составил 632,3 млрд. долл. США. Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 38% до уровня 145,4 млрд. долл. (крупнейший рынок – Китай с объемом 26 млрд. долл.). Минсельхоз США 21 февраля опубликовал прогнозные показатели экспорта на 2013 ф.г., которые составили 142 млрд. долл. (итоговое значение за 2012 ф.г. – 135,8 млрд. долл.).
01 марта Администрация США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных средств опубликовала стратегический план, направленный на укрепление и развитие системы безопасности качества продовольственных продуктов в странах, являющихся их экспортерами в США. В рамках программы планируется проведение обучения иностранных специалистов, ознакомление их со стандартами безопасности, предъявляемыми к импортируемым продовольственным товарам, интеграция системы мониторинга качества производственных процессов при производстве продуктов питания в данных странах, выработка единых технических регламентов продовольственных товаров.
1 апреля 2013 года АТП США представил Президенту США и в Конгресс США ежегодный доклад о торговых барьерах в зарубежных странах, препятствующих экспорту американских товаров, услуг и инвестиций, а также доклады о технических барьерах в торговле и о санитарных и фитосанитарных мерах. Доклад о торговых барьерах в зарубежных странах содержит информацию о торговых режимах 57 стран, а также Специального административного района Гонконг, Тайваня, Европейского Союза и Лиги арабских государств. Упомянутый Доклад включает анализ действующих барьеров по 9 категориям, а также содержит оценку влияния иностранной торговой политики на объем американского экспорта. Также 30 марта были обнародованы два других упомянутых доклада, раскрывающие ограничения в соответствующих областях применительно к 16 странам (а также ЕС и Тайваню) и 45 (а также ЕС, Тайваню и Сообществу развития стран Юга Африки) странам соответственно.
Кроме того, 1 мая 2013 г. АТП США обнародовал итоги ежегодно проводимого им обзора по т.н. «статье 301-специальной» Закона США о торговле 1974 г., посвященного анализу ситуации с охраной прав американских владельцев ИС в иностранных государствах (далее - Обзор). АТП США осуществил Обзор в отношении режимов охраны прав ИС, применяемых 95 торговыми партнерами США, из которых 41 вызвали озабоченность у американской стороны. В перечень т.н. «приоритетно наблюдаемых государств», к числу которых американцы относят страны с «неадекватным» уровнем защиты прав ИС, были отнесены 10 стран, а в перечень «наблюдаемых государств» включены 30 торговых партнеров США. Кроме того Украине был присвоен статут «приоритетного иностранного государства» (наивысший уровень озабоченности). Учитывая данное обстоятельство, 3 июня 2013 года АТП США инициировал расследование в отношении Украины в рамках статьи 301 Закона США о торговле 1974 г в связи с отсутствием эффективной защиты исключительных прав интеллектуальной собственности. Итогом такого расследования может стать временное лишение Украины статуса страны-бенефициара в рамках ГСП США.
27 июня Торговый представитель США М.Фроман обнародовал отчет о результатах ежегодного пересмотра Генеральной системы преференций, предоставляющей право на осуществление беспошлинного импорта различных групп товаров из развивающихся стран. Более 100 наименованиям продукции происхождением из 14 стран был предоставлен т.н. «вейвер» в отношении применения правила о «пороге конкурентоспособности». Принято решение об исключении Народной республики Бангладеш из числа бенефициаров ГСП в связи с систематическим грубым нарушением трудовых прав и несоблюдением минимальных требований безопасности рабочих мест. Петиции по нескольким странам, одобренные в прошлые годы, остаются под процедурой пересмотра: петиции по Индонезии, России, Украине и Узбекистану в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, петиции по Фиджи, Грузии, Ираку, Нигеру, Филиппинам и Узбекистану в связи с нарушением прав трудящихся.
1 ноября Минфин США опубликовал очередной доклад об экономической и валютной политике зарубежных стран, в котором в очередной раз не признал Китай валютным манипулятором и соответственно не стал требовать применения в отношении данной страны односторонних экономических санкций. Отмечается, что курс юаня по отношению к доллару вырос на 12% с июня 2010 года, при этом китайская валюта все равно остается недооцененной. Предметом озабоченностей Минфина США стала курсовая политика Японии, Кореи, Тайваня и Бразилии.
В отчетном периоде Конгресс США продолжил работу по совершенствованию законодательства в области государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Представляется, что важным событием в данной сфере стало обнародование в феврале 2013 г. заявления постоянной бюджетной комиссии Конгресса США о приоритетных сферах (внешнеэкономической направленности) законодательной деятельности Конгресса на 2013 год. Так, были упомянуты следующие приоритетные законодательные инициативы: (1) наделение Президента США «полномочиями по содействию торговле» (Trade promotion Authority); (2) временное снижение или отмена таможенных пошлин в отношении сырьевой продукции и полуфабрикатов, которые не производятся (или производятся в недостаточном количестве) в США; (3) наделение дополнительными полномочиями Службы США по таможенному контролю и охране границ (включая упрощение ряда таможенных процедур через поощрение участия импортеров в реализуемых Службой сертификационных программах); (4) продление срока действия преференциальных систем (действие ГСП и системы преференций Андским странам истекает в июле 2013 года); (5) правоприменение в области ИС (особенно в сфере защиты прав на ноу-хау и пресечение несанкционированного доступа сведениям, составляющим коммерческую тайну»); (6) дальнейшая настройка режима экономических санкций; (7) многосторонние и двусторонние переговоры и др. Итоги 2013 года показали, что по большинству направлений достичь успеха не удалось, по отдельным пунктам программы даже не были согласованы тексты законопроектов.
Среди законопроектов, внесенных в отчетном периоде на рассмотрение Конгресса США,можно отметить внесенный 09 мая 2013 года в Палату представителей Конгресса СШАзаконопроект H.R. 1910 «О правовой подотчетности иностранных производителей», положения которого, в частности, предусматривают необходимость регистрации в США представительства иностранного производителя, осуществляющего поставки на рынок США, в целях обеспечения большего контроля за качеством и происхождением продукции со стороны надзорных органов США, а также неотвратимости исполнения судебных предписаний властей США
Учитывая, что положения Публичного закона № 111-227 от 11.08.2010 «О текущем снижении тарифа» (в редакции закона №111-344), предусматривающие снижение или приостановление взимания импортных пошлин на 929 товарных позиций, большинство из которых является сырьем для американских производителей, истекли 31.12.2012 г., то представляет несомненный интерес законопроект H.R. 6727 «О текущем снижении тарифа», положения которого, сокращая количество товарных позиций на величину около 10%, продлевают срок действия льготного периода обложения таможенными пошлинами до 31.12.2015 г.
Среди законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата, можно выделить законопроект H.R. 6493 «О международных инвестициях в американские города», предусматривающий предоставление инвесторам, имеющим намерение вкладывать денежные средства в развитие депрессивных американских городов, льгот в виде налоговых вычетов, предоставлении долгосрочных инвестиционных виз и видов жительства и других стимулирующих мер.
Учитывая, что 31 июля истек срок действия ГСП США, то представляют интерес внесенные в Конгресс США законопроекты H.R. 2709, S 1331, положения которых предусматривают ретроспективное продление ГСП США до 30.09.2015 г. В связи с необходимостью уплачивать таможенные пошлины по товарам, ранее подпадавшим под действие ГСП США, потери американского бизнеса с августа по декабрь 2013 года составили около 225 млн. долл. США
В рамках реализации второго этапа патентной реформы США представляет интерес законопроект H.R. 2639 (внесен 10.07.2013), положения которого прежде всего направлены на борьбу с патентными «троллями» ежегодные потери экономики США от которых составляет около 29 млрд.долл. США.
Принимая во внимание, что срок действия Публичного закона № 110-234 от 22.05.2008 года (в редакции закона от 02 января 2013 года № 112-240) "О продовольствии, охране окружающей среды и энергетике от 2008 г." (Food, Conservation, and Energy Act of 2008, aka 2008 U.S. Farm Act) истек 01 октября 2013 года, то представляет несомненный интерес законопроекты S 504 и H.R. 2498 «О реформе сельского хозяйства, продуктах питания и занятости», положения которых продлевают сроки действия сельскохозяйственных и экспортных субсидий, а также устанавливающие их объемы финансирования. Кроме того данные законопроекты предусматривают возобновление ежегодных выплат в Бразильский хлопковый институт (по итогам разрешения спора в ВТО по вопросам экспортной поддержки и субсидий производителям хлопка). Отмечаем, что в связи с истечением срока действия упомянутого закона, возобновилось действие закона «О поддержке фермерства» 1949 года, одним из последствий чего стал рост розничных цен на молочную продукцию в США (в связи со значительно меньшим объемом агросубсидий).
11 декабря в Сенат Конгресса США был внесен законопроект № 1801 «Об обеспечении равных условий в глобальной торговле», положения которого предписывают Минторгу США при расчете «нормальной» цены учитывать соразмерность и адекватность расходов респондентов на оплату труда, расходов на обеспечение стандартов охраны труда, а также защиты окружающей среды.
12 декабря в Палату представителей Конгресса США внесен законопроект H.R. 3733 «О торговле и правоприменительной практике в сфере защиты окружающей среды», положения которого предусматривают возможность введения специальных импортных таможенных пошлин в отношении товаров, произведенных в странах, не взявших на себя обязательства в должном объеме по защите окружающей среды.
В отчетный период Конгресс США так и не приступил к рассмотрению вопроса предоставления Президенту США «полномочий по содействию торговле», которые необходимы Администрации США для успешного завершения переговоров по созданию зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство», а также по «Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству». Данная процедура позволяет Администрации США проводить заключенные торговые соглашения через Конгресс США по ускоренному и упрощенному порядку – конгрессмены могут лишь одобрять или отклонять подписанные соглашения и не могут вносить в него правки. Соответствующий законопроект планируется к внесению в Конгресс США в феврале 2014 года.
В отчетный период Президент США Б.Обама подписал ряд публичных законов внешнеэкономической направленности. Так,2 января Президент США подписал Публичный закон № 112-239 «О выделении средств на цели национальной обороны в 2013 финансовом году», положения которого (среди прочего) предусматривают снятие запрета на экспорт отдельных категорий спутников (прежде всего в области космической связи) и их компонентов. Экспортные ограничения отменены в отношении поставок во все страны мира за исключением Китая, Северной Кореи, Ирана, Кубы, Сирии и Судана. Кроме того, положения данного закона (ст. 1241-1255) предусматривают расширение экономических санкций трансграничного характера в отношении Ирана, которые затрагивают энергетический и кораблестроительный сектор экономики Ирана, а также морское судоходство и страховую деятельность. Кроме того, экономические санкции могут быть применены в отношении финансовых институтов третьих стран, которые участвуют (обеспечивают) в трансакциях с иранскими компаниями и физическими лицами, внесенными в соответствующие ограничительные списки.
Считаем важным отметить, что 2 января срок финансирования федеральных программ поддержки сельского хозяйства в рамках публичного закона США 2008 года «О поддержке фермерства» был продлен на один год в соответствии с положениями Публичного закона № 112-240 «О помощи американским налогоплательщикам».
14 января с.г. Президент США подписал Публичный закон США № 112-269 «Об увеличении наказания за акты промышленного шпионажа» (Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012), положения которого предусматривают ужесточение санкций за акты промышленного шпионажа (для физических лиц максимальный срок тюремного заключения увеличен с 15 до 20 лет с возможностью наложения штрафа, максимальный размер которого увеличен в 10 раз до 5 млн. долл.; для организаций размер штрафа определяется большим значением двух из величин - 10 млн. долл. или увеличенная в три раза стоимость «украденных» сведений, составляющих коммерческую тайну).
Кроме того, 14 января Президент США подписал Публичный закон № 112-266 «О безопасности гипсокартона», положения которого предусматривают новые требования по маркировке данного вида продукции, а также ограничивают содержание серы в данной продукции.
20 марта 2013 года Президент США подписал Публичный закон № 113-14 "О взимании сборов за регистрацию лекарств для животных", положения которого вводят дополнительные сборы с компаний и импортеров в пользу Администрации по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств.
27 ноября Президент США подписал Публичный закон № 113-54 от 27.11.2013 года «О качестве и безопасности лекарственных средств», положения которого, среди прочего, учреждаю национальный стандарт безопасности цепочки лекарственных средств и их компонентов для целей защиты потребителей от контрафактных лекарств.
26 декабря Президент США подписал Публичный закон № 113-66 "О выделении средств на цели национальной обороны", положения которого (статья 2279) накладывают фактический запрет на размещение на территории США наземных комплексов спутниковых систем глобального позиционирования иностранных государств (в настоящее время Россия, ЕС и Китай), которые прямо или косвенно контролируются правительствами иностранных государств. Размещение упомянутых наземных комплексов может быть разрешено только в том случае, если министр обороны США и директор национальной разведки предоставят письменное удостоверение Конгрессу США, что данные объекты не будут использоваться для разведывательной деятельности против США и будут передавать только открытые данные, а также не повысят эффективность российских вооружений и не ослабят конкурентные позиции американской системы GPS на рынке. В свою очередь статья 1255 данного закона запрещает использовать бюджетные денежные средства для исполнения контрактов с ОАО "Рособоронэкспорт".
Американской стороной в рассматриваемом периоде был подписан ряд двусторонних соглашений и других обязывающих документов межправительственного и межведомственного уровня в целях правового регулирования отдельных аспектов внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Так, 25 января 2013 года США и Япония подписали соглашение о порядке и условиях осуществления экспорта американской говядины и продукции из нее на рынок Японии. Япония согласилась разрешить с 01.02.2013 ввоз в страну американской говядины при условии, что возраст животных, из которых она была произведена, не превышает 30 месяцев (ранее было ограничение 20 месяцев).
28 февраля 2013 года Администрации США и Иордании подписали Декларацию о совместных принципах в области международных инвестиций (включая вопросы компенсаций на случай прямой или косвенной экспроприации) и Декларацию о совместных принципах в области оказания информационных и коммуникационных услуг (включая вопросы свободы трансграничного перемещения информации и информационных услуг).
23 апреля Бюро по таможенному и пограничному контролю США подписало с Таможенной службой Нигерии Соглашение о взаимной помощи по таможенным вопросам, положения которого (среди прочего) предусматривают возможность взаимного обмена таможенной информацией. Данное соглашение стало 66 в списке аналогичных соглашений с торговыми партнерами США.
15 мая между США и Бирмой (Мьянма) было подписано рамочное соглашение по торговле и инвестициям. Соглашение предполагает создание переговорной площадки по вопросам развития торговли и инвестиций между двумя странами, обеспечения соблюдения трудовых прав, а также выработке подходов к совместной борьбе с бедностью в Мьянме.
28 мая между США и странами, входящими в региональной интеграционное объединение CARICOM, было подписано рамочное Соглашение о торговле и инвестициях.
12 июля подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки узлами и агрегатами моторных транспортных средств.
27 августа США и Уругвай подписали Соглашение о взаимопонимании по вопросам развития торговых отношений. Данный документ опосредует вопросы взаимодействия между правительствами двух стран, а также определяет дальнейшие направления взаимной работы сторон по подписанию двухстороннего соглашения о свободной торговле.
24 сентября США и Монголия подписали Соглашение «О транспарентности в вопросах инвестиций и торговли».
26 сентября США и Япония подписали соглашение о взаимном признании стандартов «органических» продуктов питания.
21 октября ЕС и США продлили срок действия Соглашение 2009 года «О порядке доступа высококачественной говядины американского происхождения на рынок США» до 02 августа 2015 года, ежегодная квота в размере 45 тыс. метрических тонн сохранена без изменений.
21 ноября США и Марокко подписали Соглашение «О содействии торговле», а также межведомственное Соглашение «О взаимной помощи по таможенным вопросам».
25 ноября США и Бангладеш подписали Соглашение «О сотрудничестве в области торговли и инвестиций».
27 ноября (в форме обмена нотами) Россия и США подписали Соглашение «О взаимных отношениях в области рыбного хозяйства» (актуализация аналогичного Соглашения между Правительствами СССР и США от 1988 г.).
Администрация США в отчетном периоде также продолжала нормотворческую работу на ведомственном уровне в сфере правового регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Так, 17 января Министерство финансов США и Служба внутренних доходов США опубликовали окончательную редакцию нормативных правил, регламентирующих отдельные аспекты применения финансовыми учреждениями Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA). Данными правилами детально регламентируются пошаговые действия по выявлению контролируемых законом счетов, раскрытию информации по ним и осуществлению предусмотренных законом удержаний с лиц, нарушающих его требования.
К новым мерам нетарифного регулирования можно отнести нормативное решение Администрации по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, вступившее в силу 5 февраля с.г. во исполнение положений Публичного закона № 111-353 от 04.01.2011 «О безопасности пищевых продуктов», в соответствии с которым предусматривается необходимость обязательного указания в составе сведений, предоставляемых в рамках предварительного уведомления о ввозе продовольствия в США, на имевшиеся в прошлом случаи отказов в допуске (или приостановления обращения) на рынки третьих стран данной продукции. Также данным нормативным решением предусматривается введение дополнительных оснований для приостановления на срок до 30 дней (для целей проведения соответствующего расследования) выпуска продовольствия на внутренний рынок США, которыми являются наличие достаточных оснований для разумного предположения о том, что товар содержит признаки фальсификации или его маркировка осуществлена в объеме и способом, несоответствующим данному виду продукции, а также в тех случаях, когда есть разумные основания предполагать, что продукция может содержать посторонние примеси.
15 февраля Министерство торговли США опубликовало окончательное решение о продлении до 21 марта 2017 года срока действия Системы мониторинга и анализа импорта стали (SIMA), предусматривающее требование об автоматическом лицензировании импорта основных наименований сталепроката вне зависимости от страны его происхождения.
21 февраля Государственный департамент США принял решение о включении Камбоджи, Камеруна, Казахстана и Панамы в перечень стран (в настоящее время насчитывает 53 государства), использующих международную Систему сертификации Кимберлийского процесса при осуществлении международной торговли необработанными алмазами. Данное решение отменяет существовавший ранее запрет на импорт в США и операции с необработанными алмазами, происхождением из упомянутых стран.
12 марта Федеральная комиссия США по мореходству одобрила подписание внешнеэкономического соглашения об альянсе в сфере коммерческих морских грузовых перевозок. По условиям соглашения его участники (среди которых American President Line) вправе фрахтовать друг у друга морские коммерческие суда, сдавать в аренду часть грузовых мест на судах, а также координировать и кооперировать перевозку грузов между портами на Восточном побережье США и портами в Северной и Южной Азии, Ближнем Востоке, Испании, Италии, Египте, Панаме, Ямайке и Канаде.
18 апреля Бюро по таможенному и пограничному контролю США заявило об увеличении числа т.н. центров передового таможенного оформления – подразделений в структуре таможенного органа, специализирующихся на процедурах таможенного оформления определенной группы товаров. Согласно сделанному заявлению в 2013 году планируется открыть несколько Центров: по сельскохозяйственной продукции и продуктам питания в Майами; по одежде, обуви и текстилю в Сан-Франциско; по компьютерам и иной бытовой электроники в Атланте. Центры передового таможенного оформления осуществляют часть таможенных функций в отношении установленной группы товаров, в первую очередь – функции по проверке правильности определения таможенной стоимости товаров. Все упомянутые центры открыты в 2013 году.
17 мая Министерство энергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа по проекту «Freeport» в штате Техас. Данное разрешение стало вторым в истории США и первым с 2011 года. Разрешение дано на экспорт в страны, с которыми у США нет соглашений о свободной торговле. 07 августа Минэнергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа по проекту «Lake Charles Exports» в штате Луизиана. Кроме того 11 сентября выдано разрешение на экспорт сжиженного природного газа по проекту "DominionCove Point" в штате Мериленд.
14 июня Министерство торговли США объявило о планах провести в г. Вашингтоне 31 октября и 1 ноября текущего года первый международный инвестиционный саммит в рамках действия программы «SelectUSA». Участие в саммите приняли зарубежные инвесторы, члены правительств иностранных государств, иностранные и американские компании. Цель проведенного мероприятия – стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику США.
В свою очередь Министерство сельского хозяйства США 21 июня опубликовало количественные пороговые значения на 2013 год объема импорта продовольствия в отношении 41 товарной позиции, при превышении которых Администрация США может принять защитные меры в виде увеличения применимых ставок таможенного тарифа.
25 июня Бюро таможенного и пограничного контроля США анонсировало расширение сферы действия программы «Глобальный доступ» (Global Entry) на 8 дополнительных аэропортов. Программа позволяет импортерам, прошедшим процедуру подтверждения своего статуса как благонадежных, ввозить на территорию США грузы через аэропорты, участвующие в программе, с минимальным количеством таможенных и прочих проверочных процедур. В настоящее время в программе участвуют 32 аэропорта США.
5 июля Служба США по таможенному контролю и охране границ опубликовала в Federal Register окончательную редакцию правил, вступающих в силу с 5 августа 2013 года, устанавливающих право таможенного органа отказывать в допуске на таможенную территорию США промышленному оборудованию и потребительским товарам, маркировка и энергоэффективность которых не соответствует Публичному закону США «Об энергетической политике» 1975 года и принятым в его исполнение подзаконным актам.
12 июля Служба внутренних доходов США и Минфин США объявили о переносе на полгода срока вступления в силу основных требований Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA), касающихся обязательств кредитных организаций производить удержание с платежей в отношении лиц, не раскрывших информацию о владельцах своих счетов. В течение полугода планировалось завершить процедуру подписания двусторонних соглашений о порядке взаимодействия в рамках FATCA с различными государствами (около 50, включая Россию). Кроме этого, в срок до 25 апреля 2014 г. всем банкам и иным организациям, отвечающим разработанным Минфином США критериям благонадежности, будет необходимо получить в Службе внутренних доходов США особый идентификатор (Global Intermediary Identification Number), используемый для отслеживания операций по счетам.
29 июля АТП США внесла изменения в Гармонизированный таможенный тариф (ГТТ) США, имеющие своей целью: отразить истечение 31 июля 2013 г. срока действия Генеральной системы преференций США и Системы торговых преференций Андским странам; отразить изменение количества стран-членов ЕС применительно к распределению квот на сырную продукцию; отразить исключение с 31 августа 2013 г. Бангладеш из перечня стран-бенефициаров ГСП США; отразить изменение в нумерации нескольких подпозиций ГТТ США и для других подобных технических целей.
3 августа АТП США использовала (впервые с 1987 года и в 6 раз с 1930 года) делегированные Президентом США полномочия по наложению вето на решение КМТ США от 04 июня 2013 года, принятому в рамках расследования по статье 337 закона «О тарифе США» в пользу компании Samsung, положения которого накладывали (в связи с нарушением исключительных прав интеллектуальной собственности компании Samsung) запрет на ввоз на таможенную территорию США широкой номенклатуры продукции компании Apple.
9 августа Служба США по таможенному контролю и охране границ США объявила о порядке изменения электронной системы оформления таможенных грузов (ACE). Переход планируется осуществить в три этапа с завершением переходного периода в октябре 2016 г. В результате планируемых изменений планируется объединить в единую электронную систему действующие базы различных органов власти, связанные с перемещением товаров через государственную границу, соблюдением таможенного, санитарного законодательства, режимов экспортного контроля.
20 августа Администрация США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств анонсировала начало «пилотной» программы контроля цепочки безопасности поставщиков продуктов питания. Программа нацелена на выявление контрафактной и некачественной продукции при ввозе и дальнейшей ее дистрибуции по территории США. Суть программы заключается в декларировании импортерами полных списков организаций, участвующих в производстве конечного продукта, импортируемого в США.
20 сентября Федеральная торговая комиссия США утвердила новые правила маркировки шерстяной продукции, включая требования по указанию на этикетке данных о факте наличия в составе товара повторно используемой шерсти.
22 октября в Federal Register опубликовано официальное извещение Минторга США об изменении с 1 октября 2013 года наименования Импортной администрации Минторга США. С указанной даты упомянутое структурное подразделение Минторга США именуется Правоприменение и обеспечение соответствия (Enforcement and Compliance), к функциональным обязанностям которого относятся следующие группы вопросов: (1) антидемпинговые и компенсационные процедуры; (2) противодействие «обхождению» и иному нарушению антидемпинговых и компенсационных мер; (3) обеспечение участия Администрации США в процедурах разрешения споров в рамках НАФТА.
1 ноября Служба контроля здоровья животных и растений США обнародовала итоговую версию Правил импорта говядины в соответствии с Международными стандартами здоровья животных с целью предотвращения развития болезни губчатой энцефалопатии (коровьего бешенства).
14 ноября Минсельхоз США опубликовал в Federal Register новую редакцию стандарта качества гороха в сушеном виде.
10 декабря Минфин США опубликовал в Federal Register в рамках имплементации положений статьи 619 Закона "О реформе финансовой системы США" новые правила, которые накладывают на финансово-кредитные организации США существенные ограничения на осуществление высокорисковых биржевых операций с деривативами и рядом других финансовых инструментов с использованием собственных (а не клиентских) средств. Правила вступают в силу 1 апреля 2014 г., однако штрафные санкции за несоблюдение правил могут быть применены не ранее 21 июля 2015 г. Несмотря на это, уже начиная с июня 2014 г. кредитные учреждения будут вынуждены информировать регуляторов о предпринимаемых шагах по обеспечению соответствия новым правилам.
18 декабря опубликованы ценовые пороговые значения применительно к процедурам осуществления государственных закупок на 2014-15 гг., факт превышения которых дает право торговым партнерам США, являющимся участниками Соглашения ВТО по правительственным закупкам или двустороннего соглашения о свободной торговле, принять участие в конкурсных торгах на право заключения соответствующего государственного контракта.
31 декабря Минсельхоз США издал Приказ (вступил в силу 22.01.2014), положения которого устанавливают сбор с производителей бумаги и бумажной упаковки в размере 0,35 долл. США за короткую тонну (907,2 кг), осуществляющих производство или ввоз на таможенную территорию США данного вида продукции в ежегодном объеме более 100 тыс. коротких тонн. Ожидается, что объем ежегодных сборов в рамках данного приказа составит около 25 млн. долл. США. Данные средства будут направляться на маркетинговые исследования и информационную поддержку целлюлозно-бумажной промышленности США.
В отчетном периоде Администрация США продолжала использовать специальные ограничения в торговле товарами по соображениям национальной безопасности, совершенствуя внешнеторговое законодательство в данной сфере. Так, 11 февраля в Federal Register опубликовано решение Государственного департамента США о введении экономических санкций в отношении белорусских компаний КБ «Радар» и «ТМ Сервис» (включая их дочерни компании) сроком на 2 года, запрещающее американским компаниям осуществлять какие-либо внешнеторговые (включая импортные) операции с данными белорусскими организациями. 12 февраля в Federal Register опубликовано решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о включении белорусской компании ГВТУП «Белвнешпромсервис» в «Список граждан особых категорий и запрещенных организаций» и «замораживании» на территории США всех ее активов.
3 июня Президент США подписал Исполнительный приказ (вступил в силу 01 июля 2013 года), положения которого накладывают запрет на использование иностранными банками возможностей финансовой системы США в случае, если такие банки осуществляют существенные валютные операции с иранским реалом. Также данный указ запрещает продажу или предоставление Ирану оборудования и технологий для производства автотранспортных средств, а также запасных частей для автотранспортных средств.
7 ноября в «Federal Register» опубликовано официальное решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о введении с 30 октября 2013 года санкций имущественно-финансового характера в отношении четырех граждан России, а также двух российских компаний (ООО «Гурген Хаус» и ООО «МС Групп Инвест»). Санкции введены в связи с тем, что упомянутые российские граждане и организации непосредственно связаны (по мнению Администрации США) с международными преступными группировками.
10 декабря Госдеп США опубликовал в Federal Register о введении в отношении Сирии дополнительных санкций экономического характера, включая запрет американским банкам на предоставление займов и кредитов государственным организациям Сирии (исключая кредиты и займы на закупку продовольствия), а также запрет осуществления поставок товаров и технологий американского происхождения (исключая продовольствие).
Тем не менее в отчетном периоде Администрация США продолжила смягчение режима санкций экономического характера по отношению к Бирме. Так, 22 февраля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло запрет на осуществление расчетных и иных операций (включая открытие счетов) с четырьмя основными финансовыми институтами Бирмы (Myanma Economic Bank, Myanma Investment and Commercial Bank, Asia Green Development Bank and Ayeyarwady Bank). С 22 февраля такие операции могут осуществляться в уведомительном порядке на основании Общей лицензии № 19.
С учетом прецедентного характера права США важное место в сфере нормативного регулирования ВЭД занимает решения федеральных органов судебной власти США. Считаем необходимым отметить, что 19 марта 2013 года Верховный Суд США принял прецедентное решение, в корне изменившее правоприменительную практику в части определения момента исчерпания исключительных прав при введении товаров, содержащих в себе объекты авторского права, в гражданский оборот (т.н. «правило первой продажи»). В соответствии с данным решением в США применим экстерриториальный принцип исчерпания исключительных прав, а не национальный, как это было ранее. На практике это означает, что субъект, легально приобретший в любой стране мира продукцию, содержащую в себе объекты авторского права, вправе в дальнейшем импортировать ее на рынок США в целях перепродажи.
Кроме того, считаем важным отметить решение Окружного суда Округа Колумбия от 02 июля 2013 года, вынесенное в рамках рассмотрения дела American Petroleum Institute v. SEC (D.D. C., No. 12-cv-01668, 10/10/12), в соответствии с которым было приостановлено действие Правил Комиссии США по ценным бумагам и биржам №13q-1 от 22.08.2012 «О раскрытии информации о платежах эмитентами, осуществляющими добычу полезных ископаемых», а Комиссия была обязана возобновить нормотворческую работу в данной области. Упомянутые правила предусматривали обязанность публичных компаний, в том числе иностранных, осуществляющих деятельность в сфере добычи полезных ископаемых и имеющих листинг в США, по раскрытию, среди прочего, информации о платежах, осуществляемых правительствам различных уровней.
В рассматриваемом периоде США продолжали играть ведущую роль в международных организациях, используя их возможности для продвижения своих интересов, в частности создания благоприятных условий для деятельности американского бизнеса на внешних рынках. Так, в отчетном периоде Администрация США продолжала работу со своими торговыми партнерами по активизации многосторонних переговоров Доха-раунда в рамках «коктейльного» подхода, направленного на выход на взаимные договоренности по небольшому пакету соглашений (early harvest, deliverables) к концу ноября 2013 г. для их окончательного обсуждения и согласования на 9-ой Министерской конференции ВТО на о.Бали, Индонезия (3-6 декабря 2013 г.).
При активном участии США данная цель была достигнута. 7 декабря 2013 года была обнародована итоговая Декларация, признающая присоединение Йемена к ВТО, а также закрепляющая решения по десяти соглашениям, касающимся «трех столпов» Балийского пакета, а именно: упрощение процедур торговли; некоторые вопросы по сельскому хозяйству; вопросы развития. К данным соглашениям относятся: 1. Упрощение торговых процедур; 2. Меры государственной поддержки сельского хозяйства, не оказывающие искажающего эффекта на торговли и разрешенные к применению без ограничений; 3. Продовольственная безопасность; 4. Администрирование тарифных квот; 5. Экспортная конкуренция; 6. Улучшение условий доступа на рынки продукции из хлопка происхождением из наименее развитых стран; 7. Предоставление беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки развитых стран для наименее развитых стран; 8. Упрощение преференциальных правил происхождения товаров в отношении наименее развитых стран; 9. Изъятия по услугам для наименее развитых стран; 10. Механизм мониторинга в части исполнения предоставления специального режима развивающимся странам.
Кроме того, Администрация США в 2013 году продолжала прилагать усилия по согласованию многосторонних соглашений, имеющих торгово-экономическую составляющую. Так, при активном участии Администрации США 19 января 2013 г. в Женеве было завершено согласование текста юридически обязательного соглашения по ртути, получившего название Конвенции Минамата, в разработке которой приняли участие представители более чем 140 стран. Целью Конвенции Минамата является сокращение использования ртути в промышленности, а также ликвидация накопленного ртутного загрязнения. Новый документ вводит запрет на открытие новых шахт, регулирует торговлю металлом и его использование в промышленных процессах, устанавливает специальные меры по снижению ртутного загрязнения окружающей среды при «кустарной» золотодобыче, в металлургии и энергетике. Конвенция открыта к подписанию с октября 2013 г.
24 июля США официально получили статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе – торговом блоке, в который входят Колумбия, Мексика, Перу, Чили и Коста-Рика. Альянс был создан в 2012 году с целью расширения торговли и экономического взаимодействия стран региона и создания торгового пространства, свободного оборота услуг, трудовых ресурсов и капитала. Помимо США статус наблюдателей (с возможным последующим членством) также имеют Гватемала, Панама, Уругвай, Парагвай, Испания, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Канада.
В отчетном периоде состоялись четыре раунда (март, Сингапур; май, Перу; июль, Малайзия; август, Бруней) переговоров по формированию Транстихоокеанского партнерства (далее по тексту - TPP), участниками которых на настоящий момент являются США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Бруней, Перу, Чили и Япония. Сторонам не удалось достигнуть своей принципиальной цели по согласованию обязывающих документов к концу 2013 года. В настоящее время страны-участницы продолжают переговорный процесс без привязки к конкретной дате его возможного завершения. Важно отметить, что страны-участницы объявили «мораторий» на допуск новых стран к переговорному процессу. В то же время в течение 2013 года Тайвань и Южная Корея (сентябрь и ноябрь 2013 года соответственно) официально объявили о наличии заинтересованности по присоединению к TPP. Ранее о желании присоединиться к данному переговорному процессу официально объявляло правительство Таиланда.
Существенными препятствиями к завершению переговорного процесса являются имеющиеся расхождения между позицией США и иных участников переговорного процесса по следующим вопросам: разрешение инвестиционных споров; защита исключительных прав интеллектуальной собственности; лекарственные средства; сельскохозяйственные экспортные субсидии. Данные вопросы являются принципиальными для Администрации США, в связи с чем поле для «маневра» существенно сужено, что не позволило в 2013 году достичь искомого компромисса. Кроме того, переговорную позицию США в значительной степени ослабляет отсутствие у Президента США «полномочий по содействию торговле» (более подробно рассматривалось ранее), в связи с чем «затягивание» переговорного процесса в значительной степени отвечает интересам США.
Формирование упомянутого регионального интеграционного объединения вызывает определенную озабоченность у Китая. Так, 11 октября Премьер-министр КНР Ли Кэцян, воспользовавшись отсутствием Президента США на Восточно-Азиатском Саммите, предложил лидерам азиатского региона присоединиться к переговорному процессу по созданию конкурирующей с «ТPP» зоны свободной торговли «Региональное Всестороннее Экономическое Партнерство», участниками которого в настоящее время являются Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Планируется, что согласование обязывающих документов должно быть завершено участниками к концу 2014 года.
В 2013 году важным направлением деятельности Администрации США на международной арене в экономической сфере стал переговорный процесс по Соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Так, 17 июня Президент США и руководство ЕС на саммите «Группы 8» в Великобритании официально объявили о начале переговоров по данному Соглашению. Первый (технический) раунд переговоров состоялся 8-14 июля в г.Вашингтоне. 14 ноября в Брюсселе завершился второй раунд переговоров, в ходе которого преимущественно обсуждались вопросы либерализации доступа и защиты инвестиций, а также вопросы оказания трансграничных услуг. Также в ходе переговоров затрагивалась тематика унификации мер нетарифного регулирования, энергетики и сырьевых товаров.
20 декабря в Вашингтоне завершился третий раунд переговоров, в ходе которых стороны обсуждали следующие вопросы: применение санитарных и фитосанитарных мер; защита прав интеллектуальной собственности; государственные закупки; стандарты в области охраны труда; торговля текстилем.
Согласно оценкам Администрации Президента США, Соглашение послужит открытию европейского рынка для торговли и инвестиций; устранению нетарифных ограничений в торговле товарами, в т.ч. сельскохозяйственными; устранению торговых тарифов; улучшению доступа на рынки в сфере услуг; развитию главных принципов и новых моделей сотрудничества по глобальным вопросам, включая интеллектуальную собственность, деятельность государственных учреждений и дискриминационные требования по локализации; продвижению глобальной конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.
Темпы роста сбора налогов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна значительно превышают темп роста валового национального продукта, но происходит это в основном в связи с увеличение экспорта природных ресурсов из стран региона. Несмотря на то, что индивидуальные показатели пока очень различны, суммарный размер пропорционального соотношения размера собираемых налогов к размеру валового национального продукта (ВВП) в 19 странах Южной Америки значительно поднялся – к такому выводу приходят эксперты Экономической комиссии по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) при Организации Объединенных Наций в опубликованном 20 января анализе налоговой политики региона.
В отчете указывается на то, что в период с 1990 г. по 2012 г. доля собираемых налогов в размере ВВП стран Латинской Америки увеличилась с 13,9% до 20,7%, хотя даже новый показатель по-прежнему примерно на 14% ниже, чем в среднем по странам Организации экономического содействия и развития.
Останавливаясь на конкретных результатах достигнутых странами региона, авторы анализа отметили, что наиболее высокая доля собранных налогов сохраняется в ВВП Аргентины и Бразилии – 37,3% и 36,3%, соответственно, в то время как в Гватемале и в Доминиканской республике она остается на минимальном уровне – 12,3% и 13,4%, соответственно.
Результаты опубликованного анализа также показали, что в 2012 году наибольшие темпы роста были достигнуты в Аргентине и в Эквадоре – 2,6% и 2,3%, соответственно, а в Уругвае и в Чили было зафиксировано падение, составившее 1,0% т 0,4%.
Несмотря на общую позитивную оценку, эксперты ECLAC особо отметил, что продолжающееся в течении последних 22 лет общее увеличение сбора налогов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна во многом объясняется расширением налогообложения на экспорт сырья и других невозобновляемых природных ресурсов из стран региона, и данная статья государственных доходов традиционно не считается устойчивой и надежной, в силу постоянно изменяющегося спроса на мировом рынке и в виду легкости изменения ценовых параметров.
Согласно прогнозу Центра аналитики деловой активности логистической отрасли развивающихся рынков (AEMLI), рост спроса на доставку товаров из Китая и стран АТР может кардинально повлиять на работу логистической отрасли в 2014 году.
Годовой индекс, который подсчитали специалисты Центра Agility и транспортные аналитики, основан на трех главных слагаемых: мировой экономический рейтинг государства, статистические данные крупнейших азиатских логистических коридоров, а также экспертные оценки профессионалов внешней торговли и логистики.
По мере восстановления мировой экономики и деловой активности на региональных рынках, большинство собственников логистического бизнеса оценивает положение дел в отрасли как "позитивное": почти 75% респондентов, опрошенных Agility, высказали ожидания, что 2014 год будет "хорошим" и "очень хорошим" для развития бизнеса, в то время как 72% все же склонны прогнозировать рост мировой экономики в наступившем году как "весьма скромный".
"Большинство логистов ожидают, что объемы торговли возрастут по сравннию с 2013 годом", рассказал Иса Эль-Салех, исполнительный директор Agility Global Integrated Logistics.
Топ-менеджмент крупных логистических компаний возлагает большие надежды на Азиатско-Тихоокеанский регион: 58% респондентов ожидают наибольший рост логистического рынка в странах АТР, в то время как 25% прочат пальму первенства Латинской Америке.
Четыре из 10 наиболее привлекательных стран для инвестиций в логистику находятся в Азии: Китай, Индия, Индонезия и Малайзия.
Набольший риск для цепей поставок в АТР специалисты называют природные катаклизмы и экономические кризисы. Для сравнения, в Латинской Америке эти факторы: устаревшая инфраструктура и коррупция для Африки и Ближнего Востока: терроризм и политическая нестабильность, для России и СНГ: недостаточная развитость инфраструктуры и коррупция. Как видим, российские логистические сервисы во многом схожи с образчиками стран "третьего мира".
Кроме того, логисты отметили, исход производственных предприятий из Китая в другие развивающиеся страны. Наиболее вероятными альтернативами для размещения производственных мощностей эксперты называют Вьетнам, Индию, Мексику и Индонезию.
Джон Маннерс-Белл, управляющий компании Ti, убежден, что еще слишком рано давать однозначные оценки состоянию дел в китайской логистической отрасли. Все зависит от того, сумеет ли руководство страны найти способы повысить конкурентоспособность китайской логистики и привлекательность размещения производств на территории КНР. Несмотря на то, что рост ВВП Китая в 2014 году ожидается на уровне 7,5%, "Китай по-прежнему предоставляет огромные возможности для развития логистического бизнеса благодаря гибкости внутреннего рынка на фоне повышающегося уровня жизни населения и стоимости труда", считает г-н Аль-Салех.
"Китай по-прежнему является флагманом мировой экономики и ведущим рынком логистических услуг", считает он, добавляя, что КНР сохранит лидерские позиции во внешней торговле и останется ключевым пунктом отправления и назначения морских и воздушных грузовых линий.
Индия, второй по величине растущий рынок, в 2011-2013 гг. заняла лишь четвертую строчку рейтинга, пропустив вперед Бразилию и Саудовскую Аравию.
Среди 10 самых востребованных авиамаршрутов 2013 года, которые принесли наибольшую доходность инвесторам, называны Колумбия-США, Чили-США, Бангладеш-ЕС. Наиболее прибыльными морскими линиями доставки признаны Бразилия-США (рост объемов +62%), ЮАР-США (+44%).
Топ-менеджеры крупных логистических компаний оптимистично настроены на работу в 2014 году, поскольку мировая экономика заметно оживилась после кризиса 2008 года. Ввиду спада объемов экспорта из Китая в США и Европу многие страны стали вкладывать деньги в развитие внутреннего спроса, "однако если мир выйдет из рецессии, ситуация может коренным образом измениться", резюмировал Джон Маннерс-Белл.
Виктория Зубайдулина
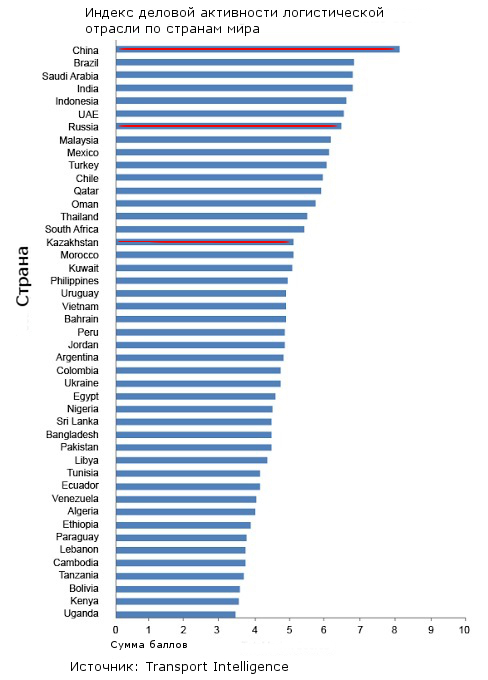

Заместитель директора Организации геологии и геологоразведки Ирана Бехруз Барна заявил, что Иран присоединяется к числу стран, располагающих богатыми запасами нитратов. Это стало возможным благодаря тому, в Иране впервые разведано крупное месторождение в провинции Кохгилуйе и Бойерахмад. Таким образом, в ближайшее время Исламская Республика наряду с США, Китаем и Чили станет одним из основных производителей нитратов.
Месторождение нитратов находится в районе Лираб в упомянутой провинции, и его запасы оцениваются примерно в 605 тыс. т. В ближайшее время будет проведена разведка на глубину залегания полезных ископаемых, а затем после получения соответствующих лицензий начнется разработка месторождения и добыча нитратов.
Бехруз Барна напомнил, что нитраты относятся к числу важных видов полезных ископаемых. Их используют в самых разных отраслях, в том числе в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, в фармацевтике, в холодильных и вентиляционных установках. До сих пор Иран импортировал нитраты из-за границы, а с освоением открытого месторождения необходимость в импорте названной продукции отпадет. С обнаружением месторождений нитрата калия и йода в районе Лираб перед провинцией Кохгилуйе и Бойерахмад открываются новые возможности.
Экипаж Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-мастер" выиграл ралли "Дакар" 2014 года в классе грузовиков.
Перед последним этапом, который прошел в субботу и финишировал в чилийском Вальпараисо, россиянин Каргинов опережал голландца Жерара де Роя (Iveco) более чем на семь минут. На 90-м километре спецучастка на последнем этапе китайский гонщик Чжоу Ён попал в аварию и заблокировал трассу, в связи с чем россиянин потерял много времени.
Из итогового протокола гонки следует, что россиянину решили вернуть потерянное время — этого хватило ему для победы. Де Рой стал вторым, отстав от Каргинова на 3 минуты 11 секунд. Третьим в общем зачете стал экипаж Эдуарда Николаева ("КАМАЗ-мастер"). Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, также выступающие за "КАМАЗ-мастер", заняли четвертое и пятое места.
За последние 14 лет россияне 11 раз побеждали на "Дакаре" в зачете грузовиков. В 2013 году победу одержал Николаев.
Больше всего раз среди всех гонщиков победу одерживал Владимир Чагин. За всю историю ралли российские пилоты выигрывали ралли в зачете грузовиков 12 раз, что также является лучшим результатом среди всех стран.
Банк ВТБ выступает генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-мастер» с 2005 года. ВТБ начал сотрудничество с «КАМАЗ-мастер» в ключевой момент жизни команды, поддержав строительство в Набережных Челнах современного центра автоспорта, где создаются уникальные автомобили для гонок в экстремальных условиях бездорожья.
КАМАЗ-мастер» на сегодняшний день – самый успешный проект российского автоспорта. Финансовая поддержка спонсоров позволяет команде выставлять на «Дакар» сразу пять экипажей и создавать уникальную технику, побеждающую в очном противостоянии именитых соперников на автомобилях ведущих европейских марок.
РОССИЯ ЗАНЯЛА 44-Е МЕСТО В МИРЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ЕДЫ
Страну подвело низкое качество продуктов
Россия заняла 44-е место в рейтинге доступности, качества и разнообразия пищи, который составила организация Oxfam. РФ находится примерно на том же уровне, что и Таиланд, Чили, Казахстан и Мексика. Всего в исследовании оценивалось питание в 125 странах.
Лидером в этом списке стали Нидерланды, где продукты признали самыми питательными, полезными и разнообразными. При этом Япония и США не попали даже в топ-20. Плохие показатели Японии связаны с тем, что в стране слишком дорогая еда. Америка же "скатилась" из-за высокого процента больных ожирением и диабетом. Это даже несмотря на высокую доступность и качество продуктов.
В России лучше всего дела обстоят с количеством еды, а вот качество на очень низком уровне.
Аналитические компании пришли к выводу, что россияне перешли в режим экономии.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел рабочую встречу с директором Чилийского антарктического института Хосе Эспинозой
Встреча состоялась в рамках продолжающейся с 8 по 16 января 2014 г. экспедиции российской делегации на антарктические станции РФ. Во встрече с российской стороны также приняли участие представитель Президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и Президент Российской Академии наук Владимир Фортов.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы научного сотрудничества двух стран в сфере антарктических исследований и обмена опытом в изучении вопросов изменения климата на планете.
С.Донской напомнил, что в 1995 г. было подписано российско-чилийское межправительственное соглашение о сотрудничестве в Антарктике, которое развивается по линии Чилийского антарктического института и НИИ Арктики и Антарктики Росгидромета. «Российские и чилийские станции в Антарктике расположены бок о бок, и даже вне рамок официальных соглашений наши полярники постоянно взаимодействуют между собой и всегда готовы к реализации совместных проектов, – отметил он. – У Российской Федерации и Республики Чили существует большой потенциал для эффективного взаимодействия в различных областях, в том числе в области охраны окружающей среды».
Flakeboard America Limited (г. Маркем, пр. Онтарио, Канада), дочерняя компания чилийской Arauco, достигла соглашения с SierraPine (г. Розвилл, шт. Калифорния, США) о приобретении американских активов компании, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Flakeboard.
Речь идет о двух комбинатах по производству древесностружечных плит, расположенных в штатах Калифорния и Орегон, а также о предприятии по выпуску MDF-плит в шт. Орегон.
После завершения сделки, которое должно состоятся в 1 кв. 2014 г., совокупная мощность комбинатов Arauco в Северной Америке составит 3,5 млн м3.
Экономика Канады: Об итогах года
Министр международной торговли Э.Фаст 30 декабря подвел итоги деятельности Правительства С.Харпера в 2013 году, оценив его как самый продуктивный год в истории Канады в области международной торговли и инвестиций. Достижения Правительства, включая, по его словам, историческое соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС, вступление в действие или подписание соглашений еще с тремя приоритетными для Канады странами и заключение или вступление в действие десяти соглашений об иностранных инвестициях (FIPA). Правительство С.Харпера также обнародовало новый План по развитию рынков (Global Markets Action Plan /GMAP/) - всеобъемлющий план развития торговли и инвестиций, который отражает изменения в глобальной перспективе, фокусирует внимание на сильных сторонах канадской экономики, делает акцент на основные направления развития торговой политики Канады, необходимых для достижения коммерческих интересов в мире и ставит конкретные задачи увеличения присутствия канадского малого и среднего бизнеса за рубежом, в основном на быстрорастущих рынках Юго-Восточной Азии.
Эти достижения, по его словам, помогут создать новые рабочие места и возможности для трудящихся, бизнеса и экспортеров во всех регионах Канады – что является главным приоритетом Правительства С. Харпера. В 2013 году рекордные результаты, по его мнению, были достигнуты также в создании и сохранении рабочих мест и достижения благосостояния для канадцев с помощью торговли. Создание рабочих мест остается главной задачей канадского Правительства на 2014 год.
Далее Министр привел следующие факты:
Европейский союз являлся вторым по объему торговым партнером Канады и крупнейшей многоотраслевой экономикой мира с более чем 500 миллионов потенциальных потребителей и ВВП более 17 триллионов долларов США;
С подписанием с ЕС соглашения о свободной торговле количество стран, с которыми у Канады имеются подобные соглашения, утроился с 14 до 42-х, обеспечивая Канаде свободный доступ более чем к половине мирового рыночного пространства.
В соответствии с «Глобальным планом развития рынка» (GMAP), Правительство будет иметь дело с предприятиями малого и среднего бизнеса, поднимая их экспортный потенциал на быстрорастущих рынках с 29 до 50 % к 2018 году.
Двусторонняя торговля утроилась с момента вступления в силу в 1997 году соглашения о свободной торговле с Чили и составила в 2012 году около 2,5 млрд. долларов США.
Более 60% канадского ВВП и рабочие места одного канадца из пятерых связано с экспортными поставками.
В минувшую среду в г. Сантьяго, расположенном в центральной части страны, началась подготовка к карнавалу, который продлится весь февраль. В этом году мероприятие будет посвящено известному местному шеф-повару Рауди Торресу (Raudy Torres), который традиционно исполняет роль одного из самых знаковых персонажей карнавала – Роба-ла-Гальина (досл. - "куриный вор", Roba la Gallina). Кроме того, особого упоминания удостоится культурный центр Eduardo León Jimenes по случаю своего десятого юбилея.
Глава провинциального правительства Аура Торибио гарантировала, что праздник будет безопасным для посетителей – об этом позаботятся сотни полицейских. Она также призвала гостей и жителей города к активному участию в мероприятии, которое является отражением доминиканской самобытности. Торибио отметила, что в этом году карнавал будет широко освещаться на национальном уровне, в том числе и на телевидении
Начинающийся экономический бум в Новой Зеландии может привести к тому, что местный доллар превзойдет австралийского «коллегу» впервые за 40 лет, сообщают специалисты банка HSBC
Новая Зеландия нацелилась на продуктивный 2014 год, экономика работает на полных оборотах, - говорят финансовые аналитики банка HCBS Австралии в своем отчете. Они ожидают, что австралийский сосед, восстанавливающий разрушенный землетрясением второй город страны Крайстчерч, опередит по скорости развития экономики почти все страны OECD, кроме Чили, Израиля и Мексики. По прогнозу валовой национальный продукт ВНП страны Киви возрастет в 2014 до 3.4%, с 2.8% в 2013. Если пару лет назад киви-доллар составлял около 80 австралийских центов, то в прошлую пятницу он дошел до 92.6 цента. Специалисты HSBC считают, что к концу года он догонит австралийский доллар. И может превзойти его, впервые за последние четыре десятилетия.
Новозеландская экономика планирует гигантские работы, объемом в 40 млр. $NZ или 20% ВНП, по восстановлению разрушенных построек в округе Кэнтербери, где расположен Крайстчерч. Вторым фактором, ответственным за подъем экономики, является сельскохозяйственный импорт. 60% китайского импорта молочной продукции идет из Новой Зеландии. И все это проходит на фоне продолжающегося строительного бума. Экономисты утверждают, что новозеландский Резервный банк будет первым из банков развитых стран, поднявших в этом цикле ставку банковского процента.
Norske Skog (г. Осло, Норвегия) заключила соглашение о продаже оставшихся 49% акций Norske Skog Pisa в Бразилии компании Papeles Bio Bio SA (ранее — Norske Skog Bio Bio), который управляется консорциумом чилийских инвесторов, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Norske Skog.
Цена 49% акций составляет $37 млн, выручка будет получена в первой половине 2014 г.
«Мы удовлетворены тем, что сделку удалось завершить раньше намеченного срока, — заявил Свен Омбудстведт, президент и исполнительный директор Norske Skog. — Продажа оставшихся акций является частью нашей стратегии по улучшению ликвидности. Кроме того, как было заявлено ранее, отныне мы намерены сконцентрировать основные бизнес-операции компании в Европе и Австралии».
С завершением сделки Norske Skog прекратит производство бумаги в Южной Америке.
Компания Arauco возобновила производство на восстановленном предприятии по производству фанеры Nueva Aldea в Чили, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.
Предприятие сильно пострадало от пожара, случившегося в январе 2012 г., для его восстановления потребовалось привлечение инвестиций в размере $190 млн. Производственные мощности комбината позволяют производить до 330 тыс. м3 продукции ежегодно, годовой объем продаж оценивается в $100 млн. В настоящее время штат предприятия составляет 350 человек, в перспективе он будет увеличен до 660.
Завершение военной кампании в Афганистане и сокращение военных расходов США и другими странами-союзниками вынуждают правительство Канады искать потенциальных покупателей канадского оружия и военной техники в развивающихся странах, сообщает armyrecognition.com.
За последние несколько лет в список стран-импортеров, которым канадские оборонные компании могут продавать оружие и военное оборудование, была добавлена Колумбия. В этот список могут войти и другие страны, такие как Индия, Кувейт, Бразилии, Чили, Перу и Южной Корея.
В секретной информационной записке, представленной министром иностранных дел Джоном Бэрдом (John Baird) в июне, говорится, что есть планы включения в список стран-импортеров Бразилию, Чили, Перу и Южную Корею в качестве ответных мер на снижение спроса на оружие канадского производства на «традиционных рынках», таких как США и Великобритания.
Канадская ассоциация оборонной промышленности (Association of Defence and Security Industries) включает более чем 975 оборонных предприятий и половину доходов сектора приносит экспорт.
Власти Чили расследуют очередной случай массовой гибели сардин, которых выбросило на побережье неподалеку от портового города Валпараисо в 100 километрах к северо-западу от столицы страны Сантьяго.
Представители министерства окружающей среды утверждают, что рыбы погибли после того, как их засосало вместе с водой в систему охлаждения местной теплоэлектростанции.
Экологи утверждают, что подобные случаи происходят в последнее время слишком часто.
В Чили пожаром уничтожены сотни гектаров лесаЛесные пожары в Чили, бушующие уже четвертый день, уничтожили уже более 1600 гектаров леса.
В регионе объявлен повышенный уровень опасности. Спасатели проводят эвакуацию местных жителей.
На борьбу с огнем направлены пожарные, самолеты и вертолеты. Однако, несмотря на все их усилия, из-за сильного ветра пожар продолжает распространяться.
Энотуризм – это направление туризма, целью которого является знакомство с культурой и историей региона посредством виноделия. Такой туризм часто включает в себя посещение винокурен, виноградников, а также дегустации.
Почитатели выбирающие такой вид туризма сделали свой выбор относительно того, какой регион в мире наиболее почитаем и отвечает их вкусам. Первое место заняла Италия, затем следует Франция и замыкает тройку победителей США.
Победителем стал итальянский регион Тоскана, который считается лучшим направлением для путешествий у знатоков хорошего вина. Об этом говорят результаты опроса почти 30 тысяч пользователей, проведенного туристической социальной сетью wayn.com.
Как сообщает РИА «Новости», второе место получил французский Бордо, получив 5 тысяч откликов, а третье — калифорнийский Напа-Вэлли, сумевший привлечь более 3,4 тысячи поклонников. Кроме того, в финальный рейтинг вошли: испанская Риоха, Франсхук (ЮАР), чилийский Майпо и Южный Уэльс (Австралия).
С целью оптимизации торговли перуанским авокадо и чилийскими яблоками, фитосанитарные ведомства Перу и Чили в этом месяце заключили договор о двусторонней торговле растительной продукцией.
Уже в будущем году экспортеры обеих стран смогут поставлять продукцию без каких-либо жестких фитосанитарных мер, так как они больше не действуют.
Как ожидается, принятие двустороннего Протокола позволит возобновить массовую торговлю данными видами фруктов и может стать отправной точкой для укрепления отраслевого бизнеса в контексте большей безопасности.
Новая обзорная площадка Mirador Étnico Choroy Traiguén была построена к летнему сезону 2014. На торжественной церемонии открытия туристического аттракциона было также представлено и расписание летних развлекательных мероприятий, которые будут организованы для туристов в Сан-Хуан-де-ла-Коста (San Juan de la Costa) каждый летний уикенд.
В новогоднюю ночь на смотровой площадке пройдет праздничный романтический ужин с видом на пляжи Maicolpue, Bahía Mansa и Pucatrihue, где состоятся салюты и фейерверки. 1 января в Bahia Mansa туристов ждет "Фестиваль морепродуктов" (Festival del Marisco) и дегустации местных блюд из морских водорослей и моллюсков. Также на январь запланированы пешеходный трекинг по природным достопримечательностям La Ruta del Abuelito Huentellao, отдых на природе Eco Pic-Nic и "ночь иллюминации" Contaco se Ilumina.
В начале февраля со смотровой площадки Mirador Étnico Choroy Traiguén можно будет наблюдать соревнования по сёрфингу Campeonato de Surf y Electro Beach (пляж Pucatrihue), через неделю на пляже Maicolpue пройдет пивной праздник Fiesta de la Cerveza y Gourmet, а завершит летний сезон международный фольклорный фестиваль Festival Multicultural de Pueblos Originarios de América Latina.
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЧИЛИ ПОБЕДИЛА МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ
Мишель Бачелет набрала 62,15% голосов, Эвелин Маттеи - 37, 81%
На президентских выборах в Чили, по данным избирательной комиссии после подсчета более 99 % голосов, побеждает кандидат от левоцентристской коалиции "Новое большинство", экс-президент страны Мишель Бачелет, сообщает РИА Новости.
Бачелет набирает 62,15% голосов. Ее ближайшая соперница, представитель правых сил Эвелин Маттеи получила 37,81%. Явка на выборах составила 47%. Маттеи уже признала свое поражение и пожелала Бачелет успехов на президентском посту. В предвыборном штабе "Нового большинства" уже празднуют победу. Бачелет также поздравил действующий президент Чили Себастьян Пиньера.
Мишель Бачелет станет президентом Чили уже во второй раз. Свой первый президентский срок (в 2006 - 2010 годах) она завершила с рекордным уровнем поддержки населения (около 84%). Однако, согласно конституции страны, никто не может занимать президентский пост два срока подряд. В марте 2010 года впервые за последние 50 лет президентом Чили стал кандидат от правых сил Себастьян Пиньера.

Оборона на диете
Как бюджетные кризисы улучшили стратегию США
Резюме Режимы экономии прошлых лет заставили официальные круги признать, что главный источник безопасности – жизнеспособная национальная экономика, действующая в условиях открытого мирового порядка, а вовсе не военная сила или ее необдуманное использование.
Статья представляет собой сжатый вариант работы, выполненной для Аспенской стратегической группы. В полном объеме она будет издана в очередном томе, готовящемся к изданию Институтом Аспена. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2013 год.
Соединенные Штаты живут в эпоху экономии, и после многолетнего роста оборонный бюджет неизбежно будет урезан. Но даже сторонники подобных мер подчеркивают необходимость избежать неприятных последствий уменьшения военных расходов, как это было в прошлом.
«Нам необходимо помнить уроки истории, – сказал президент Барак Обама в январе 2012 года. – Мы не можем позволить себе повторять ошибки, которые были сделаны после Второй мировой войны и вьетнамской кампании, когда наша политика в военной сфере была совершенно непригодна для решения будущих грандиозных задач. Как главнокомандующий я не допущу, чтобы это повторилось». В свою очередь министр обороны Леон Панетта, выступая перед Конгрессом в октябре 2011 г., заявил: «После любого крупного конфликта – Первой мировой войны, Второй мировой войны, Кореи, Вьетнама, падения Советского Союза – мы выхолащивали наши вооруженные силы и снижали их боеготовность. Что бы мы ни делали для решения сложных финансовых проблем, стоящих сегодня перед нами, нам нельзя допускать этой ошибки».
Вопреки этому расхожему мнению, последствия сокращения оборонного бюджета США в прошлом были не так уж ужасны. Фактически, если взглянуть на пять таких периодов в прошедшем столетии – после Первой и Второй мировых войн, в эпоху корейской и вьетнамской войн и холодной войны, – очевидно, что экономия может быть полезна, поскольку вынуждает мыслить стратегически, что редко происходит в «тучные» годы.
Мировые войны
После Первой мировой войны Соединенные Штаты резко снизили военные расходы – в 1919 г. они превышали 17% ВВП, а 1922 г. едва достигали 2 процентов. Армию сократили с 3,5 млн солдат под ружьем до примерно 146 тысяч. В 1922 г. США, Великобритания, Франция, Япония и Италия подписали Договор об ограничении ВМС. Документ в частности устанавливал тоннаж линейных флотов Соединенных Штатов, Великобритании и Японии в соотношении 5:5:3 (после Лондонской военно-морской конференции 1930 г. оно изменилось на 10:10:7). Великая депрессия вынудила Вашингтон строить кораблей даже меньше, чем разрешалось договором.
После нападения японцев на Пёрл-Харбор и вступления Америки во Вторую мировую войну многие объясняли провалы американской армии сокращением оборонного бюджета в 1920-е гг. и наивной верой Вашингтона в беззубые соглашения о контроле над вооружениями. Однако несколько поколений бесстрастных и более объективных историков точнее обрисовали ситуацию: низкий уровень военных расходов США в 1920-е и 1930-е гг. не подорвал безопасность и не помешал серьезным технологическим прорывам и организационным переменам. На самом деле Соединенные Штаты были плохо готовы к надвигающейся буре из-за ошибочного восприятия угрозы и неумелой дипломатии в предвоенные годы, что усугублялось изоляционистской позицией Конгресса, не желавшего поддерживать более решительную оборонную политику.
Когда началась Вторая мировая война, скудость ресурсов фактически вынудила американцев сделать непростой, но мудрый стратегический выбор. Быстрое завоевание Франции Германией в июне 1940 г. продемонстрировало, что существовавшие на тот момент в США военные планы устарели, а трехсторонний пакт, подписанный Германией с Италией и Японией в сентябре того же года, вплотную приблизил к американским границам призрак глобальной тоталитарной угрозы. Вынужденный импровизировать и расставлять приоритеты, глава ВМС Харольд Старк предложил стратегическую концепцию, которая могла бы лечь в основу внешней политики Соединенных Штатов на следующие полстолетия. После того как длительные склоки между армейскими и военно-морскими стратегами привели к появлению нескольких конкурирующих планов ведения военных действий, Старк взял на себя инициативу и составил меморандум для президента Франклина Рузвельта. В нем он утверждал, что главная угроза безопасности США исходит от Германии. Соединенные Штаты не могут позволить Гитлеру победить Великобританию, утвердить свое доминирование в Атлантическом регионе и выиграть время для того, чтобы усилить нацистскую военную машину ресурсами и живой силой из Северо-Западной Европы. Предотвращение такого развития событий должно стать главной задачей. В то же время Америке следовало использовать дипломатию, чтобы избежать войны с Японией, укрепить британскую и канадскую армии, готовиться к вторжению на европейский континент.
И здесь не столь важны детали стратегии, получившей название План «Собака» (Plan Dog), как обстоятельства ее появления. В середине 1940 г. Соединенные Штаты не имели стратегической концепции, не было согласованного курса ведения боевых действий и механизмов эффективной координации военной и внешней политики. Вынужденный принимать жесткие меры, Старк рассмотрел несколько вариантов стратегии, прикинул цели и средства их достижения, оценил задачи и приоритеты и рекомендовал действия, которые, как ему представлялось, позволят с наибольшей вероятностью добиться решения масштабных задач обеспечения национальной безопасности. Его взгляды имели большой резонанс, поскольку соответствовали формирующимся представлениям внутри и вне правительства о том, что необходимо для выживания, обеспечения благополучия нации и сохранения демократических институтов. Незадолго до появления меморандума Старка Рузвельт предупредил, что США не должны стать «одиноким островом в мире, где доминирует философия силы... Такой остров представляется мне... кошмаром, который могут испытывать голодные люди, содержащиеся в тюрьме, в наручниках, когда их кормят через прутья тюремной решетки презирающие их безжалостные хозяева других континентов».
Конечно, План «Собака» не давал ответа на многие вопросы, например, сколько военной техники следует поставить союзникам и сколько требуется для перевооружения собственной армии, как умиротворить Японию или обуздать ее активность во время военных действий против Германии и так далее. А между тем президент сопротивлялся точному определению целей, госсекретарь не желал координировать дипломатию с военной политикой, а в обществе не было единства до тех пор, пока японцы не напали на Пёрл-Харбор. Но сочетание жесткой экономии и кризиса помогло выработать ключевую стратегическую концепцию, по-новому оценить нависшую угрозу, а также понять тесную связь между национальными интересами и ценностями и расставить приоритеты.Мир по-американски
После Второй мировой войны базовая концепция Старка продолжила существование. В 1945 г. ведущие американские стратеги и мыслители объединили усилия в рамках исследования, проводимого Институтом Брукингса. Они пришли к выводу, что важно не допустить доминирования в Евразии какой-либо державы или коалиции. «Во всем мире, – полагали они, – только советская Россия и бывшие неприятельские державы способны сформировать ядро, вокруг которого может образоваться антиамериканская коалиция, угрожающая безопасности Соединенных Штатов». Поэтому нельзя было допустить бесконечного расширения Советского Союза на запад независимо от того, «будет ли это происходить путем формальной аннексии, политического переворота или нарастающей подрывной деятельности». Комитет начальников штабов, равно как и большинство гражданских официальных лиц, взяли на вооружение это стратегическое мышление. Но широкая общественность была настроена на демобилизацию и конверсию. Президент Гарри Трумэн, как и республиканская оппозиция, жаждали сбалансировать бюджет и подавить инфляцию. Между внешнеполитическими целями и военными возможностями вскоре вновь образовалась пропасть, поскольку Комитет начальников штабов требовал средств для противодействия возможным действиям Советов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Он добивался необходимых ресурсов для преодоления кризисов в Греции, Иране и Турции, а также гражданской войны в Китае, сосредоточивая внимание и на периферийных регионах.
И снова режим экономии побудил к более взвешенной оценке угроз. Ведущие американские политики пришли к консенсусу, что вероятность советской военной агрессии – не самая серьезная угроза безопасности США. По их логике, Советы были слишком слабы в экономическом плане, чтобы решиться на нападение. В 1946 г. Фердинанд Эберштадт, бывший директор Объединенного совета по боеприпасам для СВ и ВМС, написал Джеймсу Форрестолу, своему близкому другу и тогдашнему министру ВМС, что «только сумасшедшие могут решиться развязать против нас войну». Куда большая угроза заключалась в том, что Советский Союз начал бы эксплуатировать голод, социальную напряженность и политическое брожение, имевшие место в большей части Европы и Азии. Еще 16 мая 1945 г. министр обороны Генри Стимсон предупреждал Трумэна: «Следующей зимой в Центральной Европе случится голод и эпидемии. За ними может последовать политическая революция и проникновение коммунистических идей». В следующем месяце помощник госсекретаря Джозеф Гру сообщил президенту, что Европа стала благодатной почвой для «спонтанных проявлений классовой ненависти, которую умелому агитатору нужно лишь направить в нужное русло».
Не имея возможности использовать инструменты, которые могли показаться им наиболее желательными, американские политики решили, что помочь зарубежным странам в развитии важнее их перевооружения. Даже Форрестол признал в декабре 1947 г.: «До тех пор пока мы можем производить больше продукции, чем другие страны мира, контролировать морские пути и нанести атомный удар по суше, если потребуется, есть возможность ради восстановления мировой торговли, баланса сил – военной мощи – и устранения некоторых условий, способствующих войне, принять на себя риски, которые в противном случае были бы неприемлемы». Он разделял желание тогдашнего заместителя госсекретаря Дина Ачесона поручить подкомитету Комитета по координации действий государства, армии и ВМС разработать всеобъемлющую программу помощи и определить приоритеты. Сотрудники подкомитета при распределении помощи руководствовались своим пониманием критичности ситуации в той или иной стране. Первыми в их списке значились Греция, Турция, Иран, Италия, Корея, Франция и Австрия.
Тем временем Комитет начальников штабов провел собственное исследование зарубежной помощи, принимая во внимание как остроту потребностей потенциальных получателей, так и их важность для национальной безопасности США. В результате было рекомендовано оказать содействие Великобритании, Франции и будущей Западной Германии с таким определением: «Полное возрождение немецкой промышленности и в частности добычи угля важно для экономического восстановления Франции, безопасность которой неотделима от безопасности Соединенных Штатов, Канады и Великобритании. Таким образом, экономическое возрождение Германии имеет первостепенное значение с точки зрения безопасности США». Эти мысли, которые хорошо стыковались с начальными исследованиями отдела политического планирования Госдепартамента и взглядами многих должностных лиц, отвечавших за европейское направление, легли в основу знаменитого Плана Маршалла.
Вынужденный аскетизм заставил американцев как следует подумать о приоритетах и альтернативах: восстановление экономики за рубежом или перевооружение собственной армии, а также признать, что Западная Европа и Япония важнее для США, чем Китай. Если восстановление Западной Европы и налаживание тесных связей с бывшими врагами, такими как Германия и Япония, приведут к ухудшению отношений с Москвой и обострению начинающейся холодной войны, то так тому и быть.
Джордж Кеннан, который в те годы возглавлял Отдел политического планирования, рассматривал решения Советов о создании Коминформа (организации, задача которой состояла в распространении коммунизма по всему миру) в 1947 г. и государственном перевороте в Чехословакии в 1948 г. как «вполне логичный» ответ на «решимость Америки помогать свободным государствам мира». Подобные действия усилили опасения войны, но Кеннан, госсекретарь Джордж Маршалл и большинство их коллег из Госдепартамента все же считали ее маловероятной. Поэтому Трумэн призвал к проведению всеобщей воинской подготовки, временному восстановлению призыва и к осмотрительному увеличению оборонных расходов, но не изменил своей решимости ограничить военный бюджет, даже во время блокады Берлина в 1948–1949 годах.
Форрестол, которого Трумэн назначил первым министром обороны страны, занервничал. Его военачальники сообщали, что обязательства США намного превышают их реальные возможности, а действия Америки и контрмеры Советов повышают вероятность войны. Они были правы в обоих случаях, но это не поколебало Трумэна. Экономия означала, что рисками необходимо управлять, но полностью исключить их невозможно. Поэтому президент поставил на то, что большой войны не будет, и решил сконцентрироваться на внутриполитических задачах и укреплении союза с прежними врагами вместо того, чтобы взаимодействовать с новым противником, трансформировать экономику дружественных стран вместо того, чтобы заниматься перевооружением своей армии, и сосредоточиться на восстановлении и укреплении Западной Европы вместо того, чтобы увязнуть в китайском вопросе. Когда военные выразили несогласие и Форрестол стал допускать двусмысленные высказывания, Трумэн его уволил.
После корейского кризиса
Нападение Северной Кореи на 38-й параллели в июне 1950 г. положило конец десятилетию аскетизма военного бюджета. С 1950 по 1953 гг. США почти утроили расходы на оборону в отношении к размеру ВВП и почти вдвое увеличили численность вооруженных сил. Лишь малая доля этого наращивания военных возможностей была использована для разрешения конфликта на Корейском полуострове. Большая часть предназначалась для подготовки к ведению тотальной и глобальной войны с Советским Союзом, следуя логике, сформулированной в апреле 1950 г. в документе NSC-68 – сверхсекретном исследовании Госдепартамента, в котором обосновывалась необходимость крупного перевооружения американской армии для сдерживания советской экспансии.
Однако в 1953 г. вновь избранный президент Дуайт Эйзенхауэр дал ясно понять: военную мощь невозможно наращивать бесконечно. Он доказывал, что фундамент военной силы – крепкая экономика, а ключ к ней – платежеспособное государство и здоровая фискальная система.
За несколько месяцев до избрания он писал своему близкому другу: «Финансовая состоятельность и здоровая экономика Соединенных Штатов – первая предпосылка обеспечения коллективной безопасности в свободном мире. Это самое главное». Он считал, что расходы на оборону необходимо обуздывать, а бюджет должен быть сбалансированным. Заняв президентское кресло, он начал претворять свои идеи и принципы в жизнь. Эйзенхауэр поручил провести комплексный пересмотр стратегии государственной безопасности США в виде знаменитого Проекта «Солярий». Наверное, это была самая глубокая переоценка из всех когда-либо предпринятых. Были созданы три рабочие группы, каждой из которых предстояло доказать обоснованность предлагаемого подхода.
Эйзенхауэр утверждал, что на него произвели впечатление отдельные элементы всех трех подходов, и он распорядился включить их в новое комплексное изложение политики национальной безопасности. По правде говоря, данное исследование не привело к изменению стратегической концепции сдерживания или пересмотру точки зрения, согласно которой Соединенные Штаты не должны позволить Советскому Союзу получить контроль над большей частью ресурсов Европы и Азии. Но исследование подтвердило решимость Эйзенхауэра добиваться этой цели при сохранении куда большей финансовой дисциплины, чем это было в последние годы пребывания у власти администрации президента Трумэна.
Так называемая политика «нового взгляда» Эйзенхауэра, а также доктрины сдерживания и массированного контрудара повышали ценность и значение военно-воздушных сил и ядерных вооружений. Президент держал под контролем рост традиционных наземных войск и много говорил о постепенном уменьшении зависимости армии США от планов и целей НАТО. Но в то же время президент и госсекретарь Джон Фостер Даллес фактически наращивали обязательства страны и создавали новые альянсы.
В конце концов по мере того как росли стратегические возможности СССР, а американские союзники становились более настойчивы в своих требованиях и революционно-националистическое брожение охватывало все большее число стран и регионов, подход Эйзенхауэра подвергался все более решительной критике. Бюджетные ограничения, которые отстаивал президент, невозможно было сохранить в случае неизменности его фундаментальной стратегической концепции: по мере расширения интересов США на периферии и учащающихся заявлений американских политиков о том, что они будут выполнять взятые на себя обязательства, разрыв между целями и тактикой увеличивался. В 1953–1954 гг. финансовое благоразумие Эйзенхауэра было оправданным, но его администрация не скорректировала долгосрочную стратегию, так чтобы она согласовывалась с режимом экономии, который казался желательным президенту.
Фактически принимаемые бюджеты никогда не были слишком «тощими», и стратегические возможности быстро увеличивались. Но еще быстрее рос разрыв между средствами и целями, что неизбежно приводило к новой волне расходов, перевооружения, военных доктрин и интервенций в последние годы пребывания Эйзенхауэра у власти и в еще большей мере в 1960-е годы.
В 1940–1941 гг. режим экономии породил долговременную стратегическую концепцию, а с 1946 по 1949 гг. – чуткое восприятие угроз и сложную расстановку приоритетов. Но в 1953–1954 гг. последствия режима экономии воспринимались не столь однозначно. «Новый взгляд» был призван сузить расширявшуюся пропасть между целями и тактикой. Для Эйзенхауэра с его опытом, навыками и авторитетом это не было проблемой, чего нельзя сказать о преемниках «Айка», которым не удавалось найти компромисс между партийной политикой, организационным давлением, растущими стратегическими возможностями Советов и нараставшими волнениями в странах третьего мира.После Вьетнама
Проводя далеко идущую стратегическую переоценку в 1953–1954 гг., Эйзенхауэр и Даллес, по сути, проигнорировали реальный способ сбалансировать цели и средства Соединенных Штатов: они не использовали разрядку, чтобы с ее помощью попытаться снизить напряжение холодной войны. Эйзенхауэр никогда не исключал переговоры: на самом деле он проявлял интерес к контролю над вооружениями и в 1955 г. заключил договор с Советским Союзом, в результате которого было воссоздано австрийское государство. Но он считал переговоры с противниками менее важным делом, чем переговоры с нынешними или потенциальными друзьями и укрепление существующих альянсов.
Однако спустя почти два десятилетия, заняв президентское кресло почти в самый разгар, казалось бы, неразрешимого конфликта во Вьетнаме, президент Ричард Никсон и его помощник по национальной безопасности Генри Киссинджер пошли другим путем. Они также не изменили базовую концепцию государственной безопасности; Советский Союз оставался главным противником, и никто не собирался отказываться от политики сдерживания. Но, столкнувшись с финансовыми ограничениями, они изо всех сил старались найти новые способы заставить СССР вести себя более сдержанно. Никсон и Киссинджер понимали и признавали, что мир меняется. Они рассуждали о развитии многополярного мира, об оживлении взаимодействия с союзниками в Западной Европе и Северо-Восточной Азии, о необходимости углублять советско-китайские противоречия и разрыв и о растущей настойчивости националистических лидеров в развивающихся странах, стремящихся изменить конфигурацию мирового экономического порядка. Они также хотели вывести Соединенные Штаты из Вьетнама так, чтобы при этом не пострадал престиж страны, а американские политики не утратили кредит доверия. Но им досаждали партийные склоки, волнения в городах, расовые трения, инфляционное давление, утечка золотых запасов и финансовые ограничения. Хотя они детально обосновали необходимость благоразумного отстаивания национальных интересов в мировом порядке, который характеризуется устрашающими стратегическими возможностями СССР и вездесущей угрозой ядерной войны, их определение национальных интересов США было более двусмысленным.
Задача сводилась к разработке стратегии уравновешивания советской мощи в напряженных политических, финансовых и законодательных условиях. Они не пытались переформулировать цели, но маневрировали, чтобы добиваться их осуществления дешевле и эффективнее. Доктрина Никсона (авторы которой призвали союзников Соединенных Штатов в Азии обеспечить собственную оборону), разрядка в отношениях с Кремлем, начало официальных отношений с Пекином, секретные операции в ЮАР, Чили и других странах – усилия, направленные на поддержку союзников Соединенных Штатов, внесение раскола в ряды их противников и сдерживание советской мощи. При этом важно было не попасть в ловушку новых войн (которые американская общественность не потерпела бы) или вновь оказаться перед необходимостью добиваться стратегического превосходства (Конгресс не одобрил бы финансирование подобной программы). Как Никсон изложил это в меморандуме для Александра Хейга, заместителя помощника по национальной безопасности, и Киссинджера в мае 1972 г.: «Все, кто работал над этой проблемой [переговоры по ограничению стратегических вооружений], знают, что эта сделка наилучшим образом отвечает нашим интересам, но по самым практическим соображениям, которые не дано понять правым, мы просто не получим от Конгресса дополнительного финансирования, необходимого для продолжения гонки вооружений с Советами в области оборонительных или наступательных ракет».
Никсон и Киссинджер полностью не ликвидировали разрыв между обязательствами и имеющимися ресурсами или между целями и средствами их достижения. Но они искусно импровизировали, взаимодействуя с противниками и передавая больше полномочий и ответственности союзникам. Они воспользовались другими политическими инструментами, чтобы продолжать использовать основные элементы сдерживания в эпоху кажущегося упадка, для которой были характерны бурные события на внутриполитической арене, ослабление на международной арене и подрыв доверия к американским политикам.
После холодной войны
Американские политики понимали неизбежность сокращения расходов на оборону после распада Советского Союза и окончания холодной войны. Президент Джордж Буш-старший, министр обороны Дик Чейни и председатель Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл знали, что общественность и Конгресс ожидают дивидендов от наступления мира. В рамках согласованной стратегии после окончания холодной войны они были готовы пойти на необходимые сокращения, включая более миллиона военного и гражданского персонала. Именно об этой стратегии Буш был намерен говорить в Аспене, штат Колорадо, 2 августа 1990 г., когда иракский лидер Саддам Хусейн неожиданно напал на Кувейт.
Последовавший кризис заставил отложить планы по сокращению оборонных расходов, но администрация Буша вернулась к ним после окончания войны в Персидском заливе. Перед официальными лицами стояла нешуточная задача сократить военную мощь не так резко, как того требовали Конгресс и американская общественность. Вместе с тем всем было понятно, что международная обстановка оставалась тогда удивительно спокойной. При отсутствии глобальной угрозы Чейни и его стратеги подчеркивали региональные «вызовы», доказывая, что главная угроза заключается теперь в «неопределенности» и «непредсказуемости». В такой обстановке, говорили они, необходима такая конфигурация вооруженных сил, которая позволит США осуществлять лидерство и формировать будущее. Это требовало сохранения возможностей для продолжения ядерного сдерживания, укрепления и расширения альянсов, наращивания передового базирования и проецирования силы – особенно в регионах Персидского залива, Большого Ближнего Востока и Северо-Восточной Азии. Страна также должна сохранить способность достаточно быстро восстановить большую и боеспособную армию, если в этом возникнет необходимость.
При разработке Руководства по планированию обороны 1992 г. стратеги Пентагона сохранили две важные концепции времен холодной войны. Они доказывали, что Соединенным Штатам важно «не допустить, чтобы какая-либо недружественная держава доминировала в регионе, имеющем большое значение для американских интересов». (В список этих регионов попали Европа, Восточная Азия, Ближний Восток и Персидский залив и Латинская Америка.) И они настаивали на том, что США нужны достаточные оборонные возможности для создания мирового порядка, благоприятствующего их образу жизни, точно так же как официальные лица прошлого верили, что преимущественно выгодный для Соединенных Штатов расклад сил важен для сохранения демократического капитализма на родине. Учитывая режим жесткой финансовой экономии в стране, стратегическая концепция администрации Буша – подготовка к неопределенности, формирование будущего, борьба с региональной нестабильностью – гарантировала еще одну растущую пропасть между целями и средствами. У США не было достойных конкурентов на мировой арене, и вряд ли они могли бы появиться в течение нескольких лет или даже десятилетий. Но до тех пор пока администрация ставила перед собой такие амбициозные цели, угрозы Соединенным Штатам оставались неясными, а их интересы определялись столь расплывчато, имеющихся возможностей вряд ли когда-нибудь могло хватить для преодоления всех региональных и гуманитарных кризисов, которые представлялись неизбежными. К концу 1990-х гг. на долю США и их союзников приходилось почти 75% всех мировых расходов на оборону в сравнении с 6% Китая и России вместе взятых. Но даже при этом многие обозреватели упрекали администрацию Клинтона в том, что она уделяет недостаточно внимания обороне. Между тем администрация также взяла на вооружение ключевые элементы региональной оборонительной стратегии Чейни.
Уроки прошлого
Каким урокам учит нас история? Во-первых, тому, что негативные последствия экономии на военных расходах были явным преувеличением. США не стали уязвимы, отказавшись от глобального присутствия после 1919 года. С учетом отсутствия угроз в 1920-е гг. и ограничений, наложенных на британские, немецкие и японские вооруженные силы до середины 1930-х гг., оборонная политика после окончания Первой мировой войны не была опрометчивой. Точно так же вовсе не ограниченный оборонный бюджет 1946–1949 гг. стал причиной холодной войны, и он не подавил творческую реакцию на маячившие впереди угрозы. Враждебно настроенное общественное мнение и жесткая бюджетная экономия, характерные для последних лет войны во Вьетнаме, не препятствовали творческой адаптации, и нет оснований полагать, будто неадекватные военные расходы Соединенных Штатов стали спусковым крючком для исламской революции в Иране или советской авантюры в Афганистане в конце семидесятых. И требования мирных дивидендов после окончания холодной войны не помешали администрации Джорджа Буша сформулировать новую стратегию, призванную поддерживать американскую гегемонию.
Конечно, страна сталкивалась с разными проблемами в периоды бюджетных сокращений. Но эти проблемы редко или лишь отчасти были следствием самой экономии. Слишком часто официальные лица держались господствующих стратегических понятий, не полностью переоценивая их полезность, их издержки и выгоды, угрозы и возможности, и не переосмысливая цели и тактику. Острые военные вызовы после окончания Второй мировой войны – вмешательство Китая в корейскую войну, затруднительное положение во Вьетнаме, «болото» в Ираке – не имели ничего общего с бюджетной экономией.
Второй урок – это важность последовательной стратегической концепции, четкая оценка угроз, точное очерчивание интересов и целей и выверенная расстановка приоритетов. В этом смысле история показывает, что экономия не вредит, а скорее помогает, как это случилось в 1940–1941 и 1946–1949 годах. Во времена бюджетной экономии политика должна искусно сочетать инициативы, направленные на заверения союзникам и на взаимодействие с противниками. Эйзенхауэр и Даллес больше внимания уделяли первому, а Никсон и Киссинджер – последнему, но обнадеживание и взаимодействие одинаково важны, а здравое суждение – необходимая предпосылка правильного сочетания этих двух составляющих.
Одна из причин дурной репутации режима экономии в том, что картину часто смазывают другие факторы, такие как бюрократия и внутренняя политика, которые вынуждают Вашингтон сокращать не те статьи, и притом неверными способами, либо мешают ему понимать новые вызовы и возможности и оперативно реагировать на них. Битвы за место под солнцем и недоверие, а также технические сложности переориентации такого гигантского предприятия, как американская политика в сфере обороны и безопасности, часто мешают тщательному, комплексному планированию. Но в благоприятные для экономики времена это случается даже чаще, чем в эпоху экономического кризиса.
Правда в том, что необходимость экономии, с которой сегодня сталкивается Пентагон, не столь критична. В настоящее время США тратят больше на армию, чем все их геополитические конкуренты вместе взятые, и эта ситуация сохранится и после вынужденных сокращений. Расходы на оборону не будут кардинально урезаны, а лишь немного уменьшены – или просто будут медленнее расти. Эти перемены не должны стать поводом для отчаяния; скорее их следует воспринять как стимул для повышения эффективности, укрепления творческой составляющей, большей дисциплинированности и, что самое главное, благоразумия. Режимы экономии прошлых лет заставили официальные круги признать, что главный источник государственной безопасности – это жизнеспособная национальная экономика, действующая в условиях открытого мирового порядка, а вовсе не военная сила или ее необдуманное использование. Было бы неплохо сегодня повторить и усвоить этот урок.
Мелвин Леффлер – профессор истории в Университете Вирджинии и сотрудник Центра Миллера. В соавторстве с Джеффри Легро написал книгу «В неспокойные времена: Американская внешняя политика после Берлинской стены и 9/11».
Российские власти собираются ввести полный запрет на импорт рыбы из Норвегии, утверждая, что в норвежской рыбе превышено содержание бактерия и паразитов.
Для российских покупателей рыбной продукции полный запрет на норвежскую рыбу означает 20%-й рост цен.
Как сообщает газета «Известия», вернувшиеся из поездки в Норвегию российские ветеринары остались недовольны государственной системой контроля за безопасностью пищевой продукции животного происхождения. И, по информации участников рынка, готовятся полностью запретить ввоз рыбного сырья и готовой продукции из страны, являющейся крупнейшим поставщиком лосося в РФ.
Запрет на поставки лосося из Норвегии Россельхознадзор намерен ввести с 1 января или даже ранее. Как сообщил «Известиям» помощник главы ведомства Алексей Алексеенко, инспекция Россельхознадзора оценила состояние норвежской системы контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции как крайне неудовлетворительное. Из-за этого, по его словам, на российский рынок попадала некачественная рыба.
Комментируя такие российские претензии ещё в июле, региональный представитель норвежского комитета по контролю за безопасностью пищевых продуктов сказал, что «Норвегия экспортирует сёмгу на 120 различных рынков, и только российский рынок даёт норвежской рыбе подобную оценку».
На 13 декабря в Россельхознадзоре было запланировано закрытое совещание с участниками отрасли и заместителем руководителя ведомства Сергеем Непоклоновым по вопросу о закрытии поставок из Норвегии.
Тотальное эмбарго на норвежскую рыбопродукцию будет иметь огромные последствия для российской рыбной промышленности, серьёзно зависящей от поставок норвежского сырья.
«От себя могу сказать, что мы предпримем все возможные меры для того, чтобы ограничения не коснулись всех видов продукции. Это будет удар и по нашему производству, и по потребителям», — сказал в интервью «Известиям» глава Рыбного союза Сергей Гудков.
Как отметил генеральный директор Союза рыбопромышленников Крайнего Севера Геннадий Степахно, прекращение поставок из Норвегии спровоцирует дефицит сырья на перерабатывающих заводах и снизит их объемы производства. По его мнению, для потребителя конечные цены на форель и лосось с введением запрета их поставок из Норвегии вырастут на 20%.
Норвегия является основным импортёром охлажденного лосося и форели высшего сорта в Россию (78%, или 139,62 тыс. т). На втором месте Чили (7%, или 12,8 тыс. т).
В 2012 году Норвегия поставила в Россию 320 тыс. т рыбы на сумму 820 млн. евро.
Новая угроза российского бойкота норвежских рыбопроизводителей далеко не первая. В 2005-2006 гг. Россия ввела полный запрет на импорт норвежской мороженой рыбы и закрыла доступ на российский рынок нескольким норвежским экспортёрам сёмги. По мнению ряда экспертов, рынок российского рыбного импорта находится под жёстким контролем пользующихся государственной поддержкой картелей, перекрывающих всякий доступ независимым структурам.
В рамках нового маршрута перелета компания China Eastern Airlines на этой неделе транспортировала 108 тонн выращенной в Чили черешни и черники на территорию Шанхая.
Данный способ доставки, в отличие от прочих авиа транспортировок, позволяет снизить объем затрат, что дает покупателям в Китае возможность приобретать более дешевые фрукты, ягоды и овощи.
По сообщению китайских импортеров, подобный способ доставок планируется задействовать и в будущем году, но пока не раскрывается точная информация об объемах и прочих аспектах поставок.
В 3 кв. 2013 г. выручка от продажа древесных плит, произведенных на предприятиях чилийской компании Celulosa Arauco составила $502 млн, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.
Доля этого товарного сегмента в общей структуре доходов Celulosa Arauco достигла 65,3%.
В течение 2013 г. компания увеличила объемы производства древесных плит до 1,33 млн м3 на всех трех предприятиях, занимающихся выпуском этой продукции благодаря вводу в эксплуатацию новых линий и расширению компании.
Жюри конкурса на разработку концепции архитектурного проекта нового здания Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) признало лучшими проекты трех команд: Heneghan Peng (Ирландия), Студия MEL (Москва, Россия), Nieto Sobejano Arquitectos (Испания).
Один из финалистов получит право на дальнейшую реализацию проекта.
Имя победителя Попечительский совет конкурса назовет до конца 2013 года.
По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Григория Пирумова, Ходынское поле, на котором планируется реализовать проект, - молодой, развивающийся район Москвы, который станет достойным местом развития современного искусства.
«Это первый опыт такого открытого архитектурного конкурса на федеральном уровне. На него заявилось более 900 команд, из которых были отобраны десять участников, работавших над концепцией, и впоследствии определены три финалиста. Нам предстоит сложный выбор: до конца года назвать лучший проект, который будет реализован», - сказал он.
В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что по стечению обстоятельств все команды-финалисты набрали одинаковое количество баллов от жюри и имеют равные шансы стать победителем конкурса. Он рассказал, что жюри также достаточно высоко оценило работу команд 51N4E (Бельгия) и Steven Holl Architects (США). «Все проекты финалистов будут доступны на выставке в Музее архитектуры имени Щусева, которая продлится до 12 января 2014 года», - рассказал главный архитектор.
Напомним, что во втором этапе конкурса также участвовали: Steven Holl Architects (США), 51N4E (Бельгия), Alejandro Aravena (Чили), ООО «Ю-ЭН-КЕЙ ПРОДЖЕКТ» (Москва, Россия), WAI Architecture Think Tank (Китай), ИП Барклянский Антон Сергеевич (Пермь, Россия) и Ghirardelli Giancarlo Architect (Италия).
Организаторы: Министерство культуры РФ при поддержке Москомархитектуры и НОУ «Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Алёна Терновая, собственный корреспондент
Деколонизация политической экономии и постколониальных исследований:
трансмодерность, деколониальное мышление и глобальная колониальность[1]
Рамон Гросфогель
Может ли существовать радикальная антикапиталистическая политика за пределами политики идентичности? Возможен ли критический космополитизм вне национализма и колониализма? Способны ли мы генерировать знание, не ограниченное рамками евроцентричного фундаментализма и «третьего мира»? Можно ли преодолеть традиционную дихотомию между политической экономией иCultural Studies? Способны ли мы продвинуться дальше экономического редукционизма и культурализма? Как преодолеть евроцентричную модерность, не отказавшись от всего лучшего, что связано с модерном (modernity), как это делают многие фундаменталисты «третьего мира»? В этой статье я постараюсь показать, что иная эпистемологическая перспектива, исходящая из позиции угнетенной стороны колониального разделения, может многое дать при обсуждении этих вопросов. Она обогащает критическую перспективу, преодолевающую упомянутые дихотомии, и помогает переосмыслить капитализм как мир-систему.
В октябре 1998 года в Университете Дьюка состоялась конференция Южноазиатской и Латиноамериканской групп исследований угнетенных (соответственно, South Asian Subaltern Studies Group – SASSG; Latin American Subaltern Studies Group – LASSG). Диалог, развернувшийся во время этой встречи, послужил толчком к публикации нескольких номеров журнала «Nepantla». Эта конференция к тому же стала последней встречей LASSG перед ее распадом. Среди многочисленных причин и споров, которые привели к этому, я хотел бы специально остановиться на двух. LASSG состояла преимущественно из ученых-латиноамериканистов, работавших в США. Несмотря на свое стремление генерировать радикальное и альтернативное знание, они воспроизводили эпистемологическую схему «региональных исследований» (Area Studies), типичных для американской академии. За считанными исключениями они проводили исследования «об» угнетенных, а не «вместе с ними», не «с точки зрения» мыслителей и движений самих угнетенных. Как это происходит и с имперской эпистемологией региональных исследований, их теоретические предпосылки шли с Севера, тогда как предмет их исследования находился на Юге.
Эта колониальная эпистемология стала главной причиной моего несогласия с исследовательским проектом, осуществляемым LASSG. Будучи латиноамериканцем, работающим в США, я не мог одобрить эпистемологических последствий знания, производимого этой латиноамериканкой группой. В своих работах ее представители недооценивали этнические и/или расовые региональные перспективы, отдавая предпочтение западным теоретическим подходам. Это стало вторым пунктом моего несогласия: эпистемологическое преимущество тех, кого они сами окрестили «четырьмя конями Апокалипсиса», то есть Мишеля Фуко, Жака Деррида, Антонио Грамши и Ранаджита Гухи[2]. Среди этих мыслителей трое являются европейцами и евроцентричными авторами, а двое из них (Деррида и Фуко) входят в состав западного постструктуралистского/постмодернистского канона. И только Ранаджит Гуха выступает как представитель позиции Юга. Таким образом, разместив в центре своего теоретического аппарата западных мыслителей, они предали свою цель – исследовать собственный эмпирический материал с позиции угнетенных.
Среди многих причин, повлекших за собой распад LASSG, одна была главной: несогласие между теми, кто видел в проблеме угнетения часть постмодерной критики (которая представляет собой евроцентричную критику евроцентризма), и теми, кто трактовал ее как основу деколониальной критики (которая представляет собой критику евроцентризма с позиций угнетенного, приниженного и замалчиваемого знания)[3]. Тем из нас, кто встал на сторону деколониальной критики, диалог с LASSG показал необходимость эпистемологического преодоления доминирующей аналитической традиции, потребность деколонизировать западный канон и западную эпистемологию.
В свою очередь центральным проектом Южноазиатской группы является осуществление двойной критики: колониальной историографии, созданной западноевропейскими историками об Индии, и собственно индийской националистической и в основе своей евроцентричной историографии. Но, используя при этом исключительно западную эпистемологию и отдавая предпочтение концепциям Грамши и Фуко, они сужали и ограничивали радикальность своей критики евроцентризма.
Несмотря на различие в своих эпистемологических проектах, предпочтение, отдаваемое Южноазиатской группой западному эпистемологическому канону, сближало ее с тем крылом Латиноамериканской группы, которое стояло на позициях постмодернизма. И все же SASSG внесла значительный вклад в критику евроцентризма. Она является частью интеллектуального движения, известного как постколониальная критика (критика модерности с позиций глобального Юга), что отличает ее от постмодерной критики, проводимой LASSG с позиций глобального Севера[4].
Эта дискуссия показала необходимость деколонизации не только исследований угнетенных, но также и постколониальных исследований[5].
Прежде, чем продолжить, хочу пояснить, что речь не идет об эссенциалистской, фундаменталистской антиевропейской критике. Именно такая критика свойственна критической перспективе европейских национализмов, равно как и фундаментализму, а также колониализму и евроцентричным национализмам, характерным для «третьего мира». Деколониальное мышление, одна из эпистемологических перспектив, о которых пойдет речь в этой статье, может послужить ответом обоим фундаментализмам – как доминантному, так и маргинальному.
Что объединяет все фундаментализмы, включая самый могущественный – евроцентричный, так это предпосылка, утверждающая, что его эпистемология – самая лучшая. Одновременно принижается значение всех остальных эпистемологий и подразумевается, что существует только одна эпистемологическая традиция, которая ведет к познанию Правды и Универсальности. Этот эпистемологический расизм лежит в основе любого фундаментализма.
Постмодернизм и постструктурализм как эпистемологические проекты заключены в рамки западного канона, воспроизводя в сферах своего мышления и практики определенную форму колониальности власти и знания. То, что я говорил о LASSG, приложимо и к парадигмам политической экономии. В этой статье я выдвигаю тезис о том, что эпистемологическая перспектива с точки зрения расовых и этнических угнетенных может обогатить деколониальную критическую теорию радикального направления, а также преодолеть формы, в которых классические парадигмы политической экономии интерпретируют капитализм как глобальную, или всемирную, систему. Идея заключается в том, чтобы деколонизировать парадигмы политической экономии и мир-системный анализ, а также предложить альтернативную деколониальную концепцию.
Первая часть посвящена вопросу влияния эпистемологической критики интеллектуалов феминистского движения и расовых/этнических угнетенных на западную эпистемологию. Вторая часть отведена обсуждению того, как упомянутые критические направления меняют наше понимание глобальной, или всемирной, системы. В третьей части я говорю о том, что такое глобальная колониальность сегодня. Четвертая часть представляет собой критику мир-системного анализа и культурных/постколониальных исследований, в которой понятие колониальности власти предлагается в качестве решения старой бинарной евроцентричной дилеммы между тем, что в последней инстанции дает определение социальному: культура или экономика? Наконец, пятая, шестая и седьмая части посвящены анализу деколониального мышления, трансмодерности и социализации власти, рассматриваемым как деколониальные альтернативы современной мир-системы.
Эпистемологическая критика
В первую очередь я хочу обсудить вопрос о том, что привносит перспектива расовых/этнических угнетенных и феминистское направление в эпистемологические концепции. Евроцентричные доминантные парадигмы, под влиянием которых развивалась западная философия и общественные науки в «современной/колониальной, капиталистической/патриархальной мир-системе»[6]в течение последних 500 лет, представляют свою точку зрения как универсальную, нейтральную и объективную. Представительницы интеллектуального движения чикано и чернокожих феминисток[7], а также мыслители «третьего мира», работающие в США и за их пределами[8], постоянно напоминают нам о том, что мы всегда говорим из определенной ниши внутри властной структуры. Нет никого, кто находился бы вне классовой, сексуальной, географической и расовой иерархии «современной/колониальной, капиталистической/патриархальной мир-системы». Как утверждает исследователь феминизма Донна Харауэй, наше знание всегда локализовано[9]. Чернокожие феминистки назвали эту перспективу «афроцентричной эпистемологией»[10] (что не равнозначно афроцентричной перспективе). Философ латиноамериканского освобождения Энрике Дуссель определил ее как «геополитику знания»[11], а я, вслед за Францем Фаноном[12] и Глорией Ансалдуа[13], буду использовать термин «корпо-политика знания» (corpo-política del conocimiento).
Речь идет не только о влиянии социальных ценностей на производство знания или о том, что наше знание всегда является неполным. Основной акцент ставится на локус высказывания, то есть на геополитическую и корпо-политическую позицию говорящего субъекта. В западной философии и социальных науках говорящий субъект всегда спрятан, закамуфлирован, удален из анализа. «Эго-политика знания» западной философии всегда отдавала предпочтение мифу нелокализованного «Эго». Говорящий субъект здесь никогда не привязан к этнической, расовой, гендерной, сексуальной позиции. Разорвав эту связь, западная философия и общественные науки создают миф об универсальном подлинном знании, который скрывает говорящего и его эпистемологическую геополитическую и корпо-политическую позицию во властных колониальных структурах.
Здесь важно различать «эпистемологическую» и «социальную» позиции. Соединив эпистемологическую и социальную позиции, Вальтер Миньоло приходит к грубому редукционизму и эссенциализму, когда упрощенно и механистически возводит эпистемологическую позицию субъекта к его социальной позиции (или, что еще хуже, к его географической позиции)[14]. Подобный редукционизм приводит Миньоло к таким чудовищным ошибкам, как утверждение того, что европейский мыслитель может вести только евроцентричную критику евроцентризма или поддерживать авторов, социально вышедших с Юга, но думающих с эпистемологических позиций Севера, то есть евроцентрично (см. его несправедливую и спорную критику Боавентуры де Соуза Сантуша в предисловии к испанскому изданию «Local Histories / Global Designs»).
Социальная локализация на стороне угнетенных в структуре властных отношений еще не подразумевает, что создаваемое знание будет автоматически производиться с эпистемологической позиции угнетенных или из перспективы деколониализма. Успех «современной/колониальной, западноцентричной/христианоцентричной, капиталистической/патриархальной мир-системы» состоит именно в том, что субъекты, находящиеся на угнетенной стороне колониального раздела, эпистемологически думали так же, как те, кто находится на доминантных позициях. Эпистемологические перспективы угнетенных – это рефлексия, идущая снизу и проводящая радикальную критику доминантного знания в контексте властных отношений. Я не защитник «эпистемологического популизма», который предполагает (как это делает Вальтер Миньоло), что знание, приходящее снизу, автоматически определяется как произведенное с эпистемологических позиций угнетенных. Я отстаиваю ту точку зрения, что все знания эпистемологически расположены на доминантной или подавленной стороне властных отношений и что это связано с геополитикой и корпо-политикой знания на эпистемологическом уровне. Бестелесная и нелокализованная нейтральность и объективность «эго-политики знания» – это западный миф.
Рене Декарт, основоположник современной западной философии, открыл новый период в истории западной мысли. Он заменил Бога как основу знания в теополитике познания европейского Средневековья (западным) человеком, который стал во главе угла современного европейского этапа познания. Все атрибуты Бога перешли к (западному) человеку. Универсальная истина, находящаяся вне времени и пространства, преимущественный доступ к законам Вселенной и способность к производству знания и научной теории стали привилегией разума западного человека.
Картезианское «ego cogito» лежит в основе современной западной науки. Обосновав дуализм разума и тела, разума и природы, Декарт смог утвердить существование нелокализованного, универсального и всеохватного знания. Это то, что колумбийский философ Сантьяго Кастро-Гомес называет перспективой «нулевой точки отсчета» евроцентричных философий[15]. «Нулевая точка отсчета» – это та точка зрения, которая скрывается и камуфлируется так, как если бы она находилась по ту сторону любого частного зрения; точка зрения, которая представляет себя не тем, что она есть на самом деле. Это претензия на позицию «божественного ока», которая прячет свою локальную и частную перспективу под видом абстрактного универсализма. Западная философия отдает предпочтение «эго-политике знания» перед «геополитикой» и «корпо-политикой» знания именно затем, чтобы преподнести себя как познающую мир с нейтральностью, объективностью и универсальностью «божественного ока». Исторически это позволило западному человеку/мужчине (гендерный аспект подчеркивается здесь намеренно) представить свое знание как единственно способное к универсальному познанию, сбросив тем самым со счетов не западное знание, признанное односторонним и отвечающим предъявляемым требованиям, то есть неспособным претендовать на универсальность.
Эта эпистемологическая стратегия является краеугольной в глобальных западных проектах. Скрыв субъекта высказывания, колониальная европейская/евроамериканская экспансия и владычество сумели построить иерархию высшего и низшего знания, а также высших и низших существ во всем мире. Мы перешли от «бесписьменных народов» XVI века к «народам без истории» XVIII и XIX столетий, к «неразвитым народам» в XX веке и, позднее, к «народам без демократии» начала XXI века. Мы перешли от «прав народа» в XVI столетии (вспомним тезисы Хуана де Сепульведы в дискуссии с Бартоломе де Лас Касасом, имевшей место в коллегии Вальядолида в середине XVI века) к «правам человека/мужчины» (rights of man) в XVIII веке (философы эпохи Просвещения) и «правам человека» (human rights) конца XX столетия. Все они являются частью глобальных/универсальных проектов, ориентированных на производство и одновременное воспроизводство международного разделения труда между центром и периферией, которое совпадает с этнической/расовой глобальной иерархией, разделяющей представителей Запада (высших с расовой точки зрения) и представителей не-Запада (низших с расовой точки зрения).
Но Энрике Дуссель напоминает нам, что «ego cogito» предшествовал европейский «ego conquisto» («завоевываю, [следовательно, существую]»), возникший на 150 лет ранее, с началом европейской колониальной экспансии 1492 года[16]. «Имперское Я» (идентичность тех, кто считал себя центром мира, потому что завоевал его) создало социальные, экономические и политические условия для того, чтобы европейский субъект мог взять на себя смелость и провозгласить себя божественной фигурой, основанием истинного знания.
Каков вклад деколониальной перспективы в эпистемологическую критику нашей формы производства знания и нашего понимания мир-системы?
Колониальность власти как матрица власти современного/колониального мира
Работы, посвященные изучению глобализации, парадигмам политической экономии и мир-системного анализа, за редкими исключениями игнорируют эпистемологические и теоретические импликации критики теории познания, проводимой с позиций угнетенных. Как правило, они создаются в рамках этнических и гендерных исследований и продолжают производить знание с перспективы «божественного ока» и «нулевой точки отсчета» западного человека. Это приводит к появлению значительных проблем в интерпретации наших понятий «глобального капитализма» и «мир-системы». Эти концепты должны быть деколонизированы, а это может быть сделано только с помощью деколониальной эпистемологии, которая открыто признает деколониальную гео- и корпо-политику познания в качестве отправного пункта радикальной критики. Следующие примеры помогут разъяснить этот тезис.
Если мы анализируем европейскую колониальную экспансию с евроцентричной точки зрения, мы получаем картину, в которой происхождение так называемой мир-системы восходит к борьбе между европейскими империями. Главной причиной этой экспансии называется поиск наиболее коротких путей на Восток, который непредвиденно привел к открытию и последующей испанской колонизации Америки. С этой точки зрения, капиталистическая мир-система оказывается в своем основании экономической системой, в которой поведение главных социальных агентов определяется через экономическую логику, направленную на получение выгоды и выраженную в приобретении прибыли и нескончаемом накоплении капитала на мировом уровне. Более того, понятие капитализма, используемое в этом подходе, подразумевает приоритет экономических отношений над социальными. Перестройка производственных отношений, спровоцированная колониальной европейской экспансией, породила новую, типично капиталистическую структуру в противовес другим социальным системам и другим формам господства. Поэтому в парадигмах политической экономии анализ классовых отношений и структурных экономических преобразований ставится выше анализа других властных отношений.
Не отрицая важности постоянного накопления капитала в мировых масштабах и существования определенной классовой структуры в глобальном капитализме, я задаюсь таким эпистемным вопросом: какой предстанет перед нами мир-система, если мы перенесем локус высказывания от европейца к представительнице коренного населения Америки, скажем, Ригоберте Менчу из Гватемалы или Домитиле из Боливии? Я не претендую на то, чтобы говорить от имени этих женщин или выразить их точку зрения. Я только хочу изменить место, из которого проецируется взгляд на эти парадигмы.
Первым следствием переноса нашей геополитики познания является признание того, что в конце XV столетия в Америке была установлена не только экономическая система капитала и труда, ориентированного на производство товаров, продажа которых обещала прибыль на мировом рынке. Это была решающая, но не единственная составляющая сложного «пакета» властных отношений. В Америку пришла координированная властная структура, более разветвленная, многоуровневая и глубокая, чем та, которая просматривается с экономической редукционистской мир-системной перспективы. Со структурной позиции представительницы коренного населения Америки опознается намного более сложная мир-система, чем та, которая описывается в парадигмах политической экономии и мир-системного анализа. В Америку пришел патриархальный/белый/гетеросексуальный европеец/капиталист/военный/христианин и установил одновременно в пространстве и времени ряд глобальных взаимосвязанных и взаимозависимых иерархий, которые я для ясности перечислю одну за другой, как если бы они были разделены между собой:
1) глобальная классовая формация, в которой будут сосуществовать и координироваться различные формы труда (рабство, прислуга, наемный труд, простое фабричное производство и так далее), – источники получения прибыли через сбыт товаров на мировом рынке;
2) международное разделение труда между центром и периферией, где капитал организовывает труд периферии через репрессивные и авторитарные формы[17];
3) межгосударственная глобальная система политико-военных организаций, контролируемых европейцами и институализированных в колониальной[18], а позднее в неоколониальной администрации;
4) этно-расовая глобальная иерархия, которая отдает предпочтение представителям Запада[19];
5) глобальная гендерная иерархия, которая ставит мужчин выше женщин и европейский патриархат выше иных форм гендерных отношений[20];
6) сексуальная иерархия, которая оказывает предпочтение гетеросексуалам против гомосексуалов (здесь важно напомнить, что большинство коренных народов Америки не считали отношения между мужчинами примером патологического поведения и до прихода европейцев не имели гомофобной идеологии);
7) глобальная духовная иерархия, ставящая христианство выше других духовных нехристианских и незападных культур, институализированная в глобализации христианской церкви (католической и – позднее – протестантской);
8) эпистемологическая иерархия, в которой отдается первенство западному знанию и космологии, институализированная в глобальной системе университетов[21];
9) лингвистическая иерархия между европейскими и неевропейскими языками, где первые имеют приоритет в общении, теоретизировании и производстве знания над вторыми, чьей сферой деятельности считаются фольклор и народная культура, но не теория и знание[22];
10) глобальная эстетическая иерархия, в которой предпочтение отдается формам красоты и вкусам представителей Запада, институализированная в министерствах культуры, мировой иерархии музеев и художественных галерей, а также в промышленных коммерческих проектах;
11) глобальная педагогическая иерархия, отдающая предпочтение западным педагогическим системам картезианского типа, институализированная в мировой системе начального и среднего образования;
12) глобальная иерархия СМИ, на вершине которой располагаются структуры, контролируемые Западом;
13) глобальная экологическая иерархия, ставящая превыше всего западное понимание «природы» (которая всегда пассивна, является внешней по отношению к человеку, средством к достижению целей), со всеми его пагубными последствиями для окружающей среды / экологии нашей планеты. Она отвергает другие формы понимания окружающей среды и экологии, где человек является частью экологической системы и «природа» самоцельна. Западное понимание вмещает в себя логику разрушения экологического равновесия, так как, рассматривая природу в качестве средства для достижения цели, вся таким образом разрабатываемая технология несет в себе перспективу разрушения экологии, а не ее воспроизводства;
14) возрастная иерархия западного типа, отдающая предпочтение взрослому, продуктивному возрасту от 16 до 64 лет и снижающая ценность существования «стариков» и «детей».
Не случайно, что концептуализация мир-системы с деколониальной перспективы Юга ставит под вопрос многие традиционные понятия, разработанные мыслителями Севера. Согласно перуанскому ученому Анибалу Кихано, мы могли бы рассматривать современную мир-систему как гетерогенную историко-структурную общность с определенной властной матрицей, которую он называет «моделью колониальной власти»[23]. Эта модель затрагивает все измерения социального существования, такие, как сексуальность, власть, личность/идентичность и труд[24]. В XVI веке была введена новая модель колониальной власти, которая к концу XIX столетия распространилась на всю планету. Развивая мысль Кихано, я понимаю колониальность власти как переплетение, или, используя термин американских цветных феминисток, интерсекциональность[25], многочисленных и гетерогенных глобальных иерархий («гетерархий») сексуального, политического, экономического, духовного, лингвистического, расового господства и эксплуатации, где разделительная черта этно-расовой иерархии западного/незападного глубоко преобразует все остальные глобальные структуры власти. Новым в перспективе «колониальности власти» является то, что идея расы и расизма становится главным организующим и структурирующим принципом во всех многочисленных иерархиях мировой системы[26]. Например, различные формы труда, ориентированные на накопление капитала в мировых масштабах, оказываются привязанными к этой расовой иерархии. Принудительный (дешевый) труд осуществляется на периферии представителями не-Запада, а «свободная наемная рабочая сила» сосредотачивается в центре и приходится на долю представителей Запада. Глобальная гендерная иерархия также подвержена влиянию расового разделения: в противоположность преевропейским патриархатам, в которых все женщины находились ниже любых мужчин, в новой модели колониальной власти некоторые женщины (западного происхождения) обладают более высоким статусом и лучшим доступом к ресурсам, чем большинство мужчин (незападного происхождения).
Идея расы иерархически распределяет население земли на высших и низших, становясь организующим принципом международного разделения труда и глобальной патриархальной системы. В отличие от евроцентричной перспективы, раса, гендер, духовность и эпистемология не являются вторичными элементами, зависящими от экономических и политических структур мировой капиталистической системы, но представляют собой неотъемлемую составную часть обширного и сложного «пакета», называемого «вестернизированная/христианизированная, современная/колониальная, капиталистическая/патриархальная мир-система»[27]. Европейский патриархат и европейские понятия о сексуальности, эпистемологии и духовности распространились на весь мир благодаря колониальной экспансии и стали главным критерием расового деления, классификации и патологизации населения в иерархии высших и низших рас.
Эта корректировка вносит значительные изменения, которые я здесь только кратко перечислю:
1) Преодолевается старая евроцентричная идея о том, что все общества развиваются до уровня национального государства, где развитие понимается как линейная эволюция от прекапиталистических к капиталистическим способам производства. Все мы находимся внутри капиталистической мир-системы, которая распределяет различные формы труда согласно расовой классификации населения земли[28].
2) Старая марксистская парадигма инфраструктуры и суперструктуры заменяется исторически-гетерогенной структурой[29], или «гетерархией»[30], то есть переплетением множественных иерархий, в которых субъективность и общественно-институализированные представления (social imaginary[31]) являются не продуктом, но составляющей мир-системных структур[32]. В этой концепции раса и расизм не понимаются как суперструктуры или инструменты всеобъемлющей логики накопления капитала, но признаются составной частью мирового процесса накопления капитала. «Модель колониальной власти» – это организующий принцип, задействованный в «эксплуатации и управлении различных измерений общественной жизни, начиная с экономических, гендерных и сексуальных отношений и заканчивая политическими организациями, структурами знания, государственными институтами и частными домохозяйствами»[33].
3) Классическое разделение между культурой и политической экономией, как оно представлено в работах постколониального направления и в политико-экономическом подходе, также оказывается преодоленным[34]. Постколониальные исследования понимают капиталистическую мир-систему как основанную на культуре, тогда как политическая экономия ставит акцент на изучении экономических отношений. С точки зрения «колониальности власти» вопрос о том, что является первым – «культура или экономика», – представляется фальшивой проблемой, старой дилеммой о яйце и курице, которая мешает пониманию сложности мир-системы[35].
4) Колониальность не равна колониализму. Она не является ни продуктом современности, ни предшествует ей. Колониальность и модерность – это две стороны одной и той же медали. Подобно тому, как европейская промышленная революция была совершена за счет принудительных форм труда на периферии, новые идентичности, права, законы и институты современности, такие, как национальные государства, гражданское общество и демократия, сформировались в процессе колониального взаимодействия с незападными народами, а также на основе отношений господства/эксплуатации.
5) Называть современную мировую систему «капиталистической» как минимум неверно. С позиций распространенного евроцентричного «здравого смысла» в тот момент, когда мы произносим слово «капитализм», слушатели сразу думают, что речь идет об «экономике». Напротив, «капитализм» есть только одна из многих галактик, включенных в колониальную модель власти. Использование таких терминов, как «глобальный капитализм» или «капиталистическая мир-система», делает невидимыми множество других властных отношений, которые задействованы в этой игре. Поэтому, даже рискуя показаться нелепым, я предпочитаю использовать длинное название, которое отразило бы все элементы этой игры: «западноцентричная/христианоцентричная, капиталистическая/патриархальная, современная/колониальная мир-система». Принимая во внимание их взаимодействие с другими властными отношениями, разрушение капиталистических аспектов мир-системы было бы недостаточным для разрушения современной мир-системы. Для ее трансформации необходимо разрушить всю гетерогенную историко-структурную «модель колониальной власти», которую в этой статье мы определили через четырнадцать различных иерархий глобальной власти.
6) По существу «западноцентричная/христианоцентричная, капиталистическая/патриархальная, современная/колониальная мир-система» – это цивилизация. Это то, о чем мыслители и критики, принадлежащие к коренному населению Америки, или интеллектуалы азиатского и африканского происхождения напоминают нам постоянно и повсеместно. Речь идет не только об экономической или мировой социосистеме, но и о цивилизации со своими особыми формами мышления, действия и коммуникации.
7) Если речь идет о цивилизации, деколонизация и антисистемное освобождение не могут быть сведены исключительно к сфере общественной жизни. Требуется более широкая перестройка сексуальных, гендерных, духовных, эпистемологических, политических и расовых мир-системных иерархий. Перспектива «колониальности власти» побуждает нас рассматривать переустройство и социальную трансформацию, избегая редукционизма, и двигаться к новой цивилизации, которая стала бы утверждением жизни вне насильственного управления, эксплуатации и разрушения различных форм жизни. В настоящей ситуации поддерживать эту цивилизацию равнозначно разрушению жизни. Для утверждения жизни необходимо бороться за новую цивилизацию, которая деколонизирует современные эпистемологические, сексуальные, политические, гендерные, духовные, городские/деревенские, классовые, расовые и другие властные отношения, порождаемые и распространяемые сегодняшней западной цивилизацией.
От глобального колониализма к глобальной колониальности
Мы не можем рассматривать деколонизацию исключительно в терминах завоевания власти внутри юридических и политических границ национального государства или как попытку получить контроль над отдельным национальным государством[36]. Социалистические и национально-освободительные стратегии, направленные на получение власти в контексте национального государства, недостаточны, потому что глобальная колониальность не может быть сведена к существованию одной колониальной административной системы[37] или к структурам политической и/или экономической власти. Один из самых влиятельных мифов XX века утверждал, что уничтожение колониальной администрации равнозначно деколонизации мира. Это представление привело к возникновению мифа о рождении «постколониального» мира. Но разнообразные и гетерогенные глобальные структуры, созданные в течение 450-летнего периода европейской колониальной экспансии, не испарились в процессе юридической и политической деколонизации последних 50 лет. Мы продолжаем жить согласно той же самой «колониальной модели власти» даже сейчас, когда колониальные администрации практически исчезли с лица земли.
После юридической и политической деколонизации мы перешли от периода «глобального колониализма» к современному периоду «глобальной колониальности». Несмотря на то, что «колониальные администрации» были в большинстве своем уничтожены и почти вся периферия была политически реорганизована в независимые национальные государства, представители незападной культуры продолжают жить в условиях жесткой эксплуатации. Прежние западные колониальные иерархии продолжают сохранять свою значимость и связь с «международным разделением труда» и накоплением капитала в мировом масштабе[38].
В этом заключается важность различения между «колониализмом» и «колониальностью». Последняя позволяет нам рассматривать непрерывность колониальных форм правления и после уничтожения колониальных администраций. Эти формы продолжают воспроизводиться за счет колониальных культур и структур, присущих «капиталистической/патриархальной, современной/колониальной мир-системе».
Под «колониальностью власти» понимается процесс социального структурирования в современной/колониальной мир-системе, который связывает организацию периферийных зон в международном разделении труда с глобальной этно-расовой иерархией и включением мигрантов «третьего мира» в этно-расовую иерархию крупных глобальных городов. Периферийные национальные государства и группы незападного населения сегодня живут в режиме «глобальной колониальности», установленном США через посредство Международного валютного фонда, Всемирного банка, Пентагона и НАТО. Таким образом, периферийные зоны продолжают находиться в колониальной ситуации, несмотря на то, что они освободились от контроля колониальной администрации.
Я использую слово «колониализм», говоря о «колониальных ситуациях», связанных с присутствием колониальной администрации, как это было в период классического колониализма. Вслед за Кихано[39] я использую термин «колониальность», с помощью которого определяю модель глобальной колониальной власти, состоящую из 14 глобальных иерархий, перечисленных в предыдущем разделе. Эти иерархии создают «колониальные ситуации» в настоящее время, когда почти все колониальные администрации уже устранены из капиталистической/патриархальной мир-системы. Под «колониальными ситуациями» я понимаю культурный, политический, сексуальный и экономический гнет/эксплуатацию различных групп, которые доминантные этно-расовые группы определяют как низшие в расовом отношении вне зависимости от наличия колониальных администраций. Четыре с лишним сотни лет европейской колониальной экспансии и владычества утвердили международное разделение труда, которое воспроизводится и в так называемой современной «постколониальной» фазе существования капиталистической/патриархальной мир-системы[40].
Сегодня центральные зоны мировой капиталистической экономики совпадают с преимущественно белыми/европейскими/евроамериканскими обществами в Западной Европе, Канаде, Австралии и США. Периферийные зоны совпадают с неевропейскими ранее колонизированными народами. Япония – единственное исключение, которое только подтверждает правило. Эта страна никогда не была колонизирована и не находилась под владычеством европейцев. Наподобие Запада, она играла активную роль в создании своей собственной колониальной империи. Китай, хотя никогда не был полностью колонизирован, оказался на периферийной позиции за счет таких колониальных центров торговли и распределения, как Гонконг или Макао, а также за счет прямых военных вторжений (например, опиумных войн XIX века).
Миф о «деколонизации мира» скрывает преемственность, существующую между прошлыми и настоящими колониальными/расовыми иерархиями, камуфлируя сегодняшнюю «колониальность». В течение последних 40 лет периферийные государства, которые согласно евроцентричным либеральным дискурсам являются формально независимыми[41], выработали идеологию «национальной идентичности» и «национального суверенитета», создающую видимость «независимости», «развития» и «прогресса». И все же их политические и экономические системы выстроены в соответствии с их подчиненным положением в капиталистической мир-системе, организованной вокруг иерархического международного разделения труда[42].
Наряду с доминированием евроцентричных культур[43], многочисленные и разнородные мир-системные процессы создают «глобальную колониальность», разделяющую европейские/евроамериканские и неевропейские народы. «Колониальность» оказывается напрямую связанной с международным разделением труда, хотя и не может быть сведена только к ней. Во времена «постнезависимости» «колониальная» ось между представителями Запада и не-Запада проходит не только через отношения эксплуатации (между капиталом и трудовой силой) и доминирования (между центральными и периферийными государствами), но и через производство идентичностей, а также знания. При этом используется евроцентричный миф о том, что мы живем в «постколониальную» эпоху и что мир, в частности, его центральная часть, уже не нуждается в деколонизации. Но мы должны преодолеть узкие рамки, в которых осмысляются колониальные отношения, с тем, чтобы реализовать мечту XX столетия о деколонизации, которая так и не получила своего окончательного завершения. Это обязывает нас обратиться к анализу новых альтернативных деколониальных концепций, сформулированных вне евроцентричных фундаментализмов «третьего мира».
Деколониальное мышление
До сегодняшнего дня история «современной/колониальной, капиталистической/патриархальной мир-системы» неизменно ставила выше культуру, знание и эпистемологию, созданные на Западе. Ни одна мировая культура не смогла избежать влияния европейской модерности. Нет никого, кто находился бы целиком вне этой системы. Монологизм и глобальный проект Запада соотносится с другими культурами и народами с позиции собственного превосходства; он глух к космологиям и эпистемологиям незападного мира.
Насаждение христианства в XVI веке, проводимое с целью обращения дикарей и варваров, сопровождавшееся утверждением «права белого человека» и «цивилизаторской миссии» в XVIII и XIX веках, «проект развития» XX столетия и имперский проект военного вмешательства под лозунгами «демократии» и «прав человека» в XXI веке – все они были навязаны с помощью агрессии и насилия, но при этом обосновывались современной риторикой о спасении другого от его варварства. Этот колониальный евроцентричный диктат породил национализм и фундаментализм «третьего мира». Этот национализм предлагает евроцентричный способ решения глобальной евроцентричной проблемы. Он воспроизводит внутреннюю колониальность власти в каждом отдельном национальном государстве, которое провозглашается платформой социальной перестройки[44]. Стратегии борьбы, ведущейся на над- или внутригосударственном уровне, националистической политикой не рассматриваются. Более того, националистический ответ глобальному капитализму лишь усиливает национальное государство как идеальную политически институализированную форму «современной/колониальной, капиталистической/патриархальной мир-системы». В этом смысле национализм является сообщником евроцентричного мышления и политических структур.
Вместе с тем различные фундаментализмы «третьего мира» преподносятся в рамках эссенциалистской риторики «чистого внешнего пространства» или «абсолютного отказа» от современности. Это «современные антимодернистские» движения, которые воспроизводят бинарность евроцентричного мышления. Если западное мышление утверждает, что «демократия» является естественным атрибутом Запада, то фундаменталисты «третьего мира» принимают эту предпосылку и утверждают, что демократия не имеет ничего общего с незападными культурами. Таким образом, этот европейский атрибут, введенный Западом, становится ему же имманентным. И те и другие отрицают, что многие элементы из тех, которые мы сегодня считаем частью современности (такие, как «демократия»), были созданы в противостоянии и коммуникации между Западом и не-Западом. При этом многое из того, с чем европейцы столкнулись в колониях, они включили в свою систему мышления и сделали частью евроцентричной модерности. А ответ фундаменталистов «третьего мира» на диктат евроцентричной современности и ее глобального/имперского проекта состоит в антимодерной, но столь же евроцентричной, иерархической, авторитарной и антидемократической модерности.
В противовес фундаментализму одним из многих приемлемых решений евроцентричной дилеммы является «деколониальное мышление». Это мышление является эпистемологическим ответом, дающимся с позиции угнетенных. Вместо того, чтобы отвергать модерность и уходить в фундаменталистский абсолютизм, деколониальные эпистемологии переосмысляют риторику раскрепощения современности с перспективы космологии и эпистемологии угнетенных, со стороны подавляемых и эксплуатируемых в рамках колониальных отношений. Деколониальное мышление переосмысляет гражданское общество, демократию, права человека, человечество, экономические отношения, не ограничиваясь узкими определениями, навязанными европейской модерностью. Деколониальное мышление – это не антимодерный фундаментализм. Это деколониальный трансмодерный ответ на евроцентричную современность, сформулированный с позиции угнетенных.
Хорошим примером может послужить борьба сапатистов в Мексике. Сапатисты – не антимодерные фундаменталисты. Они не отрицают демократию, не замыкаются в какой-либо форме локального фундаментализма. Напротив, сапатисты принимают понятие демократии, но переосмысляют его с перспективы жизненной практики и космологии коренного населения, определяя его через конструкции «повелевать, подчиняясь» или «мы все равны, потому что мы все разные». То, что на первый взгляд кажется парадоксальным лозунгом, на самом деле является критическим переосмыслением демократии.
Трансмодерность или критический космополитизм как умозрительные проекты
Межкультурный диалог Севера и Юга немыслим без деколонизации властных отношений в современном/колониальном мире. Горизонтальный диалог, противоположный вертикальному, предлагаемому Западом, требует преобразования глобальных властных структур. Мы не можем принять концепцию социального консенсуса Хабермаса или горизонтальный диалог между культурами и народами, разделенными на два полюса по своим колониальным различиям. И все же мы можем вообразить себе альтернативные миры, свободные от евроцентризма и фундаментализмов. Трансмодерность – это утопический проект философа латиноамериканского освобождения Энрике Дусселя, призванный преодолеть евроцентричную версию современности[45]. В противоположность проекту Хабермаса, который предлагает завершить не доведенный до конца проект модерна, трансмодерность Дусселя – это путь к завершению незаконченного проекта деколонизации XX столетия. Вместо одной модерности, сфокусированной на Европе и утверждаемой в качестве глобального проекта для всего остального мира (убеждением или насилием), Дуссель защищает множественность политико-эпистемологических критических деколониальных ответов на проблему евроцентричной модерности, сформулированных с позиций угнетенных культур и эпистемологического локуса колонизированных народов всего мира.
Трансмодерность – это «разнообразие» (diversalidad), принимаемое в качестве универсального проекта», которое является эффектом «деколониального мышления», эпистемологического движения с позиций угнетенных. Эпистемологии угнетенных могут предложить то «разнообразие» ответов на вопросы модерности, которое приведет к рождению «трансмодерности».
Для Дусселя философия освобождения может быть создана только мыслителями-критиками разных культур, находящимися в диалоге с другими культурами. В частности, различные формы демократии, гражданских прав или освобождения женщин могут быть созданы только исходя из творческих предложений локальных эпистемологий. Например, западные женщины не должны навязывать своего понимания свободы исламским женщинам. Западные мужчины не могут навязывать своего понимания демократии незападным народам. Речь не идет о фундаменталистских или националистических решениях проблемы глобальной колониальности, ни об определенном партикуляризме. Это призыв к деколониальному мышлению как стратегии или механизму, с помощью которого возможно достижение деколонизированного «трансмодерного мира», того поливалентного проекта, что выведет нас за пределы евроцентризма и фундаментализмов.
В течение более чем пятисот лет существования «европейской/евроамериканской, капиталистической/патриархальной, современной/колониальной мир-системы» мы перешли от «обратись в христианство, или я тебя убью» XVI века к «цивилизуйся, или я тебя убью» XIX века к «развивайся, или я тебя убью» XX столетия, «неолиберализуйся, или я тебя убью» конца прошлого века и «демократизуйся, или я тебя убью» начала XXI столетия. Либеральная форма демократии является сейчас единственно принятой и узаконенной. Любые формы демократической инаковости отвергаются. Если незападные народы не принимают условий евроамериканской либеральной демократии, им навязывают их силой во имя цивилизации и прогресса. Необходимо переосмыслить демократию в трансмодерной форме с тем, чтобы деколонизировать это понятие от рамок либеральной демократии, то есть от ее западной формы, предполагающей первенство белой расы и сфокусированной на накоплении капитала.
Развивая понятие вненаходимости (extériorité) Эммануэля Левинаса, Дуссель видит радикальный потенциал в тех пространствах, которые являются относительно (никогда абсолютно) не колонизированными, не охваченными целиком евроцентричной современностью. Эти внешние пространства не могут быть ни чистыми, ни абсолютными. Они также заражены и созданы европейской модерностью, но никогда не были полностью подчинены и инструментализированы. С позиций геополитики знания этой относительной вненаходимости, в этих окраинах рождается «деколониальное мышление» как критика современности, идущая в направлении поливалентного трансмодерного мира, мира множественных и разнообразных этико-политических проектов, в котором есть возможность диалога и реального горизонтального общения между народами всего мира. Подчеркну, однако, что для реализации такого проекта очень важно преобразовать системы господства и эксплуатации современной модели колониальной власти «современной/колониальной, западноцентричной/христианоцентричной, капиталистической/патриархальной мир-системы».
В сторону «антисистемного, трансмодерного, деколониального, поливалентного и радикального» проекта «разнообразия»
Необходимость в существовании общего критического языка деколонизации требует такой формы универсальности, которая не была бы частью глобального/универсального, монологичного, монолокусного и имперского проекта, правой или левой идеологии, утвержденной через убеждение или насильственно во всем мире во имя прогресса и цивилизации. Я называю эту новую форму универсальности «поливалентным, трансмодерным, деколониальным, антисистемным» проектом освобождения. В противовес абстрактным универсалиям евроцентричных эпистемологий, которые растворяют частное в едином, «радикальное, поливалентное, трансмодерное, деколониальное, антисистемное разнообразие» есть конкретная универсалия, которая создает поливерсалию в деколониальном смысле. Она вбирает в себя все множественные локальные частности и эпистемологическое разнообразие, включается в борьбу против патриархата, капитализма, колониальности, империализма и евроцентричной современности с позиции разных исторических этических/эпистемологических проектов угнетенных. Здесь встречаются понятия «трансмодерности» Дусселя и «социализации власти» Кихано. Трансмодерность Дусселя ведет нас к «поливалентности как универсальному проекту» деколонизации евроцентричной современности. Социализация власти Кихано делает акцент на новой форме универсальных, радикальных, антисистемных общественных представлений, которые избавляют марксистско-социалистические перспективы от их евроцентричных рамок. Этот общий язык (который призван порвать с релятивизмом) стал бы негативным универсализмом, антикапиталистическим, антипатриархальным, антиимпериалистическим и антиколониальным по отношению к глобальной власти. Но в момент принятия «решений» мы не должны возвращаться к позитивному универсализму евроцентричного социализма XX века, когда отдельная эпистемология (марксизм-ленинизм), игнорируя эпистемологическое разнообразие, выдвинула в качестве глобального/имперского проекта единый «ответ» для всей планеты. Все ответы должны исходить из предпосылки признания эпистемологического разнообразия, не повторяя опыта представления одного частного ответа в качестве абстрактной универсальности, определяемой для всех без исключения и утверждаемой посредством убеждения или силы.
Задача состоит в том, чтобы создать поливалентный мир, в котором власть была бы социализирована. Мир, открытый разнообразию институциональных форм социализации власти, различным политическим/этическим/эпистемологическим деколониальным концепциям разных групп угнетенных, существующих внутри мир-системы. Призыв Кихано к социализации власти мог бы стать абстрактной универсалией, которая ведет к созданию глобального/имперского проекта, если бы она не была переосмыслена в трансмодерной перспективе, не была бы открыта эпистемологическому разнообразию. Институциональные формы антисистемной борьбы и социализации власти, которые возникли у многих народов (у коренного населения Америки, мусульман Ближнего Востока, банту в Западной Африке и так далее), не похожи между собой. Все они разделяют негативную универсалию – построение деколониального антикапиталистического, антипатриархального, антиколониального и антиимпериалистического проекта и предлагают множество позитивных решений в институциональных формах, а также разнообразные концепции социализации власти в соответствии со своей историей и локальными эпистемологиями. Повторение глобальных социалистических евроцентричных проектов XX столетия, которые вышли из единого эпистемологического и евроцентричного центра и привели к созданию глобальных/имперских проектов для всей планеты, просто-напросто привело бы к воспроизведению ошибок, которые спровоцировали повсеместный крах левой идеологии.
Это призыв к трансмодерной универсалии, которая вбирает в себя все эпистемологические различия и направлена к «деколониальной трансмодерной социализации власти». Как говорят сапатисты, «мы боремся за мир, в котором будут возможны иные миры».
Перевод с испанского Нины Кресовой
[1] Перевод выполнен по следующему изданию: Grosfoguel R. La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global // Tabula Rasa. 2006. № 4. Р. 17–46; специально переработанному и сокращенному автором для «НЗ». – Примеч. ред.
[2] См.: Mallon F. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American History // American Historical Review. 1994. Vol. 99. P. 1491–1515; Rodriguez I. Reading Subalterns Across Texts, Disciplines, and Theories: from Representation to Recognition // Idem (Ed.). The Latin American Subaltern Studies Reader. Durham: Duke University Press, 2001. Р. 1–32. Ранаджит Гуха (Ranajit Guha, р. 1922) – специалист по истории Южной Азии, имел значительное влияние в Группе исследования угнетенных, наиболее известной работой является «Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India» (1983). – Примеч. ред.
[3] Mignolo W. Local Histories / Global Designs: Essays on the Coloniality of Power, Subaltern Knowledges and Border Thinking. Princeton: Princeton University Press, 2000. P. 183–186; 213–214.
[4] Ibid.
[5] Grosfoguel R. From Postcolonial Studies to Decolonial Studies: Decolonizing Postcolonial Studies. A Preface // Review. 2006. Vol. 29. № 2. P. 141–142; Idem.World-System Analysis in the Context of Transmodernity, Border Thinking and Global Coloniality // Ibid. P. 167–188.
[6] Idem. The Implications of Subaltern Epistemologies for Global Capitalism: Transmodernity, Border Thinking and Global Coloniality // Robinson W., Applebaum R. (Orgs.). Critical Globalization Studies. London: Routledge, 2005. P. 283–292; Idem.World-System Analysis…
[7] Moraga C., Anzaldúa G. (Eds.). This Bridge Called my Back: Writing by Radical Women of Color. New York, 1983; Collins P.H. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. New York: Routledge; Chapman and Hall, 1990.
[8] Dussel E. Filosofía de Liberación. México: Edicol, 1977.
[9] Haraway D. Situated Knowledges: the Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective // Feminist Studies. 1988. Vol. 14. № 3. P. 575–599.
[10] Collins P.H. Op. cit.
[11] Dussel E. Filosofía de Liberación.
[12] Fanon F. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press, 1967.
[13] Anzaldúa G. Borderlands / La Frontera: the New Mestiza. San Francisco: Spinsters/Aunt Lute, 1987.
[14] Mignolo W. Local Histories / Global Designs…
[15] Castro-Gómez S. La Hybris del Punto Cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750–1816). Bogotá: Editora Pontifica Universidade Javeriana, 2003.
[16] Dussel E. 1492 – El Encubrimiento del Otro: hacia el origen del ‘mito de la modernidad’. La Paz: Plural Editores, 1994.
[17] Wallerstein I. The Modern World-System. New York: Academic Press, 1974.
[18] Idem. The Capitalist World-Economy. Cambridge; Paris: Cambridge University Press; Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1979.
[19] Quijano A. ‘Raza’, ‘Etnia’ y ‘Nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas // Morgues R. (Ed.). José Carlos Mariátegui y Europa: el otro aspecto del descubrimiento. Lima: Empresa Editora Amauta, 1993. P. 167–187; Quijano A. Coloniality of Power, Ethnocentrism, and Latin America // Nepantla: Views from the South. 2000. Vol. 1. № 3. P. 533–580.
[20] Spivak G. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: Routledge; Kegan and Paul, 1988; Enloe C. Banana, Beaches and Bases: Making Sense of International Politics. Berkeley: University of California Press, 1990.
[21] Quijano A. Colonialidad y Modernidad/racionalidad // Perú Indígena. 1991. Vol. 13. № 29. P. 11–21.
[22] Mignolo W. Local Histories / Global Designs…
[23] Quijano A. Colonialidad y Modernidad/racionalidad; Idem. La Colonialidad del Poder y la Experiencia Cultural Latino-americana // Briceño-León R., Sonntag H.R. (Eds.). Pueblo, Época y Desarrollo: la sociología de América Latina. Caracas: Nueva Sociedad, 1998. P. 139–155; Quijano A. Coloniality of Power…
[24] Idem. Coloniality of Power…
[25] Crenshaw K. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: a Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics //Feminism in the Law: Theory, Practice, and Criticism. Chicago: University of Chicago Law School, 1989. P. 139–167; Fregoso R.L. Mexicana Encounters: the Making of Social Identities in the Borderlands. Berkeley: University of California Press, 2003.
[26] Quijano A. ‘Raza’, ‘Etnia’ y ‘Nación’ en Mariátegui…
[27] Grosfoguel R. Colonial Difference, Geopolitics of Knowledge and Global Coloniality in the Modern/Colonial Capitalist World-System // Review. 2002. Vol. 25. № 3. P. 203–224.
[28] Quijano A. Coloniality of Power…; Grosfoguel R. Colonial Difference…
[29] Quijano A. Coloniality of Power…
[30] Kontopoulos K. The Logic of Social Structures. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
[31] Термин, введенный Корнелиусом Касториадисом, см.: Castoriadis C. The Imaginary Institution of Society. Cambridge: MIT Press, 1975. – Примеч. перев.
[32] Grosfoguel R. Colonial Difference…
[33] Quijano A. Coloniality of Power…
[34] Grosfoguel R. Colonial Difference…
[35] Ibid.
[36] Idem. From Cepalismo to Neoliberalism: a World-system Approach to Conceptual Shifts in Latin America // Review. 1996. Vol. 19. № 2. P. 131–154.
[37] Idem. Colonial Difference…
[38] Quijano A. Coloniality of Power…; Grosfoguel R. Colonial Difference…
[39] Quijano A. Colonialidad y Modernidad/racionalidad; Idem. ‘Raza’, ‘Etnia’ y ‘Nación’ en Mariátegui…; Idem. La Colonialidad del Poder y la Experiencia Cultural Latino-americana.
[40] Wallerstein I. The Capitalist World-Economy; Idem. After Liberalism. New York: The New Press, 1995.
[41] Idem. Unthinking Social Science. Cambridge: Polity Press, 1991; Idem. After Liberalism.
[42] Idem. The Capitalist World-Economy; Idem. The Politics of the World-Economy.Cambridge; Paris: Cambridge University Press; Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1984; Idem. After Liberalism.
[43] Said E. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979; Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Cambridge; Paris: Cambridge University Press; Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1991; Idem. After Liberalism; Lander E. Eurocentrismo y Colonialismo en el Pensamiento Social Latinoamericano // Briceño-León R., Sonntag H.R. (Eds.). Op. cit. P. 87–96; Quijano A. La Colonialidad del Poder y la Experiencia Cultural Latino-americana; Mignolo W. Local Histories / Global Designs…
[44] Grosfoguel R. From Cepalismo to Neoliberalism…
[45] Dussel E. Hacia una Filosofía Política Crítica. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2013, №5(91)
Испанский Совет по национальному историческому наследию страны принял решение представить Культурную зону Винодельческие районы Ла-Риохи и Риохи-Алавесы в качестве культурно-исторического объекта для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта кандидатура будет номинироваться вместе с другой "нематериальной жемчужиной" королевства – "Дороги Святого Иакова на севере полуострова", которая уже была выбрана Советом в апреле 2013 года, пишет Испания по-русски
Легендарные историко-географические районы Испании окажутся на повестке дня специальной сессии международного органа в феврале 2014 г., окончательное решение о внесении в Список станет известно в 2015-м.
На заседании Совета присутствовали директора секторов культурного наследия всех автономных сообществ страны, включая представителей анклавов Сеута и Мелилья, а также госсекретарь по культуре Испании Хосе Мария Лассаль.
Господин Лассаль заявил, что Испания обладает богатыми духовными традициями и огромнейшим культурно-историческим достоянием, многие объекты которого уже включены в различные мировые каталоги и списки, в том числе, и такой престижный, как лист ЮНЕСКО: 11 – нематериальных культурных ценностей y 44 – "осязаемых" памятника.
"Эти цифры позиционируют Испанию как одну из ведущих стран мира в области сохранения и защиты исторического наследия. За краткой статистикой стоит постоянная кропотливая работа испанских специалистов во всех, без исключения, регионах Испании, а главное – передача из поколения в поколение народной памяти", - подчеркнул господин Лассаль.
Ла-Риоха, самое маленькое автономное сообщество материковой Испании, и Риоха-Алавеса, район в Басконии, являются одними из наиболее живописных и прославленных винодельческих зон королевства, с многовековыми традициями возделывания великолепной лозы, из которой получают знаменитое на весь мир вино. Кроме того, здесь расположены удивительные бодеги – винодельческие хозяйства, выстроенные в уникальном архитектурном стиле, которые сами по себе – повод заехать сюда на экскурсию. Например, Город Вина Marqués de Riscal – здание, выполненное по проекту выдающегося современного зодчего, родоначальника архитектурного деконструктивизма, Фрэнка Гэри. Городу Вина не уступает в футуристических абрисах винодельня Ysios – творение замечательного валенсийского архитектора Сантьяго Калатравы.
На Всемирном конгрессе по вопросам диабета представлены данные по эффективности и безопасности инсулинового препарата Ризодег (Ryzodeg) от Ново Нордиск (Novo Nordisk) в сравнении с двухфазным инсулином аспарт. 26 недель взрослые пациенты с диабетом 2 типа принимали Ризодег (смесь инсулина деглюдек и инсулина аспарт в соотношении 70% к 30%) или инсулин аспарт двухфазный - вместе с пероральными противодиабетическими лекарствами или без них.
Испытания показали, что Ризодег эффективно контролирует уровень глюкозы, а также на 32% уменьшает общее число эпизодов гипогликемии и на 73% – количество случаев гипогликемии в ночное время по сравнению с двухфазным инсулином аспарт. В период поддержания дозы на постоянном уровне (начиная с 16 недели) в Ризодег-группе было отмечено снижение общего числа приступов гипогликемии на 39%, а в ночное время на 77%. Количество случаев тяжелой гипогликемии на фоне приема нового препарата уменьшилось на 89%.
Как отметил руководитель исследований Грегори Фулчер (Gregory Fulcher) из Королевской больницы Северного побережья (Австралия), диабет 2 типа является прогрессирующим заболеванием и многие пациенты, использующие базальный инсулин, вынуждены делать дополнительные инъекции во время приема пищи. Так как Ризодег состоит из двух типов инсулина – длительного и быстрого действия, то позволяет пациентам контролировать сахар во время еды и избежать приступов гипогликемии. В настоящее время Ризодег одобрен на территории ЕС, Японии, Мексики, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Чили и Сальвадора.
Как сообщила немецкая газета Die Welt, крупнейший морской контейнерный перевозчик Германии и шестой по размеру в мире Hapag-Lloyd ведет переговоры о сотрудничестве со своим конкурентом, крупнейшим перевозчиком Латинской Америки CSAV. "Hapag-Lloyd и CSAV ведут сейчас переговоры о возможном объединении бизнеса или других формах сотрудничества в интересах обеих сторон",- сообщили в Hapag-Lloyd. Чилийский концерн подтвердил эту информацию. Обе компании подчеркнули, что пока переговоры находятся на ранней стадии и никаких документов не подписано.По мнению экспертов, в отрасли морских контейнерных перевозок в целом идет консолидация. Опасность для всех участников рынка представляет так называемый "альянс P3" - сотрудничество трех крупнейших компании отрасли: датской Maersk, французской CMA CGM и швейцарской MSC. Переговоры об альянсе начались еще в первой половине нынешнего года. Общая доля трех компаний на рынке контейнерных перевозок составляет 37%.
"Альянсу P3" осталось получить одобрение регуляторов разных стран. Глава Федеральной морской комиссии США Марио Кордеро заявил: "Мы должны быть уверены, что запланированный альянс не повредит ни потребителям, ни морской экономике, ни мировой торговле". Встреча американских, европейских и китайских регуляторов по этому вопросу намечена на 17 декабря. По мнению экспертов, вероятность того, что создание альянса сорвется, мала. "Я думаю, что трем участвующим в нем компаниям удастся в основном осуществить свои планы",- заявил эксперт банка HSH Nordbank по морским перевозкам Кристиан Нисвандт.
Если "альянс P3" получит одобрение регуляторов, совместный бизнес может начаться уже во втором квартале 2014 года. "Это серьезное доминирование",- заявил эксперт по отрасли HSH Nordbank Штефан Гэде. Maersk, CMA CGM и MSC собираются выделить для совместной деятельности около 40% своих мощностей - 255 судов для перевозки в общей сложности 2,6 млн контейнеров.
Hapag-Lloyd еще в прошлом году заключил собственное соглашение G6, касающееся грузовых перевозок между Европой и Азией, с пятью другими компаниями - APL, Hyundai Merchant Marine, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha и Orient Overseas Container Line. Также Hapag-Lloyd в начале нынешнего года вел переговоры с другой немецкой транспортной компанией - Hamburg Sud. В мае эти переговоры завершились неудачей.
В Китае создано 18 зон свободной торговли
В Китае создано 18 зон свободной торговли, сообщило Министерство коммерции КНР. Деятельность этих зон направлена на сотрудничество с 31 страной мира.
реди стран, с которыми уже налажено сотрудничество, – государства АСЕАН, Сингапур, Пакистан, Новая Зеландия, Чили, Перу, Коста-Рика, Исландия и Швейцария.
Ранее сообщалось, что в Китае созданы первые девять государственных показательных зон по обеспечению качества и безопасности экспортной промышленной продукции. Среди указанных ОЭЗ – Шэньянская зона экспортных станков в провинции Ляонин, Пекинская зона экспортных автомобилей, Цзимоская зона экспортной одежды в провинции Шаньдун, Гуанжаоская зона экспортных шин в провинции Шаньдун, Куньшаньская зона экспортных велосипедов в провинции Цзянсу, Чаншуская зона экспортной электронно-информационной продукции в провинции Цзянсу. В этих зонах будут разрабатывать отраслевые стандарты, технические инновации, создавать собственные бренды и др.
Всего в Китае действуют 102 ОЭЗ на территории более чем 20 провинций.
Саудовская Аравия намерена увеличить инвестиции в аквакультурные проекты с нынешних с 5,3 млрд. долларов до 16 млрд. За 16 лет страна намерена повысить производство рыбы до 1 млн. тонн ежегодно.
Заместитель министра сельского хозяйства Саудовской Аравии по вопросам рыболовства Джабир Аль-Шихри констатировал, что сейчас население страны страдает от истощения запасов водных биоресурсов в Персидском заливе и Красном море. Это заставляет правительство полагаться в будущем на аквакультуру.
Министерство пытается повлиять на ситуацию в водах Персидского залива, также ведомство создало специальную организацию для продвижения новых технологий и защиты флоры и фауны в Аденском заливе и Красном море. Тем не менее, специалисты решили сделать ставку на аквакультуру, так как сочли ее более современной отраслью по сравнению с рыболовством.
Минсельхоз Саудовской Аравии надеется на то, что через 16 лет страна сможет производить на своих аквакультурных плантациях до 1 млн. тонн ВБР в год и станет в один ряд по этому показателю с Норвегией и Чили.
Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбу планируется выращивать преимущественно в клетках, помещенных в открытое море недалеко от берега. Урожай будут доставлять на береговые перерабатывающие предприятия, а затем отправлять на внутренний и внешний рынки.
Сейчас саудовское рыбоводство получает значительные средства не только от правительства, но и специального Фонда по развитию аквакультуры. В стране производится около 100 тыс. тонн продукции из ВБР ежегодно, в то время как внутреннее потребление находится на уровне 285-300 тыс. тонн в год. За счет увеличения финансирования отрасли правительство Саудовской Аравии рассчитывает довести ежегодное производство рыбы в стране с нынешних 100 тыс. до 1 млн. тонн уже к 2029 г.
Генеральная Ассамблея ООН избрала Иорданию непостоянным членом Совета Безопасности организации на 2014-2015 годы вместо отказавшейся от своего членства Саудовской Аравии.
Выборы пяти новых членов СБ ООН состоялись в середине октября.
Непостоянными членами Совета были избраны Литва, Нигерия, Саудовская Аравия, Чад и Чили. Саудовская делегация практически сразу же отказалась входить в СБ ООН под предлогом неэффективности работы СБ.
В частности, примером этого Саудовская Аравия считает тот факт, что палестинская проблема остается нерешенной на протяжении последних 65 лет, несмотря на то, что она стала причиной нескольких войн. Кроме того, по мнению Эр-Рияда, СБ ООН так и не сумел добиться превращения Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового поражения, а также остановить войну в Сирии и ввести санкции против режима действующего президента Башара Асада. Иван Захарченко.
Комбинированный инсулин компании Novo Nordisk подтвердил свою эффективность в очередных испытаниях
На Всемирном диабетологическом конгрессе были представлены данные исследования эффективности и безопасности инсулинового препарата Ризодег (Ryzodeg) компании Novo Nordisk в сравнении с двухфазным инсулином аспарт.
В течение 26 недель участники (взрослые пациенты с диабетом 2 типа ранее принимавшие инсулин) исследований принимали Ризодег (смесь инсулина деглюдек и инсулина аспарт в соотношении 70% к 30%) или инсулин аспарт двухфазный два раза в день вместе с пероральными противодиабетическими лекарствами или без них.
Испытания показали, что Ризодег эффективно контролирует уровень глюкозы, а также на 32% уменьшает общее число эпизодов гипогликемии и на 73% - количество случаев гипогликемии в ночное время по сравнению с двухфазным инсулином аспарт.
В период поддержания дозы на постоянном уровне (начиная с 16 недели) в Ризодег-группе было отмечено снижение общего числа приступов гипогликемии на 39%, а в ночное время на 77%. Количество случаев тяжелой гипогликемии на фоне приема нового препарата уменьшилось на 89%.
«Диабет 2 типа является прогрессирующим заболеванием и многие пациенты, использующие базальный инсулин, вынуждены делать дополнительные инъекции во время приема пищи. Так как Ризодег состоит из двух типов инсулина – длительного и быстрого действия, то позволяет пациентам контролировать сахар во время еды и избежать приступов гипогликемии», - отметил руководитель исследований Грегори Фулчер (Gregory Fulcher) Королевской больницы Северного побережья (Австралия).
В настоящее время Ризодег одобрен на территории ЕС, Японии, Мексики, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Чили и Сальвадора.
Британский производитель оливковых снеков – компания Brand Stand Ltd – в этом году провела ребрендинг собственной ТМ «Oloves», который включал в себя редизайн упаковки, а также расширение ассортиментной линейки, которая включила в себя чеснок и перец чили в качестве ингредиента.
Как рассказал основатель бренда Мэтт Хант (Matt Hunt), компания выпускает пакетированные оливки уже около 6 лет. За это время удалось реализовать порядка 10 млн упаковок. Но теперь:
- Чтобы оставаться впереди, вам нужно постоянно изменяться и привносить что-то новое. Мы выводим продукцию Oloves на рынок в качестве здоровой альтернативы для продажи в секциях, в которых вы найдете обычные снэки,- сказал г-н Хант.
Теперь снеки «одеты» в стильные и по-настоящему современные городские пакетики оливкового, розового и желтого цвета.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























