Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Дубай, ОАЭ. Жители Объединенных Арабских Эмиратов должны пройти вакцинацию от COVID-19 перед отправлением в международные путешествия, сообщила доктор Фарида Аль Хосани, официальный представитель сектора здравоохранения ОАЭ.
Она призвала граждан и резидентов ОАЭ получить две дозы вакцины перед поездкой. По словам доктора Аль Хосани, жители должны сделать прививки для их собственной безопасности и помощи ОАЭ в борьбе с пандемией коронавируса.
Фарида Аль Хосани также предостерегла людей от вакцинации разными вакцинами. В настоящее время, по словам медика, недостаточно данных о безопасности введения вакцин разных брендов.
Китайская вакцина Sinopharm была одобрена в декабре, а на прошлой неделе в Абу-Даби начали прививать вакциной Pfizer-BioNTech. Доктор Аль Хосани заявила, что скоро в Абу-Даби будет доступно больше разных вакцин.
Наряду с этим, путешественники должны учитывать эпидемиологические риски и тщательно выбирать места отдыха, чтобы не подвергать риску себя и членов семей.
Доктор призвала избегать поездок в страны со слабо развитой медицинской инфраструктурой и пренебрежением нормами профилактики COVID-19 – ношением масок и правилами социального дистанцирования.
К настоящему моменту общее количество введенных доз составило 10,3 млн. Между тем, по данным медицинских работников, для формирования коллективного иммунитета прививки должны получить до 90% населения (точных данных нет).
ОАЭ обогнали по темпам вакцинации Великобританию, но уступили в глобальной гонке Израилю. В настоящее время вакцина доступна в более чем 218 медицинских центрах по всей стране. Предварительная запись на прививку обязательна.
Дополнительную информацию по вопросам вакцинации можно получить по телефонам 80011111 (Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ), 8001717 (Департамент здравоохранения Абу-Даби) и 800342 (Управление здравоохранения Дубая).
Квантовые сенсоры: достижения и перспективы развития
Председатель Научного совета при президиуме РАН «Квантовые технологии», академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, академик РАН Геннадий Красников подвел итоги заседания Совета по теме «Квантовые сенсоры».
Квантовые сенсоры обладают более высокой чувствительностью по отношению к классическим благодаря свойствам квантовых систем – в том числе суперпозиции и перепутанности. В России представлены перспективные направления: оптические атомные часы, гравиметры и акселерометры на атомах рубидия, гироскопы на ансамблях спинов в твердом теле, а также локальные сенсоры электрического и магнитного полей и температуры на центрах окраски. В настоящее время ведется разработка третьей дорожной карты – «Квантовые сенсоры».
В дорожной карте сенсоры сгруппированы в три группы: (1) часы, гравиметры, градиометры, (2) сенсоры электрического и магнитного поля, (3) сенсоры для квантовой метрологии. Значительные успехи достигнуты в области миниатюрных, малогабаритных и оптических стандартов частоты, к 2024 г. планируется по оптическим часам выход на TRL8, к 2030 г. – реализация навигационных систем с разрешением в см-диапазоне и внедрение систем прецизионной синхронизации потоков данных. Обсуждаются вопросы формирования карт гравитационного потенциала для навигации. Сравнимы с мировым уровнем развития направления гироскопов на ансамблях спинов в твердом теле и спектрографов с использованием двойной оптической гребенки. В настоящее время институтами РАН и другими научными и образовательными организациями активно ведется работа в части развития технологий квантовых сенсоров.
Во ФГУП «ВНИИФТРИ» создан сверхминиатюрный квантовый сенсор на основе атомного стандарта частоты на КПН-эффекте с характеристиками, сопоставимыми и превышающими параметры лучших мировых аналогов. Разработаны технология производства ячеек MEMS и отечественный лазер с вертикальным резонатором (ЛВР) на длине волны излучения 795 нм (лазер создан в ИФП СО РАН). Разработана соответствующая документация, проведены проверки и 25 испытаний. Дальнейшее развитие – снижение параметров нестабильности. Проблемы – нестабильность параметров ЛВР, выпускаемых ИФП СО РАН, отсутствие отечественных комплектующих и серийно выпускаемой ЭКБ для квантовых сенсоров.
В ИЛФ СО РАН в Лаборатории квантовых сенсоров ведутся экспериментальные и теоретические исследования, направленные на создание высокочувствительных квантовых сенсоров инерциальных сил (гравиметров, акселерометров и гироскопов) на основе интерференции ультрахолодных атомов рубидия. Выполнен ряд теоретических и экспериментальных работ по атомным магнитометрам с оптической накачкой в сотрудничестве с National Institute of Standards and Technology (США), Institute of Electronics (Болгария), ФИАН, ведутся экспериментальные и теоретические исследования с целью создания компактных магнитометров (скалярных и векторных) на основе резонансов пересечения уровней в новой магнитооптической конфигурации.
В МПГУ в 2001 г. впервые предложена идея и экспериментальная реализация детектирования ИК фотонов сверхпроводящей нанопроволокой, затем была разработана технология изготовления нанопровода на основе ультратонкой сверхпроводящей плёнки. ЗАО «Сконтел» выпускает и реализует многоканальные однофотонные приемные системы на этой основе, ведет работы по получению изображений фосфоресценции синглетного кислорода с помощью однофотонного детектора, имеющей применение в медицине. МПГУ разрабатывает приборы в квантовых оптических интегральных схемах, источники одиночных фотонов на чипе, детекторы на чипе для реализации квантовых фотонных интегральных схем. Создана квантово-оптическая интегральная схема с использованием планарных волноводов и SSPD для генерации запутанных фотонов, фильтрации и детектирования одиночных фотонов. Проводятся работы в области электрически управляемого источника фотонов на основе углеродной нанотрубки на чипе, однофотонных источников света на базе азотных вакансий в наноалмазе. В НИТУ «МИСиС» научной группой из МПГУ ведется ОКР по созданию охлаждаемой однофотонной видеокамеры с диапазоном чувствительности 0,4 – 2,0 мкм (срок 2019-2023 гг., стоимость 500 млн. руб.).
В ИФП СО РАН 5 лет назад начата разработка детекторов одиночных фотонов на основе лавинных фотодиодов с гетероструктурами InGaAs/InP для оптоволоконных квантовых коммуникаций в диапазоне длин волн 1,3-1,6 мкм. В конструкции используется прямая засветка области поглощения. Разработана оригинальная запатентованная технология легирования цинком в узкой щели, решена проблема воспроизводимого получения глубины залегания фронта легирования и сохранения морфологии поверхности. Характеристики темнового тока в полученных образцах не уступают зарубежным аналогам. При финансовой поддержке ЦКТ ФФ МГУ имени М.В. Ломоносова ведутся работы с новыми структурами и обновленной конструкцией, проводятся испытания с глубоким охлаждением и в гейгеровском режиме, разработана цифровая схема для характеризации лавинных фотодиодов в гейгеровском режиме. Для быстрого внедрения требуется дополнительное финансирование.
Сколтех совместно с Токийским Университетом (Япония), технологической группой Колледжа Роял Холлоуэй Лондонского университета (Великобритания), Национальной физической лабораторией Великобритании, NTT (Япония), Chalmers University (Швеция) разрабатывает прямые детекторы излучения в диапазоне 0,1 – 2-3 ТГц. В основе терагерцовых детекторов с усилением лежат гетероструктуры GaAs с двумерным электронным газом с последующим формированием канала и нанесением дипольной антенны. Образованная квантовая точка позволяет поглощать излучение на частотах 0,3 и 0,8 ТГц, при этом возможен подсчет поглощенных электронов и фотонов. Решена задача по сохранению спектральной чувствительности при повышении температуры.
Существующие виды квантовых сенсоров на ультрахолодных атомах – атомные часы, акселерометры и гироскопы. В ИСАН разрабатываются часы и гравиметр на основе первого в России атомного чипа. Создана магнитооптическая ловушка, ведутся работы с атомами рубидия. В ИСАН реализуется пятилетняя программа по созданию квантовых сенсоров на атомном чипе: холодные атомы транспортируются в камеру с ультравысоким вакуумом, происходит локализация атомов на чипе, выполняются измерения с помощью атомной интерферометрии.
В ИПФ РАН в 2016 г. достигнуты результаты измерений давления с помощью первичного квантового вакуумметра – 10-6 … 10-9 Па, имеется перспектива перехода к давлению 10-5 и выше. Рабочее тело первичного квантового вакуумметра – ультрахолодный газ атомов, удерживаемый в фокусе лазерного луча, который позволяет измерять уровень вакуума в окружающем газе. В решении используется зануление всех каналов потерь, за исключением процесса взаимодействия с остаточным газом вакуума. Хотя метод обладает локальностью, нечувствительностью к электрическим и магнитным полям, меньшей ошибкой при неизвестном составе газа и отсутствием ошибок вследствие старения электродов во время измерения, ему присущи большое время измерения (300 с при 10-9 Па) и необходимость оптического доступа.
В Академии криптографии Российской Федерации, АО «Концерн «Автоматика», ИФТТ РАН, ЦКТ ФФ МГУ имени М.В. Ломоносова, ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова ведутся теоретические работы в области происхождения, физической реализации и статистического тестирования случайности для квантовых генераторов случайных чисел. Главное отличие таких систем от классических – принципиальная непредсказуемость результата наблюдения при одних и тех же начальных условиях и эволюции. Различают генераторы с дискретной переменной, подсчитывающие отдельные фотоны на основе фотоэффекта, и генераторы с непрерывными квадратурами поля, вычисляемых через разность токов детекторов. Работа ведется для дискретного случая, цель – получить распределение из нулей и единиц. Пока нерешенной задачей является обеспечение независимости фотоотсчета без потери скорости работы детектора – экстрактора случайной величины.
ЦКТ ФФ МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках направления квантовой метрологии дорожной карты по квантовым сенсорам разработаны физические основы и построены прототипы устройств «абсолютной квантовой фотометрии»: квантовый радиометр для измерения спектральной яркости источников излучения и безэталонный измеритель квантовой эффективности детекторов. Экспериментально исследованы три режима генерации пар фотонов и установлено, что интерференция нулевых флуктуаций вакуума, считавшаяся паразитным эффектом при параметрическом рассеянии, может применяться в технике трехфотонной интерферометрии.
ООО «Коннектор Оптикс», ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Университетом ИТМО, АО «ОКБ Планета» ведутся работы в двух направлениях. Первое – разработка детектора одиночных фотонов на базе отечественного лавинного фотодиода для квантовых каналов связи систем квантовой коммуникации – с характеристиками не хуже, чем у ID Qube (ID Quantique, Швейцария), лавинный фотодиод – на уровне Wooriro Co Ltd (Южная Корея). Изготовлены кристаллы детекторов одиночных фотонов первого поколения. Второе направление – разработка истинных источников одиночных фотонов телекоммуникационного диапазона с неклассической статистикой излучения на основе изолированной квантовой системы – квантовых точек InAs. Изготовлены гетероструктуры для источников одиночных фотонов диапазона 1,3 мкм, при этом поверхностная плотность квантовых точек InAs составила порядка (1,5–2)•109 см-2. Проводимые исследования опираются на накопленный за 10 лет конструктивно-технологический задел, в рамках которого выполнены НИР по разработке вертикально-излучающих лазеров и фотодиодов диапазона 0,85-1 мкм, обеспечивающих работу на частотах более 10 ГГц, в том числе созданы прототипы вертикально-излучающих лазеров на длину волны 895 нм (линия D1 Cs133), c характеристиками, соответствующими лучшим зарубежным аналогам, предназначенные для миниатюрных квантовых стандартов частоты и магнитометров. В настоящее время выполняются ОКР по разработке вертикально-излучающих лазеров и фотодиодов диапазона 1,3 – 1,55 мкм, обеспечивающих скорость передачи данных до 30 Гбит/с. Созданы квантово-каскадные лазеры, работающие в диапазоне длин волн 4 – 10 мкм, и демонстрирующие мощность излучения более 10 Вт при 300 К.
В ФТИ им. А.Ф. Иоффе решают фундаментальную проблему регистрации слабых магнитных полей с нм-разрешением при помощи 6H-SiC. Проводятся исследования различных центров SiC, необходимых для создания фотонных кристаллов и различных наноантенн и других наноустройств. Экспериментально исследованы сенсоры магнитного поля в средах, в которые непосредственное помещение сенсора невозможно. В 2019 г. запатентованы радиочастотные сенсоры магнитного поля. Созданы нанокристаллы карбида кремния заданного политипа, которые можно скомбинировать с конфокальной спектроскопией и зондовой микроскопией, в результате чего можно получить атомарное пространственное разрешение. Совместно с коллегами из Швейцарии и Германии проводятся работы по сравнению разработанных в ФТИ им. А.Ф. Иоффе типов сенсоров со спиновыми центрами SiC с уже имеющимися аналогами на алмазе, также ведётся разработка только оптических сенсоров на основе карбида кремния. В ФТИ им. А.Ф. Иоффе ведется работа по обнаружению связи спиново-механических свойств карбида кремния, что позволит однозначно определить константу спин-деформационного взаимодействия. Планируется разработка эпитаксиальной технологии создания карбида кремния, затем – технологии гетероструктур и фотонных кристаллов на его основе.
ИФП СО РАН, ИГМ СО РАН и ИТ СО РАН проводят работы по сенсорам магнитного поля на ансамблях NV-центров, цель – увеличение их количества для повышения чувствительности. Получены следующие результаты: (1) синтетические алмазы с концентрацией NV центров >10 ppm, временем дефазировки спинов > 1 мкс применимы в квантовой метрологии при комнатных и повышенных температурах; (2) горячая имплантация N+ и НРНТ отжиг перспективны как для квантовых сенсоров, так и для однофотонных источников, и 3D кубитов в алмазе; (3) Газоструйное плазменное осаждение формирует алмазные покрытия с NV центрами на любых материалах и пригодно для создания квантовых магниточувствительных МЭМС. Разработка высокотемпературных квантовых сенсоров требует целевого финансирования.
Россия поможет Индии в борьбе с новой волной ковида
Первый самолет российского МЧС с медикаментами, кислородными баллонами и медицинским оборудованием для индийских госпиталей уже вылетел из аэропорта «Жуковский»
Решение об отправке в Индию экстренной помощи принял Владимир Путин. Как говорится на сайте Кремля, рейсами МЧС в страну будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов.
Согласно пресс-релизу, в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер высказал «слова поддержки», а его собеседник поблагодарил Россию за «оказываемое содействие, которое остро востребовано в стране». О ситуации в Индии рассказывает жительница города Ахмадабад Евгения Моджумдар.
«Если мы из дома не выходим, то кажется, что все нормально: все живут обычной жизнью. Многие из заболевших находятся дома, у кого нетяжелая форма коронавируса. Но если падает кислород, то все сразу бегут в больницу, а в больницах не хватает кислорода на всех. Нет транспорта, чтобы этот кислород поставлять, чтобы все клиники получали его. Ситуация такая, что во многих городах, у нас в частности, строятся дополнительные ангары с кроватями на тысячу человек. Ситуация катастрофическая».
Судить о реальных масштабах индийского коронавирусного кризиса довольно сложно. Ранее на этой неделе большинство западных СМИ акцентировали внимание на глобальном рекорде суточной заболеваемости — в Индии сегодня выявляют более 300 тысяч случаев коронавируса в сутки. Однако при пересчете на душу населения цифры становятся менее впечатляющими — заболеваемость в Индии в три раза ниже, чем в Турции; в два раза ниже, чем во Франции; и даже несколько ниже, чем в среднем по Евросоюзу.
Официальную смертность даже можно назвать сравнительно низкой — за все время пандемии из 1,3 млрд индийцев от вируса скончались около 100 тысяч человек, как и в 140-миллионной России. Оправданна ли в таком случае помощь? Безусловно, ведь статистика вряд ли отражает реальную картину, говорит старший научный сотрудник Центра изучения Индии Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
«Такая международная помощь абсолютно оправданна. Если в Индии еще месяц-полтора назад было примерно столько же случаев или чуть больше, чем у нас, то сейчас по 350 тысяч человек в сутки. Люди задыхаются без кислорода. Больным не хватает коек в больницах, больные лежат чуть ли не на улице. Армия занята тем, что развозит кислород по городам, и его категорически не хватает. Что касается смертности, то здесь не надо смотреть на эти цифры, потому что не все там фиксируется, возможно, что в деревнях и трущобах люди умирают, и никто не знает, от чего. Так мне говорят все друзья, с которыми я общаюсь. Муж моей очень близкой подруги лежит сейчас в реанимации. Ситуация очень тяжелая».
Об отправке помощи в Индию также заявили Германия, Великобритания, США и ряд других государств, а также власти Евросоюза. Направить в страну медикаменты и аппараты ИВЛ намерен даже Пакистан, давний соперник Индии. В ближайшие недели в Индию также начнет поступать «Спутник V» — поставка первой партии препарата ожидается 1 мая. Выпуск российской вакцины на территории страны в рамках соглашения индийских производителей и РФПИ планируется наладить до конца весны.
Андрей Ромашков
Чистая прибыль Сбера за I квартал по МСФО составила 304.5 млрд руб.
Чистая прибыль Сбера за I квартал 2021 года по МСФО составила 304.5 млрд руб. (+152.7% г/г). Прибыль на обыкновенную акцию составила 14.19 руб. (+153.4% г/г). Это следует из промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности Сбера.
Кредиты группы на конец I квартала составили 25.5 трлн руб., увеличившись на 2% за квартал. Розничный кредитный портфель вырос на 3.9% до 9.7 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15.8 трлн руб., прибавив 0.8%.
Чистые процентные доходы за I квартал 2021 года выросли на 13.3% г/г до 421.5 млрд руб. Процентные доходы в I квартале 2021 года увеличились на 5.8% г/г до 617 млрд руб.
Розничный кредитный портфель вырос на 3.9% за I квартал 2021 года и составил 9.7 трлн руб.
Корпоративный кредитный портфель достиг 15.8 трлн руб., прибавив 0.8% в I квартале 2021 года. Без учёта валютной переоценки кредитный портфель увеличился на 0.2%. Доходность корпоративных кредитов выросла на 10 б.п. за квартал до 6.4%.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 7.6% г/г в I квартале 2021 года до 195.5 млрд руб.
Средства физических лиц снизились на 0.8% за I квартал 2021 года и составили 16.5 трлн руб. Средства юридических лиц выросли на 15% за I квартал 2021 года до 10.5 трлн руб
Портфель ценных бумаг составил 6.6 трлн руб., прибавив в I квартале 0.9%.
Чистые комиссионные доходы группы выросли за I квартал 2021 года на 6.3% г/г, несмотря на высокую базу прошлого года, и составили 134.3 млрд. руб
Операционные расходы группы составили 179.9 млрд руб. за I квартал 2021 года, увеличившись на 7.1%. Отношение операционных расходов к операционным доходам по финансовому бизнесу за I квартал 2021 года снизилось на 1.4 пп г/г и составило 29.3%.
Общий капитал увеличился на 5% за I квартал 2021 года до 5261.4 млрд руб. Активы группы, взвешенные с учётом риска, выросли на 0.9% за I квартал 2021 года до 34421.2 млрд руб.
Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы
В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы
ВТБ запустит обслуживание клиентов на сайте с использованием средств видеосвязи, а также установит полностью бесконтактные банкоматы, которые позволят снимать и вносить наличные через смартфон, ни разу не коснувшись АТМ. Об этом говорится в сообщении банка.
Запуск бесконтактного банкомата станет одним из первых нововведений в рамках модификации зоны самообслуживания в офисной сети ВТБ.
В рамках пилотного проекта ВТБ устанавливает два устройства в Москве, которые на первом этапе будут работать на снятие наличных с цифровых карт. Далее технология снятия наличных будет тиражирована на 80% всей банкоматной сети устройств самообслуживания (12.5 тыс. устройств). В конце года банк планирует внедрить сервис внесения наличных через мобильное приложение, в перспективе двух лет – запустить функции снятия и внесения наличных в АТМ с одного продукта на любой другой – например, со вклада на накопительный счёт или кредит.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
ВТБ запускает программу лояльности для среднего и малого бизнеса
ВТБ запускает комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса "Бизнес-лига ВТБ". Она основана на сервисных бонусах для участников и включает три премиальных уровня: "Профи", "Мастер" и "Легенда". Об этом говорится в сообщении банка.
Основой программы являются сервисные бонусы, которые доступны действующим клиентам при развитии сотрудничества и активном использовании банковских услуг. Клиенты получают преимущества при обслуживании и специальные условия от ВТБ и партнёров.
На старте проекта всем участникам "Бизнес-лиги ВТБ" доступна выделенная линия колл-центра, по которой предприниматели круглосуточно без выходных могут оперативно получить консультации и решить вопросы обслуживания с помощью специалистов банка. Кроме этого, для них предусмотрено приоритетное обслуживание в отделениях ВТБ. В числе привилегий – виртуальная бизнес-карта на специальных условиях, а также спецпредложения и скидки на продукты для бизнеса от банка и партнёров.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
На блокчейн-платформе Сбера совершена сделка по покупке "зелёных" сертификатов
На блокчейн-платформе Сбера совершена сделка по покупке "зелёных" сертификатов (Renewable Energy Certificates, REC). Техническим партнёром в сделке выступила дочерняя компания Сбера — ООО "Современные технологии", эмитентом — ПАО "ТГК-1". Об этом говорится в сообщении банка.
ПАО "Полюс", крупнейший производитель золота в России, приобрело 303460 сертификатов, обеспеченных энергией, выработанной из возобновляемых источников, объём покрывает I квартал 2021 года.
"Зелёные" сертификаты подтверждают происхождение энергии из возобновляемых источников. Генерирующие компании могут продавать такую энергию независимо от физических поставок. Данный инструмент повышает прозрачность потребления возобновляемой энергии и даёт возможность потребителям подтверждать соответствие ESG-стандартам.
Децентрализованная платформа, разработанная в Лаборатории блокчейна СберБанка, — передовой инструмент для организации мгновенных и безопасных сделок по обороту цифровых активов. Блокчейн-платформа Сбера позволяет вести учёт "зелёных" сертификатов в виде токенов и проводить сделки с использованием смарт-контрактов, гарантируя своевременность и корректность расчётов.
Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Мосбиржа начала торги тремя БПИФами на корпоративные и гособлигации
Мосбиржа начала торги паями трех биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) УК "Атон-менеджмент" на облигации российских и иностранных эмитентов, а также государственные долговые бумаги. Об этом говорится в сообщении биржи.
Фонд "АТОН – Российские облигации +". Фонд повторяет структуру ОПИФ "Атон – Фонд облигаций" за счет покупки российских облигаций, преимущественно облигаций федерального займа (ОФЗ). Фонд номинирован в рублях. Торговый код – AMRB.
Фонд "АТОН – Надежные облигации". Фонд следует за Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, в который входят долговые бумаги более 2300 американских компаний с рейтингом инвестиционного уровня хотя бы одного из международных агентств. Фонд номинирован в долларах США. Торговый код – AMIG.
Фонд "АТОН – Доходные облигации мира" следует за индексом Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, который включает в себя номинированные в долларах США ликвидные облигации международных компаний с более высокой доходностью, чем бумаги инвестиционного уровня. Фонд номинирован в долларах США. Торговый код – AMHY.
Таким образом, на сегодня к торгам на Московской бирже допущены 17 БПИФов УК "Атон-менеджмент". Маркетмейкером выступает ООО "АТОН".
На фондовом рынке Московской биржи обращаются 79 биржевых фонда: 61 БПИФа под управлением УК "Альфа-Капитал", УК "Атон-менеджмент", УК "БКС", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "ДОХОДЪ", УК "МКБ Инвестиции", УК "Открытие", УК "Райффайзен Капитал", ООО "РСХБ Управление Активами", УК "Сбер Управление Активами", УК "Система Капитал", УК "Тинькофф Капитал", УК "Финам Менеджмент" и 18 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.
За первый квартал 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 127 млрд руб., чистый приток средств в биржевые фонды – 38.3 млрд руб., совокупная стоимость чистых активов превысила 185 млрд руб. ($2.5 млрд). Сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 1. 4 млн частных инвесторов.
Контракты на доверии
Современные модели закупок отвечают интересам государства, пациентов и производителей
Текст: Сергей Клименко (партнер, руководитель российской практики фармацевтики, медицины и здравоохранения международной юридической фирмы "Дентонс")
Организаторов здравоохранения во всем мире заботит, как обеспечить лечение граждан в условиях ограниченности средств. И как сделать это наилучшим образом, избегая трат там, где полезный эффект минимален.
В условиях глобального процесса старения населения, роста стоимости разработки новых препаратов, растущего давления общества на государство эти вопросы встают все более остро.
Начиная с 2000-х годов стало ясно, что классические модели взаимодействия производителя и плательщика, предполагающие обычную закупку по согласованной цене, уже не могут обеспечить баланс интересов сторон, если речь идет о дорогостоящих препаратах. В связи с этим государства Западной Европы начали постепенно внедрять в практику модели разделения риска в отношении закупок дорогостоящих препаратов. Каждая из таких моделей имеет специфические особенности, но основана на единой идеологии: риски плательщика, связанные с приобретением дорогостоящего препарата, отчасти берет на себя производитель.
На сегодня сформировалось множество систем классификации таких моделей. Наиболее популярным стало объединение в одну группу моделей, основанных на разделении рисков финансового характера, а в другую - на разделении рисков недостижения желаемого результата.
Первая группа считается более прямолинейной и простой в реализации. В нее обычно включают две основные модели. Первая из них подразумевает софинансирование производителем затрат государства (или иного плательщика) на приобретение препарата в определенной пропорции (cost-sharing). Другая основана та том, что производитель берет на себя все расходы, превышающие определенный порог отведенного бюджета (budget cap) или количества выявленных пациентов (patient cap), который может себе позволить плательщик.
Вторая группа моделей более сложна и основывается на оценке результата в виде достигнутых или недостигнутых показателей, согласованных сторонами. Для каждого препарата такие показатели могут быть различными: наличие иммунного ответа, достижение тех или иных так называемых суррогатных точек и т.п. Модели в этой группе могут различаться и по последствиям: либо производитель обязан полностью или частично возместить стоимость лечения конкретным препаратом каждого конкретного пациента, результат которого оказался неудовлетворительным; либо меняется размер платежей за препарат в целом, если результаты не достигнуты у определенного процента пациентов; либо - там, где это возможно, - происходит переключение на другую терапию.
Для нашего государства проблемы ограниченности средств и повышения эффективности затрат также важны. При этом существующие закупочные механизмы все еще довольно примитивны и не предусматривают возможности принятия производителем на себя рисков в виде софинансирования или платежа за результат. Рост затрат на лекарственное обеспечение, вызванный появлением в последние годы дорогостоящих препаратов для лечения, в первую очередь онкологических, а также орфанных заболеваний, усугубил существующие проблемы. Государственный заказчик платит полную стоимость, пусть и сниженную за счет регистрируемой цены. И это в случае, например, закупки препаратов генной терапии, может привести к астрономическим затратам. Более того, для нынешней системы закупок даже рассрочка платежа на несколько лет пока недоступна, хотя многие орфанные препараты являются непосильной нагрузкой для бюджетов субъектов, в том числе из-за невозможности распределить расходы на несколько месяцев или лет.
Несмотря на то что какие-либо соглашения о разделении затрат до сегодняшнего дня прямо не предусмотрены российским законодательством о контрактной системе, модели, основанные на таких принципах, тем не менее реализуются в российских регионах с 2015-2016 годов. Они основываются на заключении соглашений между государственным заказчиком и производителем (или первым импортером), в рамках которых последний принимает на себя одностороннее обязательство безвозмездно передать государственному заказчику некий объем препарата при наступлении определенных обстоятельств. Государственный заказчик при этом никаких обязательств на себя не принимает, и сама закупка препарата за счет средств, имеющихся в распоряжении заказчика, осуществляется в обычном порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе. Применение такой модели ограничено препаратами, не имеющими альтернатив в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН), и потребность в которых подтверждена объективно.
Абсолютное большинство реализованных моделей представляют собой относительно простые конструкции софинансирования затрат, в которых факт закупки госзаказчиком определенного процента от потребности в препарате "активирует" обязательство компании передать соответствующее количество препарата безвозмездно. На настоящий момент в регионах заключено уже около тысячи таких соглашений с совокупной экономией бюджетных средств в сотни миллионов рублей. Более сложные соглашения, направленные на компенсацию неэффективных случаев терапии (т.е. платеж за результат), предполагающие контроль результатов лечения по каждому из пациентов, реализовывались по аналогичной модели, но такие примеры единичны и осуществлялись в очень ограниченном формате.
Такие модели разделения рисков не противоречат действующему гражданскому, антимонопольному, бюджетному законодательству и законодательству о контрактной системе. Однако они все же являются компромиссным, временным решением, не лишенным недостатков. Так, им присущи избыточная налоговая нагрузка, отсутствие регламентированного механизма взаимодействия сторон и единого подхода к реализации. В связи с этим широкого и официального распространения такие модели до сих пор не получили, несмотря на попытки реализации пилотных проектов еще пять лет назад. Однако их применение имеет колоссальное значение для отработки лучших практик. В конечном итоге это нормально, когда правовое регулирование "догоняет" перспективные практические подходы.
Что нужно сделать, чтобы эти модели получили официальный статус? Во-первых, по законодательству о контрактной системе правительство вправе устанавливать особенности отдельных закупок. Это позволило бы либо использовать пилотные модели для отдельных дорогостоящих препаратов, полностью "погруженные" в процесс государственных закупок, либо закрепить использование "прямых" соглашений наряду с закупками таких препаратов для обеспечения надлежащего эффекта. А также установить долгосрочность таких контрактов и возможность рассрочки платежа. Во-вторых, в дальнейшем целесообразно было бы прямое закрепление различных специальных моделей закупок и порядка ведения переговоров по ним - по аналогии с ГЧП - в законодательстве о контрактной системе. Наконец, необходимо внедрить механизмы, позволяющие увязать регистрацию на условиях (когда обращение жизнеспасающего препарата разрешается досрочно на основе ограниченного набора данных) и сбор RWE (данных реальной клинической практики) с финансовыми условиями закупок. Это позволило бы превратить программы разделения рисков в полноценный инструмент установления справедливой цены за инновационные модели лечения. То есть нужна полноценная интеграция систем оценки технологий здравоохранения с закупочной системой.
Однако это длительный процесс, который подразумевает поэтапные изменения. Но дальнейшее использование моделей, уже применяющихся на практике в регионах, их масштабирование на уровне федеральных закупок - в том числе закупок для нового благотворительного фонда "Круг добра" - позволило бы уже сейчас сокращать затраты на закупку препаратов, альтернативы которым нет.
Точка зрения
Владислав Маличенко, руководитель отдела вывода препаратов на рынок департамента онкологических препаратов компании "Новартис" в России:
- Несмотря на достаточно сложную систему регулирования лекарственного обеспечения в РФ, законодательство допускает использование наиболее простых моделей разделения рисков, которые позволяют оптимизировать затраты госбюджета на дорогостоящие технологии. Практика внедрения подобных моделей, сформировавшаяся за последние годы в субъектах РФ, свидетельствует о признании их эффективности со стороны госзаказчиков. Однако в условиях появления новых персонализированных терапевтических решений необходимо вырабатывать комплексные подходы к формированию партнерских отношений между госзаказчиком и производителем для рационализации госзатрат. Внедрение клинических рекомендаций, а также стремительные темпы цифровизации здравоохранения позволяют уже сейчас обсуждать возможность отработки моделей разделения рисков, основанных на оценке эффективности применяемой технологии. Для внедрения таких моделей в практику следующим логичным шагом должно стать внесение изменений в федеральный закон о контрактной системе. Мы надеемся, что социально-ориентированная повестка правительства РФ позволит выработать необходимые решения.
Виталий Дембровский, директор по экономике здравоохранения, фармакоэкономике и ценообразованию компании "АстраЗенека" Россия и Евразия:
- Привлекательность инновационных долгосрочных ценностных контрактов, в основе которых лежит принцип оплаты за результаты лечения, очевидна и для государства, и для фармкомпаний. Плательщик экономит средства на закупку лекарств, производитель понимает долгосрочные перспективы своего бизнеса. Наша компания активно применяет инструмент инновационных контрактов. Заключено уже около 50 подобных соглашений в области онкологии, пульмонологии, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений метаболизма и т.д. Значительная их часть реализуется в США, Великобритании, но в последнее время география инновационных контрактов расширяется и охватывает уже более 10 стран. Использование таких контрактов перспективно и для России, однако ввиду недостаточности правовой базы оно сопряжено с определенными сложностями. Особенно проблемными остаются риск-шеринг контракты в связи с отсутствием единых методик результатов лечения и независимых экспертных центров, разделением полномочий между федеральными и региональными властями и различными источниками финансирования.
Для оценки преимуществ и рисков инновационных контрактов необходимо провести широкомасштабное моделирование их внедрения в систему лекарственного обеспечения России на основе действующих схем и правил с использованием действующих регистров пациентов.
Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям компании "Санофи" в Евразийском регионе:
- Существующая система госзакупок не обеспечивает конкурентных условий для оригинальных препаратов, находящихся под патентной защитой. В этой ситуации для достижения целей государства по обеспечению эффективного лечения льготных категорий граждан в условиях ограниченных бюджетов нужен поиск альтернативных методов. Таким решением могли бы стать инновационные контрактные модели. Минздрав России объявил сбор предложений от компаний о заключении таких контрактов. "Санофи" в числе первых откликнулась на это предложение. Наш препарат был выбран среди многих. Но проект не был реализован из-за несогласованности позиций различных регуляторов. Некоторые регионы пытаются заключать контракты с элементами разделения рисков или затрат, однако полноценное и широкое внедрение невозможно без внесения изменений в законодательство. Мы приветствуем работу правительства над внесением поправок в 44-ФЗ и подали свои предложения в рамках общественного обсуждения.
Оксана Куделя, директор по обеспечению доступа препаратов на рынок и ценообразованию, коммерческий директор компании Merck Biopharma Россия:
- У долгосрочных контрактов есть объективные плюсы и для государства, и для производителя. В основном сейчас это касается простых аспектов - отпускной цены препарата и гарантированных закупок. Их реализация понятна и проста. Более сложные модели, основанные на результатах лечения, требуют очень существенной правовой доработки. Но именно они необходимы для решения задач здравоохранения сейчас, так как позволяют значительно оптимизировать расходы в условиях ограниченного бюджета, добиться гарантированных поставок и производства лекарств в запланированных объемах и, что самое главное, обеспечить качество лечения.
Александр Мартыненко, директор по индустриальной политике AIPM:
- Инновационные модели контрактов различаются по сложности их реализации. Например, модели риск-шеринга более сложны, так как необходимо установить объективные критерии эффективности лечения. Это не всегда просто сделать в отдельных нозологиях. Определить "суррогатные точки" гораздо проще в онкологии или онкогематологии, чем, например, в кардиологии или в лечении сахарного диабета.
Даже простые модели долгосрочных контрактов не слишком востребованы участниками рынка. Сейчас преимущества долгосрочного контракта неочевидны как для госзаказчика (если нет снижения цены за единицу товара), так и для поставщика, поскольку риски снижения объемов поставки в случае изменения лимитов бюджета зафиксированы в самом контракте. Кроме того, Бюджетный кодекс предусматривает заключение контракта на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, только с указанием встречных (как правило, инвестиционных) обязательств поставщика.
Тем не менее возможности для дополнительного снижения цены поставки в рамках долгосрочных контрактов есть. Для их реализации необходимо, во-первых, предусмотреть возможность заключения контрактов на срок более трех лет без дополнительных инвестиционных обязательств поставщика. Во-вторых, использовать потенциал контрактов с неизвестным объемом закупки: включать в них по соглашению сторон условия о снижении цены за единицу товара при достижении определенного объема заказов.
Для реализации этой модели необходимы поправки в Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон N 44-ФЗ и установление статуса и полномочий Межведомственной комиссии по проведению прямых переговоров по ценам и условиям поставки с производителями (поставщиками) лекарственных препаратов. Для получения более низкой цены от поставщика по этим контрактам потребуется введение изъятий из общего порядка расчета начальной (максимальной) цены контракта, чтобы она не транслировалась для остальных закупок, имеющих меньший объем и иные сроки поставки.
Премьеру "подали" на ремонт
В Британии расследуют дорогостоящий ремонт резиденции Бориса Джонсона
Текст: Диана Ковалева
Избирательная комиссия Британии начала расследование, чтобы выяснить, откуда премьер Борис Джонсон взял деньги на нашумевший дорогостоящий ремонт официальной резиденции на Даунинг-стрит, который, как пишут британские СМИ, обошелся аж в 200 тысяч фунтов (примерно 20 миллионов рублей). Ведь по местным правилам каждый год главе правительства выделяют максимум 30 тысяч фунтов из госбюджета на обустройство резиденции. Все, что выходит за эти рамки, премьер должен оплатить из своего кармана. И хотя официальный представитель Джонсона заявила, что так оно и было, у британцев есть множество вопросов.
Местные СМИ разузнали, что из-за невесты премьера Кэрри Саймондс, которая затеяла ремонт и явно не рассчитала финансовые возможности, тот решил создать благотворительный фонд, куда все неравнодушные могли бы пожертвовать деньги на "сохранение Даунинг-стрит для нации". "Добил" репутацию премьер-министра его экс-советник Доминик Каммингс, который заявил, что Джонсон и вовсе планировал секретно получать от спонсоров деньги на оплату ремонта.
Отдышаться от пандемии
В подмосковном санатории "Виктория" обсудили международные программы реабилитации после COVID-19
Текст: Евгений Гайва
Программы реабилитации после перенесенного COVID-19 сейчас предлагают около четверти российских санаториев. Методики будут усовершенствованы с учетом международного опыта, рассказали "РГ" представители санаторно-курортного комплекса.
Предлагать программы восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом санатории начали еще летом 2020 года. Тогда же Минздрав дал базовые методические рекомендации по медицинской реабилитации пациентов, рассказывает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов. Сейчас документ дорабатывается по мере накопления новых данных. А они свидетельствуют, что человеку, перенесшему коронавирус, нужно комплексное сопровождение врача. Лечение в санатории - идеальный вариант, говорит он.
По данным на март 2021 года, например, в Великобритании 29% пациентов, перенесших COVID-19, после выписки из стационара вновь поступают в больницу. При этом смертность в постковидный период среди пациентов достигает 12%, приводит пример академик РАН, известный российский пульмонолог Александр Чучалин. В первую очередь это связано с тромбообразованием, повреждением органов, вовлекаемых в процесс заболевания, - мозга, сердца, легких. "Поэтому необходимость ведения больных в постковидный период предельно актуальна", - говорит он.
Внедрение современных методик, разработанных на основе накопленных данных о последствиях заболевания коронавирусом, обсуждали на конференции в подмосковном санатории "Виктория". Он может стать клиническим, то есть там будут внедрять передовые технологии, поясняет Чучалин. Пилотные проекты также могут быть распространены и на другие российские здравницы. Некоторые из внедряемых методик уникальны. Например, ингаляции атомарным водородом. Такую методику применяют сейчас только в Японии, Китае и России. Она помогает преодолеть проблемы, связанные с поражением сосудов. Еще один метод - ингаляции оксидом азота для профилактики тромбообразования, говорит ученый.
Некоторые новые методики постковидной реабилитации в санатории уже внедряют. До и после проведения процедур снимаются показания, данные говорят о высокой эффективности методик восстановления здоровья, рассказывает главврач санатория Василий Найденов.
Интерес к программам постковидной реабилитации растет в арифметической прогрессии, так как любые формы коронавируса дают осложнения, отмечает он. Пациенты ощущают расстройство сна, одышку, быструю утомляемость, страдает опорно-двигательный аппарат.
Программы постковидной реабилитации действуют сейчас во многих санаториях, но данные об их эффективности не публикуются, так что сложно сказать, насколько эти методы соответствуют принципам медицины доказательств, отмечает Чучалин. По его мнению, очень важно международное сотрудничество, так как в этом случае более критично взвешиваются эффективность и безопасность тех или иных методов, поясняет ученый.
Внедрение программ постковидной реабилитации особенно важно для санаториев Центральной полосы, Поволжья, так как южные регионы загружены за счет основного туристического потока. Там спросом пользуются общеоздоровительные программы, особенно летом, отмечает Данилов.
Между тем, по данным туроператоров, в мае и летние месяцы южные курорты России будут испытывать перегруженность туристами. Потому часть россиян переориентируется на другие регионы. Как раз в этом случае привлекательными станут санатории, предлагающие не только отдых, но и лечебные, реабилитационные программы, отмечают представители туриндустрии.
Цена меди превысила-таки отметку в $10000 за тонну
Как сообщает Dow Jones, во второй половине дня 29 апреля цены на медь на LME кратко пробили психологически важную отметку $10000 за т – впервые за десятилетие, выйдя на показатель $10008 за т, но затем быстро отступили к уровню $9851,50 за т на фоне фиксации прибыли инвесторами.
««Вышедшие в стратосферу» цены на медь являются благом для горнопромышленников, которые в настоящее время получают 2 доллара на каждый вложенный в добычу «красного металла доллар», – отметил аналитик по металлорынку CRU Group Роберт Эдвардс. – Несмотря на откат, цены на медь могут продолжить свое ралли».
Историческим ценовым рекордом для меди является уровень $10124 за т, которого металл достиг в феврале 2011 г.
Цветные металлы снова поражают подъемом цен, медь добралась до $9999 за тонну
В среду, 28 апреля, трехмесячный контракт на олово вырос в цене на LME до самого высокого значения с августа 2011 г., подорожав на 5% относительно итогов предыдущей сессии и достигнув отметки $28595 за т на новостях о том, что крупный производитель олова Malaysian Smelting Corp. (MSC) не вернет свои мощности на допандемический уровень до конца 2021 г. Согласно ожиданиям рынка, вследствие проблем с оловоплавильными мощностями у MSC будет потеряно около 5% от совокупного мирового производства олова.
Финишировал металл на отметке $28539 за т (+5,1%), обновив десятилетний максимум. К моменту окончания торгов было продано более 650 лотов олова, что является наибольшим показателем с 1 марта. Спотовая цена на олово на LME обновила максимум 14 марта, достигнув уровня $31055 за т в ходе торгов. Тем временем премии к цене олова выросли до исторического максимума, и рыночные источники ожидают их дальнейшего повышения, учитывая недостаточное предложение и высокий мировой спрос на металл в последние месяцы. Запасы олова на складах LME достигли в среду 855 т – минимального значения с 22 февраля.
Стоимость трехмесячного контракта на никель продолжила рост, выйдя на отметку $17440 за т, финишировав на уровне выше $17000 за т впервые с 3 марта, завершив торги на отметке $17410 за т. «Мы все еще на $3000 ниже многолетнего максимума конца февраля, но ожидаем, что цена никеля выиграет от динамики сектора электротранспорта, так как никель активно используется в аккумуляторах», – отметил аналитик Commerzbank Даниэль Бризман.
Трехмесячный контракт на свинец подорожал в среду на $12,50, до $2102,50 за т.
Форвардная цена на медь выросла на $21 относительно итоговых котировок среды, до $9876 за т, снизившись, однако, относительно максимума текущего года, достигнутого в прошедший вторник.
На утренних торгах четверга стоимость меди в Лондоне практически достигла отметки $10000 за т на фоне ослабления котировок доллара к основным валютам. Трехмесячный контракт на «красный металл» подорожал по состоянию на 10:34 мск на 1%, до $9972 за т, выйдя ранее на ценовой уровень $9999,50 за т. Отметки в $10000 за т цена меди достигала ранее лишь в феврале 2011 г.
«Котировки меди поддерживает слабый доллар и «мягкие» высказывания представителей ФРС США», – комментирует ситуацию сырьевой брокер Marex Spectron Анна Стаблум.
Тем временем стоимость доллара к основным валютам упала до 9-недельного минимума после «расслабляющих» заявлений Федрезерва и на фоне обнародования Белым домом планов активных финансовых трат.
Июньский контракт на медь на ShFE достиг отметки 72960 юаней ($11279,97) за т, что является самым высоким показателем с февраля 2011 г. Финишировал металл на уровне 72380 юаней за т (+1%).
Согласно новому прогнозу Goldman Sachs, средняя цена меди составит в 2021 г. $11875 за т, а в 2022-м – $11875 за т. В 2023 г. банкиры ожидают выхода меди на ценовой рубеж $12000 за т.
На ShFE цена цинка обновила максимум марта 2008 г., достигнув отметки 22,610 тыс. юаней за т. На LME стоимость металла вышла на максимальное значение с июня 2018 г. – $2975,50 за т – на фоне оптимистических рыночных настроений.
Алюминий в Шанхае впервые с февраля 2010 г. подорожал до 19,0 тыс. юаней за т, тогда как в Лондоне котировки цены металла выбрались на 3-летний максимум $2432,5 за т на опасениях ограничений китайского предложения металла в свете общепланетарной борьбы с вредными выбросами в атмосферу.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:32 моск.вр. 29.04.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2420 за т, медь – $9977.5 за т, свинец – $2091.5 за т, никель – $17516 за т, олово – $31330 за т, цинк – $2943.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2425 за т, медь – $9973.5 за т, свинец – $2113.5 за т, никель – $17535 за т, олово – $28740 за т, цинк – $2960 за т;
на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2914.5 за т, медь – $11141.5 за т, свинец – $2348.5 за т, никель – $20290 за т, олово – $29621 за т, цинк – $3435 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2908.5 за т, медь – $11184.5 за т, свинец – $2365.5 за т, никель – $19985 за т, олово – $29658 за т, цинк – $3433.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $9942.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9998 за т.
MEPS: сокращение мировой торговли сталью способствует росту цен
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., традиционные модели мировой торговли сталью были серьезно нарушены за последние двенадцать месяцев. Пандемия Covid-19 снизила спрос и производство в большинстве стран. Это привело к смещению местоположения судов и контейнеров, когда произошло восстановление рынка во второй половине 2020 года.
Расходы на контейнерные перевозки выросли и сейчас находятся на чрезвычайно высоком уровне. Тарифы на оптовые поставки также резко выросли. Несколько клиентов прибегли к транспортировке необходимой стали самолетами, поскольку дефицит на рынке усиливается.
Многие производители стали концентрируются на обслуживании своих местных рынков. В связи с ростом фрахтовых ставок комбинаты несут дополнительные расходы на транспортировку материалов, иногда теряя при этом экспортные объемы. Следовательно, многие продавцы теперь предлагают цены на условиях FOB, а покупатели несут ответственность за организацию и оплату доставки своих заказов.
Связанные с этим риски и затраты делают закупки у зарубежных поставщиков более невыгодными для многих западных клиентов. Компании, расположенные в ЕС, испытывают дополнительную неуверенность в том, что защитные меры Европейской комиссии могут продолжаться и после 30 июня 2021 года.
В частности, в этом месяце существенно выросли предложения экспортных цен из Китая. Неуверенность в отношении возможного сокращения скидки по НДС является основной причиной повышения. Многие участники рынка стали ожидали, что объявление об изменениях в системе скидок будет сделано до 10 апреля. В настоящее время подтверждения корректировки нет. Ожидается, что решение будет принято к концу апреля, а любые сокращения скидок будут применяться с начала мая.
Многие китайские производители стали поспешили экспортировать как можно больше заказов до внесения каких-либо изменений в налоговые ставки. Это увеличило стоимость доставки. Цены на фрахт в последнее время, кажется, немного снижаются. Однако ожидается, что в краткосрочной перспективе они останутся высокими.
Сокращение объемов торговли усугубляет глобальный дефицит предложения и способствует росту цен на сталь во всем мире. Существует возможность дальнейшего снижения объемов индийского экспорта в ближайшие недели и месяцы в результате обострения ситуации с коронавирусом в стране. Следовательно, ожидается, что торговля между Востоком и Западом останется на низком уровне. Поскольку в краткосрочной перспективе не ожидается значительного падения спроса, мировые цены на сталь, вероятно, будут расти и дальше.
Не поймать волну
В России снижается заболеваемость коронавирусом
Текст: Елена Манукиян
Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на международном конгрессе по COVID-19.
Она пояснила, что показатель заболеваемости уже неделю не превышает шесть случаев на 100 тысяч населения в сутки. Пороговый уровень, определенный российскими учеными, составляет семь случаев на 100 тысяч.
Попова обратила внимание, что впереди много праздничных дней, и призвала россиян соблюдать ограничительные меры во избежание новой вспышки. В Роспотребнадзоре уточнили, что сегодня по общему числу зарегистрированных случаев коронавируса Россия занимает 5-е место в мире, по числу заболевших на 100 тысяч населения - 70-е место, по числу смертности на 100 тысяч населения - 60-е.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщило о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться. "О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно - эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", - цитирует сообщение ТАСС.
В ряде стран заболеваемость растет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее сложная ситуация в Южной Америке и Европе. На пороге третьей волны оказалась Германия, где циркулирует британский штамм коронавируса и обсуждается вероятность объявления очередного локдауна, рассказал глава Международного информационного центра здравоохранения доктор Андреас Янсен.
Мутации нового штамма COVID-19, устойчивые к выработанным антителам, обнаружены в Индии, где резко выросло число смертей. Все граждане, которые прилетают в Россию из Индии, исследуются на коронавирус прямо в аэропорту. Тестирование проводится в два этапа: сначала экспресс-методом, а затем биоматериал направляется в лабораторию для проведения ПЦР-диагностики, пояснили в Роспотребнадзоре. "Мы это делаем, чтобы защитить россиян от рисков, которые возникают с каждой вновь обнаруженной мутацией вируса", - сказала Попова.
Она подчеркнула, что продолжаются тестирования россиян на COVID-19, изучаются популяции вируса, все это помогает предотвращать распространение новых штаммов.
Выявлять степень заразности коронавируса и различных его штаммов позволяет новая тест-система, разработанная в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора. Ее диагностическая чувствительность - 100%, а времени на исследование требуется в 4-5 раз меньше. "Это первый в мире тест для количественного определения РНК новой коронавирусной инфекции. Он позволяет определить вирусную нагрузку в тестируемом образце", - уточнил директор института Василий Акимкин. Тест также позволяет прогнозировать течение заболеваемости. Сегодня он используется в больницах, аэропортах, применяется для исследований в очагах инфекции, помогает эффективно выявлять бессимптомных и малосимптомных больных, а врачам - правильно и своевременно назначить лечение для пациентов из группы риска.
Между тем
Если посмотреть на статистику, то никакой третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет. Цифры доступны всем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о публикации агентства Bloomberg по якобы неофициальной статистике правительства о третьей волне коронавируса. "Нет, вы видите цифры, они доступны всем", - опроверг Песков. "Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11.00-11.30 публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы", - заметил пресс-секретарь президента. Ни о какой другой "второй бухгалтерии" речи идти не может, добавил он. Иные утверждения "абсурдны и не соответствуют действительности", подчеркнул Песков.
Подготовила Кира Латухина

Сергей Лавров: не хотим огульно записывать страны в недружественные
Во второй части интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о том, есть ли уже понимание, кто войдет в список недружественных Российской Федерации государств и когда этот документ будет готов, о том, будет ли война в Донбассе, почему Зеленский не может дозвониться Путину и что в Москве готовы обсуждать с нынешним украинским руководством. Он также прокомментировал ситуацию в отношениях с Чехией, очередные обвинения в адрес Петрова и Боширова, объяснил, почему в этой ситуации Запад ведет себя как шпана в подворотне, затронул тему распространения российской вакцины от коронавируса и перспективы отказа России от западных платежных систем и отхода от зависимости от доллара.
— Сергей Викторович, список недружественных государств. Есть уверенность, кто точно туда войдет?
— Сейчас этим занимается правительство по поручению президента. Мы участвуем в этой работе, в ней участвуют также другие соответствующие ведомства. Но я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем.
— Когда этот список можно будет прочитать?
— Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго.
— А недружественным государствам будет запрещено нанимать местный персонал?
— Физических лиц — любых, российских или иностранных.
— Это единственная мера в отношении недружественных государств или будут какие-то другие меры?
— Ну, на данном этапе для целей этого указа, который был подписан президентом Путиным, это — конкретно цель данного мероприятия.
— Спасибо! Другая тема — Донбасс. Напряжение с начала года возрастало. После звонка Байдена Путину, похоже, рассосалось. Моя оценка, которую я высказывал в программе "Вести недели", это то, что военные гарантии США для Украины оказались блефом. Но все же перестрелка не останавливается, используются крупные калибры, запрещенные, и ощущение такое, что этот мир не очень-то отличается от войны, равновесие очень нестабильное. В Донбассе уже более полумиллиона российских паспортов, граждан Российской Федерации. Будет война?
— Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами. Хотя пусть почитают, просто посмотрят наши западные коллеги ход событий с февраля 2014 года. Никто из этих районов на остальную Украину не нападал. Их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то операцию объединенных сил. Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима. Я многократно говорил нашим западным коллегам, которые абсолютно предвзято оценивают происходящее, безоглядно выгораживают действия Киева, я говорил им о том, что есть объективная картина, которую по правую сторону линии соприкосновения регулярно показывают наши журналисты, работающие там практически непрерывно военные корреспонденты.
— В окопах.
— В окопах. Но они постоянно, ежедневно делают репортажи, которые позволяют судить о том, как себя ощущают жители этих территорий, территорий, которые отрезаны экономической блокадой от остальной Украины, территорий, где регулярно гибнут дети, мирные граждане, разрушается гражданская инфраструктура, школы, детские сады. И я поинтересовался — регулярно это делаю — у наших западных коллег, почему же они-то не стимулируют свои средства массовой информации такую же организовать работу по левую сторону от линии соприкосновения, чтобы было понятно, какой там ущерб нанесен, какие объекты страдают прежде всего. Ведь ОБСЕ пару лет назад после наших многомесячных требований опубликовало, наконец, не просто доклад о том, сколько погибло людей, сколько ранено людей, а доклад, который показывал, сколько гражданских объектов и мирных граждан пострадали на территории ополченцев и сколько на территории, контролируемой Киевом. Так вот, эта статистика в пять раз не в пользу Киева и она подтверждает, что в подавляющем большинстве случаев Киев начинает удары по гражданским объектам, а ополчение отвечает по тем точкам, откуда ведется огонь. Мы с тех пор опять-таки стараемся сделать такого рода доклады регулярными. Руководство специальной мониторинговой миссии, да и самой ОБСЕ, как-то очень неуютно себя чувствует в этом вопросе и всячески старается избегать публикаций таких честных данных. Если говорить о последних событиях, когда мы откровенно объявили, что проводим учения Южного и Западного военных округов Российской Федерации, ничего не скрывая, на своей территории провели двухнедельные мероприятия, вы помните, какие крики стояли, что Россия выдвигает войска к границе Украины. Сама терминология: мы говорим: учения Южного и Западного округов, они говорят: Россия развертывает воинские части на границе с Украиной. А потом, когда учения закончились и мы объявили об этом, оттуда стали раздаваться такие злорадные возгласы, с западной стороны: вот, Россия была вынуждена пойти на попятную, Россия отступила. Это, знаете, есть такое выражение — самосбывающееся пророчество, это о другом, это — wishful thinking, выдавать желаемое за действительное. Кстати, примерно из той же оперы, что и ситуация с "семеркой" — когда они каждый раз, встречаясь, говорят: "Мы не будем звать Россию назад в "семерку". Господи, мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмерки" уже не будет, это — вчерашний день, но тем не менее будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, конечно же, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях. Это печально.
Но тема того, что делается с украинским урегулированием, она обсуждалась и Путиным с Меркель, и на днях президент Путин с президентом Макроном разговаривал об этом, затрагивалась она и в ходе недавнего разговора с Байденом. Ситуация, на мой взгляд, очень простая. Те, кто покровительствует Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить Минские договоренности. Они понимают полную бесперспективность ставки на применение силы, они услышали сигналы, которые прозвучали из Донецка, из Луганска, об их готовности отстаивать свою землю, свои очаги, свое население, которое не хочет жить по законам, навязываемым неонацистами. И президент Путин очень четко сказал, что мы никогда не оставим в беде тех, кто живет в Донбассе, тех, кто сопротивляется откровенно радикальному неонацистскому режиму.
И то, что говорит президент Зеленский в различных своих интервью, что никаких проблем нет ни с русским языком, ни с Русской православной церковью на Украине и что он все это готов с президентом Путиным обсуждать, вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует. Я уверен, что он все прекрасно знает. Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире. Но Запад, конечно же, послал сигналы Зеленскому. Вы сказали, что на военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет — ну грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая правительство господина Зеленского.
И попытки, к сожалению, продолжаются со стороны Запада всячески убедить нас, что надо как-то смягчить Минские договоренности, надо как-то поменять их последовательность. Зеленский (говорит. — Прим. ред.) — мне не нравится. Ну если будет только все наоборот: сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий… Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету. А Запад не может или не хочет заставить его выполнить Минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию, которая назначена, выписана с первого шага до последнего.
И контроль над границей — это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее. И конечно, будет полная амнистия, не только как эту амнистию представляли себе при Порошенко и при нынешнем режиме, а именно — что вот мы посмотрим, что те, кто не совершал каких-то особых преступлений, будут амнистированы в индивидуальном порядке. Это очередное искажение. Минские договоренности предполагают полное амнистирование всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон без какого-либо там переходного правосудия, о чем начинают сейчас говорить наши западные коллеги. Поэтому я считаю, что сейчас главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон.
— Многим непонятно, почему Россия не признает Донбасс, а Абхазию и Южную Осетию признали. И даже есть среди журналистов, моих коллег, требование признать Донбасс в конце концов — ДНР и ЛНР. Почему мы этого не делаем?
— Вы правы, что есть, наверное, аналогия с Абхазией и Южной Осетией, за одним исключением — в Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ Медведев — Саркози, который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией. И Саркози после того, как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили. Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы: Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул, и получилось просто, первый пункт — прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности. Ну я это просто как пример.
В случае с Донбассом ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров "нормандского формата" — президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин — они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять. Поэтому сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может.
Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем — как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность.
— Зеленский не может дозвониться Путину — он просто не берет трубку. Кулеба не может дозвониться вам. Что это означает? Почему так?
— Это означает только то, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта. Потому что запросы, которые до недавнего времени поступали и от моего коллеги Дмитрия Кулебы, и от президента Зеленского, касались темы урегулирования в Донбассе. На что мы говорили: дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском.
Там прямо и записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском. А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным — это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной. Если же наши коллеги, включая президента Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы.— Но пока ответа нет? Такого согласия…
— Я слышал, что Зеленский сказал, что он поручил Ермаку, главе своего офиса, договариваться о сроках, месте и городе и что место не важно, потому что каждый день промедления означает, что гибнут люди. Кстати, насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения: Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам — повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня, наконец, по-настоящему состоялось.
Президент Путин, общаясь с президентом Макроном, с канцлером Меркель по телефону за прошедшие пару недель напоминал им о фактах. А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением. Этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение, высшему командованию.
И только потом от этого высшего командования поступит приказ, как действовать: отвечать или все-таки договориться по механизмам, которые создаются для общения между командирами на земле. Так вот, договоренность, как она и предполагала, была воплощена в приказах, изданных Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. Эти приказы были опубликованы, военные приказы. И Киев обязался сделать то же самое, но он этого не сделал. Вместо этого стал играть опять словами и вместо того, чтобы выполнить обязательства о любом обстреле, докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили. В "нормандском формате" это то, чем Дмитрий Козак все эти месяцы занимался в контактах со своими французскими и немецкими коллегами, участвовал тоже Андрей Ермак со стороны Украины.
Я читал запись этих разговоров. Это просто, как у нас говорят, об стену горох — ты им про Фому, они тебе про Ерему. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно.
Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел-то он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный.
— Другая тема — Чехия. Что это вообще было, как это понять?
— Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно. Когда президент Земан говорит: надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов. Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну. Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды.
И надо разбираться с тем, что на этом складе все-таки было. Немецкие СМИ написали, что там были противопехотные мины, которые запрещены конвенцией, под которой подписались в том числе и Чехия с Болгарией. Там много вопросов очень.
— Но, действительно, как могло так получиться, что некий болгарский гражданин, который поставляет вот эти противопехотные мины, а они там были найдены, судя по всему, контролировал склад в Чехии, который не контролировало тогда правительство?
— Получается, так.
— Может быть, тогда чехам стоит начать с себя?
— Наверное, либо надо брать пример с Украины, где тоже огромное количество вооруженных людей и огромное количество вооружений и боеприпасов не контролируется Вооруженными силами Украины, а контролируется добровольными батальонами. Это такая уже тенденция, знаете, когда государство показывает свою несостоятельность в обеспечении в общем-то монополии на применение силы, если хотите.
— Ну, Украина — это одно, а Чехия — это все-таки Европейский союз. Чехия связана совершенно другими обязательствами международными, нежели Украина, и представляет себя совершенно иначе.
— Но прежде всего обязательства, помимо конвенции, которые упоминались, — Оттавская конвенция по запрету противопехотных мин, так называемый Договор о торговле оружием. А они все — члены этого договора, у них еще есть внутри Европейского союза свои нормы, которые достаточно строгие и которые не поощряют и даже запрещают участие в каких-либо действиях, поставках, направлении контингентов в те регионы, где конфликт.
В том, что касается отношений между Россией и Европой, я думаю, как и прежде, активную, очень серьезную подрывную роль играют англичане. Они вышли из Евросоюза, но вот в этом отношении никакого снижения их активности не наблюдается. Наоборот, они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут члены ЕС занимать по отношению к Москве. Здесь ничего удивительного нет. Если даже не идти в глубокую многовековую историю, вот история 2000-х годов нашего нынешнего века. Литвиненко отравлен полонием, судебный процесс начинается по одним лекалам, потом объявляется закрытым, поскольку для вынесения приговора необходимо ознакомление с материалами спецслужб, и вот потом объявляется приговор. Никто этих материалов никогда не видел. Но как бы верьте нам, как Шварценеггер говорил: "Trust me". Но я все-таки больше сторонник Рейгана, который говорил: "Доверяй, но проверяй". Проверять нам не дают, просят только доверять.
Потом, после 2014 года, был малайзийский Boeing — собрали междусобойчик из четырех стран: Голландия, Бельгия, Австралия, Украина. Малайзию, чей самолет, не пригласили, а вчетвером договорились, и это уже стало известно, что любая информация из этого круга может выдаваться только на основе консенсуса. То есть Украина, на чьей территории произошла вот эта катастрофа, получила право вето, а Малайзию позвали только через шесть месяцев. Кстати, черные ящики, которые малайзийцам отдали ополченцы, изучались в Лондоне, и пока я не припомню, чтобы они проинформировали о том, какое содержимое там было обнаружено. Потом были Скрипали, "хайли-лайкли": до сих пор никто не знает, почему они выжили, почему полицейский, который с ними работал, даже никаких симптомов не имел. Почему умерла эта женщина, а ее сожитель никак не заразился. Ну и множество вопросов.
Потом был Навальный, летел в Москву, но в Омске приземлился. Никто на борту не заразился, никто в клинике омской, с кем он там общался. И никто на самолете, который его вез в Германию, — с ним летела и Певчих, и бутылки они эти везли — ничего не знает. И в итоге в клинике "Шарите" тоже ничего не нашли, нашли в клинике бундесвера.
Недавно в связи с нашими этими учениями на юге и на западе госпожа министр обороны ФРГ потребовала от нас транспарентности в том, что мы там делаем, чтобы мы ничего не скрывали. Мы, во-первых, ничего не скрывали, объявили про эти учения, а вот бундесвер, к которому приписана клиника, где обнаружили якобы факт отравления Навального, как раз кое-что скрывает, потому что нам отказали в предоставлении результатов анализов и проб биоматериала.
Потом была долгая история с Организацией по запрещению химического оружия. Они якобы приезжали брать пробы, но информация о том, что ОЗХО участвовала во взятии проб у Навального, очень интересная, которую немцы издали, что при взятии проб присутствовали немецкие специалисты. А то, что специалисты ОЗХО присутствовали, там не сказано. Мы сейчас пытаемся с этим разобраться. Никто ничего не объясняет. Немцы говорят: идите в ОЗХО, ОЗХО говорит: немцы заказали, мы немцам заказ выполнили, идите к немцам. Это круговая порука, мы с этим сталкивались, особенно когда смотрели детективы о первых послевоенных годах у нас, когда банды работали по всей стране. Печально.
Но, возвращаясь к Великобритании, да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию. Недавно их шеф MI-6, службы внешней разведки, сделал заявление о том, что Россия — это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему.
Но, вы знаете, они посылают нам сигналы, кое-какие контакты предлагают устанавливать. То есть сами-то они не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить. Опять же, наверное, стремление иметь монополию на эти контакты и опять доказать, что они выше многих.
— Если говорить об угасании державы, то Великобритания — яркий пример. От империи, над которой не заходило солнце, до островов в Северном море с туманными, скажем, перспективами. Ну а все-таки, если вернуться к Чехии, там же полный разнобой внутри страны по высказываниям о случившемся, там нет общего мнения и вообще ничего не доказано. Дипломаты высланы, и результат уже есть.
— Однозначно. Кстати, дипломатов выслали не из-за этого, как они говорят. Чехи сказали, причем в один день было сделано два объявления, и создалось впечатление, что они это увязали. И сейчас они очень старательно отруливают от этой увязки. Они сказали, что взрывы организовали Петров и Боширов. Вот эти люди, которые вездесущие, там уже и....
— Уже бренд такой..
— И "Титаник" уже на них пытались...
— И собор Парижской Богоматери.
— Да-да-да, в фотошопах. Но в этот же день было объявлено о высылке 18 дипломатов. И у всех, у большинства сложилось впечатление, что это — наказание за взрывы 2014 года. Потом они стали разъяснять, что нет-нет, взрывы сделали Петров и Боширов, мы их будем искать, ордер на арест выпишем, Интерпол и прочее. А вот эти 18… Мы просто, мы, чехи, определили, что это не дипломаты, а разведчики. И мы просто выгоняем их, потому что они оказались представителями такой профессии. Естественно, никаких доказательств, никаких подтверждений противоправной деятельности, хоть одного из этих 18 дипломатов, нам предоставлено не было.
И неслучайно бывший президент Чехии господин Клаус сравнил действия своих соотечественников с тойтерьером, который лает на большую собаку в надежде, что его сильные ребята прикроют, прямо назвав США и Великобританию, кстати сказать. Но иное сравнение — помните, как в детстве хулиганы ходили, когда смеркалось, и видят, если идет мальчик какой-то беззащитный, говорят — дай 15 копеек. А если не давал 15 копеек, то сзади выходила большая шпана уже, ну и там... Вот примерно такая же логика действий. Это печально. И у нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то.
Зачем задавать, это склоки. Кто-то говорит, а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину. Слушайте, это настолько опять шизофреническое, у меня другого слова нет, понимание того, что происходит. Как это можно предположить? Зачем это надо делать? Но маховик запущен. Я очень надеюсь, что наши чешские коллеги все-таки придут в себя, посмотрят на результаты того, что они затеяли. Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий. Мы перебьемся, я вам сразу скажу, у нас есть понимание, как мы будем дальше работать, заискивать ни перед кем не будем, бегать....
— Понимание, как будем дальше работать, с чем?
— В Чехии...
— Именно в Чехии?
— Да. Ну и в других странах. Сейчас же продолжаются такие точечные выпады в наш адрес. И Прибалтика, и Польша, сейчас вот Румыния. Румыны, правда, сказали, я даже удивился, что это никак не связано с позицией Евросоюза. Это вот мы, румыны, мы вот хотим вот этого человека отправить домой. Почему — не сказали.
— Но интересно, что Германия не поддержала чешский психоз.
— Я прочитал заявление Хайко Мааса, министра иностранных дел ФРГ. Я считаю, что это заявление ответственного политика. Не всегда МИД Германии занимал такую взвешенную позицию, дальновидную позицию. Очень часто было множество заявлений, просто огульно поддерживавших несправедливость. В том числе, например, когда были введены на Украине санкции против Оппозиционной платформы "За жизнь", против Медведчука и других его соратников, были введены санкции против своих собственных граждан, МИД Германии высказал свое одобрение, подчеркнув, что это все полностью соответствует принципам ОБСЕ. Абсурд! Но то, что Хайко Маас сказал на днях, я считаю, это ответственное политическое заявление, которое не приглаживает разногласия, не сглаживает эти разногласия, но подчеркивает необходимость нам все-таки вести диалог и искать какие-то общие договоренности, раз мы вместе живем.
— Сергей Викторович, недавно в Китае вы сказали, что нужно искать альтернативу международной платежной системе SWIFT, что Россия готовится к этому. А можно говорить о каких-то конкретных сроках, на какой стадии идет подготовка? Как может выглядеть альтернатива?
— Об этом многие уже говорят и говорили. И все, кто связан с тем, что последние годы, когда Запад ищет, где еще можно ущемить законные интересы России, прямо стали упоминать возможность отключения Российской Федерации от платежной системы SWIFT. Тогда ответственные политики просто обязаны были задуматься над тем, как перестраховаться, и помимо того, что в отношении России такие делались заявления, Соединенные Штаты все больше и больше злоупотребляли ролью доллара в международной валютной системе, использовали зависимость от долларовых расчетов тех стран, которые им неугодны, для того, чтобы ограничивать их конкурентные возможности. В том числе в отношении Китая, в отношении других стран это применялось. И сейчас и Китай, и Россия, и Турция, и многие другие ищут возможности ослабить свою зависимость от доллара, переходя либо в альтернативные валюты, а еще лучше — осуществляя расчеты в национальных валютах. И ответственные финансовые власти, в том числе и в нашей стране, конечно же, думают о том, как не допустить какого-либо ущерба для нашей экономики, для нашей финансовой системы, если какие-то горячие головы все-таки решат отключить Россию от SWIFT.
У нас уже не первый год действует национальная система платежных карт. В ее рамках карта "Мир" функционирует. Карта "Мир" развивает связи со своими коллегами, с компаниями, которые аналогичные карты выпускают в Китае, в Японии. Развиваются связи, кстати сказать, с картой Maestro, которая является международно созданной платежной картой.
Ну и уже конкретно о SWIFT: у нас Центральный банк какое-то время назад внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью, и, я думаю, это необходимо всячески поддерживать, укреплять, чтобы мы ни от кого не зависели.
Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не уходим в изоляцию, мы не уходим в автаркию. Мы хотим быть частью международного сообщества, но частью сообщества, где справедливость и демократичность. Когда мы с Западом обсуждаем проблемы демократии, как только ты им предлагаешь договориться и заявить о том, что демократия должна торжествовать и в международных отношениях, у них как-то энтузиазм пропадает. Вот по внутренним демократическим процессам они — главные учителя. А на международной арене — зачем? Тут сложились порядки, которые Россия и Китай пытаются реализовать. Разговор идет об этом. А Россия и Китай всего только и хотят, что сохранить принципы Устава ООН, в соответствии с которым все равны и все должны договариваться.
Поэтому иметь страховочную сетку нужно в смысле платежных систем и передачи финансовых сообщений. Она у нас создана, надеюсь, что она будет укрепляться и будет гарантировать, что если вдруг, вопреки нашему желанию со всеми сотрудничать, нас будут дискриминировать и будут злоупотреблять нынешним положением Запада в международной экономической и международной валютно-финансовой системе, то в этой ситуации мы не имеем права от кого-то зависеть.
— То есть система, действующая система передачи финансовых сообщений Центробанка — это и есть уже действующий зачаток альтернативы SWIFT?
— Да, она есть. Я не специалист. Я не знаю, насколько она надежна, насколько она обеспечивает полную гарантию. Но база существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и была гарантией от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести.
— Но со своим китайским коллегой Ван И вы создали инициативу по созданию некой традиции стран, которые пострадали от незаконных санкций. В какой степени этот проект продвинулся? И какие страны могли бы туда войти?
— Я не так бы сказал. Мы в ООН давным-давно ведем работу по прекращению практики односторонних нелегитимных санкций, эмбарго, блокад и всего остального. Работа эта ведется уже не одно десятилетие в отношении эмбарго, которое Америка объявила Кубе. Ежегодно эта резолюция собирает более 190 голосов. И только Соединенные Штаты и какое-то маленькое островное государство голосуют против. Но с тех пор как эта практика односторонних санкций стала широко применяться — началось это при Обаме, развилось при Трампе, продолжается и сейчас — ООН, большая группа стран проголосовала за создание поста специального докладчика по вопросам незаконных односторонних санкций и по вопросам их влияния на гражданское население, в том числе на социально-экономическую ситуацию в той или иной стране. Этот докладчик, докладчица, она гражданка Белоруссии, между прочим, она была назначена на этот пост. Этот институт — механизм, созданный Генеральной ассамблеей ООН, работает, распространяются доклады. Я считаю, что это уже очень, очень полезный шаг.
Второе конкретное действо, которое сейчас развивается в Нью-Йорке вот в том русле, о котором вы сказали, против незаконных односторонних действий, — это формирование группы в поддержку Устава ООН. Ничего революционного. Группа в поддержку Устава ООН. Это на фоне того, что западные наши коллеги формируют группы заведомо неуниверсального состава. Сейчас Джо Байден выдвинул идею проведения саммита демократии. Естественно, участников будут набирать сами американцы, которые и будут следить, кто достоин называться демократией, а кто нет. А также за последние годы за рамками универсальных институтов те же наши французские, немецкие коллеги объявили о создании альянса мультилатералистов. По линии этого альянса запускают призывы об обеспечении свободы СМИ. Хотя есть ЮНЕСКО и эта тема обсуждается всеми желающими. А они под эти знамена набрали 30 с небольшим государств. И этот призыв, скажем, в защиту международного гуманитарного права, права универсального. Этим занимается ООН. А они под свои знамена, значит, навербовали где-то 50 государств. И вот такие призывы, которые не имеют никакого отношения к универсальным органам, а имеют отношение к тематике, которая обсуждается на универсальном уровне. Но они подносят эту тематику в рамки, где им удобнее договариваться с теми, кому они послушны, и потом это предъявляют как истинную, последнюю инстанцию. Поэтому вот это движение против нелегитимных односторонних действий — оно гораздо шире, чем только санкции.
— Ну а может это движение быть формализовано в членство?
— А это членство в ООН. В том-то, понимаете, и отличие. Мы не создаем ничего против кого бы то ни было. В Азиатско-Тихоокеанском регионе мы хотим все оставить как есть, когда АСЕАН имеет партнеров, любой желающий приезжает и участвует в дискуссиях по безопасности. Против этого действует логика Запада, внедряется индо-тихоокеанская стратегия, которая объявляет своей задачей сдерживание Китая и которая вообще изолирует Россию. И то же самое в ООН. Они создают различные партнерства по тем темам, которые необходимо обсуждать в рамках повестки дня Организации Объединенных Наций. А мы хотим настоять, что все должны выполнять свои обязательства по уставу и не растаскивать тематику по каким-то своим "квартирам", чтобы потом выдавать это за мнение международного сообщества.
— Сергей Викторович, вот свежая информация. Американцы подтвердили, что принимают усилия в отношении Бразилии, чтобы та отказалась от российской вакцины "Спутник V". И вот Бразилия вынуждена отказаться, несмотря на то, что положение с коронавирусом в Бразилии просто аховое. Как это можно вообще оценить?
— Меня это не удивляет. Американцы не стесняются, что они эту работу ведут. Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов.
В Бразилии сейчас возникло движение протеста против такого лишения. И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать.
Но вспомним — не так давно президент Макрон говорил, что идет новая война, в рамках которой Китай и Россия используют вакцину как оружие и орудие пропаганды. Сейчас это все проходит, отходит на задний план. Уже и Германия всерьез, включая канцлера Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину. Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие небесное, говорил: "Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут".
— Последний вопрос. Год назад в интервью нашему агентству в разгар пандемии вы сказали, что скучаете по спорту. Вернулись?
— Вернулся, да. Я скучал-то там пару недель, у нас был перерыв. Сначала затаились, а потом, когда уже поняли, какие меры предосторожности можно принимать, возобновили и каждое воскресенье.
— Играете?
— Да.
— Спасибо большое, Сергей Викторович.
— Приходите к нам еще.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Генеральному директору МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселеву, Москва, 28 апреля 2021 года
Д.К.Киселев: Отношения с США просто «ни к черту» – таких плохих лично я не припомню. Это даже хуже, чем «холодная война» (это моя оценка). Послы сидят в своих странах. Что будет дальше? Какой вариант развития событий?
С.В.Лавров: Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага – обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США. В ответ мы ограничили работу дипломатов США в России.
Предлагали это Администрации Президента США Дж.Байдена, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Упоминал об этом Госсекретарю США Э.Блинкену. Не навязываясь, просто сказал, что очевидным шагом, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Б.Обама. За несколько недель до ухода с поста Президента он, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов. Потом пошла цепная реакция.
Мы долго терпели. Ждали до лета 2017 г., прежде чем принять ответные меры. Администрация Д.Трампа просила нас не реагировать на «эксцессы» уходящей Администрации Б.Обамы. Но и у команды Д.Трампа не получилось вернуть ситуацию в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить зеркально. Американцы на этом не успокоились.
Видим, что Администрация Дж.Байдена продолжает «скользить» по этой «наклонной плоскости». Хотя в разговоре Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом США Дж.Байденом, который состоялся вскоре после его инаугурации, в моем разговоре с Государственным секретарем США Э.Блинкеном американские визави сказали нам, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого многое станет понятно. Но за этим последовали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а, как многократно предупреждали, асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, работающих в американских дипмиссиях в России. Их количество намного превышает число наших дипломатов в США.
Если говорить о стратегическом видении наших отношений, очень надеюсь, что в Вашингтоне (так же, как и мы) осознают ответственность за стабильность в мире. Существуют не только проблемы России и США, осложняющие жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса, реализацию гуманитарных проектов, но и разногласия, подвергающие серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова.
Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, прозвучавшие в известном интервью Дж.Байдена телеканалу «Эй-Би-Си». Вы знаете также, как Президент России В.В.Путин отреагировал на предложение Президента США Дж.Байдена провести встречу. Мы восприняли его позитивно, но хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которых мы сейчас занимаемся.
Если США прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал Президент России В.В.Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать конструкцию, где все западные страны будут подчинены Соединенным Штатам, и весь западный лагерь будет вербовать «под свои знамена» другие страны на разных континентах против Китая и России, поймут, что в Уставе ООН не зря записаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела и суверенное равенство государств, и просто выполнят свои обязательства, будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден – иначе у нас ничего не получится. Президент России В.В.Путин четко сказал об этом в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам. Будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые мы определяем сами.
Д.К.Киселев: Насколько реалистично ожидать, что они осознают, откажутся от позиции суверена? Ведь надежда – это хорошо, но реальность совсем другая.
С.В.Лавров: Я не высказывал надежды. Я сказал, на каких условиях мы будем готовы разговаривать.
Д.К.Киселев: А если нет?
С.В.Лавров: Если нет, то это их выбор. Значит, мы будем жить в условиях, как Вы сказали, «холодной войны» или еще хуже. Считаю, что в «холодную войну» напряжение было и очень серьезное, не раз возникали существенные рискованные, кризисные ситуации, но было взаимное уважение. По-моему, сейчас оно находится в дефиците.
В высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне даже проскакивают «шизофренические» нотки. Недавно официальный представитель Белого дома Дж.Псаки заявила, что санкции в отношении России будут продолжены, они дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, их целью является снижение напряженности в отношениях между США и Россией. Даже не могу это комментировать. Надеюсь, всем понятно, что подобного рода заявления не делают чести тем, кто продвигает и отстаивает такую политику.
Д.К.Киселев: Мне приходилось слышать мнение, может быть, даже в какой-то степени, в каких-то кругах расхожее, что дипломаты плохо работают, что мы всё упираемся, что наша позиция совсем не гибкая, не эластичная, вот поэтому и отношения плохие.
С.В.Лавров: Это Вы сейчас про круги внутри нашей страны?
Д.К.Киселев: Да, внутри нашей страны.
С.В.Лавров: Да, я тоже читаю эти оценки. Благо, у нас свобода слова, я считаю, существенно более защищена, чем во многих западных странах, включая те же Соединённые Штаты. Я читаю оппозиционные Интернет-ресурсы, газеты и считаю, что, наверное, эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что, «если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает, а вот по каким-то причинам закрыли закупку продовольствия на Западе (причём, не объясняют, что это была ответная мера), прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали».
Вы знаете, это узкий, однобокий взгляд исключительно с позиции благополучия, выбор между телевизором и холодильником. Если уж они считают принципиальным воспринимать ценности Соединённых Штатов, напомню высказывание величайшего, по-моему, Президента США Дж.Кеннеди: «Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Думай о том, что ты можешь сделать для своей страны». Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение.
Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то, что не понимают наш генетический код, они пытаются его всячески подрывать. Потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, в нашей стране не меньшую роль во всём том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю, всегда играло чувство национальной гордости. Если кто-то считает, что для него или для неё, как сейчас корректно говорить, эти ценности не имеют значения, то это их выбор, но я убеждён, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе.
Д.К.Киселев: Рассчитываете ли Вы на встречу с Э.Блинкеном? Когда эта встреча может состояться и состоится ли вообще в обозримой перспективе?
С.В.Лавров: Когда мы говорили по телефону, я его, в соответствии с дипломатическим этикетом, поздравил. Мы обменялись некоторыми оценками ситуации. Беседа была, я считаю, доброжелательной, спокойной, прагматичной. Когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в госдепартаменте, будем готовы возобновлять контакты, естественно, при том понимании, что мы займемся поиском взаимоприемлемых договоренностей по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий и завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами. Американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое сотрудничество, о чем недавно Американо-российская торговая палата нам сообщала. Мы закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно при случае переговорить. Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий, через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике 20-21 мая с.г. планируется министерская встреча Арктического совета. Если американскую делегацию возглавит Госсекретарь Э.Блинкен, я, конечно, буду готов, в случае его заинтересованности, с ним переговорить. Учитывая, что мы на два года заступаем председателем Арктического совета, я уже объявил нашим исландским коллегам, что буду участвовать в этом министерском заседании.
Д.К.Киселев: Есть уверенность в том, кто точно войдёт в список недружественных государств?
С.В.Лавров: Сейчас этим занимается Правительство России по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина. Мы участвуем в этой работе. Также в ней участвуют другие соответствующие ведомства. Я сейчас не стал бы забегать вперёд. Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет «не так» в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наше решение на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести диалог с этой страной иным образом. Если мы придём к выводу, что по-иному не получается, думаю, этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мёртвая» бумага. Она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством.
Д.К.Киселев: А когда этот список можно будет прочитать?
С.В.Лавров: Я думаю, скоро. У Правительства России есть конкретные поручения. Понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго.
Д.К.Киселев: Недружественным государствам будет запрещено нанимать местный персонал?
С.В.Лавров: Будет запрещено нанимать любых физических лиц, российских или иностранных.
Д.К.Киселев: Это единственная мера в отношении недружественных государств или будут какие-то другие?
С.В.Лавров: На данном этапе это конкретная цель, поставленная в указе, подписанном Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.
Д.К.Киселев: Другая тема. Донбасс. Напряжение с начала года возрастало. После звонка Президента США Дж.Байдена Президенту Российской Федерации В.В.Путину, похоже, оно немного спало. В программе «Вести недели» я высказывал оценки о том, что военные гарантии США для Украины оказались блефом. Но всё же перестрелка не останавливается, используются запрещенные крупные калибры. Ощущение такое, что этот мир не очень-то отличается от войны, и равновесие очень нестабильное. В Донбассе уже более полумиллиона граждан Российской Федерации. Будет война?
С.В.Лавров: Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Президента Украины В.А.Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него – это удержаться у власти. Он готов платить любую цену, включая потакания неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами. Пусть наши западные коллеги почитают, посмотрят ход событий с февраля 2014 г.. Никто из этих районов на остальную Украину не нападал. Их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то «операцию объединённых сил», но у них нет никакого желания, мы это знаем твёрдо, вести войну с представителями киевского режима.
Я многократно говорил нашим западным коллегам, которые абсолютно предвзято оценивают происходящее, без оглядки выгораживают действия Киева, о том, что есть объективная картина, которую по правую сторону линии соприкосновения регулярно показывают наши журналисты, работающие там, военные корреспонденты. Они там работают практически беспрерывно, в окопах, но они постоянно, ежедневно делают репортажи, которые позволяют судить о том, как себя ощущают жители этих отрезанных от остальной Украины экономической блокадой территорий, где регулярно гибнут дети, мирные граждане, разрушается гражданская инфраструктура, школы, детские сады. Я поинтересовался у наших западных коллег, почему же они не стимулируют свои СМИ организовать такую же работу по левую сторону от линии соприкосновения, чтобы было понятно, какой там ущерб нанесён, какие объекты страдают прежде всего.
Ведь пару лет назад, после наших многомесячных требований ОБСЕ опубликовала наконец не просто доклад о том, сколько людей погибло, сколько было ранено, а доклад, который показывал, сколько гражданских объектов и мирных граждан пострадали на территории ополченцев, и сколько – на территории, контролируемой Киевом. Так вот эта статистика в 5 раз не в пользу Киева. Она подтверждает, что в подавляющем большинстве случаев Киев начинает удары по гражданским объектам, ополчение отвечает по тем точкам, откуда ведётся огонь. Мы с тех пор стараемся сделать такого рода доклады регулярными. Руководство специальной мониторинговой миссии, да и само ОБСЕ как-то очень неуютно себя чувствуют в этом вопросе и всячески стараются избегать публикации таких честных данных.
Если говорить о последних событиях, когда мы откровенно объявили, что мы проводим учения Южного и Западного округов Российской Федерации, ничего не скрываем, Вы помните, какие крики стояли, что Россия выдвигает войска к границе с Украиной». Вот сама терминология: мы говорим учения Южного и Западного округов; они говорят, что «Россия развёртывает воинские части на границе с Украиной. А потом, когда учения закончились, и мы объявили об этом, начали раздаваться злорадные возгласы с западной стороны, что Россия была вынуждена пойти на попятную, отступила. Есть такое выражение «выдавать желаемое за действительное».
Это примерно из той же оперы, что и ситуация с «семёркой», когда каждый раз встречаясь они говорят, что не будут звать Россию в «семёрку». Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда, этой «восьмёрки» уже не будет, это вчерашний день. Но тем не менее будирование этой темы, как и темы того, что Россия «сдалась», «вернула войска в казармы», конечно же, показывает – Запад хочет из этого извлекать, прежде всего, преимущества для пропагандирования своего решающего слова, места в современных международных отношениях. Это печально.
Тема украинского урегулирования обсуждалась Президентом Российской Федерации В.В.Путиным с Канцлером ФРГ А.Меркель. Также на днях Президент Российской Федерации В.В.Путин разговаривал об этом с Президентом Франции Э.Макроном. Затрагивалась она и в ходе недавнего разговора с Президентом США Дж.Байденом. Ситуация на мой взгляд очень простая. Те, кто покровительствует Президенту Украины В.А.Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить Минские договорённости, хотя они понимают полную бесперспективность ставки на применение силы; они услышали сигналы, прозвучавшие из Донецка и Луганска об их готовности отстаивать свою землю, свои очаги, своё население, которое не хочет жить по законам, навязываемым неонацистами.
Президент Российской Федерации В.В.Путин очень чётко сказал, что мы никогда не оставим в беде тех, кто живёт в Донбассе, тех, кто сопротивляется откровенно радикальному, неонацистскому режиму. Президент Украины В.А.Зеленский в различных своих интервью говорит, что никаких проблем нет ни с русским языком, ни с Украинской православной церковью Московского патриархата, и что он всё это готов с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным обсуждать. Стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем, и у Украинской православной церкви также никаких сложностей на Украине не существует. Я уверен, что он всё прекрасно знает. Может быть ему вообще ни о чём не докладывают, тогда он живёт в каком-то закрытом мире. Но Запад, конечно же, послал сигналы В.А.Зеленскому.
Вы сказали, что на военную помощь Соединённых Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придёт, – грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая правительство г-на Зеленского. К сожалению, со стороны Запада продолжаются попытки всячески убедить нас, что надо смягчить Минские договорённости, поменять их последовательность. Зеленский говорит, что они ему нравятся, но только если будет всё наоборот, что сначала они возьмут под полный контроль эти территории, включая границу с Россией, ну а там разберутся и с выборами, и с амнистией, и с особым статусом этих территорий. Понятно, что если бы они сделали это так, если бы им кто-то позволил сделать так, то там была бы резня по большому счёту. А Запад не может или не хочет заставить его выполнить Минские договорённости строго в последовательности, не подлежащей двоякому толкованию, однозначно выписанному с первого до последнего шага. Контроль над границей — самый последний шаг, когда у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и т.д.
Конечно, будет полная амнистия. Не то, как ее представляли себе при П.А.Порошенко и при нынешнем режиме, а именно: посмотрят, кто не совершал каких-то особых преступлений, и они будут амнистированы в индивидуальном порядке. Это очередное искажение. Минские договорённости предполагают полное амнистирование всех, участвовавших в боевых действиях с обеих сторон, без переходного правосудия, о чем сейчас начинают говорить наши западные коллеги.
Считаю, что сейчас главная ответственность лежит на Западе, потому что только он может заставить Президента Украины В.А.Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался он сам, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с Президентами России, Франции и Канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательства инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и основной закон.
Д.К.Киселев: Многим непонятно, почему Россия не признает Донбасс. Абхазию и Южную Осетию признали. Внутри России есть «лобби», даже среди моих коллег журналистов, требующее признать Донбасс — ДНР и ЛНР. Почему мы этого не делаем?
С.В.Лавров: Вы правы, что есть аналогия с Абхазией и Южной Осетий за одним исключением — в этих странах, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, не были заключены договоренности, аналогичные минскому «Комплексу мер». Там был обсужден документ Д.А.Медведев-Н.Саркози, предполагавший целый ряд шагов. Но он не был подписан Грузией. Президент Франции Н.Саркози после того, как договорился с нами в Москве, полетел в Тбилиси, чтобы обеспечить поддержку документу со стороны Саакашвили. Саакашвили подписал документ, вычеркнув из него ключевые положения. Н.Саркози пытался представить это как компромисс, но это было всем понятно. Бумага начиналась с преамбулы о том, что Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Абхазии, Южной Осетии следующее: прекращение огня. Саакашвили вычеркнул эту шапку, и получилось, что просто первый пункт — прекращение огня и дальше. С тех пор Запад требует от нас выполнять эти договорённости. Это как пример.
В случае с Донбассом ситуация была иная. 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» (Президента Франции Ф.Олланда, Канцлера ФРГ А.Меркель, Президента Украины П.А.Порошенко и Президента России В.В.Путина) дали результат, который был через два дня одобрен в СБ ООН без каких-либо довесков и сомнений, что его нужно выполнять.
Сейчас моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и стороне ополчения. Считаю, что мы не должны «спускать с крючка» г-на Зеленского и всю его команду, а они извиваются, как могут. Чего стоит заявление В.А.Зеленского (когда он уже отчаялся перевернуть Минские договорённости с ног на голову) о том, что они уже не годятся, но нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантии того, что и санкции против России будут сохранены. Спросили у Запада, как они это расценивают. Они стыдливо отводят глаза и ничего не могут сказать. Считаю, что это стыдно, позорно, когда происходит такое издевательство над международно-правовым документом. Запад, являющий соавтором этого документа и поддержавший его в СБ ООН, демонстрирует полную беспомощность.
Д.К.Киселев: Президент Украины В.А.Зеленский не может дозвониться Президенту России В.В.Путину, который не берет трубку. Ваш украинский коллега, Министр иностранных дел Украины Д.И.Кулеба не может дозвониться Вам. Что это означает? Почему так?
С.В.Лавров: Это означает, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договорённости и представить Россию как сторону конфликта.
Запросы, поступавшие до недавнего времени и от моего коллеги Д.И.Кулебы, и от Президента Украины В.А.Зеленского, касались темы урегулирования в Донбассе. На это мы говорили, что это нужно обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договоренностей, с Донецком и Луганском. Там прямо записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласований с Донецком и Луганском. Когда говорят, что «назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, и хотят поговорить с Министром С.В.Лавровым или Президентом В.В.Путиным», то это не к нам. Президент В.В.Путин на встрече с Президентом Белоруссии А.Г.Лукашенко на днях в Кремле очень четко сказал, что если они хотят разговаривать про это, то адрес должен быть иной. Если наши коллеги, включая Президента В.А.Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим. Мы всегда готовы к такому разговору.
Д.К.Киселев: Пока ответа, такого согласия нет?
С.В.Лавров: Слышал, что В.А.Зеленский поручил главе своего офиса А.Б.Ермаку договариваться о сроках. Место не важно, потому что каждый день промедления означает, что гибнут люди.
Кстати, насчет того, что гибнут люди, и что происходит на линии соприкосновения. Киев последние пару недель как-то очень ожесточено стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все его западные покровители стали взывать к нам повлиять на Донбасс, чтобы, наконец, по-настоящему состоялось прекращение огня. Президент В.В.Путин, общаясь с Президентом Франции Э.Макроном и Канцлером ФРГ А.Меркель по телефону за прошедшие пару недель, напоминал им о фактах. А факты таковы: в июле 2020 г. в Контактной группе было достигнуто, наверное, самое серьезное и эффективное соглашение о прекращении огня, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением. Он предполагал целую последовательность действий. Прежде всего, обязательство каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о произошедшем нарушении высшему командованию, и только потом от него поступит приказ, как действовать, — отвечать или все-таки договориться по механизмам, которые создаются для общения между командирами «на земле». Эта договорённость была воплощена, как она и предполагала, в военные приказы, изданные ДНР и ЛНР. Они были опубликованы. Киев обязался сделать то же самое, но этого не сделал. Вместо этого он опять стал играть словами. Вместо того, чтобы выполнить обязательства докладывать о любом обстреле на самый верх и получать приказ оттуда, они стали подменять эту четкую схему мутными формулировками, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в Контактной группе не раз об этом говорили, как и в «нормандском формате». Это то, чем заместитель руководителя Администрации Президента России Д.Н.Козак занимался все эти месяцы в контактах со своими французскими и немецкими коллегами. Глава офиса Президента Украины А.Б.Ермак участвовал со стороны Украины. Читал записи этих разговоров – как у нас говорят, «как об стенку горох». «Ты им про Фому – они тебе про Ерему»: вдруг, видимо, украинское руководство решило, что нужно оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно.
С огромным удовольствием смотрел сериал «Слуга народа», когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но он пошел не по нему. Если бы сейчас В.А.Зеленский пересмотрел сериал и постарался понять убеждения человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что сейчас делает, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда перевоплотился, но контраст разительный.
Д.К.Киселев: Другая тема — Чехия. Что это было? Как это понять?
С.В.Лавров: Не могу об этом рассуждать, потому что интеллектуально не понимаю, что они хотели. Можно смотреть за этим как за не очень изящным сериалом.
В этой истории полно «шизофренических» компонентов. Президент Чехии М.Земан говорит, что надо разобраться, не отрицая возможности того, что это была диверсия со стороны зарубежных агентов, но предлагая учитывать версию, озвученную чешским руководством, включая нынешнего Премьер-министра Чехии А.Бабиша (тогда в 2014 г. Министра финансов Чехии), о том, что это халатное поведение владельцев склада. Президент М.Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за семь лет. Его сейчас обвиняют в измене Родине. Председатель Верхней палаты Парламента М.Выстрчил сказал, что, заявляя о необходимости изучить все версии, Президент М.Земан раскрыл государственную тайну. Разве это не «шизофрения»? По-моему, чистой воды.
Надо разбираться с тем, что было на этом складе. Немецкие СМИ написали, что там были противопехотные мины, запрещенные конвенцией, под которой в том числе подписались Чехия с Болгарией. Много вопросов.
Д.К.Киселев: Действительно, как могло получиться, что некий болгарский гражданин, поставляющий противопехотные мины (судя по всему, они были там найдены), контролировал склад в Чехии, который тогда не контролировало правительство?
С.В.Лавров: Получается так.
Д.К.Киселев: Может быть тогда чехам надо начать с себя?
С.В.Лавров: Наверное. Либо надо брать пример с Украины, где тоже огромное количество вооруженных людей, вооружений, боеприпасов контролируются не вооруженными силами Украины, а «добровольными батальонами». Это тенденция, когда государство доказывает свою несостоятельность в обеспечении, если хотите, монополии на применение силы.
Д.К.Киселев: Украина — это одно, а Чехия — все-таки ЕС. Она связана другими международными обязательствами, нежели Украина, и представляет себя иначе.
С.В.Лавров: Прежде всего, помимо упомянутых конвенций (Оттавская конвенция по запрещению пехотных мин и т.н. Международный договор о торговле оружием – они все его члены), внутри ЕС есть свои достаточно строгие нормы, которые не поощряют и даже запрещают какие-либо действия: поставки, направление контингентов в регионы, где конфликты.
Д.К.Киселев: Как Вы оцениваете т.н. «английские файлы»? Выглядит это как специально организованная информационная операция против России.
С.В.Лавров: Англичане, как и прежде, играют очень активную, серьезную, подрывную роль в том, что касается отношений между Россией и Европой. Они вышли из Евросоюза, но на этом направлении никакого снижения их активности не наблюдается. Наоборот, они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут занимать члены ЕС по отношению к Москве. Ничего удивительного здесь нет.
Можно даже не идти в глубокую многовековую историю. В 2006 г. А.В.Литвиненко был отравлен полонием. Судебный процесс начался по одним «лекалам», затем его объявили закрытым, т.к. для вынесения приговора было необходимо ознакомление с материалами спецслужб, потом объявили приговор. Материалы никто никогда не видел. Как говорил А.Шварцнеггер, «trust me». Я больше сторонник Р.Рейгана: «Доверяй, но проверяй». Проверять нам не дают, просят только доверять.
В 2014 г. был малайзийский «Боинг». Собрали «междусобойчик» из четырех стран: Голландия, Бельгия, Австралия, Украина. Малайзию, чей был самолет, не пригласили. Вчетвером договорились, как стало уже известно, что любая информация из этого круга может выдаваться только на основе консенсуса. Украина, на чьей территории произошла катастрофа, получила право вето, а Малайзию позвали только через шесть месяцев. Черные ящики, которые малайзийцам отдали ополченцы, изучались в Лондоне. Не помню, чтобы они проинформировали о содержимом.
В 2018 г. были Скрипали и «хайли лайкли». До сих пор никто не знает, почему они «выжили», почему полицейский, который с ними работал, не имел никаких симптомов, почему умерла женщина, а ее сожитель никак не заразился. Множество вопросов.
В 2020 г. – А.Навальный. Летел из Томска в Москву, приземлился в Омске. На борту и в омской больнице никто не заразился. На самолете, который его вез в Германию, с ним летела М.Певчих, они везли бутылку – никто ничего не знает. В итоге в клинике «Шарите» ничего не нашли, обнаружили в Бундесвере. Недавно в связи с нашими учениями на Юге и на Западе Министр обороны ФРГ А.Крамп-Карренбауэр потребовала транспарентности в том, что мы там делаем, чтобы ничего не скрывали. Мы-то объявили об учениях, а Бундесвер, которому приписана клиника, где якобы обнаружили факты отравления А.Навального, как раз кое-что скрывает. Нам отказали в предоставлении результатов анализов и проб биоматериалов.
Потом была долгая история с ОЗХО. Организация якобы участвовала во взятии проб у А.Навального. Информация, которую дал Берлин, очень интересная: при взятии проб присутствовали немецкие специалисты, а то, что там были сотрудники ОЗХО, не сказано. Мы сейчас пытаемся с этим разобраться. Никто ничего не объясняет. Германия отправляет нас в ОЗХО, а в ОЗХО говорят, что заказали немцы, обращаться надо к ним. Круговая порука. Мы с этим сталкивались при просмотре детективов: в послевоенные годы, когда банды работали по всей стране. Печально.
Возвращаясь к Великобритании. Видим, как Лондон продолжает антироссийскую линию. Недавно глава Службы внешней разведки МИ-6 Р.Мур заявил, что Россия – «угасающая» держава, за которой надо приглядывать, т.к. в таком состоянии она «может делать резкие движения». Это врожденное высокомерие, убежденность в том, что ты по-прежнему правишь миром. Они посылают нам «сигналы», предлагают устанавливать какие-то связи, т.е. сами не чураются общением, но других пытаются от этого отвадить. Наверное, это стремление иметь монополию на контакты и опять доказать, что они выше многих.
Д.К.Киселев: Если говорить об угасании державы, то Великобритания – яркий пример угасания империи, над которой не заходило солнце, островок в Северном море с туманными перспективами. Если вернуться к Чехии, там полный разнобой внутри страны по высказываниям о случившемся. Нет общего мнения, ничего не доказано, а дипломаты высланы, результат уже есть.
С.В.Лавров: Как они говорят, дипломатов выслали не из-за этого. Было сделано два объявления в один день. Создалось впечатление, что они увязаны. Сейчас Прага очень старательно «отруливает» от этой увязки. Сказали, что взрывы организовали Петров и Боширов – вездесущие люди. Уже и Титаник пытаются на них списать. В этот же день было объявлено о высылке 18 дипломатов. У большинства сложилось впечатление, что это «наказание» за взрывы 2014 г.. Потом Чехия стала разъяснять, что будут искать Петрова и Боширова, выпишут ордер на арест и т.д.. Насчет 18 дипломатов просто определили, что это разведчики. Выгоняют их, потому что они якобы оказались представителями такой профессии. Никаких доказательств, подтверждений противоправной деятельности хоть одного из 18 нам не предоставили. Неслучайно бывший президент Чехии В.Клаус сравнил действия соотечественников с той-терьером, который лает на большую собаку в надежде, что «сильные ребята» его прикроют (прямо назвав США и Великобританию). Помните, как в детстве ходили хулиганы, а когда смеркалось требовали у мальчика 15 копеек. Если он не давал, выходила «большая шпана». Здесь примерно такая же логика действий. Печально.
У нас никогда не было желания строить козни чешским коллегам. Зачем взрывать эти склады? Кто-то говорит: русские разозлились, что этот болгарин собирался поставлять боеприпасы на Украину. Это настолько «шизофреническое» понимание происходящего. Как это можно предположить? Маховик запущен. Надеюсь, наши чешские коллеги все-таки придут в себя, посмотрят на результаты того, что они затеяли. Если разум возобладает, готовы, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий. Сразу скажу, мы «перебьемся». У нас есть понимание, как будем дальше работать. Заискивать ни перед кем не будем.
Д.К.Киселев: Понимание, как дальше работать с чем?
С.В.Лавров: Как работать в Чехии и в других странах. Продолжаются точечные «выпады» в наш адрес: Прибалтика, Польша, теперь Румыния. Правда, Бухарест сказал, что это никак не связано с позицией ЕС. Я даже удивился. Якобы они просто хотят «отправить» этого человека. Почему? Не сказали.
Д.К.Киселев: Интересно, что Германия не поддержала Чехию.
С.В.Лавров: Я прочитал заявление Министра иностранных дел ФРГ Х.Мааса. Считаю, что это речь ответственного политика. Не всегда МИД ФРГ занимал такую взвешенную, дальновидную позицию. Было множество заявлений, огульно поддерживающих несправедливость. Например, когда Украина ввела санкции против партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», В.Медведчука и других его соратников – против собственных граждан. МИД Германии высказал одобрение, подчеркнув, что это полностью соответствует принципам ОБСЕ. Абсурд.
То, что сказал на днях Х.Маас, это ответственное политическое заявление, которое не сглаживает разногласия, но подчеркивает необходимость все-таки вести диалог и искать общие договоренности, раз мы вместе живем.
Д.К.Киселев: Недавно в Китае Вы сказали, что нужно искать альтернативу международной платежной системе СВИФТ, и Россия к этому готовится. Можно ли говорить о конкретных сроках, на какой стадии подготовка?
С.В.Лавров: Об этом уже многие говорили. Это связано с тем, что в последние годы Запад ищет, где еще можно ущемить законные интересы России, там стали прямо упоминать возможность отключения нашей страны от платежной системы свифт. Тогда ответственные политики были просто обязаны задуматься над тем, как перестраховаться.
Помимо этих заявлений, США все больше злоупотребляют ролью доллара в международной валютной системе, используют зависимость неугодных им стран от долларовых расчетов, чтобы ограничивать их конкурентные возможности, в том числе в отношении КНР и других государств. Сейчас Китай, Россия, Турция ищут возможности ослабить свою зависимость от доллара, переходя в альтернативные валюты, а еще лучше – осуществляя расчеты в национальных валютах. Ответственные структуры, в том числе и в нашей стране, думают, как не допустить ущерба для экономики и финансовой системы, если какие-то «горячие головы» все-таки решат отключить нас от свифт. В России уже не первый год действует национальная система платежных карт, в ее рамках функционирует карта «МИР». Она уже развивает связи со своими коллегами – аналогичные карты выпускают в Китае, Японии. Развиваются связи с международно созданной платежной картой «Маэстро».
Конкретно о свифт. Центральный банк России какое-то время назад внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью. Думаю, необходимо это всячески поддерживать и укреплять, чтобы мы ни от кого не зависели. Подчеркну, мы не уходим в изоляцию – хотим быть частью международного сообщества. Частью сообщества, где существует справедливость и демократичность. Обсуждали с Западом проблемы демократии. Как только им предлагают договориться, заявить, что демократия должна торжествовать и в международных отношениях, у них энтузиазм пропадает. По внутренним демократическим процессам они главные учителя, а на международной арене – зачем? Тут якобы сложились «порядки», которые «Россия и Китай пытаются реализовать» (разговор об этом). А на самом деле Москва и Пекин хотят только сохранить принципы Устава ООН, в соответствии с которым все равны и должны договариваться.
Нужно иметь «страховочную сетку» в смысле платежных систем и передачи финансовых сообщений. Она создана. Надеюсь, будет укрепляться и гарантировать, что если вдруг, вопреки нашему желанию со всеми сотрудничать, нас будут дискриминировать и злоупотреблять нынешним положением Запада в международной экономической и валютно-финансовой системах, то в этой ситуации мы не имеем права от кого-то зависеть.
Д.К.Киселев: То есть действующая система передачи финансовых сообщений Центрального банка – это и есть уже зачаток альтернативы СВИФТ?
С.В.Лавров: Я не специалист. Не знаю, насколько она надежно и эффективно обеспечивает полную гарантию. Но база существует. Убежден, что Правительство и Центральный банк должны делать все, чтобы она была надежной и гарантирующей нам полную независимость и защиту от ущерба, который нам кто-то может постараться дополнительно нанести.
Д.К.Киселев: В разговоре со своим китайским коллегой Ван И Вы высказали инициативу о создании некой коалиции стран, пострадавших от незаконных санкций. В какой степени этот проект продвинулся? Какие страны могли бы туда войти?
С.В.Лавров: Я бы сказал не так. Мы давным-давно ведем работу в ООН по прекращению практики односторонних нелегитимных санкций – эмбарго, блокад и всего остального. Уже не одно десятилетие эта работа ведется в отношении эмбарго, которое США объявили Кубе. Ежегодно эта резолюция собирает более 190 голосов, и только США и одно маленькое островное государство голосуют против.
Но с тех пор, как практика односторонних рестрикций стала широко применяться (это началось при Б.Обаме, развилось при Д.Трампе, продолжается и сейчас), большая группа стран в ООН проголосовала за создание поста Спецдокладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на обеспечение прав человека и их влияния на гражданское население, социально-экономическую ситуацию в той или иной стране. Спецдокладчица А.Духан – гражданка Белоруссии. Этот институт, созданный Генеральной Ассамблеей ООН, работает, распространяются доклады. Считаю, что это очень полезный шаг.
Второе конкретное «действо», развивающееся сейчас в Нью-Йорке в том же русле, о котором Вы сказали, против незаконных односторонних мер – это формирование группы в поддержку Устава ООН. Ничего революционного. Это на фоне того, что наши западные коллеги формируют группы заведомо неуниверсального состава.
Президент США Дж.Байден выдвинул идею проведения саммита демократии. Естественно, участников будут набирать сами американцы и судить, кто достоин называться «демократией», а кто – нет.
Также за последние годы за рамками универсальных институтов наши французские, немецкие коллеги, объявив о создании Альянса мультилатералистов, запускают по его линии призывы об обеспечении свободы СМИ. Хотя есть ЮНЕСКО, где эта тема обсуждается всеми желающими. А они «под эти знамена» набрали более тридцати государств.
Или, скажем, призыв в защиту международного гуманитарного права. Право универсально. Этим занимаются органы ООН. А они «навербовали» около 50 государств.
Такие призывы не имеют никакого отношения к универсальным органам, а лишь к тематике, которая обсуждается на универсальном уровне. Но они выносят эту тематику в рамки, где им удобнее договариваться с теми, кто им послушен, а потом предъявляют это как истину в последней инстанции.
Это движение против нелегитимных односторонних действий намного шире, чем только санкции.
Д.К.Киселев: Может ли это движение быть формализовано членством?
С.В.Лавров: Это членство в ООН. В том-то и отличие: мы не создаем ничего против кого бы то ни было. В Азиатско-Тихоокеанском регионе мы хотим все оставить как есть. АСЕАН имеет партнеров, любой желающий приезжает и участвует в дискуссиях по безопасности. Против этого действует логика Запада. Внедряется Индо-Тихоокеанская стратегия, объявляющая своей задачей сдерживание Китая и изолирующая Россию.
То же самое в ООН. Они создают различные партнерства по темам, которые необходимо обсуждать в рамках повестки дня Всемирной организации. А мы хотим настоять, что все должны выполнять свои обязательства по Уставу ООН, не растаскивать тематику по своим «квартирам», чтобы потом выдавать это за мнение международного сообщества.
Д.К.Киселев: Свежая информация: американцы подтвердили, что предпринимали усилия в отношении Бразилии, чтобы эта страна отказалась от российской вакцины «Спутник V». И Бразилия отказалась, несмотря на то, что положение с коронавирусом там просто «аховое». Как это можно оценить?
С.В.Лавров: Меня это не удивляет. Американцы не стесняются, что ведут эту работу, не скрывают этого.
Когда бывший Госсекретарь США М.Помпео ездил по Африке, он громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не торговать с Россией и Китаем, потому что эти страны «преследуют эгоистические цели». А США торгует с африканскими государствами исключительно «во благо их народов».
Если говорить про вакцины, в Бразилии сейчас возникло движение протеста против такого решения. Если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено, и уже не стесняются публично диктовать свою волю.
Не так давно Президент Франции Э.Макрон говорил, что идет новая война, в рамках которой Россия и Китай используют вакцины как оружие и орудие пропаганды. Сейчас все это отходит на задний план. В Германии, включая Канцлера ФРГ А.Меркель, уже всерьез говорят о том, что можно использовать российскую вакцину.
Мы никого не будем заставлять ничего делать. Думаю, жизнь сама все расставит на свои места. В.С.Высоцкий говорил: «Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами покажут».
Д.К.Киселев: Год назад в интервью нашему агентству в разгар пандемии Вы сказали, что скучаете по футболу. Вернулись в спорт?
С.В.Лавров: Да, вернулся. Я скучал пару недель. У нас был перерыв, мы «затаились». А потом, когда поняли, какие меры предосторожности можно принимать, возобновили игры. Играем каждое воскресенье.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Эбрардом по итогам переговоров, Москва, 28 апреля 2021 года
Уважаемые дамы и господа,
Провели доверительные и конструктивные переговоры с моим коллегой Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Эбрардом.
Высказались в пользу дальнейшего раскрытия существенного, богатого потенциала российско-мексиканского партнерства в самых разных областях. Договорились наращивать динамику политических контактов. Наши президенты регулярно общаются по телефону. По мере нормализации эпидемиологической обстановки будет возможность планировать возобновление уже очных встреч на высшем и высоком уровне.
Российское Правительство получило приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Мексике в сентябре 2021 г., приуроченных к празднованию 200-летия независимости и ряда других годовщин, включая 700-летие столицы Мексики – Мехико-Сити. Прорабатываем формы нашего участия. Обязательно внесем свой вклад в проведение этих торжеств и обеспечим достойное представительство российской стороны.
Говорили о взаимодействии в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемиологической безопасности. Мексика – первое и пока единственное государство на североамериканском континенте, зарегистрировавшее российскую вакцину «Спутник V». У г-на Министра и его делегации запланированы встречи в РФПИ, где уже состоялись контакты. Еще сегодня будут встречи в НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи. У нас единая позиция в том, что регулярные поставки в Мексику данного препарата в соответствии с подписанным контрактом будут бесперебойно продолжены.
Договорились о дополнительных шагах в целях углубления торгово-экономических связей. Особую роль отводим скорейшему возобновлению деятельности Межправительственной Российско-Мексиканской смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству. Соответствующие ведомства работают над тем, чтобы провести шестое заседание Комиссии в ближайшие месяцы.
Исходим из того, что наращиванию взаимных инвестиций будет способствовать более активное участие мексиканских предпринимателей в международных экономических форумах, проводимых в России. В первую очередь таким ближайшим событием будет Петербургский международный экономический форум, который в этом году пройдет 2-5 июня. Ожидаем на этом мероприятии представительную мексиканскую делегацию. Высоко ценим усилия Комитета предпринимателей Россия-Мексика, созданного при Торгово-промышленной палате России.
Рассмотрели состояние договорно-правовой базы. Договорились ускорить согласование ряда двусторонних документов, имеющих важное практическое значение: соглашение о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства, об учреждении Российского центра науки и культуры в Мехико и о взаимном признании документов об образовании. Затронули также вопрос, который обсуждали и в прошлом, о том, что установление на взаимной основе безвизового режима для поездок граждан наших стран, как это сделало большинство государств Латинской Америки и Карибского бассейна, способствовало бы ведению бизнеса, увеличению культурно-гуманитарных, образовательных обменов и расширению взаимных туристических потоков.
В очередной раз выразили признательность мексиканским партнерам за тесное сотрудничество по обеспечению достойных условий деятельности наших дипломатических представительств в Мексике. Отвечаем взаимностью нашим коллегам на территории России. Признательны за согласование кандидатуры на пост почетного консула России в г.Пуэбла, а также за поддержку учреждения такого же поста в г.Мерида. Сотрудничество по линии почетных консулов особенно важно в ситуации пандемии и необходимости откликаться на нужды граждан России в Мексике и граждан Мексики в России.
Еще раз поблагодарили наших друзей за содействие при организации «вывозных» авиарейсов в прошлом году для возвращения в Россию наших граждан, оказавшихся в регионе Мексики в разгар пандемии.
Подчеркнули нашу заинтересованность в дальнейшем наращивании работы Смешанной комиссии по сотрудничеству в области культуры, образования и спорта. В рамках этой структуры готовится очередная программа взаимодействия на ближайшие три года.
В начале нынешнего года был подписан еще один документ в гуманитарной сфере – меморандум о сотрудничестве в области кинематографии. Удовлетворены тем, что на плановой основе осуществляется взаимодействие между городами Москва и Мехико.
Приветствуем традиционно высокий интерес мексиканской молодежи к обучению в российских университетах, в том числе медицинских. По обращению наших партнеров на ближайший учебный год, открывающийся в сентябре, выделили дополнительно 10 стипендий для обучения по специальности «пульмонология».
Мексика – наш важный партнер в международных и региональных делах. Высоко ценим взаимодействие двух стран в Совете Безопасности ООН, Совете ООН по правам человека, ЭКОСОС, в рамках «Группы двадцати» и АТЭС. Мы, как и наши мексиканские партнеры, являемся последовательными сторонниками укрепления правовых, демократических начал в международных делах, выступаем за безусловное соблюдение принципов Устава ООН.
В целях совершенствования координации между внешнеполитическими ведомствами только что подписали План межмидовских консультаций на 2021-2024 годы.
Приветствуем усилия Мексики по продвижению интеграционных процессов на латиноамериканском континенте, в том числе в качестве нынешнего председателя Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Рассматриваем диалог в формате Россия-СЕЛАК, который сейчас временно был «подвешен», как важную составляющую внешнеполитического курса, отражающую наше стремление содействовать формированию единой, политически и экономически устойчивой Латинской Америки в качестве важной опоры формирующегося многополярного миропорядка. Господин Министр подтвердил заинтересованность в возобновлении регулярных встреч на уровне министров между Россией и тройкой СЕЛАК.
Хотел бы подчеркнуть, что визит господина Министра проходит в канун Дня Победы. Помним (и сегодня сказали об этом нашим друзьям) вклад Мексики в это достижение человечества – победу над фашизмом. Упомяну лишь о том, что мексиканская военно-воздушная эскадрилья «Ацтекские орлы» сражалась на тихоокеанском фронте против милитаристской Японии. Мексиканские граждане, братья Виво, пережили блокаду Ленинграда. Один из них погиб во время состоявшихся в то время боев и похоронен недалеко от Санкт-Петербурга. Второй – успешно завершил войну, в том числе участвовал в партизанском движении, вернулся на Родину и прожил хорошую, долгую жизнь. Его нет среди нас, но мы будем помнить эту яркую страницу вклада мексиканских друзей в победу над нашим общим врагом. В течение всей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Мексике проходили многочисленные кампании по сбору средств, зерна, хлопка в помощь Красной Армии и советскому народу. Мы никогда этого не забудем, как не забудем и митинги солидарности с нашей борьбой, которые проходили в те годы, включая призывы к скорейшему открытию второго фронта.
Считаю, что мы провели хорошие переговоры. Рад, что мой коллега и друг смог воспользоваться моим приглашением. В свою очередь, я и мои коллеги сможем ответить взаимностью на гостеприимство, оказанное нашей делегации во время визита в Мексику в феврале 2020 года.
Спасибо.
Вопрос: В СМИ появилась информация о том, что в список недружественных государств России якобы войдут Польша, Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Также говорится, что есть вероятность включения в него Великобритании, Канады, Украины и Австралии. Можете ли Вы подтвердить достоверность такого списка? Когда можно ожидать его публикацию?
С.В.Лавров: Уже комментировал на днях этот вопрос. По поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина, в соответствии с его указом, Правительство занимается составлением такого перечня.
Как Вы помните, причиной для этого нашего шага послужили неадекватные действия некоторых наших партнеров в отношении деятельности российских дипломатических учреждений на их территории.
Привлекли внимание к тому, что если кто-то хочет устанавливать паритет, то он будет распространяться и на деятельность по найму в нашем государстве граждан России (физических лиц), а также граждан третьих стран, поскольку в этом компоненте какой-либо паритет отсутствует полностью – у нас такой практики нет.
Если брать США, то какое-то время назад (это было в конце 2019 г. во время моего визита в Вашингтон), дождавшись завершения переговоров, чтобы уже нельзя было ничего сделать, нас проинформировали, что в ближайшее время Соединенные Штаты введут новую практику в отношении работы российских дипломатов на американской территории. В соответствии с ней предельный срок пребывания наших дипломатов будет три года. На вопросы «почему?» и «как это соотносится с обязательствами США по Венским конвенциям о дипломатических сношениях» нам сказали, что «Венские конвенции – сами по себе, а у них – американцев – такая практика: их дипломаты служат за границей около трех лет», поэтому и мы будем делать то же самое. Мы давно их предупреждали, что тогда тоже будем переносить свою практику на отношения между нашими странами в области деятельности дипломатических миссий.
Наша практика почти не предполагает найма какого-либо персонала из граждан тех стран, где расположены российские дипломатические учреждения. Мы тоже имеем полное право перенести эту практику на те правила, которые регулируют работу американских посольства и генконсульств в Российской Федерации.
Подчеркну еще раз, что список формируется. Я бы не стал забегать вперед. Это недолгое дело. Скоро он появится, и вы все узнаете.
Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать сегодняшнее заявление болгарской прокуратуры о том, что в Софии подозревают российских граждан в организации в 2011-2020 гг. взрывов на оружейных заводах Болгарии, где хранилась продукция, принадлежавшая торговцу оружием Э.Гебреву.
С.В.Лавров: Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но, судя по всему, к этому идет.
Что касается заявлений болгарской стороны, что российских граждан подозревают в организации каких-то взрывов на оружейных заводах, где хранилась продукция, принадлежавшая торговцу оружием Э.Гебреву, за период с 2011 г., то сама эта временная рамка – последние десять лет – вызывает вопросы. Либо болгарская сторона ничего не ведала и только вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились про события 2014 г., решила «перещеголять» чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу, либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности.
Могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией в Чехии и Болгарии, связанной с тем, что к торговле и хранению оружия, боеприпасов имеют отношение частные предприниматели. Евросоюз должен ответить на вопрос, который мы задали. Он заключается в том, насколько ЕС контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием. Тем более, что материалов в западной прессе предостаточно.
Заявлялось, что никаких противопехотных мин на складах в Чехии не хранилось, там были «всего-навсего» оболочки, корпуса для противопехотных мин. Но в СМИ упоминается, что было несколько случаев, когда Э.Гебрев экспортировал эти корпуса противопехотных мин в какую-то страну, где они оперативно получали необходимую «начинку». Здесь возможны самые разные комбинации. Зная, насколько изворотливы люди, торгующие оружием в нарушение законов и международных конвенций, я бы все-таки еще раз обратил внимание Евросоюза на то, что информация, которая сейчас доступна в медиа, должна быть воспринята серьезно. ЕС не помешает объяснить международному сообществу, как все это сочетается с международными конвенциями и договорами, которые члены Евросоюза дружно подписали.
Иран и Россия активизируют консультации в связи с началом ядерных переговоров
Российская Федерация сыграла конструктивную роль в ядерных переговорах, приведших к подписанию ядерной сделки с Ираном 2015 года. Даже после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки, Россия продолжала играть эту роль.
Россия подписала ядерную сделку, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), вместе с другими оставшимися подписавшими сторонами, такими как Китай, Франция, Германия, Иран и Великобритания. Соединенные Штаты также были стороной в сделке, но 8 мая 2018 года вышли из СВПД, наложив далеко идущие санкции против Ирана, пишет Tehran Times.
Россия открыла путь Ирану и Западу для реализации ядерной сделки. Например, именно Россия способствовала вывозу обогащенного урана Ирана за пределы страны. В декабре 2015 года Иран объявил, что он успешно перевез 11 тонн обогащенного урана в Россию, и этот шаг помог Ирану реализовать СВПД.
После ухода Трампа ядерная сделка оказалась на грани полного краха, поскольку Соединенные Штаты лишили Иран экономических выгод, обещанных в ядерной сделке. Россия, как ответственная сторона СВПД, недвусмысленно осудила несоблюдение США СВПД и в какой-то момент даже попыталась уменьшить напряженность между Тегераном и Вашингтоном, когда три европейских государства, подписавших СВПД - Франция, Германия и Великобритания вежливо делали политические заявления, призывая США прекратить усилия, направленные на то, чтобы сорвать ядерную сделку.
Усилия России по спасению СВПД были предприняты, несмотря на то, что президент России Владимир Путин 15 мая 2019 года четко сказал, что он больше не желает играть роль пожарного в тушении пожара, который американцы зажгли при выходе из СВПД.
«Мы сожалеем, что сделка разваливается… После подписания соглашения Иран был и остается самой проверяемой и прозрачной страной в мире в этом смысле… Иран выполняет все свои обязательства… Россия - не пожарная команда. Мы не можем спасти все, что полностью от нас не зависит. Мы сыграли свою роль», - сказал тогда Путин.
Год спустя казалось, что Путин берет на себя новую роль в предотвращении полного срыва сделки после того, как 21 июля он получил «важное послание» от президента Ирана Хасана Рухани. Сообщение было передано министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. В конце своего визита Зариф написал в Твиттере, что «передал важное послание президенту Путину» и провел «обстоятельные переговоры» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и глобальной координации. По словам Зарифа, Иран и Россия придерживаются «одинаковых взглядов» на ядерную сделку.
Через два дня после визита Зарифа президент Путин и его американский коллега, тогдашний президент Трамп, «тщательно» обсудили несколько «вопросов стратегической стабильности», включая ядерную программу Ирана, в телефонном разговоре. «Была затронута ситуация с иранской ядерной программой. Обе стороны подчеркнули необходимость коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», - говорилось в заявлении Кремля после звонка, который постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов охарактеризовал как "Очень обнадеживающий".
Тем временем Россия решительно поддержала Иран во время его столкновения с администрацией Трампа из-за истечения срока действия эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, которое предыдущая администрация США старалась продлить, но не сделала этого.
Россия продолжала защищать СВПД после прихода к власти Джо Байдена. Российские официальные лица подчеркнули провал кампании так называемого «максимального давления», развернутой администрацией Трампа против Ирана.
«Почему почти все страны поддерживают восстановление СВПД? Потому что это ключевой элемент международной архитектуры нераспространения. Сделка, в случае ее возобновления, может предоставить надежные гарантии мирного характера иранской ядерной программы посредством пристальной проверки со стороны МАГАТЭ», - написал Ульянов на прошлой неделе в Твиттере.
Он добавил: «Некоторые люди выступают против восстановления СВПД. Но есть ли реальная альтернатива? Нет. Политика максимального давления полностью провалилась и просто подтолкнула иранскую ядерную программу к развитию сверх параметров 2015 года. Это факт. Кто-нибудь хочет, чтобы эта тенденция продолжалась?»
Выявление провала экономического давления США было замечательной позицией, с которой Россия оказала дипломатическое давление на Вашингтон, чтобы побудить к пересмотру политики в отношении Ирана.
«Некоторые люди не могут извлечь уроки из ошибок прошлого. Нужны ли нам дополнительные доказательства для признания полного провала политики максимального давления? Реализовались ли «12 пунктов Помпео»? Аргументы противников СВПД нельзя воспринимать всерьез», - написал Ульянов в Twitter в середине марта.
Теперь, когда Иран и P4 + 1 возобновили переговоры по ядерной программе, Россия также пытается положительно повлиять на переговоры. Иран оценил эту роль, активизировав консультации с русскими. Во вторник, главный иранский переговорщик по ядерным вопросам Сейед Аббас Арагчи провел трехстороннюю встречу с российскими и китайскими посланниками на переговорах. Встреча была проведена за несколько часов до следующего заседания Совместной комиссии СВПД, что свидетельствует о важности, которую Иран придает консультациям с русскими и китайцами.
Ульянов, представлявший Россию на трехсторонней встрече, назвал ее «очень плодотворной».
«Мы сверили записи и обменялись мнениями о дальнейших действиях по восстановлению ядерной сделки. Это была очень плодотворная встреча», - написал он в Твиттере во вторник.
С другой стороны, Арагчи подчеркнул общие взгляды Ирана, России и Китая на ядерные переговоры.
«Главы делегаций Исламской Республики Иран, России и Китая подчеркнули общую позицию трех делегаций и необходимость продолжения консультаций и серьезной координации между тремя странами на этих переговорах», - говорится в заявлении иранского переговорщика по ядерной программе после трехсторонней встречи.
Ученые предложили новый способ изучения "скелета" живых клеток
Новый метод микроскопии, позволяющий исследовать живые клетки в нанометровом разрешении, не нанося им урона, предложили ученые Национального Исследовательского Технологического Университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"). Метод, по словам авторов, будет полезен при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanoscale.
Определенный уровень жесткости клеток крайне важен для здоровья организма – особенно это касается цитоскелета, то есть клеточного каркаса, обеспечивающего адаптацию клетки к среде. От его свойств напрямую зависит, например, качество работы сердечно-сосудистой системы. Нарушения свойств цитоскелета, по словам специалистов, приводят к раку, сердечной недостаточности и другим заболеваниям.
Жесткость клеток сегодня, как правило, измеряют методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Проблема этого подхода в том, что при сканировании происходит серьезная деформация и изменение свойств живых клеток, приводящая к их гибели, что не позволяет получит данные нужной точности, объяснили ученые НИТУ "МИСиС".
Специалисты университета усовершенствовали методику АСМ, совместив ее с другим методом – сканирующей ион-проводящей микроскопией. Этот подход, созданный при участии российских ученых и ранее применявшийся только для визуализации поверхностей, впервые был использован для измерения жесткости клеток.
"В основе ион-проводящей микроскопии – бесконтактное сканирование с помощью особой нанопипетки, через которую проходит поток ионов хлора. По изменению ионного тока отслеживается позиция нанопипетки. Данная методика позволяет с большой точностью "ощупать" локальную структуру клетки", – рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Биофизики НИТУ "МИСиС" Петр Горелкин.
Нанопипетка, как объяснили ученые, в ходе сканирования приближается к поверхности достаточно близко, чтобы силы Ван-дер-Ваальса начинали действовать на проходящие через ее отверстие ионы, увеличивая или уменьшая их поток. Метод, по словам создателей, будет полезен для детального изучения движений клетки и клеточного деления.
"Развитие этого уникального подхода позволит намного лучше изучить функционирование клеточного цитоскелета, что сильно продвинет вперед исследования сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера и Паркинсона", – отметил Петр Горелкин.
В исследовании также принимали участие специалисты из Великобритании и Японии. В дальнейшем ученые намерены адаптировать метод сканирующей ион-проводящей микроскопии для исследования механизмов развития нейродегенеративных заболеваний. Другое направление работ коллектива – изучение механических свойств цитоскелета различных тканей для разработки новых противораковых препаратов.
«Некоторые страны удивятся»: кого и зачем Россия запишет в «недружественные государства»
Депутаты и сенаторы поделились своими прогнозами по «недружественным» странам
Владимир Кулагин
В МИД России после соответствующего указа президента разрабатывают список стран, которые получат статус «недружественных» России. В отношении таких государств будут действовать определенные ограничения, однако какие именно — до конца неизвестно. Пока официально было подтверждено лишь, что статус «недруга» России получат США. «Газета.Ru» узнала у депутатов, сенаторов и политологов, кто может еще попасть в этот список и чем это может для них обернуться.
Кого могут записать в «недруги»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что полностью поддерживает новую тактику России во внешней политике.
«Сколько можно уже терпеть хамство и русофобское поведение?! Терпеть использование фейков для того, чтобы опозорить Россию и обвинить ее во всех смертных грехах?», — возмутился парламентарий.
Среди только последних «выходок» против России Джабаров вспомнил инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, обвинения Чехии во взрыве складов во Врбетице и аналогичные подозрения со стороны Болгарии. «Я уже не говорю о странах Балтии, которые наперегонки стремятся в чем-то нас обвинять. Страны, ведущие подобным образом, должны за это отвечать», — добавил Джабаров.
Все эти государства, по мнению сенатора, должны оказаться в списке.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что возможными основаниями для попадания в список могут быть необоснованные санкции или высказывания лидеров тех или иных государств.
«Уже все понятно с США. Я допускаю, что в списке еще будет и Украина, потому что ее действия иногда очень сильно удивляют. Например, ее парламентарии, позволяющие себе в ПАСЕ очень нелицеприятные заявления в адрес лидера России. Это, по сути, намеренные провокации. Очевидно, что они одобрены свыше», — сказала представительница «Единой России».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков со своей стороны отметил, что «недружественных стран» у России довольно много.
«Я думаю, что в компанию к американцам прежде всего, имеют шансы попасть англичане, поляки и страны Прибалтики. Возможно, некоторые страны удивятся, обнаружив себя в списке. Их обозначение важно и с моральной точки зрения», — сказал депутат.
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в разговоре с «Газетой.Ru», что в список недругов нужно добавлять по одному из следующих критериев: страны, активно занимающиеся продвижением санкций против России, участвующие в военных приготовлениях против России и поддерживающие поставками вооружений российских противников.
«Кроме того, это страны, объявляющие нам дипломатическую войну, вроде Чехии. На мой взгляд, очевидно, что это также три прибалтийские республики, Польша, США и Великобритания. Так, можно допустить, что к Чехии в вопросе высылки дипломатов присоединится еще, например, Болгария. Эти страны должны знать, что в таком случае они автоматически попадут в список недружественных стран со всеми вытекающими последствиями для их дипломатов и их работы на территории России. Плюс автоматически Украина, с которой у нас нет посольских отношений», — сказал он.
Возможные последствия
Согласно указу президента, «недружественным» государствам запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство. Другие конкретные меры против «недругов» пока не раскрываются, но известно, что они не будут касаться бизнеса.
«Сотрудничество с этими государствами также будет вестись с учетом их нового статуса, отношения с ними приобретут особый характер. Дружбы с этими странами нет, и преференций им не будет», — предполагает Сергей Цеков.
Владимир Джабаров считает, что в отношении недружественных государств Россия может применить самый разнообразный инструментарий: «Есть меры экономического плана, есть визовые вопросы. Но терпеть это больше нельзя. И наш народ откровенно поддерживает это». В качестве примера он напомнил об опыте американцев, которые для одних стран вводят режим наибольшего благоприятствования в торговле, а для других — санкции и пошлины.
При этом сенатор добавил, что решение о внесении той или иной страны в список «недружественных государств» может быть пересмотрено: «Если же кто-то из них изменит политику на нормальные, нейтральные отношения мы их, конечно, исключим из этого списка».
С ним согласен и Алексей Пушков: «Политика может меняться, и где-то к власти могут прийти правительства, готовые налаживать отношения с Россией. По моему мнению, в таком случае страна может быть выведена из списка».
По мнению сенатора, в Евросоюзе и сейчас есть государства, которые просто подчиняются режиму санкций. При этом их представители на разных уровнях высказывались против такого режима или, как минимум, расширения санкций.
«Например, это Венгрия, Италия, Кипр и Австрия, которые просто следуют дисциплине Евросоюза. Это пассивные проводники санкционного режима. В список же недружественных должны попадать активные проводники, вроде Польши или стран Прибалтики», — предложил градацию законодатель.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил накануне в интервью РИА «Новостям», что список будет пересматриваться со временем. Также глава российской дипломатии отметил, что Москва не собирается никого огульно обвинять, а будет принимать решения только после глубокого анализа.
Мнение экспертов
Политолог Иван Тимофеев считает, что ограничительный список будет совпадать с активными инициаторами разных ограничительных мер против России.
«Я думаю, что в перспективе против них будут задействованы как политические, так и экономические ограничительные меры. Но это совершенно не калька с американских законов, так как там эта практика используется гораздо шире», — говорит эксперт.
Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что нововведение поможет сдерживать другие государства от недружественного поведения.
«Если бы Чехия знала, как ей достанется за устроенный ими цирк с конями, то она, может быть, вела бы себя поосторожнее.
Теперь, я думаю, будут правовые механизмы для предупреждения таких инцидентов. Я думаю, первоначальный список не будет очень большим — США, Канада, Австралия, Великобритания, страны Балтии, Грузия, Украина, Чехия, Польша. А в дальнейшим все будет зависеть от поведения партнеров. Все взрослые люди и они должны оценивать, насколько им дороги привилегированные отношения с Россией», — заключает Бордачев.
ВТБ в I квартале увеличил выдачу розничных кредитов на треть
ВТБ в I квартале 2021 года нарастил выдачу кредитов физлицам до 544 млрд руб., что на 32% превышает результат за аналогичный период 2020 года. Розничный кредитный портфель банка вырос до 3.84 трлн руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Наибольший спрос заёмщики формируют в сегменте потребительского кредитования. За I квартал ВТБ выдал свыше 346 тыс. кредитов наличными на сумму около 306 млрд руб., что почти в 1.5 раза превышает результат I квартала прошлого года и примерно на четверть выше показателей "высокого сезона" в IV квартале 2020 года. Портфель кредитов наличными с начала года вырос на 6% и превысил 1.5 трлн руб.
В сегменте ипотечного кредитования ВТБ за I квартал нарастил продажи до рекордных значений в 215 млрд руб., что на 13% превышает результат I квартала прошлого года. Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы. С момента её запуска ВТБ выдал более 86 тыс. кредитов почти на 280 млрд руб. Общий портфель банка в сегменте жилищных кредитов с начала года вырос на 3% и превысил 2 трлн руб.
Относительно соответствующего периода предыдущего года выдачи автокредитов в I квартале выросли более чем на треть по объемам (+35%), превысив 23 млрд руб. Портфель превысил 117 млрд руб. За январь–март вырос также и портфель кредитных карт, превысив 115 млрд руб.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
Портфель привлечённых средств физлиц в ВТБ за I квартал увеличился 4.6%
Розничный портфель привлечённых средств ВТБ по итогам I квартала превысил 7.1 трлн руб., увеличившись на 4.6% к началу года. Об этом говорится в сообщении банка.
Наибольший спрос населения пришёлся на накопительные счета и инвестиционные продукты. Всего по итогам года банк планирует увеличить портфель пассивов почти на 1 трлн руб.
Портфель классических пассивов физлиц в ВТБ по итогам I квартала сохранился на уровне начала года, составив 4.6 трлн руб. При этом рост продемонстрировали накопительные счета, в которые было размещено более 65% средств клиентов в массовом сегменте, а количество пользователей достигло 3.3 млн человек. Портфель накопительных счетов увеличился с 1 января на 16%. В апреле ВТБ повысил ставку по первому накопительному счёту в рублях до 5% годовых, что позволит вдвое увеличить число новых пользователей продукта.
Объём средств физлиц, размещённых в инвестиционные продукты, за I квартал увеличился к началу года на 16% и превысил 2 трлн руб. Объём средств физических лиц на брокерском обслуживании вырос на 17%, до 1.75 трлн руб. Объём средств, размещённых в паевые инвестиционные фонды, увеличился на 15% до 200 млрд руб.
Портфель счетов эскроу в ВТБ по итогам квартала вырос на треть и превысил 350 млрд руб. Также растёт спрос на субординированные облигации банка: вложения в них увеличились за три месяца вдвое и достигли 116 млрд руб.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
ВТБ начнёт выдавать ипотеку на строительство домов
ВТБ во II квартале 2021 года готовится запустить ипотечную программу для индивидуального строительства домов. Наравне с этим банк выступает за модернизацию рынка ИЖС и разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ. Об этом говорится в сообщении банка.
Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными посёлками, приобрести дом по модели "домокомплект под ключ". Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со II квартала и до конца года.
Проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объёме ипотечных кредитов. В прошлом году, согласно данным Росстата, 289 тыс. объектов было введено в эксплуатацию, всего 40 тыс. жилых домов приобретены в ипотеку. Основная причина состоит в том, что рынок ИЖС развит гораздо слабее по сравнению с новостройками или вторичной недвижимостью в городах. При этом опыт пандемии продемонстрировал, что граждане активно интересуются готовой загородными объектами: только в ВТБ спрос на них в прошлом году по числу сделок вырос на 30% к 2019 году.
По прогнозам ВТБ, рынок в январе-апреле может вырасти более чем в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, продажи превысят 1.7 трлн руб.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Митрополит Иларион: вопрос, является ли теология наукой, закрыт
Впервые Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) провел конкурс "Теология в контексте междисциплинарных научных исследований". Что такое современная теология, зачем она нужна России и Церкви, какие новые специальности, проекты и перспективы появились в стране вместе с этой наукой, сколько диссертаций уже защищено, и чем теолог отличается от религиоведа, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
– Владыка Иларион, что означают недавно обнародованные результаты конкурса Российского фонда фундаментальных исследований для развития теологии (поддержка 58 проектов из 254 представленных) – они обнадеживают?
– Это первый в истории России конкурс по теологии, объявленный государственным научным фондом. Его проведению предшествовала серьезная работа – больше двух лет. В 2018 году Общецерковная аспирантура вместе с МИФИ и несколькими другими вузами, которые учредили Научно-образовательную теологическую ассоциацию, готовила очередную Всероссийскую конференцию по теологии. И мы подали в РФФИ заявку на поддержку этого мероприятия. Эксперты высоко оценили содержание проекта, но поддержать не смогли: теология отсутствовала в классификаторе. Стало понятно, что наши российские теологи ущемлены в важном праве – праве на такую же, как и другие специалисты, поддержку своей научной работы со стороны государства.
Двадцатого февраля 2020 года я встретился с руководством РФФИ. На встрече была достигнута принципиальная договоренность о включении теологии в классификатор фонда. Ну, а в начале 2021 года состоялся первый конкурс по теологии. Теперь важно, чтобы не только РФФИ, но и Российский научный фонд включился в эту работу, а теологи – как церковные, так и работающие в светских университетах, – активнее подавали заявки.
– Какие из поддержанных проектов вы могли бы выделить, и почему они важны сегодня?
– РФФИ – организация со своей продуманной системой экспертизы и многолетним опытом поддержки ученых. Вначале проект оценивается технически, на соответствие тематике конкурса. Потом каждую заявку конфиденциально и независимо друг от друга рассматривают эксперты. Они оценивают актуальность, фундаментальность, новизну, квалификацию членов коллектива и другие параметры. Потом – еще несколько фильтров. Несмотря на то, что любой конкурс включает в себя элемент случайности, результаты при такой системе отбора достаточно объективны.
Можно выделить проекты по библеистике: "Историко-филологические комментарии к Ветхому Завету: комментирование избранных текстов и разработка принципов русскоязычного библейского комментария", "Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова: перевод на русский язык с комментариями". Приятно отметить победу в конкурсе исследования на тему "Письмо Аристея: Перевод текста, историко-филологический комментарий и теологический анализ", особенно потому, что руководитель проекта, священник Алексий Волчков из Санкт-Петербургской духовной академии, защитил год назад диссертацию по теологии.
Отмечу, что поддержку получили проекты не только из ведущих университетов и духовных учебных заведений, но и междисциплинарные проекты, причем практически из всех федеральных округов России. Был поддержан ряд проектов по исламской теологии и по иудейской теологии.
– А сколько диссертаций по теологии в России сегодня защищается в год, и много это или мало, по сравнению с другими дисциплинами в России и в других странах?
– Сложно сравнивать. В каждой стране – свои подходы и к присуждению ученых степеней, и к теологии. В основном степени присуждаются университетами в соответствии правилами, основанными часто на многовековых традициях. В России же первая защита по теологии состоялась в 2017 году. Сейчас у нас всего трое докторов теологии и двенадцать защитившихся кандидатов. Это те доктора и кандидаты, чьи степени признаны государством.
Я думаю, не стоит также сопоставлять число защит по теологии с другими дисциплинами, потому что это новая отрасль. Пройдут годы, пока сформируется полноценное признанное государством научное сообщество в сфере теологии. Мы заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве тех диссертаций, которые проходят через диссертационные советы.
Отмечу, что к теологии сегодня приковано большее внимание, чем к другим наукам, к которым уже все привыкли, но которые еще относительно недавно были новыми в нашей стране – к социологии, культурологии, политологии.
– Какие изменения ждут сферы образования и теологии после вашей недавней встречи с министром образования и науки?
– В первую очередь, надо сказать, что министерство науки и высшего образования заинтересовано в том, чтобы и в дальнейшем поддерживать научную дисциплину, о которой мы говорим. Речь идет о конкретных задачах, которые министерство решает для того, чтобы теология присутствовала в светских университетах, конфессиональных вузах страны, духовных школах Русской церкви.
Это и всесторонняя проработка с научным сообществом приказа, который совсем недавно был зарегистрирован Минюстом. Согласно приказу, теология как отрасль знания, отнесенная к области социальных и гуманитарных наук, будет включать три новые специальности: "Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм)"; "Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм)" и "Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм)".
Это и организация регулярных заседаний профильной Рабочей группы министерства по совершенствованию научной номенклатуры в части теологии, которые позволяют услышать мнение всех заинтересованных сторон и вырабатывать решения для поступательного развития этой научной дисциплины.
– Можно ли считать курс "Основы православной культуры" в школе своеобразной подготовкой для будущих теологов?
– Думаю, что нет. Нельзя считать алгебру и физику подготовкой для будущих кандидатов и докторов физико-математических наук. Основы алгебры и физики должен знать каждый. А "Основы православной культуры" – это возможность с детства сформировать понимание того, что помимо материальных устремлений миллиарды людей живут, опираясь на духовно-нравственный фундамент. Разве это знать не обязательно?
– Какое определение вы даете термину "теология", есть ли отличие от "богословия" и в чем разница с "религиоведением"?
– Теология – это научное обоснование религиозного мировоззрения, которое существует в разных формах и вариантах, в разных странах, на разных языках, в различных культурных традициях.
Теология отличается от религиоведения, прежде всего, тем, что теология предполагает рассмотрение феномена религии не извне, а изнутри. Специалист-религиовед может быть не причастен ни к какой религиозной традиции или даже враждебен к одной или к нескольким из них и соответствующим образом выстраивать свою научную деятельность.
А теолог не может быть враждебен к объекту своего исследования, он так или иначе пытается рассматривать его изнутри.
Если же говорить об отличиях между теологией и богословием, то с чисто семантической точки зрения "теология" и "богословие" – синонимы. Однако применительно к современным российским реалиям богословием обычно обозначают науку, изучаемую в конфессиональных учебных заведениях, тогда как термин "теология" чаще употребляется применительно к тому же предмету в светских учебных заведениях.
– Теологии не было среди наук СССР – зачем она сейчас?
– Причина, по которой теологии не было среди наук в СССР, понятна. Ее просто искусственно выбросили из образовательной системы на долгие десятилетия. Эта ситуация сегодня исправлена. И теология заняла свое законное место в системе гуманитарных наук, преподаваемых в светском университете.
– Все ли ученые и преподаватели сегодня признают теологию как науку, или встречаете противодействие в научно-образовательной среде?
– Повторюсь, теология – гуманитарная наука. Вопрос о том, является ли теология наукой или нет, закрыт: включение специальности "Теология" в номенклатуру ВАК положило конец спорам на эту тему. С таким же успехом можно противодействовать философии или социологии.
Конечно, есть ученые, которые не готовы признать за теологией право на существование в качестве научной отрасли. Такие ученые исходят в основном из сложившихся в советское время стереотипов и клише, таких как "наука доказала, что Бога нет", или "наука и религия несовместимы".
А между тем, большинство крупнейших международных университетов, включая Оксфорд, где я учился, вышли из теологических школ. Но до сих пор есть люди, кто хотел бы, чтобы теология была исключена из научной среды даже там, где образовательный процесс по другим дисциплинам был запущен именно благодаря теологии.
– Чему, каким дисциплинам обучают сегодня на кафедрах теологии в России, и кем могут работать после окончания вузов специалисты-теологи?
– Набор дисциплин на кафедрах теологии широк. Это догматическое и литургическое богословие, история религий, введение в Новый и Ветхий Заветы, их экзегетический анализ, языки – церковно-славянский, древнегреческий, латинский, где-то и другие языки (арабский, например). Всего более ста предметов преподаются на кафедрах теологии.
Ну а карьерные возможности для специалиста на самом деле безграничны. Выпускник получает серьезный багаж гуманитарных знаний, который позволяет найти себе применение в различных сферах: от преподавательской деятельности до государственной службы.
И еще важно вот что: кафедры теологии создаются не для миссионерских целей, а для того, чтобы студенты и аспиранты имели возможность получить качественные знания о религиозных традициях и их теологических основах.
– Какие перспективы вы видите сегодня в развитии теологии в России?
– Я убежден, что развитие теологического образования в России даст возможность воспитать целую плеяду светских и религиозных ученых, которые смогут значительно расширить представление общества о Боге, религии и церкви.
Обратите внимание вот на какой факт: многие христианские источники до сих пор остаются малоизученными. Это огромный сундук с бесценными сокровищами. А приоткрыв и изучив эти сокровища, мы сможем приумножить знания, которые имеют общекультурное значение не только для России, но и для всего мира.
Цены цветных металлов обречены на повышение?
Во вторник, 27 апреля, цена никеля на LME «недотянула» около $40 до отметки $17000 за т на момент окончания торгов, выйдя на отметку $16985 за т (максимальное значение с 4 марта). Металл финишировал на отметке $16963 за т (+1,8%). В последние несколько дней котировки цены никеля росли в среднем на $300 в день. Общий объем открытых позиций по никелю вырос на 0,6%.
Продажи никеля по трехмесячному контракту составили по итогам дня 8000 т, обновив максимум от 9 марта. «После распродаж конца февраля цена никеля на LME держалась в границах довольно отчетливого диапазона. Попытки совершить «отскок» в начале апреля закончились неудачно, но на данный момент металл уверенно закрепился выше отметки $16000 за т, так как подспорьем для никеля оказался общий «бычий драйв» в комплексе цветных металлов, что позволит никелю «отыграть вверх» в краткосрочной перспективе», – отмечает аналитик Энди Фарида.
Медь и цинк также демонстрировали позитивную динамику, хотя их котировкам и не удалось удержаться на дневных максимумах. Трехмесячный контракт на медь подорожал на 1%, до $9855 за т, по итогам сессии, поднявшись в ходе торгов до отметки $9965 за т. По оценкам экспертов, очередным уровнем сопротивления для меди будет ее исторический максимум $10190 за т, на который цена металла вышла в феврале 2011 г. За неделю медь подорожала на 5,7%. Объем спекулятивных чистых позиций инвестфондов достиг 39,183 тыс. лотов.
«Хотя ожидавшаяся забастовка портовых рабочих в Чили подтолкнула цены меди вверх, мы, исходя из «параболической» кривой ценового тренда в последние 2 дня, заключаем, что рыночную динамику здесь диктовали деньги инвестфондов (преимущественно китайских)», – сказал глава отдела исследований рынка сырья ED&F Man Эдвард Майер.
Стоимость фьючерса на цинк достигла в ходе торгов уровня $2944 за т, закрывшись на отметке $2925,50 за т (+$10,50). За неделю цена металла выросла на 4%. Объемы продаж цинка составили по итогам дня 10600 лотов – наибольшее значение с 4 марта, заняв третье место после меди и алюминия.
«Металлы снова получили импульс к росту после периода консолидации в марте и первой половине апреля, – отмечает глава отдела исследований цветных металлов и аккумуляторов Fastmarkets Уильям Адамс. – При уязвимости металлов на данной фазе лишь цена никеля заметно пострадала. То, что для остальных цветных металлов «все обошлось» заставляет думать, что общее настроение на данном рынке оптимистичное, что говорит о том, что путем наименьшего сопротивления для металлов является их ценовой рост, даже если ряд макроэкономических факторов не способствуют этому».
Тем временем котировки цены алюминия с поставкой через 3 месяца снизились до $2396 за т с $2403,40 за т в понедельник, хотя в ходе биржевых торгов цена металла и достигла максимума текущего года и самого высокого значения с апреля 2018 г. – $2412 за т, на фоне многолетних максимумов премий к стоимости алюминия.
Трехмесячный контракт на свинец подорожал на бирже до $2090 за т относительно значения закрытия понедельника на уровне $2078,50 за т.
На утренних торгах среды отмечено снижение форвардной цены меди на фоне укрепившегося доллара и признаков ослабления спроса на металл в Китае, совершив откат с 10-летнего максимума вторника ($9965 за т). На ShFE цена металла снизилась на 1%, до 71200 юаней ($10978) за т.
«Я не наблюдаю сильного спроса. Доллар снова укрепится, тогда как ситуация с COVID-19 в Индии, кажется, все ухудшается, что окажет негативное воздействие на мировую торговлю и мировое экономическое восстановление», – констатирует один из китайских производителей меди.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:14 моск.вр. 28.04.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2387 за т, медь – $9793.5 за т, свинец – $2066.5 за т, никель – $17131 за т, олово – $28260 за т, цинк – $2889 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2394 за т, медь – $9788.5 за т, свинец – $2089.5 за т, никель – $17165 за т, олово – $27095 за т, цинк – $2907.5 за т;
на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2851 за т, медь – $10985 за т, свинец – $2359 за т, никель – $19658 за т, олово – $28500 за т, цинк – $3409 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2847.5 за т, медь – $11024 за т, свинец – $2377.5 за т, никель – $19599 за т, олово – $28578.5 за т, цинк – $3412 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $10456.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9832.5 за т.
Бум судостроения положительно влияет на стальную промышленность
Как сообщает Korea Times, морские перевозки, судостроение и сталелитейная промышленность в последнее время процветают, чему способствуют признаки восстановления экономики. Увеличение объемов морских перевозок - из-за увеличения спроса на такие материалы, как электроника и товары для дома во время пандемии - создало благоприятный цикл с ростом спроса на судостроение, а также на сталь.
Судостроители в Южной Корее наблюдают бум продаж, зафиксировав наибольший объем продаж с 2008 года. По данным британского судостроительного и судостроительного агентства Clarkson Research Services, общая глобальная компенсированная валовая вместимость (CGT) в первом квартале этого года выросла в 4,3 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них корейские судостроители заняли первое место с 532, 000 CGT, что составляет 52% мирового рынка. Это значительный рост - в десять раз - учитывая тот факт, что местные судостроители смогли закупить только 55,000 CGT за тот же период прошлого года.
Начиная с этого года Samsung Heavy Industries получает крупномасштабные заказы, и некоторые считают, что судостроитель может начать восстанавливаться после финансового кризиса, в котором компания накопила убытки за последние шесть лет. Samsung Heavy Industries в этом году уже получила заказы на 42 корабля на сумму $5,1 млрд., что составляет 65% от запланированного объема продаж в $7,8 млрд. в этом году. Только за последний месяц было получено 20 заказов на контейнеровозы на сумму 2,8 трлн вон.
Компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering получила в общей сложности 68 заказов на суда на сумму 5,5 млрд. Вон, что составляет 37% от запланированного объема продаж в этом году. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) получила 19 заказов на сумму 1,79 миллиарда долларов, что составляет 23% от запланированного объема продаж.
Эти положительные эффекты наблюдаются не только в судостроительной отрасли, но также в автомобильной и строительной отраслях, давая некоторую передышку местной сталелитейной промышленности, которая сильно пострадала от пандемии и усиления конкуренции, что привело к снижению спроса. Спрос на сталь со стороны автомобилестроителей и судостроителей вырос, что позволяет металлургическим компаниям увеличивать затраты.
Локдаун чтению не помеха
Текст: Юрий Чернов
Несмотря на пандемию коронавируса и длительное закрытие книжных магазинов, продажи книг в Великобритании в прошлом году заметно выросли. По данным британской Ассоциации издателей, особенно хорошо продавались художественная литература и всевозможные аудиокниги.
В сравнении с 2019 годом продажи выросли на 16 процентов, а спрос на аудиокниги вырос более чем на треть. Продажи художественной литературы принесли издателям в прошлом году дополнительные 100 миллионов фунтов, достигнув отметки в 688 миллионов фунтов (около 72 миллиардов рублей. - Прим. "РГ"). Бестселлером 2020 года стала философская книга с картинками Чарли Маккези "Мальчик, крот, лиса и лошадь". В ассоциации отметили, что не ожидали таких результатов. "Это весьма примечательно. Мы рады, но также немного удивлены, что отрасли удалось добиться таких успехов. Во время изоляции у людей было больше свободного времени, и они искали бегства от реальности. Любовь к чтению словно открыли заново. Чтение восторжествовало, и взрослые, и дети стали читать больше во время изоляции, чем до нее", - заявил ее исполнительный директор Стивен Лотинга.
Примечательно, что рост был отмечен и в сегменте научно-популярной литературы, чьи продажи выросли на 4 процента, достигнув отметки в 1 миллиард фунтов. Здесь это объясняется небывалой популярностью кулинарных книг шеф-повара Джейми Оливера и "100 проверенных рецептов для похудения" Кей Физерстоун и Кейт Эллинсон. Но самый значительный рост продемонстрировали аудиокниги - фантастические для отрасли 37 процентов по сравнению с 2019 годом. Так что в период пандемии британцы не только вернулись к чтению, но и пристрастились к прослушиванию литературных произведений.

Встреча Михаила Мишустина с депутатами фракции ЛДПР в Государственной Думе
Встреча состоялась в рамках подготовки к ежегодному отчёту Правительства в Государственной Думе.
Из стенограммы:
М.Мишустин: Уважаемый Владимир Вольфович! Уважаемые коллеги!
Рады приветствовать вас, фракцию ЛДПР. Пользуясь случаем, Владимир Вольфович, хочу лично поздравить Вас с юбилеем. Пожелать здоровья, энергии, новых творческих успехов Вам – и не только как политику, но и как учёному, автору более 500 книг и исследований, который изучает самые непростые и противоречивые факты. И который много лет системно, искренне отстаивает свои убеждения.
Вы и ваша партия немало сделали для становления российского парламентаризма. В течение семи созывов Государственной Думы фракция ЛДПР выдвинула тысячи законодательных инициатив. Только в текущем году, коллеги посчитали, их было более 700.
За эти тридцать с лишним лет в политике Вы сами неоднократно выступали как автор целого ряда важнейших законопроектов – их более 270.
Многое делает ЛДПР и для развития страны. В том числе – на местах. Хочу отметить позицию ЛДПР в ходе борьбы с острой фазой распространения коронавируса, когда вместе мы очень ответственно принимали самые непростые решения – как в экономической сфере, сфере рынка труда, так и в медицине. Уже зарегистрировано три вакцины, четвёртая также на подходе. И я очень надеюсь, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию.
Многие из вашей фракции занимают должности в Государственной Думе, в разных федеральных органах исполнительной власти. Все представители ЛДПР – люди профессиональные, могут выстроить диалог.
Это мы ценим и в Аппарате Правительства, в министерствах и ведомствах. Привлекаем ваших экспертов к работе над всеми основными направлениями развития страны.
Сейчас идёт очень большая работа по реализации поручений Президента, которые он озвучил в своём послании. Мы также рассчитываем на системную работу вместе с членами фракции ЛДПР над этими мерами.
Хотел бы предоставить Вам слово, уважаемый Владимир Вольфович. Пожалуйста.
В.Жириновский: Спасибо, Михаил Владимирович. Спасибо за поздравление.
Я в свою очередь Вам принёс трёхтомник, потому что 100 томов тяжело читать, а вот трёхтомник, может быть, на досуге полистаете. Чем хорошо это всё? Мысли свежие и реальные о том, что происходит в стране, потому что остальные могут писать, но это бывает под влиянием каких-то классиков, каких-то идеологий, а здесь то, что в стране происходило.
Я единственный здесь в маске и перчатках. Надо пожёстче принимать меры, начинать с детских садов, школ и далее везде. Я ведь почему на это внимание обращаю? Я это ввёл 22 года назад. У меня на дверях висит объявление: никаких рукопожатий, объятий, поцелуев и так далее. Это защитит от любых болезней. А эта пандемия или ей подобные вперёд на многие годы будет. Поэтому нужно остановить её этими мерами. Руки – самое грязное у человека, потому что он везде всего касается, он вынужден это делать. Так зачем же жать руки и передавать? И воздушно-капельным путём тоже.
Мы полгода бились в Госдуме, чтобы это сделать. Сопротивлялись коммунисты. Потеряли двух человек они, «Единая Россия» тоже одного – три депутата ушли из жизни. Сидит 400 человек. Я им говорю: посмотрите – британский парламент, 20 человек в зале – всё. Все сидят, локоть в локоть и в затылок. Зал не приспособлен, уже давно нужно было построить новый, но, возможно, это будет решено.
У нас проблема с гражданством для русских. Кто-то эту диверсию устроил нам. Мы могли бы давно уже и украинскую проблему решить, люди бы приехали с удовольствием сюда отовсюду. У нас за границами осталось 30 миллионов. Они бы здесь все были, и население было бы 180 миллионов. И пускай запрещают русский язык, а там русских бы уже не было, и всё бы рухнуло там – и в Казахстане, и везде бы рухнуло. Везде русские инженеры, заводы построены русскими.
Я сам оттуда. Я 18 лет жил в Казахстане. Если газ мы ещё не дали русским в Центральную Россию (ещё 30% без газа), там 100% с газом 60 лет назад уже было – целая эпоха. С какой стати мы дали газ всем национальным окраинам, а Россию оголили?
С людьми то же самое. Восемь лет должен русский ждать, где-то работать, какие-то справки собирать – издевательство просто! Немцы сразу дают паспорт, израильцы сразу дают паспорт, а русские у посольств обивают пороги и сюда приезжают брошенные.
Нам нужно население, и оно есть, хотят приехать. Староверы из Австралии приехали. Как умеют работать хорошо! Конфетки их деревни и в Азербайджане, и в Австралии, и где угодно. Постояли, походили – ничего не получается: дорог нет, никто ни в чём не помогает. И обратно уехали. Надо эту проблему решить быстрее, потому что могли бы давно уже заставить их снова полюбить Россию, если бы инженерный корпус оттуда к нам приехал.
Такой был тезис, когда уговаривали Президента подписать закон о предоставлении гражданства: кто хотел, уже приехал. Вы откуда знаете? Вы чиновники, в Москве сидите. Миллионы хотят приехать. Я родственников своих пробивал пять лет, чтобы они приехали – везде тормозят (посольство в Бишкеке и здесь все).
Второй аргумент: может приехать криминал, преступники. Преступники во всём мире. Вы считаете, что русские в иностранных регионах – это преступники? Специально взяли и пустили русских по обычному формату: негры из Африки и русские – стойте в общей очереди.
Очередь, Михаил Владимирович! Хочешь гражданство быстро – 70 тыс. В общем, заплати – и ты получаешь паспорт. Богатый выходец из Азии или откуда-то ещё получает паспорт, а русский бедный, он стоит в общей очереди.
В Сахарово увели, на окраину Москвы. Гостиницы нет, ехать далеко. С ночи записываются, как во время войны на хлеб. Это издевательство, я считаю. Надо это упростить, ускорить и вообще ввести понятие: русский – паспорт выдаётся в посольстве в течение трёх недель.
Сейчас мы снова открыли воздушное сообщение – снова заразу привезут. Вчера (с радостью сообщают) приехали последние туристы из Танзании. А кто разрешил их выпускать туда? Там даже Президент умер, его даже не уберегли. Зараза везде только усиливается. Индия вся ляжет и другие страны мира. Поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем открывать.
Турцию закрыли правильно, а зачем Египет открываем?
Это одинаковое южное направление, здесь люди привыкнут отдыхать. Я согласен, тёплое море круглый год в том же Египте. В Турции холодно с ноября по март, а в Египте тепло круглый год (я посетил специально эти курорты – Шарм-эш-Шейх, Хургада).
Проблема в том, что заразу мы не остановили, и зарубежные поездки это всё усилят. По Турции правильно, вовремя мы остановили.
В малых городах не хватает рабочих мест, а инвестиции – в крупных городах. Можно как-то подвинуть инвестиции в малые города? Там есть рабочие руки, и будет развиваться страна. Всё «вбили» в Москву и Санкт-Петербург, немножко на юге – Ростов, Краснодар. Надо как-то подвинуть, пониженную ставку по ипотеке дать в регионы.
Люди есть, хотят строить, и есть что там делать. Нет, всё «забили» в Москву, уже невозможно дышать, уже сходят с ума... Как они в России называются, которые носятся на машинах? Стритрейсеры? Это что, русский язык? Каждый день новое «русское» слово. Вчера буквально: «Вы знаете, мы там хорошо "покоммуницировали"». Вы что, с ума сошли?! Мы пообщались там хорошо. Нет, коммуницировали. Никто не следит за этим. Уже был целый Госсовет по русскому языку. В провинции уже не понимают, на каком языке говорит Москва. Это полуанглийский язык. Это позорит нас. Иностранцы будут думать: «Что, у русских слов нет?» Гонщики – нет, не гонщики, «стритрейсеры».
Социальное жильё. Очень трудно оно идёт. Всё-таки, может быть, восстановить, чтобы застройщики какой-то процент отдавали каждому городу, там, где есть очередь на социальное жильё. Будешь строить, имей в виду: 5% (или 3%, или 2%) жилья ты отдаёшь городу, тогда эта социальная очередь будет двигаться, иначе её не сдвинуть.
Собаки нападают на людей. Это дикость вообще. Что это такое? Каждый день загрызают людей. Понимаете? 400 человек в год. Может быть, вам статистику не дают? Это же чудовищно! Что это за страна? В космос мы летим, а на улицах... Вышел на велосипеде покататься, четыре года, мальчик, в Башкирии, – загрызли. Собачкам кушать же надо! Это же дикость! Что это за муниципалитеты без власти?! У вас есть возможность нанять людей, там же безработица. Наймите для отлова собак! Я в детстве помню: приезжает машина, брезентовый верх, выходят пять-шесть мужиков, железные прутья, отловили всех бродячих, в кузов и уехали. Мы спрашиваем: «А куда, дядя, вы их увозите?» – «На мыло». И действительно, в прямом смысле увозили куда-то, умерщвляли, шкура шла куда-то, и сало собачье шло на мыло, изготовляли мыло. Это было после войны, но я не видел нигде бродячих собак 50–60 лет назад, а сейчас гуляют везде.
Мы много даём денег сейчас, 10 тыс. школьникам и детям. Но мы предлагали как-то возвысить женщину как домашнюю хозяйку. Это тяжелейший труд! Страшно: всех накормить, обстирать, обштопать, поликлиника, болеют. Ей ничего не положено. Или стаж ей дать для пенсионного... За два года домашнего труда хотя бы один год трудового стажа. 40 лет на дому всех обслуживает – дайте ей стаж 20 лет, чтобы у неё была пенсия. Или пособие. За рубежом дают безусловный базовый доход кому угодно. Но здесь человек работает. Давайте, может быть, ей дадим, этой домохозяйке (или он – домохозяин, один с детьми)?
Мы рады, что спустились уже до беременной женщины и тоже она будет получать пособие. Надо спуститься ещё до одного уровня, мы об этом говорили, может быть, всё-таки Правительство пойдёт на это, – уговорить отказаться от прерывания беременности и за это дать ей первый материнский капитал. Если ей пообещать 500 тыс. и дать в санаториях места для беременных (есть такие санатории), она родит, государство заберёт. То есть она не хочет оставлять ребёнка, мы с ней должны согласиться, она не хочет категорически. Мы говорим: «Ты роди, меньше ущерба для здоровья, и ты получишь первый семейный капитал». Это решение вопроса. 20 лет назад мы это говорили, сейчас было бы несколько миллионов у нас дополнительного населения, не 145–150 – 170 было бы уже. В канализацию спускаем по миллиону. Нилов Ярослав считает, что два миллиона и даже больше.
Больше 2 миллионов мы уничтожаем в утробе! Запрещать нельзя аборты. Сталин запретил – начались подпольные аборты, которые наносят удар по женщине. Надо объяснить ей, что ты сохранишь здоровье. В Нижнем Новгороде уже пошли по этому пути, соглашаются женщины. Но никто дальше ничего не делает. Я удивляюсь: демографическая проблема, смертность растёт, рождаемость падает. Да вот у вас же есть дети! Остановите искусственное прерывание беременности!
И разведённые. Действительно, если нет алиментов, он или она одинокие и воспитывают детей, теперь мы им хотя бы небольшую сумму даём, это очень хорошо.
Вот такой маленький вопрос, может быть, но меня это возмутило. В 2019 году было 100 лет со дня рождения поэта Алексея Фатьянова. Никакой реакции. Я не знаю, кто у нас этим занимается, Министерство культуры или какой-то ещё орган пропаганды... Но русский поэт, из Владимирской области, его песни – «Где же вы, друзья-однополчане?», «Первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом!», «Синий платочек» – вся страна поёт. И никто ничего не сделал, ничего. В кремле устроил губернатор Владимирской области торжества… У нас цензура, видимо, есть какая-то: если русский поэт и песни про войну, так давайте его убирать.
Пусть Министр культуры вам даст справочку.
Я у своих бьюсь там: что это за комитет по культуре, что вы молчите? Это тоже не годится.
Авария в Норильске – конечно, они должны платить за всё. Это старые советские проекты, когда строили, а потом чуть-чуть там что-то осело, просело, пошли трещины... Недорабатывали.
Как и Чернобыль. Годовщина была – 35 лет. До сих пор правду не говорят. Великий наш учёный химик, академик Легасов, который одним из первых был там, покончил с собой. Через 10 лет дали Героя, а 10 лет трамбовали. Ну он и повесился… Это что за страна? Это уже при Горбачёве было... Дикость какая-то. Величайший учёный наш, всё правильно сказал, всё правильно сделал. И до сих пор точную характеристику аварии никто не даёт – реакторы виноваты или те, кто сидел там.
Рост цен. Мы всегда были за рынок. И там, где начинается администрирование, цены можно затормозить, но и продукция тормозится. Надо объяснять людям. У вас пропаганда хромает. Кто отвечает за пропаганду? Скажите: «Мы заморозим цены. И на сахар, и на молоко, и на хлеб, колбасу. Но имейте в виду, через полгода встанете в очередь, будете стоять два дня в очереди, и не всем хватит! Хотите так? Мы вам сделаем!» В каком-то городе проведите эксперимент, на Сахалине. Всё: твердые цены. Через полгода – нехватка продуктов, все встали в очередь. Что, в Москву поедете опять? Пропагандистское обеспечение. «Да вот надо так …» То есть не звучит твёрдый, жёсткий голос, который обеспечивал бы нормальное функционирование Правительства.
«Единая Россия» молчит. Они наверху, на Олимпе. Они ничего не делали, не боролись. Они уснули – а утром говорят: «Ты уже депутат». Ну что это? Что за депутаты, которые ничего не делают, а просто так становятся депутатами? Конечно, они не будут ничего делать. Они молчат.
Молоко. Тоже могла быть программа. Земля есть, корма есть.
Дальний Восток. Ещё раз. Вы уже много лет назад дали программу. Но ведь, понимаете, надо же оценивать по факту. Продолжается отток населения. Значит, меры недостаточные. Льготы разные, то, другое, третье… Но я считаю, что нужно там бум создать строительный. Отменить налоги, вообще все, и поставить там одного человека – начальника Дальнего Востока. Помните, фильм был «Начальник Чукотки»? Вот начальник Дальнего Востока. Не вице-премьер, не министр, ещё кто-то. Но вся прибыль там расходуется. И чтобы не было такого: все побегут с инвестициями туда, поскольку там без налогов. Нет! Только кто живёт там и там оставляет прибыль, тогда без налогов. Все остальные, «гуляющие», вы здесь не нужны… Стимулировать надо, сделать это маленькой Америкой. Это всё взорвётся. Там и серебро есть. Что ехать в Калифорнию? Золото, поехали все… Вот в Магадане до сих пор, по-моему, есть такие, кто золото ищет… Поэтому наш вариант никто не хочет опробовать. Давайте на Сахалине это запустим или в Магаданской области. Но не идёт. Ну, льготную ипотеку давать. Это всё можно делать, но мало пользы.
Транспорт. Вот, наконец, сдвинулось с места – от Петербурга до Урала. А что раньше не делали? Быстрее нужно, все силы бросить. Вот туркам давайте поручим, пусть всё строят, их рабочие, всё – они вам сделают за пять лет до Владивостока. Дайте тендер мировой. Рабочих полно. И паровозы, вагоны, там всё это есть. И деньги вложат. Владивосток – Гамбург, будут быстрее грузы доставляться. Вот Суэцкий канал: раз – и пробка! А это ещё академик Глушко Валентин Иванович… Его тоже довели до смерти.
Пневмотранспорт – где он? Пневмотруба: от Владивостока до Гамбурга можно. До Москвы 5 тыс. км в час скорость, 2 часа – и грузы в Москве, а немцы предлагали от Бреста до Гамбурга широкую колею, а до Бреста наша колея. Никто ничего не делает. Горбачёв, перестройка… Ты экономикой займись! Какая гласность, мы без вас знаем все преступления большевиков и советской власти, какая гласность? И они у вас тут сидели сейчас. Знаете, как они вас назвали, вашу власть, вы читали документы последнего съезда, в субботу, 24 апреля, вам докладывает кто-то? Мы с вами – буржуазно-криминальная власть. Если бы я сидел в Кремле, я бы уже… Генеральному прокурору: немедленно постановление (и Минюсту) о ликвидации КПРФ. Мы не буржуазно-криминальная власть. Всю страну оскорбили. Это что такое! Они, получается, пролетарская и культурная власть. Какая вы власть, когда вы и занимались криминалом везде?
Сохраняется проблема профориентации. Мы готовим специалистов – они не работают по профессии. Дурацкое положение: получить высшее образование обязательно, куда угодно идут учиться. Но давайте в школе сориентируем. Я иногда провожу встречи со школьниками. Говорю: «Кем хочешь быть?» – «Врачом». Вот направьте его в операционную в любую больницу: гной пошёл, кровь, в обморок падаешь – всё, ты не врач, уходи. Или в морг: вскрытие, падаешь в обморок – уходи. То есть какие вы врачи! Вы сперва им покажите, что такое врач. Ты сможешь это выдержать, смотреть? Поэтому нет профориентации. И потом, это же потери огромные. Тратим огромные деньги, а они работают не по профессии, потом идут поддерживать тех, кто орёт на бульварах, потому что радости нет: образование получил, но работает не по профилю.
Посмотрите: Министр Кравцов. Все министры просвещения меня раздражали. Где ваша работа, чтобы подготовить молодёжь к вакцинации? И в вузах то же самое? Заставьте их. Он доходит до процедурного кабинета, звонит маме, мама говорит: «Не надо». Это что такое вообще? Сколько будут эти маменьки сыночки?.. Ректоры вузов и директора школ должны жёсткую линию проводить: всем вакцинацию. Вариант: без вакцины – заочное обучение, с вакциной – очное. Жёстко всё это. Можно найти какие-то мотивы.
Статистика говорит, что две трети не хотят делать прививки. Тогда мы никогда не поборем пандемию. В Америке уже 30% сделали прививку. То есть нужно, чтобы в вузах влияли правильно.

Развод на орбите
Наталия Ячменникова
Космические новости разлетаются сегодня как горячие пирожки. Одна из самых обсуждаемых: Россия планирует построить новую национальную космическую станцию. Первый ее модуль может отправиться на орбиту уже через четыре года.
Как говорит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, госкорпорация готова начать строительство станции "хоть сегодня" и ждет соответствующих поручений президента и правительства. "У нас все для этого есть: компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, "умное железо", которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику", - сказал гендиректор "Роскосмоса" журналистам на научной сессии общего собрания РАН.
Национальная станция должна быть связана с дизайном, архитектурой, замыслом российских инженеров. Какое "умное железо" есть у нас для первого шага? Прежде всего, это научно-энергетический модуль - НЭМ, та самая солнечная электростанция, которая обеспечит станцию мощной энергетикой - 55 кВт. Это очень важно.
Модуль уже есть в железе: в РКК "Энергия" показали летный экземпляр. Изначально он строился для Международной космической станции, запуск ожидался в 2024 году. Теперь у него будет новая сверхсерьезная миссия - он станет основой национальной орбитальной пилотируемой станции. Или как ее еще называют - Российская орбитальная служебная станция.
Специалисты не скрывают - доработок будет много. Понадобится полтора-два года. Скажем, "космический дом" требуется дооборудовать каютами для космонавтов. Надо заменить стыковочный агрегат с активного на пассивный, доработать системы управления движением и навигации, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима... А еще НЭМ адаптируют для запуска на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный - вместо "Протона-М" с Байконура.
Об этапах создания новой российской станции на научной сессии Общего собрания РАН рассказал член-корреспондент РАН, первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев. Так, планируется два этапа. На первом - с 2025 по 2030 год - намечается запустить помимо НЭМ еще узловой, базовый и шлюзовой модули. А на втором - с 2030 по 2035 год - к ним добавятся целевой и целевой производственный, а также платформа для обслуживания космических аппаратов. Все, как говорят специалисты, будет зависеть от поставленных к тому времени задач.
Что будет принципиально отличать новую станцию от МКС? Ее "наклон", то есть насколько орбита станции удалена от экватора. У МКС угол наклонения меньше 52 градусов, из-за чего космонавты могут видеть лишь двадцать процентов территории России. У будущей национальной станции "наклон" дойдет до 97-98 градусов. То есть она будет находиться на уникальной солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор, причем во всех спектрах - от обычного оптического до инфракрасного и радиолокационного. Где мы будем видеть все свои территории, включая арктическую зону.
Нам нужна станция, - говорят специалисты, - которая будет иметь возможность проводить эксперименты не только внутри. У которой именно внешний борт станет платформой для наблюдения нашей планеты. А направленная "вверх" аппаратура будет мониторить космическое пространство. На борту можно развернуть управление облаком малых спутников. Это совершенно новая работа. Как и система обслуживания на так называемой внешней платформе-"подвеске".
- У нас появится выносной стапель, на котором мы сможем парковать разного рода автоматические аппараты, спутники, - поясняет Владимир Соловьев. - Здесь будет проходить их ремонт, заправка, юстировка полезной нагрузки, а затем они снова будут отправляться на свои орбиты. Кроме того, мы создадим парк буксиров, которые смогут выводить автономные модули на нужную орбиту в нужное время.
Предусматривается, что научное оборудование снаружи станции станут обслуживать автоматы под управлением космонавтов. Естественно, нужно развивать новые перспективные технологии, конструкционные материалы, высокоскоростной интерфейс и интерфейс "человек-машина" и т.д.
Экипаж станции будет состоять из двух-четырех человек, а объем гермоотсеков на втором этапе достигнет 667 кубов. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48 (!). И здесь еще такой значимый нюанс. Ученые и специалисты продумывают новую философию самих пилотируемых полетов: постоянное пребывание космонавтов на орбите обходится не просто дорого, а очень дорого. Но что еще серьезнее - на высокоширотных орбитах повышается и радиационная опасность.
Поэтому рассматривается система посещаемых станций. Как отметил президент РАН Александр Сергеев, на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект. Задача: увеличивая автоматизацию проводимых научных экспериментов, ни в коей мере не снижать эффективность проводимых на орбите целевых работ. Обсуждается, что космонавты будут "навещать" станцию один-два раза в год. Кроме того, планируется отправлять до трех космических грузовиков.
На первом этапе летать продолжат грузовые "Прогрессы" и пилотируемые "Союзы", а на втором - уже пилотируемые "Орлы". Что касается перспективного транспортного корабля, то, как подчеркнул Владимир Соловьев, довольно редко упоминается, что экипаж четыре человека - это стартующий. А тот, который будет возвращаться, сможет доходить аж до шести человек. И это тоже очень важно: здесь заложена идеология спасения.
И еще несколько данных о новом корабле. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до тридцати суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса при полете к станции - 14,4 тонны, при полете к Луне - 19 тонн. Масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.
Первый полет нового корабля без экипажа запланирован на 2023 год, беспилотный со стыковкой с МКС - на 2024-й, с экипажем - на 2025-й. Корабль не только предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, но и является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Но не исключено, что изменения будут внесены и в эту программу. А именно: корабль "Орел" с экипажем может полететь не на МКС, а на российскую космическую станцию.
"Если в 2025 году мы развернем базовый модуль новой станции, тогда полетим новым кораблем. Я встречался с отрядом космонавтов, собирал их всех, и мы сейчас рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль с экипажем полетит на нашу российскую станцию", - цитирует ТАСС гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. По словам Владимира Соловьева, впервые космонавты полетят на новую орбитальную станцию в 2026 году.
Специалисты отмечают: создание новой орбитальной станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, так как его оборудование изношено на 80 процентов. Россия сможет сама профинансировать строительство, но готова и к кооперации, - заявил несколько дней назад вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства.
А в это время
Россия за два с половиной года осуществила 58 подряд безаварийных пусков космических ракет, повторив рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах. Очередным успехом стал запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb.
Безаварийная серия началась после октября 2018 года, когда из-за аварии при разделении ступеней ракеты "Союз-ФГ" был прерван полет к МКС корабля "Союз МС-10". Благодаря системе аварийного спасения россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг благополучно приземлились. За этим последовали 27 штатных космических пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, пять - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 17 аварийных стартов: восемь - в Китае, три - в Иране, три - в США, два - во Франции и один - в Новой Зеландии, - подсчитало РИА Новости.
В истории современной российской космонавтики аналогичный рекорд из 58 подряд успешных космических пусков был установлен только раз - с февраля 1992 по февраль 1993 года. Нам есть куда стремиться: в советское время был установлен рекорд из 185 подряд успешных космических пусков. Это было с января 1983 по ноябрь 1984 года.
Надо заметить, что в истории российской космонавтики был и "черный период". Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах было по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах - по две, в 2014 году - три, в 2011 году - четыре.
А какие перспективы у МКС?
Международная космическая станция работает с конца 1998 года. Это один из наиболее сложных и дорогих инженерных проектов за всю историю человечества. В совместном международном проекте пятнадцать участников, из которых пять - основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года. Станция эксплуатируется уже 22 года. Масса доставленного оборудования на МКС - 76 т, правда, на российском сегменте его только 7,5. На борту проведено более 2 тысяч экспериментов, из них российских - 400. Это, по словам Владимира Соловьева, результат недофинансирования наших научных программ на станции.
Как известно, участники проекта МКС договорились использовать станцию до 2024 года. Однако ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока.
Сейчас в составе российского сегмента МКС пять модулей. В июле планируется запуск еще одного - лабораторного "Наука". Он станет одним из самых больших на станции. Его очень давно ждут и космонавты, и ученые: научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д. Хорошо? Безусловно. Для интеграции "Науки" в МКС потребуется большая и суперсерьезная работа, до десяти выходов в открытый космос. Там очень много научного оборудования, причем значительная часть находится на наружных подвесках. Там рабочие места, которые надо будет опробовать.
Между тем специалисты констатируют: в целом станция стареет. Изнашиваются конструкции, железо. Еще в октябре прошлого года появилась информация: специалисты РКК "Энергия" прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС после 2025 года. Как бы там ни было, но вот уже который месяц космонавты разбираются с утечкой воздуха на станции. Ее первые признаки обнаружились еще в ноябре 2019 года. Поначалу утечку искали в американском сегменте, но в итоге трещины нашли в переходной камере модуля "Звезда". Две засверлили и заклеили специальным герметиком. Утечка воздуха уменьшилась, но не прекратилась.
Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Но для компенсации регулярно требуется наддув воздухом, азотом и кислородом.
Ситуация, которая складывается на МКС, может в будущем привести к серьезным последствиям, заявил недавно в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. "Мы не можем подвергать угрозе жизни космонавтов. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям - до катастрофы. Это нельзя допускать", - отметил он, комментируя необходимость создания российской орбитальной станции.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, в последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года.
Решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции, - подтвердили в "Роскосмосе".
Вместе с тем Россия не планирует сокращать научную программу на МКС до создания новой национальной околоземной станции. "Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении многофункционального лабораторного модуля, не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - так Рогозин ответил в Facebook на вопрос одного из подписчиков о необходимости запуска модуля "Наука" к МКС на фоне планов по созданию новой станции.
Уже прозвучала и такая мысль: после ухода России со станции ответственность за российский сегмент может быть передана партнерам по МКС. Не исключается также вариант коммерческого использования. Хотя, как считают некоторые аналитики, США откажутся от предложения взять на себя ответственность по управлению российским сегментом МКС после нашего выхода из проекта. Так, по словам эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, которого цитирует РИА Новости, "американцам эта станция, по большому счету, тоже не нужна, они ставят целью полет на Луну, а там станция не требуется. Она изжила свое, и брать проблемы чужого сегмента, который был сделан давным-давно, они не будут, а коммерческого применения у этого предложения нет. Главное - вопрос безопасности".
А вот издание Financial Times пишет, что НАСА с технической точки зрения не видит проблем для работы МКС до 2028 года. "По техническим параметрам мы считаем, что МКС может функционировать до конца 2028 года. Более того, наш анализ не выявил каких-либо недочетов, которые могли бы помешать станции работать и после 2028 года, хотя, конечно, системы электроснабжения и связи потребуют модернизации", - приводит издание слова представителя НАСА.
Так что совершенно не исключено, что период перекрестного использования МКС и новой орбитальной станции может продлиться несколько лет. Но никаких официальных решений пока нет.
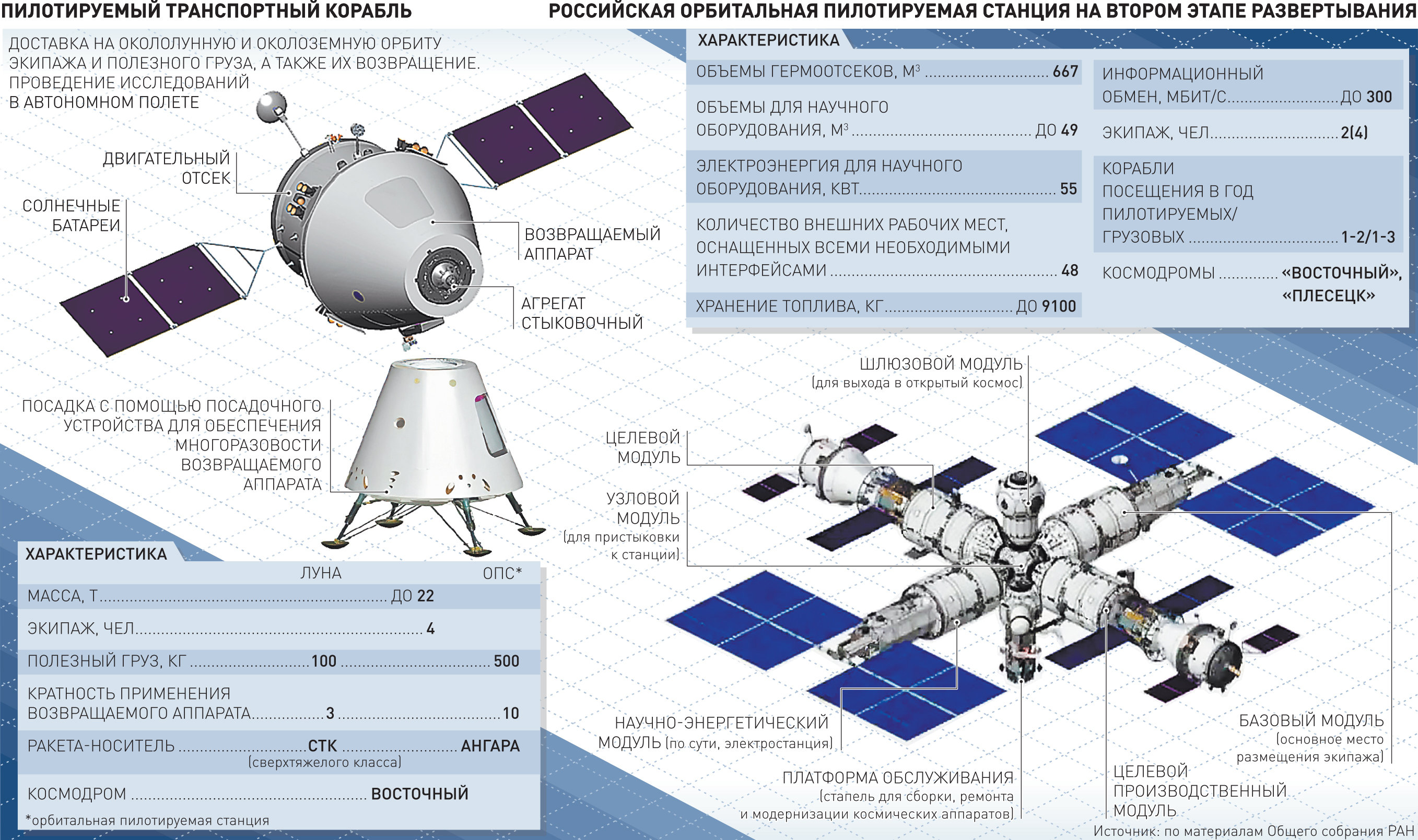

Прогулка в VR-шлеме по античным улицам
Какие новые проекты предложит Севастополь туристам в 2021 году
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Два туристических проекта из Севастополя вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства". Одни предприниматели собираются погрузить экскурсантов в прошлое с помощью виртуальной реальности, другие - создать школу российского вина. Начать оба проекта планируют уже этим летом.
- Идея в том, чтобы использовать виртуальную реальность и иммерсивные постановки для погружения участников экскурсии в далекое прошлое, - говорит автор проекта "Машина времени" Илья Давыдов. - В нескольких точках маршрута туристам будут выдавать шлемы виртуальной реальности, и они смогут увидеть, как выглядели улицы античного Херсонеса, замки и усадьбы Крыма, стать свидетелями сражений, встретить исторических персонажей.
Давыдов увлекается исторической реконструкцией и год назад начал проводить иммерсивные экскурсии по центральному кольцу Севастополя. В нескольких точках группу встречали "живые" исторические персонажи. Например, из дома выходил Корнилов и рассказывал, что принято решение затопить корабли, показывал карту Севастопольской бухты. Участники были в восторге. Но при попытке масштабировать проект возникли сложности: нужно было собирать реквизит, искать людей. Так родилась идея воссоздать атмосферу прошлого в виртуальной реальности. Первый маршрут пройдет у Балаклавской бухты. Надевая VR-шлемы в разных точках, участники группы увидят английские парусники периода Крымской войны и лагерь британских солдат, прогуляются по набережной конца XIX - начала XX века, когда Балаклава развивалась как курорт, поднимутся к восставшей из руин генуэзской крепости Чембало и встретятся с ее консулом, заглянут к пограничникам, которые оберегали подступы к Балаклаве в годы Великой Отечественной войны.
- Таких проектов еще не было, - говорит Давыдов. - Есть экскурсии с элементами дополненной или виртуальной реальности, когда участники видят, каким был исторический объект, его схематическое изображение. А у нас можно как бы вернуться в прошлое, почувствовать, пережить.
Чтобы открыть маршрут по 10 виртуальным точкам, понадобится 3,2 миллиона рублей. Около полугода уйдет на то, чтобы записать видеоролики с участием реконструкторов, создать 3D-модели исторических памятников и встроить их в видеоряд. Средства также пойдут на закупку шлемов виртуальной реальности и разработку сайта. Пешеходные экскурсии будут стоить 1500 рублей, автобусные - 2500.
По словам Ильи Давыдова, свой проект он реализует независимо от того, победит ли в конкурсе "Мастера гостеприимства". Для пробы уже этим летом планирует устроить экскурсии на Константиновской батарее в Севастополе.
- Ведем переговоры об этом с Русским географическим обществом, - сообщил Илья. - Батарея была отреставрирована, делать ее 3D-модель не надо, но мы можем воссоздать интерьер времен Крымской войны. Зайдя в современный коридор, туристы увидят в VR, как по нему пробегают солдаты русской армии. Здесь стоят отопительные печи XIX века и корабельные пушки, раздаются команды, залпы... Постараемся достичь эффекта полного погружения.
Глава Крымской ассоциации сомелье Тахмина Скуридина разработала программу образовательных винных туров, на базе которых откроется школа русского вина. Проект реализуется совместно с филиалом Московского государственного университета в Севастополе.
- Хотим привлечь больше туристов в Севастополь вне сезона, - говорит Тахмина. - Наша аудитория - это отельеры, рестораторы, работники сферы гостеприимства, винные туристы, гиды и блогеры. Они смогут не только посетить винные хозяйства Крыма, но и получить удостоверение государственного образца, повысить квалификацию или пройти курс переподготовки.
По ее словам, программу уже утвердил ученый совет филиала МГУ, ведется работа над учебным пособием, куда войдет информация о винодельнях полуострова. На воплощение проекта требуется три миллиона рублей, но вложения окупятся уже через 2,5 года, если каждый месяц запускать новую группу. Обучение рассчитано на 21 день, его стоимость составляет 85 тысяч рублей. Участники смогут выбрать полную программу с курсом лекций, по итогам которой выдается диплом, или же сосредоточиться на практических знаниях о винодельнях Севастополя и Крыма, изучать виноградники, терруары, производство, линейки вин. Для пилотного тура, который состоится этим летом, уже собирают группу.
- Винный туризм активно популяризируется в России с 2010 года, - продолжает сомелье. - В европейских странах годовой оборот этой отрасли превышает пять миллиардов евро, а число туристов - более 10 миллионов. У нас же в 2020 году было всего полмиллиона винных туристов. Наши винодельческие предприятия развиваются, создают проекты для туристов, строят гостиницы на винодельнях. Но при этом ни в России, ни в других странах обучающие программы не включают российское виноделие, никто не расскажет о наших терруарах и виноделах.
Комментарий
Мария Литовко, вице-губернатор Севастополя:
- Севастополь оказался в числе лидеров по бронированию на майские праздники, на 9 Мая в гостиницах уже забронировано 92 процента мест. Это хорошие показатели, и важна ответственная подготовка бизнеса к турсезону. Мы ищем новые возможности развития экотуризма в Севастополе. После открытия велотропы прорабатываем дополнительные маршруты для мотоциклов и квадроциклов, чтобы они не наносили вреда природе и не пересекались с пешеходами. Также будем внедрять ИT-инструменты в туризме, работаем над созданием интернет-платформы, которая поможет гостям ориентироваться в Севастополе, выстраивать маршруты, узнавать о событиях. Событийная повестка Севастополя в 2021 году, надеюсь, будет не менее насыщенной, чем в прошлом. Туристическое сообщество, со своей стороны, формирует новые экскурсионные программы, а отельеры настроены на увеличенный турпоток.
Между тем
В турсезоне-2021 Севастополь сделает ставку на экологический и событийный туризм. В городе открыли первый веломаршрут на Большой севастопольской тропе. Он протянулся на 21 километр от Балаклавы до села Гончарного по Байдарскому заказнику. С велотропы можно любоваться видами на море и средневековую крепость Чембало. Маршрут рассчитан на велосипедистов с разной подготовкой, преодолеть его можно за 2 - 3 часа. На пути установлено более 80 указателей с координатами. А общая протяженность Большой севастопольской тропы уже достигла 247 километров.

Эпоха киберриска
Виктор Маринин
Пандемия COVID-19, несомненно, стала на фоне стремительного развития сервисов удаленной работы и телемедицины катализатором роста IT-индустрии в нашей стране и в мире.
При этом повсеместный переход бизнеса и повседневной жизни людей в онлайн-пространство обнажил проблемы кибербезопасности, защиты компьютерных систем и данных, создав благоприятные условия и для роста киберпреступности.
По данным МВД России, в 2020 году число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4 процента, в том числе с использованием сети Интернет - на 91,3 процента, при помощи средств мобильной связи - на 88,3 процента. Киберугроза стала повсеместной, затронув абсолютно все сферы экономики и жизнедеятельности.
Среди целей хакеров оказались прежде всего крупнейшие государства: Китай, Россия, США, где пострадали такие важные государственные институты, как Министерство обороны и судебные органы США, Министерство чрезвычайных ситуаций КНР. Хакеры не обошли своим вниманием и транснациональные корпорации, в том числе таких IT-гигантов, как Microsoft, FireEye, Intel, NVidia, CiscoSystems. Взломав инфраструктуру американской SolarWinds, злоумышленники внедрили вредоносный код, позволивший получить удаленный доступ к информационной среде более 17 000 пользователей программного обеспечения Orion.
В кибератаках активно эксплуатировалась волнующая всех тема пандемии, посредством рассылки зараженных вредоносным кодом писем: с заявлениями ВОЗ, с информацией о выплатах социальных пособий и материальной поддержке, а также о вакцинации и способах лечения. Слабым звеном оказались и малозащищенные домашние сети дистанционно работающих сотрудников многих компаний.
Серьезные вопросы к IT-безопасности возникли и в отношении различных платформ для организации видеоконференций (например, ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet и др.), а также к интернету вещей (Internet of Things - IoT). Последний заслуживает отдельного внимания: использование злоумышленниками различных "умных" устройств, подключаемых к сети Интернет, в качестве средства кибератаки настолько участилось, что влиятельные участники международного страхового рынка - Lloyd's, компания-специалист по кибербезопасности CyberCube и перестраховочный брокер Guy Carpenter - объединили свои силы для анализа этой проблемы. В своем отчете они фокусируются на трех наиболее распространенных сценариях хакерских атак:
- целевая вирусная атака цепи поставщиков, при которой злоумышленники взламывают ПО производителя устройства и "заражают" продукты этого производителя еще до их продажи;
- целевая атака, при которой злоумышленники используют уязвимость, обнаруженную в заводских настройках широко используемых устройств интернета вещей;
- проникновение в промышленные IT-сети.
В каждом сценарии, если злоумышленники получают доступ к IT-системе компании, они могут использовать ее автоматизированную систему управления (АСУ), чтобы нанести физический ущерб предприятию, например, получить контроль над насосами или системами терморегуляции.
Угроза использования интернета вещей злоумышленниками настолько велика, что все больше выходит на первый план в борьбе с киберрисками. В 2020 году специалисты по безопасности компании ESET раскрыли уязвимость Wi-Fi-чипов от Broadcom и Cypress. Вывод обескураживающий: стало очевидно, что риск атаки затрагивает более миллиарда устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, маршрутизаторы и IoT-устройства. В их числе - продукты Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также точки доступа от Asus и Huawei.
Подобные факты свидетельствуют о том, что развитие технической защиты участников наступившей цифровой эпохи несопоставимо с масштабом проникновения киберрисков. Внедрение вирусов в корпоративные сети или взятое под чужой контроль "умное" оборудование может в один клик остановить работу промышленного предприятия, банка или госучреждения.
Финансовые потери от киберинцидентов зачастую не разглашаются компаниями из репутационных соображений, однако, по оценкам экспертов, ущерб от вируса NotPetya составил, например, у французского флагмана стекольной промышленности компании Saint-Gobain около 250 миллионов долларов, а британская NHS (национальная система здравоохранения) пострадала от WannaCry более чем на 120 миллионов долларов.
Сегодня мировое сообщество ставит киберриски на один уровень с такими глобальными угрозами, как стихийные бедствия, экологические и техногенные катастрофы и проч. По оценкам Всемирного экономического форума, потери мировой экономики от киберугроз в 2020 году оцениваются в 2,5 триллиона долларов, что сопоставимо с ВВП некоторых европейских государств, таких, например, как Франция или Великобритания.
В России финансовые последствия от приостановки деятельности или хищения баз данных для крупного бизнеса обернутся серьезными финансовыми потерями, а в отдельных случаях могут грозить банкротством. В этом смысле особенно уязвимым может стать малый и средний бизнес, если компании своевременно не внедрят комплексную систему IT-безопасности. Одним из важнейших элементов такой системы, позволяющих компенсировать значительную часть ущерба, является страхование киберрисков.
В России рынок страхования киберрисков находится в зачаточном состоянии и несопоставим с рынками США или Европы, где сборы премий в этом сегменте составили около 8 миллиардов долларов в минувшем году. Однако серьезные предпосылки и возможности для экспоненциального развития российского киберстрахования есть: это и законодательные инициативы государства, и реализация проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика", и активная разработка и внедрение продуктов страхования киберрисков лидерами российского страхового рынка.
Сегодня полис страхования киберрисков - это не роскошь, а насущная потребность для бизнеса, поскольку позволяет защитить баланс предприятия от непредвиденных финансовых потерь и дополнительных расходов страхователя в результате киберинцидента.
«Хлеб» и «зрелища» послания
о сказанном и не сказанном Владимиром Путиным
Владимир Крестовский
…Это было поздней осенью 1999 года. Уже полным ходом шла новая чеченская кампания, Путин — в ту пору премьер-преемник — стремительно набирал рейтинг, клинч между элитами уверенно шёл к своей развязке и на публичном уровне сводился к спецоперациям разного рода телекиллеров. На этом фоне неожиданное решение Березовского, полгода как покинувшего пост исполнительного секретаря СНГ, баллотироваться в Думу по одномандатному округу в Карачаево-Черкесии выглядело, конечно, любопытным, но вместе с тем явно не находилось в информационном топе. Во всяком случае, сегодня в Интернете об электоральных приключениях олигарха в горской республике осталось мало чего вразумительного. Между тем тогда, во время одной из встреч с избирателями, Березовский (человек, бесспорно, умный, тонко чувствовавший, что такое в России власть и как её воспринимают подчиняющиеся ей) бросил буквально гениальную фразу. Со своей фирменной многозначительной полуулыбкой, чуть сутулясь и держа руку в кармане, как бы походя, он сказал собравшимся поглазеть на «живого Березовского» примерно следующее: мол, понятно, что вы у меня будете просить деньги, но точно так же понятно и то, что помимо денег захотите попросить и чего-то ещё.
Фантастически меткое наблюдение! Народ в России хочет от власти двух традиционных вещей — «хлеба» и «зрелищ». Березовский даже не стал обсуждать «хлеб», с которым и так всё ясно, но послал аудитории чёткий и однозначный сигнал — про «зрелища» не просто помню, а придаю им, особенно в текущий момент, исключительно важное значение. Собственно, и сам транзит власти от Ельцина к Путину был ярким и запоминающимся «зрелищем», а на протяжении последующих двадцати с лишним лет Кремль, при всём его демонстративном прагматизме, не пренебрегает «зрелищами» именно как одной из важнейших в России властных технологий.
Однако оглашённое на прошлой неделе послание было сосредоточено почти целиком вокруг «хлеба», и в нём непропорционально мало были задействованы «зрелища». Отсюда и зависший в экспертной среде и даже в общественном мнении вопрос: а стоило ли столько времени загадочно тянуть с посланием, чтобы в итоге предложить нации то, что она и так ожидала от своего лидера, а именно — поддержку после всех издержек, вызванных пандемией? Или другой вопрос: да, выплаты — это прекрасно, но как быть с мечтой? О мечте-то президент забыл! В политической атмосфере вот уже неделю, прошедшую после послания, держится и не проходит ощущение, которое напоминает досаду ребёнка, который на Новый год надеялся получить в подарок какую-то безделушку, а разумные взрослые вместо неё положили под ёлку нечто гораздо более необходимое для жизни (скажем, калькулятор или портфель). В результате вроде бы и обижаться не с руки, но и слёзы сдерживать трудно.
И это при том, что обещанные Путиным выплаты общество восприняло как должное, как то, чего не могло не быть. Более того, есть в послании и действительно прорывные идеи. Например, его самая сильная часть — молодёжный проект, который не просто намного глубже и серьёзнее, чем просто способ перехватить растущее поколение у Навального, но представляет собой самую настоящую дорожную карту в будущее. В этом смысле те эксперты, которые поспешили охарактеризовать послание как раздачу денег без определённого видения и понимания перспективы, несомненно, ошиблись. Другое дело, что этот путь в будущее подан очень по-путински — без особого пафоса, рутинным образом и по большей части через простое перечисление намерений.
Но содержательная сторона сказанного на этот счёт президентом впечатляет: 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах, из них более 30 тысяч — в вузах региональных (что явно означает отказ от порочной практики укрупнения кластеров высшего образования), гранты в размере от 100 миллионов для 100 и более вузов России на инновационное развитие, 1300 новых современных школ с надлежащим оборудованием, миллиардные инвестиции в учреждения культуры на местах, в познавательные поездки по стране в рамках проекта «Россия — страна возможностей», а также другие инициативы — всё это действительно свидетельствует о самых серьёзных намерениях власти вкладываться в тех, кому принадлежит будущее. Правда, злопыхатели уже вовсю заговорили о том, что за перечисленными инициативами кроется очередной гигантский по своим масштабам распил руками приближённого к первому лицу Шувалова и его ВЭБа, и у обывателей, не избалованных столь масштабными вливаниями в культурно-образовательную сферу, есть все основания как минимум не исключать такой возможности. Однако совсем скоро станет понятно, действительно ли власть намерена столь серьёзно инвестировать в молодёжь: в послании названы конкретные и довольно близкие сроки ожидаемых перемен.
В конце концов, послание и не могло не стать социально ориентированным после прошлогодней самоизоляции и откладывающегося на неопределённую перспективу объявления о победе над ковидом. И в этом смысле предложенный президентом пакет свидетельствует не о том, что власть первого лица, которая в России традиционно сакральна, собственноручно превращает страну в «сервисное государство». Скорее наоборот: президентские инициативы ещё больше усиливают патерналистские скрепы, ведь Путин ни словом не обмолвился о сотрудничестве с гражданским обществом. Все заявленные меры преподносятся именно как милость свыше, в лучшем случае — как поощрение тех пассионариев (волонтёров, медиков, социальных работников, учителей и прочих), которые это заслужили своим героическим трудом. Так что «хлеб» выдан в надлежащей упаковке.
В своём стремлении остановить депопуляцию Путин впервые намекнул на то, к чему уже давно призывают отдельные эксперты (причём вопреки позиции, преобладающей в общественном мнении), а именно — на поддержку рождаемости вне семьи. Судя по всему, президент имел в виду не просто поддержку детей из неполных семей и матерей-одиночек, что естественно, но фактически дал понять: рожайте детей без заключения брака (если нет такой перспективы); равно как и угроза расторжения брака не должна влиять на ваше решение родить, пусть вас это не останавливает; главное — это появление на свет новой жизни, и государство поможет, не останется в стороне.
О том, что посыл президента сводился именно к этому, свидетельствуют его нарочито акцентированные реплики, произнесённые с отрывом от заготовленного текста выступления. Так, со вздохом и взглядом в сторону он сказал об алиментах, «чувствительной для многих семей теме», о том, что их взыскание — «это проблема, к сожалению, у нас в стране», и тут же с металлом в голосе подчеркнул, что «государство обязано защитить права ребёнка». Этим вопрос не исчерпывался, и Путин предупредил: «Я попозже ещё к этой теме вернусь». Хорошо известна его манера не подавать всё самое значимое за раз, а действовать «порциями», повышая на каждом новом заходе эмоциональный градус. Поэтому после такого обещания следовало ждать чего-то действительно нового, и через некоторое время Путин опять, как бы переключаясь в иной регистр и глядя прямо в зал, отметил сложность воспитания детей в неполных семьях. Кульминацией стала фраза: «Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать». Третьей эмоционально насыщенной фокусировкой на той же теме стал призыв к женщинам сохранять беременность вне зависимости от их семейного положения, а к государству и, что немаловажно, к обществу — всемерно поддерживать «будущую маму».
Эти места послания являются действительно революционными. Путин, по сути, открыто признался в том, что, несмотря на приоритет семейных ценностей, закреплённых в новой редакции Конституции, спасти Россию от вымирания можно только лишь при условии отхода, причём явно массового, от приверженности этим самым ценностям — с одновременным усилением их пропаганды и как наиболее желательной для деторождения идеологии, и как гаранта сохранения естественных отношений между полами. Задача действительно сложная. В ходе её решения придётся задевать глубинные стереотипы национальной культуры, входить в явный конфликт с другими конституционно закреплёнными ценностями — конфессиональными. Но, видимо, иного — лёгкого и однозначного — способа повышения рождаемости у нас просто нет. А угрозы дальнейшего сокращения населения более чем очевидны.
Похоже, что (пост)ковидная неопределённость обусловила и предельно взвешенную риторику Кремля в адрес бизнеса. Каждому предоставлена возможность самому решать, как себя вести: либо следовать примеру государства, которое с головой уходит в поддержку широких слоёв населения, особенно социально незащищённых, либо продолжать спасать свой бизнес всеми доступными способами. Путин ни словом не обмолвился об участии негосударственного сектора в заявленных им проектах, кроме брошенного как бы между делом: «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает», — с закономерно вытекающим из этих слов выводом о том, кого будет поддерживать государство. Скорее всего, Кремль в данный момент не хочет с кем-либо делить победу над социальными последствиями пандемии, хотя если инициативщики найдутся, их, по-видимому, не оттолкнут, но и в разряд «неприкасаемых» вряд ли переведут. Но кастинг государственно ориентированного и социально ответственного бизнеса после этих слов Путина можно считать объявленным, что создаёт определённые возможности для выхода предпринимательства из заклятья 1990-х — пребывания меж Сциллой преступной приватизации и Харибдой государственного рэкета.
Но это всё «хлеб», «хлеб»… Печальниками о «зрелищах» традиционно выступили оппозиционно настроенные эксперты. Их пафос сводился к констатации: дескать, вместо политических реформ обещана непродуманная и по большей части декларативная — а оттого нереализуемая — социальная помощь значительным сегментам населения. Иными словами, перефразируя известное выражение: масло вместо демократии. С этим упрёком и в адрес послания, и в отношении всего путинского курса следует разобраться подробно.
Прежде всего надо со всей определённостью, безрадостной для таких экспертов, пояснить, что реальный запрос на демократию, то есть на возвращение в 1990-е со всеми вытекающими отсюда последствиями (поскольку никакой другой демократии у нас никогда не было), чрезвычайно мал. Нас пытаются убедить в том, что об этом мечтают все или практически все более или менее образованные горожане России. Но это не так, и наглядное тому подтверждение — помпезно анонсированные, но в целом по стране провалившиеся протестные выступления в поддержку Навального в день послания. Даже «Белый счётчик» показывает резкое, в разы сокращение количества участников акций в регионах по сравнению с тем, что там же наблюдалось в конце января — начале февраля. Москва и Петербург в данном случае не показательны, здесь градус оппозиционности всегда был и будет выше, чем в среднем по стране. Важно другое: то, что прошлым летом происходило в Хабаровске и что действительно представляет для власти и страны в целом серьёзную угрозу, а именно — политизация недовольства на основе местной повестки, раздражение в адрес федерального центра и смычка на этой основе с моделируемым в Москве же протестом — вот этого 21 апреля нигде не наблюдалось. Региональные власти пишут это себе в заслугу, но подлинная причина в другом: протест попросту выдохся. Собственно, и зимой-то он по большей части подогревался вовсе не симпатиями к Навальному, а элементарным желанием поразмяться да покуражиться на фоне ковидных ограничений. И это опять-таки доказывает его абсолютно иную природу, нежели у продолжавшихся несколько недель по выходным действительно массовых и вместе с тем локально, конкретно мотивированных хабаровских шествий. В них тоже, естественно, чувствовалась и потребность развеяться после локдауна, но оформляющим и структурирующим недовольство, вызванное социальными проблемами, стал удачно подвернувшийся местный повод — арест Фургала.
Хабаровская модель протеста может сработать в любом другом месте страны, и набор поводов абсолютно предсказуем: беспредел правоохранителей, поведение мигрантов, непродуманные действия федерального центра и иные хорошо знакомые и периодически возникающие проблемы. Нельзя полностью исключить того, что подобные недовольства когда-нибудь сомкнутся с проецируемым определёнными элитами на всю страну, зацикленным на большую политику, либеральным по своей природе и чётко персонифицированным недовольством, но на сегодняшний день для такого развития событий практически нет шансов. Хочется надеяться, что власть это осознаёт и последовательно разводит оба протеста подальше друг от друга.
Что же касается столиц, то не стоит преувеличивать значение происходящего в них. Да, исторически все революции начинались именно здесь, но всё равно в настоящий момент нет оснований полагать, что этот сценарий способен снова сработать. Во всяком случае, пока. Хотя лодка активно раскачивается, причём подчас самым неожиданным образом. Например, за два дня до выступления Путина и, соответственно, до анонсированных акций в поддержку Навального на телемониторах московского метро активно крутили странную заставку: «Москва — лучшее место для прогулок. Если не сейчас, то когда?» Может быть, за этими фразами был скрыт и какой-то банальный рекламный смысл, но накануне символического действа, нацеленного на девальвацию президентского послания, московским властям следовало бы внимательнее относиться к тому, что демонстрируется на экранах в вагонах метро, тем более что степень воздействия этого информационного ресурса на пассажиров довольно значительна.
Не обошлось в послании и без ляпов. Элементарные оговорки типа «надо восстановить эту несправедливость» не в счёт. А упоминание Варшавского договора в контексте ОДКБ, похоже, и подавно было заранее заготовленным троллингом бывших партнёров по Восточному блоку, с упоением разоблачающих российских шпионов. Но, говоря о ляпах, хочется обратить внимание на другое. Эксперты без особого труда опознали слова Плюшкина «завели пренеприличный обычай», с досадой сказанные гоголевским персонажем о распространённой моде наносить друг другу визиты, во фразе Путина, обращённой к «некоторым странам», взявшим за правило во всём подряд винить Россию. На первый взгляд, вроде ничего предосудительного тут нет, и даже напротив: обращение к русской классике, казалось бы, усиливает иронию президента. Но если приглядеться внимательнее, то двусмысленность этого стилистического изыска становится очевидной. Классик высмеивает скаредность созданного им персонажа, раздражающегося по поводу нормальной и естественной потребности людей встречаться и навещать друг друга и называющего эту потребность «пренеприличным обычаем». Выходит, что Путин, заговоривший языком Плюшкина, недоволен чем-то само собой разумеющимся — «цеплянием России» со стороны коллективного Запада?
Более того, в "Мёртвых душах", чуть ниже, Плюшкин высказывается по поводу количества имеющихся у него крепостных: «Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков». Если вкладывать в уста Путина слова литературного героя, который, в общем-то, буднично констатирует мор своих крестьян, то на фоне ещё не побеждённого ковида получается какая-то совсем уж явная подстава президента. Понятно, что подстава непреднамеренная, но от этого не менее «пренеприличная»: спичрайтеры, похоже, просто поленились внимательно просмотреть дальнейшие — после «пренеприличного обычая» — реплики Плюшкина. Но такая оплошность — из одного ряда с «она утонула».
Есть и ещё один негативный для президента подтекст в этом цитировании "Мёртвых душ", но винить в нём кремлёвских спичрайтеров вряд ли уместно, поскольку для его улавливания требуется совсем уж основательная, выходящая за рамки школьной программы погружённость в русскую литературу. Словосочетание «скучища неприличнейшая» проговаривает в «кошмаре» Ивана Карамазова… чёрт. У Достоевского это, скорее всего, скрытая аллюзия на реплику Плюшкина. Но всё равно интересная цепочка получается: Плюшкин — чёрт — Путин.
Киплинг, конечно, «великий писатель», но все его бандар-логи, шерханы и табаки с британской пунктуальностью разложены по полочкам, у него нет никакой невнятности и двусмысленности, и единственный прочитываемый контекст его сочинений — это величие империи, над которой никогда не заходит солнце. Русская литература сродни русскому характеру: в ней сплошь двусмысленности и неоднозначности, она словно топь болотная: не на ту кочку наступишь — тут же провалишься. И те, кто отвечает за имидж президента, обязаны досконально разбираться в этих кочках.
Неудачной следует назвать климатическую часть послания. Она явно не сработала, и даже более того — спустя несколько дней бумерангом ударила по Путину. Дело в том, что эта тема у нас практически не имеет внутриполитического звучания. Точнее, она присутствует — но ни в коем случае не как разговоры об изменении климата за счёт выбросов углекислого газа и парникового эффекта. Для страны, в которой после катастрофы 1990-х реиндустриализация остаётся очаговым феноменом, запугивания парниковым эффектом смешны и справедливо воспринимаются как лукавый способ не допустить создания в России новой высокотехнологичной индустрии.
Экология в целом — другое дело. Такая повестка не просто существует, но на отдельных территориях буквально вопиет. Поэтому упоминание Путиным катастроф в Норильске и Усолье-Сибирском, обещание помочь пострадавшим, как и провозглашённый им принцип: «Получил прибыль за счёт природы — убери за собой», — это всё в тему, это востребовано и работает как пункты доктринального документа, каким является президентское послание. Но стоило ли сюда же мешать — с прицелом на предстоящий климатический саммит — «вызовы изменений климата» и рассчитанное на непонятный срок в три десятилетия поддержание в нашей стране уровня парниковых газов на более низком, нежели в Евросоюзе, уровне, создание специальной «отрасли по утилизации углеродных выбросов»? Это же совершенно не наши проблемы, несмотря на планетарную общность экологических вызовов.
Да и выступление Путина на климатическом саммите оставило не лучшее впечатление. Нет, по сути президент сказал всё правильно, отказавшись следовать в русле американского видения проблемы — во всём винить выбросы углекислого газа и настороженно относиться к атомной энергетике. Но ведь запомнилась не эта особая позиция Путина, а то, что его дважды похвалил Байден, фактически приписав российскому лидеру акценты, которых тот на самом деле не расставлял, — на приоритетное внимание ко всё тому же углекислому газу! Безусловно, России надо участвовать в обсуждении этой глобальной темы, но не смешивать её с тем, что происходит дома. А то получилось, что сомнительные похвалы Байдена задним числом замарали путинское послание, обесценив тем самым обещание самостоятельно определять «красную черту», которую Россия никому не позволит нарушать, и смазав впечатление от указа о «недружественных» государствах.
Нельзя не сказать и ещё об одном неприятном осадке от трансляции послания по основным телеканалам. Бросилось в глаза то, что собравшаяся в Манеже аудитория чётко делилась на две группы — тех, кто в масках, и тех, кто без них. В идеале всем без исключения следовало бы помучиться полтора часа, хотя бы приспустив опостылевшее средство индивидуальной защиты ниже носа. Была бы понятна и объяснима противоположная картинка, — когда все без масок. Под это дело Путин мог бы по-отечески попенять собравшимся, и они тут же достали бы из карманов и дамских сумочек эти символы времени и тем самым продемонстрировали телезрителям идеальную управляемость российского политического класса, его абсолютную подчинённость «суверену». Но произошло самое худшее из того, что только могло случиться, — каждый сидел, как бог на душу положит. И если хотя бы без масок были только лица серьёзные и наиболее приближённые, а остальная массовка — в «намордниках», то это как-то ещё можно было бы понять и принять. Ну, как зримое воплощение вертикали власти: чем выше позиция, тем меньше необходимость обременять себя какими-то санитарными условностями. Но в том-то и дело, что, например, Сечин всё выступление Путина просидел в маске, а медийно неузнаваемые депутаты и не думали мучиться. После такой картинки и впрямь закрадывается сомнение в том, что нужные и своевременные инициативы президента смогут пробиться сквозь толщу элиты, которая даже в такой мелочи норовит выказать свою самость, а первое лицо делает вид, что ничего не замечает.
К сожалению, ничего не изменилось в главной порочной практике Кремля — его предельной, зашкаливающей зависимости от рейтинговых показателей собственной популярности, а значит неготовности и нежелании идти наперекор равнодействующей массовых запросов сначала и главным образом «хлеба», а потом уже «зрелищ», желательно на экране. Лучшее тому доказательство — распиаренный официальными и формально независимыми СМИ подскок процента доверяющих президенту после его социально и миролюбиво ориентированного послания. Понятно, что полностью игнорировать такую равнодействующую, к сожалению, невозможно, пока значительная часть элиты сверяет часы с Западом, а активная часть населения сидит в не отключённом от заграницы Интернете. Но полностью ориентироваться на эту равнодействующую власть ни в коем случае не должна — если, конечно, она не рассматривает себя в качестве утилизатора ресурсов «этой страны» и намерена отстаивать её геополитическую самость.
То, что Путин не утилизатор, — бесспорно, противное утверждают только очень уж недалёкие «патриоты». Но очевидно также и то, что его чекистская осторожность, привычка дуть на воду, даже не обжёгшись на молоке, создаёт впечатление, что он если и не утилизатор, то, во всяком случае, наивный мечтатель, полагающий, что чем лучше — тем лучше, а не чем хуже — тем лучше, как в концлагерях говаривали евреи и в итоге исторически оказались правы. Путь к осуществлению мечты лежит через лишения и подвижничество пассионарного меньшинства. Вместе с тем любая государственная власть и на практике, и в риторике ориентируется всё-таки не на это меньшинство, а на обывательское большинство. То есть добивается успехов с помощью пассионариев, а устойчивость обретает, опираясь на обывателей. Но в том-то и дело, что даже в последнем случае, даже с оглядкой на политически пассивное и эгоцентричное большинство власти необходимо демонстрировать свою приверженность ценностям меньшинства, а в нашей стране это и подавно необходимо. Хотя бы на уровне тех или иных «зрелищ». А вот этого в послании президента было неожиданно мало. Чересчур мало. Понятно, что незадолго до оглашения послания Путин, как и накануне футбольного чемпионата в 2018 году, без единой силовой акции, одной лишь проекцией силы остановил готовившееся нападение Украины на ДНР и ЛНР. Но об этом следовало сказать в послании, а не замалчивать вовсе тему, обеспечившую Путину во время его третьего срока невиданную поддержку и во многом до сих пор продолжающую работать на укрепление образа президента как гаранта национальных интересов России.
Остаётся, правда, слабая надежда на то, что послание явилось своего рода пактом Молотова — Риббентропа: чтобы более или менее спокойно протянуть ещё какое-то время до неминуемого, неизбежного конфликта с коллективным Западом, поднакопить ресурсов (и при этом не дать их разворовать), в очередной раз попытаться нащупать хотя бы какие-то группы населения, на которые в случае чего можно будет опереться, — в отличие от большинства, которое раз в год на 9 мая клянётся в том, что «может повторить», но впадает в истерику, как только начинается передислокация войск в южные или какие-либо иные регионы страны. Необходимо взять паузу. Не форсировать. Дезориентировать влиятельных оппонентов, прежде всего внутри страны. Да и, в конце концов, прийти в себя после пандемии. А для этого — пойти на поводу ожиданий большинства, обеспечивающего нужные рейтинги. В какой-то мере повторить опыт столетней давности, когда пришлось прибегнуть к НЭПу, чтобы снять внутреннюю напряжённость и подготовиться к мобилизационному рывку в новую индустриальную реальность. То есть дождаться нужного момента, в который только власть и сможет более явственно обозначить свои стратегические намерения.
Поэтому послание вызывает противоречивые чувства. Умом понятна путинская сдержанность и умеренность, концентрация на том, что вызывает однозначный консенсус, и замалчивание вопросов, которые, обеспечивая стране необходимый градус самоощущения, могут этот консенсус нарушить. Да, сердцем эта недосказанность воспринимается очень деструктивно. Однако такая раздвоенность — надёжный тест на патриотическую зрелость. Легче всего, как делают некоторые псевдопатриоты, клеймить президента за его «нерешительность» и зависимость от «интересов» его «друзей», усматривать в его действиях голый «бизнес-подход», при котором даже враги становятся «партнёрами». Но такой взгляд далёк от подхода действительно патриотического. С 1999 года и до сего дня Путин не допустил ни одной фатальной ошибки, в то время как реальные достижения его правления налицо. Не так быстро всё идёт? Значит, по-другому нельзя, сверху это виднее, чем нам — снизу.
Однако никто не может отобрать у нас право интуитивно реагировать на каждый шаг власти словами «тепло» или «холодно». И долгожданное послание 2021 года — со всеми его издержками и недоговорённостями — это, если говорить о «хлебе», в целом «тепло», а вот в отношении «зрелищ» — «холодно».
Азиатское НАТО: поймай китайского дракона
на настоящем этапе это больше клуб по интересам, а не военно-политический блок
Константин Батанов
На прошлой неделе стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Вашингтон в конце мая. Это будет второй национальный лидер, который встретится с новым президентом США Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Псаки объявила, что встреча Байдена и Мун Чжэ Ина подчеркнет прочный союз США и Южной Кореи, а также долгосрочные отношения и дружбу между двумя народами. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, при этом ожидается, что ключевое внимание будет отведено темам безопасности и международной политики.
Перед американской стороной стоит очень сложная дипломатическая задача – убедить корейскую сторону примкнуть к «четырехстороннему диалогу по вопросам безопасности», в котором участвуют США, Япония, Австралия и Индия (Quadrilateral Security Dialogue – QUAD - КВАД).
Некоторые аналитики называют КВАД «азиатским НАТО», предполагая, что на его базе возникнет военно-политический блок, направленный против Китая, России и некоторых других азиатских стран. Создание диалога было предложено в начале 2007 года тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ. С тех пор динамика его развития менялась – иногда диалог затухал на несколько лет, а иногда набирал обороты. В 2017 году США приняли Индо-Тихоокеанскую стратегию и стали принимать более активное участие в работе КВАД, тем самым «оживив» его.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин считает, что механизм «четырехстороннего диалога по вопросам безопасности», широко рассматриваемый как мера сдерживания Китая, представляет собой «угрозу безопасности» и индо-тихоокеанский вариант НАТО. Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь назвал этот механизм закрытым клубом, основанным на идеологических предубеждениях против Китая.
Южнокорейский лидер находится в очень сложном положении, потому что, с одной стороны, он заинтересован в поддержке США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, а, с другой стороны, не хочет портить отношения с Китаем. Очевидно, что Южная Корея зависит от Китая экономически и политически, поэтому она является слабым звеном в азиатской стратегии США.
Эксперты полагают, что американская сторона также может пойти на некоторые уступки в вопросах обеспечения безопасности Южной Кореи в обмен на участие корейской стороны во взаимодействии с КВАД.
На руку США усиливающийся рост антикитайских настроений в южнокорейском обществе. Из последних событий, наложивших тень на отношения с Китаем, стал возможный отказ от создания чайна-тауна в корейской провинции Канвондо. Предполагалось, что в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей на площади в 1,2 млн.кв.м построят китайский культурный комплекс – с копиями основных китайских достопримечательностей, ресторанами, торгово-развлекательными центрами и т.п. Однако это встретило резкое неприятие со стороны местных жителей – по состоянию на 18 апреля петицию о запрете строительства подписали почти 600 тысяч человек, люди недовольны растущей китаизацией Кореи.
Поэтому вполне возможно, что южнокорейское руководство под влиянием общественности и американским давлением сделает какие-то шаги навстречу КВАД.
Между тем, в начале апреля в Бенгальском заливе прошли совместные трехдневные военно-морские учения участниц КВАД и Франции. Учения проводились под руководством представителей французского флота, в них приняли участие восемь судов стран-участниц.
Посольство Франции в Индии 31 марта выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что учения «предоставят возможность этим пяти единомышленникам и высококлассным военно-морским силам наладить более тесные связи, отточить свои навыки и развивать морское сотрудничество во всем свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе».
Учения явились одним из результатов проведенного в марте виртуального саммита КВАД. Теперь к ним добавилась Франция, учения проводились в формате «4+1».
Организация подобных мероприятий становится регулярной: в ноябре прошлого года США, Япония, Австралия и Индия участвовали в военных учениях «Малабар», в 2019 году Австралия, Япония США и Франция проводили совместные учения «Лаперуз».
Аналитики и журналисты этих стран не скрывают, что учения проводятся с целью противодействия китайской экспансии в АТР, в Китае их также воспринимают весьма однозначно, называя «демонстрацией мышц Китаю».
Проведению апрельских учений предшествовала дипломатическая подготовка – незадолго до этого представители новой американской администрации Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Японию и Южную Корею. Затем Остин отправился в Нью-Дели, где назвал Индию «всё более важным партнером» и договорился «укреплять сотрудничество» в Индо-Тихоокеанском регионе.
Последние годы отношения Индии и США не были абсолютно безоблачными, Индия имеет свой независимый взгляд на многие международные проблемы, который не всегда совпадает с американским. Поэтому Индия относилась и продолжает относиться к американской стратегии «восстановления баланса» в АТР очень осторожно.
Однако после ухудшения отношений между Индией и Китаем из-за пограничного конфликта Индия стала постепенно поворачиваться к США. В конце октября 2020 года США и Индия подписали «Базовое соглашение об обмене информацией о геопространственном сотрудничестве», документ был подписан в ходе третьего индийско-американского министерского диалога «2 плюс 2», в котором приняли участие индийские министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, американский госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны США Марк Эспер.
Позиции США и Японии традиционно совпадают по многим вопросам. В середине апреля в Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. По результатам переговоров главы двух государств осудили действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и заявили: «Мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво в Восточно-Китайском море. Мы в очередной раз высказываем наши возражения против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море».
У Австралии имеются политические противоречия с Китаем, которые австралийцы создали из солидарности с США. Недальновидное поведение австралийского руководства привело к тому, что китайские власти наложили санкции на австралийское вино, ячмень, говядину и некоторые другие товары (но пока еще не на те, что составляют основу экспорта Австралии в Китай), что нанесло ущерб австралийскому бизнесу и снизило негативную активность чиновников.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, направление политики США в АТР и Индо-Тихоокеанском регионе носит последовательный характер и не меняется в случае смены американских президентов. Основы для эволюции КВАД до нынешнего состояния закладывались при Обаме, далее этот диалог укрепился при Трампе и продолжает развиваться при Байдене. В устных заявлениях американцев возможно смягчение или ужесточение тона, но в плане реальных действий изменений не предвидится.
Во-вторых, нельзя исключать возможность, что через какое-то время мы действительно увидим азиатскую версию НАТО. США будут стремиться создать такую организацию для сдерживания, в первую очередь, Китая и, возможно, запугивания других стран. Раньше необходимость в этом отсутствовала по нескольким причинам:
- Ещё пару десятилетий назад Китай не имел достаточного влияния в регионе, чтобы представлять угрозу интересам США, однако непрерывное развитие экономики Китая и постоянное усиление его военной мощи вызывает обеспокоенность американских стратегов.
- По результатам Второй мировой войны США завладели цепью имеющих стратегическое значение островов – от Гавайских до тех, что расположены в западной части Тихого океана. США установили особые отношения с Японией, Южной Кореей и Тайванем. В комплексе это позволяло Соединенным Штатам достигать своих стратегических целей в Восточной Азии без создания аналога НАТО.
В-третьих, «Азиатское НАТО» на настоящем этапе представляет собой больше клуб по интересам, а не военно-политический блок. У него нет постоянного секретариата или взаимных обязательств. Соответственно, принуждать членов КВАД совершать какие-то совместные действия пока не представляется возможным. Но это можно делать с каждым из них по отдельности в двустороннем формате. Поэтому США будут стараться стимулировать ухудшение их отношений с Китаем через эскалацию территориальных споров, различных противоречий и т.д.
В-четвертых, страны КВАД имеют разные интересы, их проблемы в отношениях с Китаем также не всегда совпадают. Например, США интересует долгосрочное доминирование в регионе и сдерживание экономического роста Китая. Индию и Японию беспокоят территориальные споры с Поднебесной. При этом у всех этих стран есть объединяющий фактор – мощное экономическое сотрудничество с Китаем. Несмотря на все проблемы каждая из них зависит от китайского рынка сбыта и китайских инвесторов. Поэтому ждать резких действий и превращения КВАД в военно-политический союз в ближайшее время не приходится.
В-пятых, теоретически в «азиатское НАТО» могли бы вступить Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Сингапур и некоторые другие страны АТР, но, если у этой структуры будет откровенная антикитайская направленность, то они побоятся это делать по тем же экономическим причинам. Поэтому можно ожидать, что США постараются «размыть» состав участников потенциального альянса за счет привлечения некоторых европейских стран, которые действительно входят в НАТО. Это уже происходит, но пока в форматах «4+1» и т.п. Например, Франция уже приняла участие в совместных учениях, Германия и Великобритания объявили, что в этом году направят военные корабли в Индо-Тихоокеанский регион, Франция, Германия и Нидерланды начали подготовку проекта стратегии Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе.
Сбер выводит аптеки в офлайн
Сбер планирует запустить пилотный проект по открытию физических точек онлайн-аптек "Сбер Еаптека" (eapteka.ru). Если пилот будет востребован, Сбер масштабирует офлайн-сеть, при этом конкурентным преимуществом таких аптек станет доступность лекарств благодаря ряду мероприятий, направленных на снижение цен на препараты.
Юлия Мельникова
Вчера, 27 апреля, первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сообщил, что проект Сбера - "Сбер Еаптека" будет делать лекарства доступнее для населения. На вопрос корреспондента ComNews, как именно это произойдет, Лев Хасис рассказал, что Сбер планирует провести пилоты по открытию физических "Сбер Еаптек" на площадях отделений банков.
"Если мы увидим, что клиентам понравится возможность совместить поход в банк с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять. И за счет того, что мы будем предоставлять помещение для аптеки на очень льготных условиях, она сможет предлагать более низкие цены, - сказал Лев Хасис. - Мы будем активно работать с производителями лекарств и с сервисами здравоохранения, чтобы оптимизировать фасовки лекарственных препаратов. Это позволит клиентам покупать не большие флаконы и упаковки, а ровно столько таблеток, сколько нужно и прописал врач".
Также Лев Хасис сообщил, что аптека будет работать над развитием своих собственных марок лекарственных препаратов - дженериков, цены которых будут доступными. "Они будут стоить кардинально дешевле, чем те, цена которых на 80% состоит из рекламы", - заявил он.
"Еаптека" основана в 2011 г. В конце 2020 г. - начале 2021 г. Сбер и группа компаний "Р-Фарм" приобрели в "Еаптеке" по 45% акций. Еще 10% "Еаптеки" осталось у ее основателя Антона Буздалина. Сбербанк инвестировал в покупку 5,7 млрд руб. Юрлицо "Еаптека" после начала сотрудничества со Сбербанком работает под брендом "Сбер Еаптека".
Управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман напомнил, что доставка лекарства в большинстве случаев идет до ближайшей аптеки, откуда его нужно забирать самому. "С этой точки зрения развитие сети аптек имеет смысл, потому что людям все равно нужно будет идти до офлайн-точки. У Сбера много возможностей найти место для таких помещений, поскольку он обладает огромной сетью офисов, в которых освобождается часть помещений из-за ухода банковских услуг в онлайн, поэтому может получиться синергия, - считает Марк Шерман. - У бизнесов Сбера преимущество, поскольку есть возможности использовать положение банка как крупного участника рынка недвижимости. Еще одно преимущество - это продвижение сервиса в рамках своей экосистемы, участие в программах лояльности, маркетинговых акциях и встраивание в рекламные кампании Сбера, то есть потенциал существенно увеличить долю рынка есть".
В феврале 2021 г. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС; включает в себя крупнейших игроков рынка, таких как "Ригла", "36,6", "Нео-фарм" и др.) пожаловалась в Генпрокуратуру на интернет-аптеку "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру". Об этом сообщали "Ведомости". Ассоциация настаивает, что "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру" дистанционно торгуют рецептурными препаратами, что запрещено действующим законодательством.
Аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов отметил, что, согласно данным исследовательской компании DSM Group, общий объем аптечного рынка в России в 2020 г. составил 1,4 трлн руб., при этом на онлайн-продажи пришлось 6,6% от этой суммы. "Если посмотреть на другие страны, то в Китае доля онлайн-продаж лекарств достигает 17%, в США и Британии - 11-12%. Так что потенциал расширения данного сегмента представляется неплохим. Однако учитывая, что через интернет по-прежнему не разрешается продавать рецептурные препараты - о перспективах внедрения электронных рецептов пока трудно судить, но вряд ли это произойдет быстро, - обычные, офлайновые аптеки, несомненно, будут оставаться высоко востребованными еще долгое время", - комментирует Игорь Додонов.
Что касается планов Сбера по открытию аптек в своих отделениях, то это решение кажется аналитику неоднозначным: "С одной стороны, многим потребителям может показаться удобным совместить две вещи - посетить отделение банка и заодно купить какое-нибудь лекарство - или забрать лекарство, заказанное через интернет. С другой стороны, банковское обслуживание само все больше смещается в онлайн, и данная тенденция, вероятно, будет только усиливаться. Поэтому у открытых в отделениях аптек может просто не оказаться достаточного трафика, поскольку просто зайти в отделение банка, чтобы купить лекарство, для многих граждан будет непривычным - хотя реклама здесь вполне может помочь. Так что все будет зависеть от того, насколько "зайдет" пилотный проект. Если он окажется удачным и будет масштабирован, то, учитывая количество отделений Сбера в РФ и их распространенность, банк может войти в десятку ведущих игроков российского аптечного рынка".
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанса" Александр Осин вспомнил данные другого исследования: "По данным Data Insight при поддержке IQVIA, за 2019 г. оформлено 51,6 млн заказов на сумму 86,3 млрд руб., таким образом, за 2019 г. интернет-магазины оформили на 98% больше заказов, чем за 2018 г. Средний чек составил 1670 руб. В апреле 2020 г. директор управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка Александр Юдин оценивал долю онлайна в аптечном бизнесе как приближающуюся к 5%, которая может удвоиться в течение трех лет".
"Под влиянием коронакризиса, однако, темпы роста сектора существенно замедлились, - отметил Александр Осин. - Об этом свидетельствуют опубликованные Data Insight данные сервиса Apteka.ru, который является лидером сектора, с долей в 40% онлайн-продаж всего сегмента. Товарооборот сервиса Apteka.ru за 2020 г. составил 50 070 млн руб., увеличившись на 46% к 2019 г. При этом средний чек составил 1550 руб. Причин замедления динамики развития сектора, как представляется, две. Во-первых, с точки зрения долгосрочного периода уровень в 10% от продаж офлайн, к которому подошел сегмент онлайн-аптек, представляется устойчивым ограничителем их роста. В США, где торговля онлайн развивается уже более 20 лет, 90% продаж розничного сектора по-прежнему совершаются в обычных магазинах. Вторая причина - экономический застой и участившиеся кризисы последнего десятилетия. В 2017 г. и 2018 г. прирост продаж лекарств в натуральном выражении в РФ составил 9,5% и 8% против 1,3% и 2,8% год к году для индекса всех товаров. При этом средний прирост индекса физического объема розничной торговли основными товарами - несмотря на эффект от кризиса 2008 г., - в 2000-2012 гг. составлял значительно более высокие, чем сейчас, 9,1% (г./г.). На этом фоне итоговое ухудшение среднегодовых темпов прироста розничных продаж в 2019 г. и 2020 г. до 1,9% (г./г.) и -4,6% - несмотря на их пиковый рост в начале 2020 г., составивший почти 5%, - сопровождалось падением реализации лекарств в аптеках в натуральном выражении на 1,5% до 3,8 млрд упаковок в 2019 г., и еще на 1,7% до 3,7 млрд упаковок в 2020 г.".
Александр Осин прогнозирует возможное ускорение до 2,5-3,5% (г./г.) экономического роста в 2021 г., несмотря на опасность инфляционного шока в 2022-2023 гг., которое поддержит сегмент розничных онлайн- и офлайн-продаж. "Но темпы роста этого рынка ожидаемо, как представляется из предпосылок, указанных выше, замедляются. На этом фоне, опять же, ожидаемо происходит консолидация активов данного сегмента. Сбер "встраивается", как представляется, именно в модель консолидирующегося рынка, надеясь за счет своих финансовых ресурсов значительно расширить долю - за счет ослабления ряда ключевых на данный момент игроков в условиях спада прироста продаж, усиления на этом фоне конкуренции по цене и качеству услуг", - прокомментировал Александр Осин.
По его мнению, Сбер может рассчитывать, в случае успеха офлайн-аптек, на долю рынка около 40%. "Судя по другим проектам Сбера и принимая во внимание текущую структуру распределения доходов отрасли онлайн-аптек, целевым уровнем для банка в секторе будет, возможно, значение в 30-50% от суммарной выручки. Это приблизительно тот уровень, которого достиг при поддержке Сбера сервис "Яндекс.Такси". Это значение совпадает и с текущей долей на онлайн-рынке сервиса Apteka.ru. Более высокие значения рыночной доли, исходя из имеющейся рыночной статистики, вероятно, создают регуляторные риски и риски, связанные с неоднородным характером спроса в секторе. С другой стороны, меньшая доля на рынке предполагает и меньшую маржу, и большие риски поглощения более успешными игроками, что, как показывает статистика, и формирует стремление игроков к достижению на рынке указанного показателя продаж около 40% от общей суммы", - пояснил прогноз Александр Осин.
Совместное предприятие ВТБ и Ростелекома войдёт в капитал рекламной платформы MediaSniper
Совместная компания ВТБ и Ростелекома "Платформа больших данных" и компания MediaSniper подписали соглашение о предварительных условиях сделки по покупке доли. Об этом говорится в сообщении банка.
ПБД и MediaSniper будут совместно развивать продукты и услуги на рекламном рынке, которые позволят показывать конечным потребителям предложения, максимально соответствующие их интересам и желаниям. Клиентами ПБД и MediaSniper будут как рекламодатели из различных отраслей, так и рекламные агентства.
Стратегия компании ПБД предусматривает работу на нескольких крупных рынках, в том числе развитие продуктов в сфере рекламы, как органически, так и через стратегические партнёрства с ключевыми игроками.
ПБД после покупки доли в компании MediaSniper рассчитывает занять заметную долю на высоко конкурентном рынке интернет-рекламы, используя проверенные технологические решения MediaSniper и собственные алгоритмы обработки Big Data.
ПБД и MediaSniper планируют создавать совместные продукты и услуги на рынке интернет-рекламы за счет уникальных массивов Big Data и технологических решений ПБД на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Стороны рассчитывают, что синергия позволит ускорить вывод продуктов на рынок.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.
Сбер профинансировал на 1.6 млрд руб. федерального застройщика "Талан" в Тюмени
Западно-Сибирское отделение ПАО "Сбербанк" впервые профинансировало проект федерального застройщика "Талан" в Тюмени в размере 1.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Кредит предоставлен сроком на три года на строительство третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса "Интеллект-Квартал", расположенного в микрорайоне "Тюменская Слобода". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в I квартале 2023 года.
Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Сбербанк выдаёт онлайн-кредиты малому бизнесу в Москве в выходные дни
Московский банк ПАО "Сбербанк" выдал первые 27 онлайн-кредитов на сумму 30.5 млн руб. малому бизнесу в выходные дни. Об этом говорится в сообщении компании.
Такая возможность стала доступна в режиме 24/7 индивидуальным предпринимателям и ООО с одним собственником — генеральным директором при получении нецелевого кредита суммой до 5 млн руб. без залога и поручительства. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.
Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Клиенты ВТБ перевели более 10 млн руб. через голосового ассистента
Пользователи ВТБ Онлайн перевели через голосового ассистента более 10 млн руб. с момента запуска сервиса в феврале. Средняя сумма чека по переводам составила 8.7 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Виртуальный помощник проконсультировал клиентов уже более 80 тыс. раз и помог пользователям совершить более 1.8 тыс. операций — оплатить мобильный телефон и перевести деньги по номеру телефона.
Голосовой ассистент может проконсультировать клиентов по 1.1 тыс. различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе и приобрести билеты в кино.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
СберМегаМаркет и СберМаркет не планируется объединять
СберМегаМаркет и СберМаркет не планируется объединять. У этих сервисов разная модель покупательского поведения. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Вместе с тем, партнёры СберМаркета будут представлены на СберМегаМаркете.
СберМаркет — это онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет работает в Москве и Московской области, а также 150 городах России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, включая все города-миллионники.
СберМегаМаркет — новое имя маркетплейса goods.ru. СберМегаМаркет – мультикатегорийный маркетплейс, входящий в экосистему Сбера, на котором представлено более 2.5 млн товаров.
Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Цены цветных металлов устремились вверх, рассчитывая на оживление экономики
В понедельник, 26 апреля, все цветные металлы подорожали в Лондоне на 1% или более на волне ожиданий экономического восстановления. Наилучшие результаты показали медь и алюминий, обновив максимумы 2021 г., выйдя на отметки $9765 и $2407 за т соответственно. По итогам торгов трехмесячный контракт на медь вырос в цене на LME на 2%, до $9751 за т. Цена алюминия выросла на момент окончания официальной сессии на 1,6%, до $2403,50 за т.
Объемы торгов медью достигли на бирже самого высокого показателя с 19 апреля, превысив уровень 20 тыс. лотов, тогда как на предыдущей неделе объемы продаж металла составили 10073 лота.
«Проблемы с предложением меди снова усилили ожидания напряжений на рынке меди в текущем году», - отмечает аналитик StoneX Натали Скотт-Грей, указывая на призыв портовых работников в Чили к забастовке в ответ на ветирование президентом Чили Пинерой закона, позволяющего гражданам досрочное использование денег пенсионных фондов. «Слабеющий доллар и позитивные экономические сводки в виде американских и европейских индексов менеджеров по закупкам (PMI) оказали поддержку рынку, - констатирует один из лондонских аналитиков. – Сегодняшние торги отразили эту динамику. Кроме того, на рынке металлов сказывается работа фактора «зеленой» трансформации промышленности и неудивительно, что лидерами ценового роста являются те металлы, которые находятся в наиболее выгодной позиции, такие как медь».
Индекс PMI для еврозоны от HIS Markit продемонстрировал рост в апреле до 50,3 пункта, с 49,6 пункта в марте, выйдя на 8-месячный максимум. Производственный PMI также вырос, с 62,5 до 63,3 пункта.
Трехмесячный контракт на цинк подорожал на 2,2%, до $2915 за т, впервые в текущем году превысив отметку $2900 за т на момент закрытия.
«Хотя цены на цинк «отстают» от меди, тот факт, что в секторе выросли короткие покрытия, свидетельствует о том, что «быки» применяют более взвешенный подход, - отмечает аналитик Джеймз Мур. – В результате этого, а также общего оптимизма в сфере цветных металлов, цинк расположен к пробитию уровня $3000 за т».
Цена никеля с поставкой через 3 месяца выросла на 1,65% к моменту закрытия торгов, до $16666 за т, обновив максимум первой недели апреля.
Олово и свинец подорожали на 1%, до $27050 и $2078,50 за т соответственно.
На утренних торгах вторника цены на медь вышли на 10-летний максимум на фоне озабоченности трейдеров поставками металла из Чили и надежд инвесторов на улучшение мирового спроса на «красный металл» на фоне стабильного экономического восстановления и инвестиций в «зеленую» энергетику.
В Шанхае июньский контракт на медь подорожал на 3,5%, до 72820 юаней ($11230,38) юаней за т – максимального показателя с февраля 2011 г. Значение закрытия составило 72480 юаней за т (+3%). Стоимость цинка на ShFE взлетела на 3,2%, до 22,430 тыс. юаней за т, самого высокого показателя с 23 марта. Цена никеля выросла на 3,6%, до 126,560 тыс. юаней за т. Котировки цены алюминия обновили 11-летний максимум 18,655 тыс. юаней за т.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 27.04.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2403.5 за т, медь – $9949 за т, свинец – $2066.5 за т, никель – $16921.5 за т, олово – $28430 за т, цинк – $2915.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2409 за т, медь – $9929 за т, свинец – $2089.5 за т, никель – $16960 за т, олово – $27230 за т, цинк – $2930 за т;
на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2866 за т, медь – $11139 за т, свинец – $2374.5 за т, никель – $19551.5 за т, олово – $28631 за т, цинк – $3422.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2866 за т, медь – $11193 за т, свинец – $2389 за т, никель – $19457.5 за т, олово – $28797.5 за т, цинк – $3426.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $9961.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9925 за т.
MEPS: спрос на конструкционную сталь в ЕС восстанавливается
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., стоимость сортового проката в Европе оставалась относительно стабильной после первоначального восстановления в начале этого года. Однако рынок тесно связан с импортом лома из Турции и колебаниями цен на этот товар. Эти факторы привели к непоследовательным изменениям в показателях продаж по всей Европе и по широкому ассортименту продукции в начале апреля.
Спрос на балки и товарный брус, по прогнозам, восстановится с началом строительного сезона. Несколько заводов по производству балок пытались поднять стоимость сделок. Тем не менее, доступность все еще достаточно хорошая, что пока ограничивает возможности для восходящего движения. Объемы товарного проката с заводов Liberty Steel в Чешской Республике и Великобритании ограничены из-за финансовых проблем, связанных с сталелитейной группой. Это еще не повлияло на рыночное предложение и цены.
В апреле стоимость балок во всех исследованных европейских странах была разной. Рыночная активность снизилась в преддверии пасхальных праздников. Однако она должна вырасти в апреле и мае из-за сезонного подъема в строительном секторе.
Показатели продаж балок в Германии стабильны, и заводы продолжают сообщать о хороших портфелях заказов. В частности, итальянские производители получают выгоду от возросшего экспортного спроса как в Европе, так и за ее пределами. В целом настроения рынка относительно положительные. Однако, несмотря на то, что акционеры сообщают о хороших объемах продаж в марте, французские, бельгийские и британские дистрибьюторы выражают озабоченность по поводу своей способности поддерживать норму прибыли, если их закупочные цены продолжат расти.
Строительная активность в Скандинавии идет хорошо или улучшается, за исключением Финляндии, где жилищное строительство снизилось, хотя и незначительно. Цены на структурные элементы в эквиваленте евро немного выросли в Нидерландах и Норвегии. В других странах они оставались стабильными. У местных поставщиков балок есть полный график производства на следующий месяц.
Небольшое увеличение базовыхцен на сортовой прокат было зарегистрировано в южной Европе и в Финляндии за последний месяц. Напротив, снижение цен было отмечено во Франции, Бельгии и Великобритании. Базовые показатели оставались стабильными в Австрии и Норвегии. В Великобритании покупатели обращаются к альтернативным источникам поставок из-за финансового положения местного комбината. Следовательно, импортные квоты предполагается использовать не позднее середины мая.
BP увеличила чистую прибыль в три раза в первом квартале 2021
В первом квартале 2021 года на фоне подъема цен на нефть британская нефтекомпания BP Plc увеличила чистую прибыль более чем в три раза по сравнению с предыдущим кварталом.
Компания сообщила также, что добилась сокращения долга и намерена запустить программу обратного выкупа акций на $500 млн.
Чистая прибыль компании в январе–марте 2021 года, уточняется в пресс-релизе BP, составила $4,67 млрд по сравнению с чистым убытком в $4,36 млрд за тот же период 2020 года. В четвертом квартале 2020 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере $1,36 млрд.
Совокупный объем добычи углеводородов BP в прошедшем квартале снизился на 12% — до 3,27 млн б/с нефтяного эквивалента, что, отмечает «Интерфакс», связано с продажей некоторых активов. Средняя цена нефти Brent в январе–марте составила $61 за баррель по сравнению с $44 за баррель в октябре–декабре и $50 за баррель в первом квартале 2020 года.
Чистый долг BP на конец марта 2021 года составил $33,3 млрд — таким образом, компания добилась цели его уменьшения до уровня ниже $35 млрд на год раньше, чем планировала. В текущем квартале BP запустит программу выкупа акций на $500 млн, чтобы нивелировать размывание долей акционеров, которое произошло в результате выплаты сотрудникам вознаграждений в виде акций.
Дивиденды BP за первый квартал составят 5,25 цента на акцию, как и в предыдущем квартале.
Акции BP прибавляют в цене 2,4% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 19%.
Цены на нефть могут упасть до $10 за баррель к 2050 году — WoodMac
Падение цены на нефть до $10 за баррель предрекли эксперты консалтинговой компании Wood Mackenzie, сообщает CNBC, ссылаясь на отчет компании. По мнению аналитиков, снижение нефтяного спроса на 70% приведет к обесцениванию этого энергоносителя к середине XXI века. В отчете компании говорится, что этому будет способствовать «электрификация энергетического рынка» и достижение целей Парижского соглашения по климату.
Если человечество будет развиваться по такому сценарию и ускоренными темпами перейдет на «зеленую энергию», то уже к 2030 году цена на нефть марки Brent упадет до $37–42 за баррель, к 2040 году стоимость черного золота будет колебаться в пределах $28-32, а к 2050 году упадет до значений $10-18, говорится в документе.
Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков, однако, скептически отнесся к прогнозу экспертов из Wood Mackenzie. Специалист отметил, что пока сложно говорить о быстром переходе стран на «зеленую» энергетику. Для успешного скачка планеты к экологически чистой и малозатратной энергии необходим, например, компактный термоядерный синтез, уточнил Рыков.
«Но пока даже намеков на такое развитие не видно», — цитирует эксперта РИА «Новости».
Инвесторы «продавливают» энергопереход: заработок важнее всего
Крупнейшие мировые инвесторы все агрессивнее навязывают банковскому сектору принципы декарбонизации. Финансовые организации стараются балансировать, признавая необходимость «зеленых» технологий, но при этом вкладывая в нефтегаз. В какую сторону постепенно склоняется чаша весов?
В апреле этого года 35 инвесторов из группы Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), в числе которых американские Federated Hermes Inc. EOS и Pacific Investment Management Co., призвали крупнейшие банки мира постепенно отказаться от финансирования компаний, участвующих в добыче ископаемого топлива, перенаправив эти ресурсы на достижение целей Парижского соглашения по климату. Вполне возможно, что со временем такую инициативу поддержат и другие члены IIGCC. Напомним, всего в IIGCC входит 270 членов, управляющих активами в разных странах мира на общую сумму в €35 трлн (по состоянию на конец 2020-го). В это объединение входят пенсионные фонды, организации, разрабатывающие ВИЭ проекты, и даже церковные фонды. В IIGCC состоят и крупнейшие мировые инвесторы, например, BlackRock, владеющий активами на сумму $8,7 трлн, или Fidelity International.
Важный момент: просьба группы 35 инвесторов из IIGCC, в числе которых американские Fidelity International, Federated Hermes Inc. EOS и Pacific Investment Management Co., больше похожа на приказ.
Эти компании направили письмо банкам, включая JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc и UBS Group AG, главный посыл которого — либо банки прекращают финансировать не «зеленые» проекты и компании, либо инвесторы будут отказываться от активов этих банков в будущем.
Особняком стоит американская компания BlackRock, влияние которой в последние годы стремительно растет. Она выкупает активы крупных банков вроде американского Merrill Lynch Investment Managers и британского Barclays Global Investors, а с 2020-го еще и получила от ФРС США полномочия покупать корпоративные облигации и коммерческую ипотеку без какого-либо постоянного контроля.
Во-первых, в этом году BlackRock сформировала «зеленый» биржевой фонд на сумму $1,25 млрд, официальная цель которого — выявлять компании-бенефициары энергоперехода. Во-вторых, компания грозит избавиться от акций тех, кто не участвует в декарбонизации.
Впрочем, не только этот инвестор из США стал вести себя столь жестко. В декабре 2021-го Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (третий по величине пенсионный фонд в стране) с активами $226 млрд, объявил, что если нефтяные и газовые компании за четыре года не выполнят его требования, он избавится от их ценных бумаг. К слову, в 2020 году в его портфеле были расписки НОВАТЭКа, «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».
С похожей «зеленой» инвестиционной инициативой (Net Zero Asset Managers) выступили 30 ведущих управляющих компаний мира с активами на $9 трлн, где фигурируют не только американская Fidelity International, но и французский гигант по инвестициям Axa Investment Managers, швейцарский банк UBS и др. Они пообещали до 2050 года или ранее сделать свои портфели нейтральными с точки зрения углеродных выбросов. Как пишет The Wall Street Journal, политика этих инвесторов уже привела к тому, что в руководстве Exxon теперь обсуждается вопрос о добавлении одного или нескольких мест в совет директоров (очевидно, занявшие их персоны будут заниматься «зеленой повесткой») и об увеличении капиталовложений, снижающих выбросы СО2.
Все эти обещания и в определенной мере угрозы крупнейшим банкам пока что несколько размыты либо оперируют крайне долгими временными рамками для исполнения (до 2050 года). Однако определенный эффект от этого все же есть. «Проталкивание» крупнейшими инвесторами преимущественно из США и Европы «зеленой повестки» в развитие технологического уклада (особенно нефтегазовых компаний) уже привело к тому, что ESG-факторы (экология, социальная ответственность, качество корпоративного управления) влияют на доходность вложений.
В своем недавнем письме к руководителям компаний, активами которых распоряжается BlackRock, гендиректор инвестиционного гиганта Ларри Финк отметил, что в 2020 году четыре из пяти глобальных ESG-индексов обогнали по темпам роста традиционные индексы, на которых они базируются. «У автопроизводителей, банков, нефтяных и газовых компаний акции с лучшим ESG-профилем растут быстрее, чем у конкурентов, получая „премию за устойчивое развитие“», — заявил Финк.
Его слова можно подтвердить статисткой прошлого года. В 2020 году биржевой фонд iShares ESG Aware MSCI USA (управляется BlackRock) привлек $9,5 млрд, заняв 5 место среди всех фондов акций США по притоку новых средств. В этой пятерке за 2020 год также есть индексный фонд управляющей компании First Trust, вкладывающий в чистую энергетику и имеющий активы в размере $2 млрд. Первое место в рейтинге американских биржевых и паевых фондов, инвестирующих в акции, занял фонд еще одного американского гиганта — Invesco. Биржевой фонд Invesco Solar с активами в солнечной энергетике на $3,7 млрд подорожал к концу декабря 2020-го на 238%
Выходит, если компания, в том числе и нефтегазовая, начинает (или собирается в ближайшем времени) реализовывать ВИЭ-проекты, отказываясь от добычи и переработки ископаемых, то у нее сегодня намного больше шансов привлечь инвестиции фондов, которыми руководят гиганты вроде американской BlackRock, французской Axa Investment Managers или банки вроде швейцарского UBS или британского HSBC.
Похоже, у BlackRock уже есть решение, как проверить, действительно ли компании и банки, заявившие о том, что хотят вкладывать в углеродно нейтральные проекты (или отказаться от не «зеленых» проектов), выполняют свои обещания на практике. С декабря 2020 года заработало Aladdin Climate — программное приложение, которое, как утверждают в компании, «предоставит инвесторам инструменты для стресс-тестирования инвестиций и расчета того, как их портфели будут работать в различных климатических сценариях, таких как Парижское соглашение». Но BlackRock не ограничивается только этим инструментом. В январе гендиректор Ларри Финк предупредил компании, в которые инвестирует BlackRock, о том, что они должны представить ей свои планы сокращению нетто-выбросов СО2 до нуля к 2050 г.
По сути, американская компания запустила рычаги, цель которых — определять, в каком направлении (в данном случае в направлении перехода к углеродной нейтральности) они должны развиваться. Более того, BlackRock еще и настоятельно рекомендует им отчитываться по мере выполнения задачи.
В перспективе это может коснуться даже тех компаний из нефтегаза, активы которых не связаны с крупнейшими американскими или европейскими инвест-гигантами.
BlackRock и подобные ей могут заблокировать (под угрозой уменьшения инвестиций) сотрудничество корпораций, при котором одна фирма хочет поставить оборудование компании, которая отказалась от перехода к углеродной нейтральности. К примеру, российская нефтегазовая компания, если не будет сокращать выбросы СО2, не сможет приобретать необходимое оборудование для нефте- или газопереработки у европейских или американских партнеров, ведь они не захотят отталкивать от себя важных инвесторов, становясь аутсайдерами в мировой экономике.
Как рассказал в комментарии для «НиК» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, пока что банки не ринулись вкладывать в ВИЭ-проекты, но уже можно говорить о другой тенденции: банки и инвестфонды все активнее перестают кредитовать и вкладывать средства в компании, связанные с добычей ископаемого топлива.
«Например, после разделения Standard Oil на Exxon и Mobil банки призвали перестать кредитовать эти организации. Всемирный Банк и Европейский инвестиционный Банк так и поступили — компании не получают кредиты от этих организаций. Одновременно ряд крупнейших игроков в сфере финансов прямо объявили о том, что не будут инвестировать и предоставлять кредиты нефтяникам. Так сделал Пенсионный фонд Норвегии (продал бумаги нефтедобывающих компаний), вышел из «ископаемых» инвестиций Эндаумент Оксфордского университета и т. д.
По данным опроса Aviva Investors, в 34 странах среди 535 пенсионных фондов и 532 страховых компаний 33% и 44% соответственно поставили цели по достижению нулевых выбросов СО2 по своим портфелям до 2050 г. Это значит, что нефтяным корпорациям будет все сложнее получить средства на развитие», — рассказал Артем Деев.
К слову, уже сегодня можно оставаться «зеленым», даже торгуя полезными ископаемыми. Достаточно лишь заплатить компенсации за выбросы СО2, как это делает Shell, продавая «зеленый» СПГ Tokyo Gas с 2019 года. Даже «Газпром» уже получил подобный опыт, когда отправил 8 марта 2021 партию «зеленого» СПГ в терминал Dragon LNG в Великобритании. Правда, для легализации этой сделки пришлось получить сертификаты о размере выплат за выбросы у американских компаний Verra и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Пока что такие сделки еще не приобрели массового характера. Впрочем, через несколько лет это может измениться.
Банки пока еще продолжают вкладывать в нефтегазовый сектор. «Три банка, предоставивших наибольшее финансирование компаниям, деятельность которых связана с ископаемыми видами топлива в 2020 году, оказались: JPMorgan Chase — $51,3 млрд, Citi — $48,4 млрд, Bank of America — $42,1 млрд», — пишет CNBC.
Однако общий объем финансирования банками компаний, деятельность которых связана с добычей, использованием или переработкой ископаемого топлива, снизился на 9% в 2020 году.
Отчасти это можно списать на последствия COVID-19. Но такая тенденция, если верить недавним заявлениям JPMorgan Chase, Citi, Bank of America (той самой тройки лидеров по финансированию нефтегазовых компаний), может продолжиться и дальше.
Весной этого года представитель JPMorgan Chase сообщил, что банк примет на себя обязательства следовать целям Парижского соглашения и содействовать «устойчивому финансированию зеленых проектов на сумму в $200 млрд к 2025 году». В Citi пообещали, что продолжат работать с клиентами из нефтегазового сектора. Но при этом банк займется организацией публичной отчетности о выбросах СО2 своих клиентов, а затем перейдет к постепенному прекращению финансирования компаний, которые не соблюдают стандарты сокращения выбросов углерода.
В Bank of America проявили чуть меньше энтузиазма по этому поводу. Организация намерена раскрыть информацию о количестве выбросов СО2 своих клиентов к 2023 году, при этом никаких анонсов об объеме финансирования именно «зеленых» проектов сказано не было.
Британский банк Barclays, как пишет Forbes, в последние годы является крупнейшим спонсором проектов, связанных с битумозными песками, гидроразрывом и угольной энергетикой. Французский банк BNP Paribas оказался единственным крупнейшим в мире сторонником оффшорных нефти и газа с общим объемом инвестиций в размере $120,8 млрд.
Все это показывает, что банковский сектор — даже в США и Европе, где принципы декарбонизации активно навязываются политиками с особым рвением, — пока не слишком торопится финансировать компании, снижающие выбросы СО2, полностью отказываясь от сотрудничества с нефтегазовым сектором.
Гораздо больше инициативы в этом плане проявляют национальные правительства Старого Света и Соединенных Штатов. В отдельных штатах Америки и в странах ЕС к 2030–2035 году отказываются от производства и использования авто с ДВС, выделяют деньги на постройку сети зарядных станций для электрокаров и тратят бюджетные средства для субсидий на покупку экологически чистого транспорта. Еврокомиссия запретила выделять дотации странам ЕС на проекты по созданию инфраструктуры, связанной с нефтью и газом. Глава Белого дома Джо Байден предлагает потратить на декарбонизацию целого ряда отраслей страны около $1 трлн в течение 8 лет.
На этом фоне, как утверждает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов, главная мотивация фондов и других структур, продвигающих различные «зеленые» технологии и призывающих отказываться от традиционной энергетики, судя по всему, весьма банальна и связана с желанием заработать.
«С тех пор как в середине 2000-х годов эта тема вошла в моду, они (крупнейшие инвесторы в мире — авт.) получили огромную выгоду от „зеленого“ поворота, поднявшего секторы электромобилей, ветряков, солнечных батарей, аккумуляторов, сопряженных энергосистем и т. п. Причем в значительной степени это происходило за счет государственных дотаций.
Фонды, являющиеся крупными акционерами „зеленых“ компаний и проектов, несомненно хотят, чтобы „шоу продолжалось“. Они используют свое влияние и ресурсы, чтобы убедить все больше инвесторов вкладываться в такие проекты, что будет способствовать их дальнейшему обогащению», — уверен эксперт.
В итоге крупнейшие инвесторы мира, преследуя свои цели по накоплению капитала, создают благоприятные условия для финансирования ВИЭ-проектов и компаний, которые намерены сокращать выбросы СО2. Другой вопрос, что агрессивное навязывание «зеленых» технологий пока что к серьезному повышению энергобезопасности стран не привело (в некоторых случаях даже наоборот), впрочем, как и к удешевлению электричества для домохозяйств и предприятий. При этом нефтегазовым компаниям, если политика крупнейших банков в ближайшие годы кардинально не изменится, станет все сложнее привлекать инвесторов, что, по сути, будет постепенно менять развитие технологического уклада мировой энергетики.
Илья Круглей

Возле Запорожской ТЭС установлена первая на Украине промышленная система накопления энергии
Компания ДТЭК завершила монтаж первой на Украине промышленной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч и перешла к этапу пусконаладочных работ, сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.
СНЭ предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для поддержания функционирования энергосистемы с обеспечением требуемого качества электроэнергии. Это первый на Украине подобный проект, но СНЭ уже активно работают во всем мире – США, Великобритания, Австралия, Канада используют такие системы для обеспечения стабильного качества электроэнергии и энергетической безопасности.
«Несмотря на сложности с логистикой, вызванные пандемией, ДТЭК придерживается графика: мы уже завершили монтаж батареи, подключили ее к сети и сейчас проводим пусконаладочные работы. Также совместно с одним из подрядчиков в этом проекте, канадской компанией Sungrid, мы провели пробное тестирование СНЭ», - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.
СНЭ установлена в Энергодаре, на площадке возле Запорожской ТЭС, поскольку там есть вся необходимая инфраструктура для подключения ее к сети, а также квалифицированный персонал, который будет обслуживать эту систему.
«Мы рады, что ДТЭК перенимает лучший мировой опыт. В Канаде мы используем системы накопления энергии уже пять лет. У нашей компании есть много пилотных и коммерческих проектов как в Канаде, так и в разных штатах США. Мне очень приятно быть причастным к запуску первой такой технологии и на Украине», - сказал генеральный директор компании Sungrid (Канада) Джереми Гёрц.
По словам Э. Вольпе, с помощью этого проекта ДТЭК не только даст старт новому рынку накопителей энергии на Украине, но и внесет большой вклад в трансформацию энергетической отрасли страны в целом. Однако для полноценного участия СНЭ в энергетическом рынке Украины необходимо формирование регуляторной среды.
Напомним, что в июле 2020 года ДТЭК подписала контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.
«ЗапСибНефтехим» освоил производство черной трубной марки полиэтилена
«ЗапСибНефтехим» начал выпускать новую марку полиэтилена ПЭ-100. Ее отличает повышенная стойкость к воздействию внешней среды и необычный внешний вид гранул – они черные. Используется данная марка преимущественно для производства труб большого диаметра (до 1000 мм),
Такие трубы пользуются высоким спросом в нефтегазовой промышленности, жилищно-коммунальной и других сферах – в качестве альтернативы стальным трубам. Например, в секторе ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водопроводов и канализации.
«Эксплуатационные характеристики трубопроводов, изготовленных из ПЭ-100, выше за счет добавления в состав исходного полимера технического углерода, в быту более известного как сажа, – отмечает начальник производства готовой продукции «ЗапСибНефтехима» Марат Гильманов. Технический углерод – это одна из модификаций углерода, который в виде различных соединений широко встречается в природе. Уголь, графит, даже алмазы – все это углерод. В исходный полимер добавляют технический углерод, а также комплекс присадок, препятствующих его разрушению при термической обработке, например, сварке. В результате замедляется старение полимера под воздействием ультрафиолета, благодаря чему обеспечивается расчетный срок службы полиэтиленовых трубопроводов 50 лет».
В процессе освоения новой марки помимо команды «ЗапСибНефтехима» участвовали специалисты от компаний-поставщиков оборудования и технического углерода, а также лицензиара – британской нефтехимической компании INEOS.
«В таком коллективе приятно работать – опытные, мотивированные специалисты, хорошая обратная связь. Сразу видно серьезное отношение к безопасности», –- поделился впечатлением представитель лицензиара, менеджер по пусконаладочным работам полиэтилена высокой плотности INEOS Фредерик Кузен.
«Производственные мощности «ЗапСибНефтехима» помимо того, что являются самыми крупными в Европе – 1,5 млн тонн полиэтилена в год – позволяют нам производить широкий спектр марок с различными физико-химическими свойствами. В частности, марки ПЭ-100 мы можем выпускать до 350 тыс. тонн ежегодно, – подчеркивает директор производства полиэтилена Андрей Гермашев. – В настоящее время нами освоен выпуск 24 марок. И это не предел. Наша продукция уже омологирована и получила положительные отзывы более тысячи клиентов. Две производимые «ЗапСибНефтехимом» марки этого полимера стали в 2020 году лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».
Контроль качества продукции на «ЗапСибНефтехиме» ведется постоянно. Применительно к марке ПЭ-100 основные параметры анализа – тип и класс распределения технического углерода в полиэтилене. Для их определения гранулы замораживаются, нарезаются на слайсы определенной толщины, которые исследуются с помощью микроскопа и сравниваются с образцами, утвержденными лицензиаром. Проводимые исследования позволяют контролировать и при необходимости регулировать дозирование технического углерода, не допуская некачественной гомогенизации, которая способна привести к дефектам и деформации труб в процессе эксплуатации. Также для проверки качества из выпущенных гранул непосредственно в лаборатории «ЗапСибНефтехима» изготавливают образцы труб, которые подвергаются гидравлическим испытаниям на прочность.
В настоящее время на «ЗапСибНефтехиме» работают две установки на четыре линии по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год. Благодаря высокой производительности и инновационному оборудованию современный нефтехимический комплекс способен выпускать более 60 марок полиэтилена, применяющихся для изготовления продукции в промышленном секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине и фармакологии, для бытовых нужд.
Байден санкционировал покушение на Путина?
устранение первого лица - их единственный шанс
Игорь Шишкин
Одно из наиболее важных, я бы даже сказал, опасных событий последних дней — это не российско-чешский дипломатический кризис, не новые санкции и даже не Федеральное послание Владимира Путина. Это провал попытки государственного переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко.
Понимаю, что сейчас многие недоумённо ухмыльнутся: «Какой переворот?! Да, что вы говорите?!» Но такая реакция – это именно то, чего от нас пытается добиться мировая пресса и социальные сети, включая либеральные медиаресурсы России. С одной стороны, тема всячески замалчивается, а когда не удаётся замолчать — высмеивается.
Заговорщики якобы какие-то несерьёзные. Один из них — литературовед. На это всё время упирают: мол, он Пушкина всю жизнь изучал. Ну и что, что он — литературовед? Ну и что, что он изучал Пушкина и изучает его? Не так давно в российской тюрьме сидел господин Сенцов, по обвинению в подготовке террористических актов в Крыму. Тогда вся прогрессивная общественность требовала его освобождения на том основании, что «какой же он террорист — он же режиссёр». В конце концов, добились, Сенцов благополучно перебрался на Украину. А после того, как оказался на свободе, открытым текстом признал, что действительно готовил террористический акт.
Кстати, все, кто говорит о том, что режиссёр и террорист — две вещи несовместные, почему-то даже не покаялись, не посыпали голову пеплом. Не сказали, что «мы — идиоты, мы — дураки!». Напротив, сейчас вся подобная публика завела всё ту же песню: «Да он же — литературовед! Да он же — гуманитарий! Да, он же букашки не обидит…»
Помимо ссылок на любовь к творчеству Пушкина одного из организаторов неудавшегося переворота и убийства президента Белоруссии, постоянно твердят о якобы полной несерьёзности, абсурдности и фарсовости всей этой истории: сидят люди в московском ресторане и обсуждают план убийства Лукашенко и захвата правительственных объектов в Минске. Разве заговоры так делаются?
А как они в реальности делаются, позвольте спросить? Разве не похожи на фарс практически все без исключения провалившиеся попытки переворотов и убийств первых лиц? Да, мы привыкли, благодаря голливудским фильмам, представлять себе все эти заговорщицкие истории в ином виде: там действуют эдакие супермены, которые всё рассчитывают по секундам, проворачивают гениально операции… И в результате добиваются успеха. А здесь какие-то рохли что-то за обедом обсуждают…
Но оперативная съёмка из ресторана — это как раз и есть реальная жизнь. Кто сомневается, возьмите просто-напросто и посмотрите историю всех провалившихся заговоров. Когда вы это сделаете, то увидите, что они практически все выглядели именно вот так. И никак не иначе. А то что удавшиеся заговоры затем преподносят в ореоле блестящих операций, так это исключительно из-за того, что историю всегда пишут победители. Они и рассказывают, как у них всё было продумано, по часам расписано, и какие они были выдающиеся государственные деятели и мастера конспирации, а не подобные рохли.
Главное же доказательство того, что история с провалившимся государственным переворотом и попыткой убийства Лукашенко не выдумка КГБ Белоруссии и ФСБ России — реакция на эту информацию Запада. Абсолютно единообразная. Все страны Запад дружно набрали в рот воды. Хотя бы одна страна, хотя бы для проформы заявила о необходимости всестороннего расследования достоверности информации? Нет. Этого не было и быть не могло – их позиция. Как такая реакция отличается от реакции того же Запада на очевидно постановочную историю с отравлением Навального «по личному приказу Путина», да ещё не каким-нибудь пошлым цианистым калием, а оружием массового уничтожения.
Впрочем, с замалчиванием покушения на Лукашенко Запад перестарался и тем самым прокололся. Я имею в виду действия Праги. Не ею, естественно придуманные. Прага потрясла мировое сообщество страшным открытием — российские диверсанты (не смейтесь — Петров и Боширов) в 2014 г. взорвали на территории Чехии склад и убили при этом несколько человек. В правительстве Чехии сразу же возопили — акт государственного терроризма против страны Евросоюза и НАТО. О, ужас!
Семь лет молчали, а только прошла информация о провале попытки убийства президента Лукашенко — тут же обнародовали информацию об акте российского государственного терроризма. Совершенно очевидно, что это была попытка перебить информационную повестку дня. Как тушат лесной пожар? Пускают встречный пал. Так и здесь. И сработало. Все СМИ Запада обсуждают только Петрова и Боширова, российских террористов, российских диверсантов, которые взрывают в маленькой пушистой Чехии склад, и никто не говорит о попытке убийства президента одной из европейских стран.
Всё это оказалось настолько «шито белыми нитками», что пришлось для объяснения странного прозрения (через 7 лет) Праги придумывать сходу более-менее правдоподобное объяснение. Оказывается, надо было сорвать контракт с "Росатомом" на постройку энергоблока атомной электростанции стоимостью в 6 млрд долларов и передать его американской фирме. Звучало бы правдоподобно, если бы не одно НО. Для этих целей информацию о «российском акте государственного терроризма» можно было опубликовать на неделю позже или на неделю раньше. Ничего дата не меняла. Опубликовали же прямо тютелька в тютельку после появления информации о провале попытки госпереворота в Белоруссии.
Однако самым главным доказательством того, что попытка убийства Лукашенко имела место быть, является сама логика событий. Полагаю, никому не нужно доказывать, что события на Украине, Майдан первый, Майдан второй, — всё это не было чем-то спонтанным и случайным. Проводилась целенаправленная политика США по отрыву Украины от России, превращению её в антиРоссию. Но ведь глупо думать, что таких же планов не было и нет в отношении Белоруссии. Тогда нужно считать американские специальные службы, американских дипломатов и политиков полными идиотами, коими они не являются.
То, что происходило в августе и осенью прошлого года в Белоруссии, — было попыткой государственного переворота под ширмой народного недовольства итогами президентских выборов. Да, тогда на улицы вышло много действительно недовольных. Это всё верно! Претензии к Лукашенко у населения были и есть, тоже факт. Но то была массовка, не более того. А «цветную революцию» осуществляет не более или менее многочисленная толпа, в большинстве своём искренне недовольная режимом. «Цветную революцию» приводит к нужному устроителям, а они на Западе, результату дворцовый переворот, почти невидимый на фоне массовых протестов. Так было во время «арабской весны», так было и на Украине.
Попытка устроить «цветную революцию» в Белоруссии потерпела полный крах. В первую очередь, и я бы сказал, исключительно благодаря поддержке Путина. Его заявление о создании военно-полицейского резерва тогда в корне изменило ситуацию. Те силы в окружении Лукашенко, которые должны были осуществлять переворот, обставив его, как свержение тирана возмущёнными толпами народа, дали задний ход. Заявление Путина означало, что спектакль не пройдёт, а они сами в случае «засветки» рискуют лишиться всего, в полном, физическом, смысле этого слова.
Что оставалось делать американцам? Посыпать голову пеплом, признать своё поражение и отойти в сторонку? Извините, если бы они так себя вели, то не были бы сейчас самой сильной державой мира. А надо признать, что они — самая сильная держава мира. Сколько бы там ни рассказывали про ВВП Китая… Что-что, а воля к борьбе, хватка и способность бороться у американцев есть.
Если не срабатывает дворцовый переворот, прикрытый уличными демонстрациями, тогда у Вашингтона остаётся лишь один вариант — ликвидация первого лица. Лукашенко совершенно прав, когда говорит: «Они утверждают, что всё завязано на первое лицо!» Да, всё завязано в Белоруссии на первое лицо. Устраните сейчас первое лицо — и система власти в Белоруссии посыплется… Кто подберёт эту посыпавшуюся власть? Ясно, что не народ Белоруссии. Американцы были уверены, и небезосновательно уверены, что подберут они.
И ещё один момент. Заявление Лукашенко о том, что санкция на его убийство была дана президентом США… Я не вижу в этом никакого преувеличения. Потому что такие действия не могут предприниматься по инициативе более мелких персон. Это сфера компетенции только руководителя государства. А способны ли лидеры США отдавать такие приказы? Есть ли в этом что-то необычное?
Давайте, отмотаем чуть-чуть назад. Предшественник Байдена – господин Трамп. Кстати, самый миролюбивый президент в истории США, не развязавший (единственный!) ни одной кровопролитной войны. Что за ним числится? Убийство генерала Сулеймани. Да, конечно, по его приказу был убит не президент Ирана, не духовный лидер Ирана, а лишь один из руководителей Ирана. Ну, он же миролюбивый был. Поэтому и не президента убил.
Берём чуть-чуть дальше. Барак Обама. Лауреат Нобелевской премии мира. Убийство Каддафи — по его «санкции». Извините, санкция президента — это приказ. Так вот, по его приказу был убит руководитель суверенного государства — Каддафи.
Отмотаем ещё чуть-чуть. И что мы увидим? Там был, помнится, президент Буш-младший. Что за ним числится? А за ним числится убийство Саддама Хусейна. Конечно, это тоже было обставлено, что его убили, повесили по суду местные деятели. Но и здесь же не лично Байден-то приходил бы Лукашенко убивать.
И так можно очень далеко отматывать.
Убийства первых лиц иностранных государств по приказу президентов США — это фирменный стиль американского руководства. Это для них норма. Единственное исключение, повторяю, это миротворец Трамп, убивший всего-навсего одного из руководителей, а не первое лицо другого государства.
Теперь последнее. Почему это касается, как я полагаю, нас? Потому что в Белоруссии обкатывался тот сценарий, который намерены разыграть осенью в России на фоне выборов в Госдуму. Что будет, если опять, как и в Белоруссии, уличные акции не смогут сыграть роль прикрытия дворцового переворота? Подчёркиваю, «цветная» революция — это всегда уличная акция, под прикрытием которой совершается дворцовый переворот. Если это не проходит, тогда что остаётся делать господину Байдену? И Америке?
Только делать ставку на устранение первого лица — президента России. И здесь опять-таки нужно признать: независимо от того, как вы лично относитесь к Владимиру Путину, вся вертикаль власти завязана на него. И физическое устранение президента приводит к обрушению государственной вертикали. Далее хаос… А в этой мутной водичке велики шансы поймать свою рыбку у тех, кто к этому был причастен. Кто этого ждал и это готовил.
Иногда говорят: «Да как?! Кому же такое придёт в голову?! Убить президента России!!! Вон, какие были сложные отношения у Советского Союза с США во время «холодной» войны… Никто же не устраивал покушений на Брежнева, на Хрущёва…» Всё верно. Не устраивали по той простой причине, что у них тогда не было возможности их устраивать. У них не было такой пятой колонны, которая есть сейчас.
Да, при Горбачёве она уже была, но зачем им было устранять Горбачёва? Горбачёв был лидером этой самой пятой колонны. А давайте-ка вспомним Российскую империю. Свержение с последующим убийством царя Николая II, кто организовал? Разве не Британская империя? Вот вам убийство первого лица. А разве убийство Павла I не Британская империя организовала? Вот вам убийство первого лица. Очень тёмная история со смертью Александра III. И опять-таки в ней очень сильно торчат уши всё той же Британской империи. А сейчас её продолжательницей выступают США. Так что даже смешно говорить о том, что раз Россия — великая держава, то нас это не касается.
Косвенным, а я полагаю, прямым, доказательством справедливости моего предположения можно считать то, что теме попытки убийства Александра Лукашенко столь много внимания в своём Федеральном послании уделил Путин, как и то, что он поднял эту тему в телефонном разговоре с Байденом. Западу послан ясный сигнал — ваши планы для нас не секрет. Остановитесь, иначе пожалеете «о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели»!
Может быть, я, конечно, нагнетаю страхи. Давайте узнаем мнение на сей счёт известного специалиста в области международных отношений, директора института ЕАЭС Владимира Лепехина.
Игорь ШИШКИН. Владимир Анатольевич, как вы оцениваете информацию о провале попытки государственного переворота в Белоруссии — попытки, которая подразумевала физическое устранение первого лица, Александра Григорьевича Лукашенко?
Владимир ЛЕПЕХИН. Начнём с того, что, на самом деле, таких дел, я думаю, в распоряжении наших и белорусских спецслужб огромное количество. Потому что достаточно большой слой белорусов, представителей интеллигенции, прежде всего, а также лиц с двойным гражданством, находится в очень своеобразном политическом поле. Когда, так или иначе, они втянуты в разные проекты. Как в серьёзные проекты, связанные с подготовкой переворота, так и в несерьёзные проекты. Надеются получить какие-то деньги, гранты или просто щёки надуть. Ну и, как мы видим, в последнее время складывается вокруг Белоруссии и России ситуация очень непростая… С постоянным введением новых санкций, с провокациями, с высылкой наших дипломатов из ряда стран. Поэтому, я думаю, вот этому свежему наблюдению спецслужб за действиями граждан США на нашей территории российские спецслужбы просто дали ход. Независимо от того, насколько это серьёзно. Но, поскольку там был замечен гражданин США (у Зенковича второе гражданство — американское), а это произошло сразу после бредового обвинения Чехии в акции ГРУ на её территории, наши спецслужбы ответили – и, кстати, куда более серьёзной акцией, за которой стоят не бредни, а конкретная видеозапись… Поэтому можно относиться к этому событию (сходке граждан США и Белоруссии в московском ресторане) несерьёзно. Но тут, помимо комедийной стороны, этаких рассуждений об организации госпереворота явных фриков, есть и серьёзная сторона. Серьёзная сторона заключается в том, что даже несмотря на то, кто это обсуждал… (я лично Федуту знаю ещё с конца 80-х годов, когда он работал в белорусском комсомоле, и к нему там тогда несерьёзно относились — поэтому его можно рассматривать как комедианта в каком-то смысле или как статиста этого процесса), — но разговоры, связанные с убийством главы государства, с подготовкой госпереворота, не могут быть чистой комедией. Поэтому, я думаю, что с этой сходкой в московском ресторане следует разобраться. Полагаю, в ходе расследования появится кое-какая дополнительная информация, в том числе — о других участниках подготовки госпереворота в Белоруссии, половина из которых — граждане США. И, вполне возможно, спецслужбы дифференцированно подойдут к этим двум персонажам, отделят муху Федуту от котлеты Зенковича. Потому что, с одной стороны, гражданин США, который вёл разговор, в принципе, как мы видим, был настроен серьёзно… В то время как гражданин Белоруссии, филолог, пушкинист и балабол Федута, вполне возможно, выступал в данном случае в качестве статиста, который просто поддакивал.
Игорь ШИШКИН. Владимир Анатольевич, а как вам такая версия, что это отвлекающий манёвр, обманка, подставили людей для того, чтобы отвлечь от реально готовящегося более серьёзного заговора, всё с той же целью? Я этот вопрос задаю, потому что мы помним историю с так называемыми вагнеровцами, в которой были задействованы спецслужбы Белоруссии. Потом это старались преподнести так, как будто бы их провели и разыграли украинские спецслужбы. Но в этом же явно участвовали и очень высокопоставленные деятели из белорусских спецслужб. А провокация была направлена именно на столкновение России и Белоруссии в преддверии готовившегося государственного переворота. Соответственно, организаторы провокации никуда не исчезли, остались там. Нет ли угрозы того, что готовится другой переворот, который прикрывают сейчас ширмой этой парочки?
Владимир ЛЕПЕХИН. Всё возможно! Я же говорю, мы в данном случае имеем явную взаимосвязь серьёзного и несерьёзного… Опять же, много бенефициаров сейчас самых разных подобных схем. Ну, тот же Федута… Я полагаю, его могли использовать и «втёмную», и «в светлую». Он мог быть и подсадной уткой, а мог быть той фигурой, которая играла роль живца… Его, например, могли просто сдать, подставить и сдать. Использовать в своих интересах. Тут может быть самая разная подоплёка, но в любом случае, в отличие от многочисленных провокаций западных спецслужб против России и голословных обвинений без предъявления конкретных доказательств (как в деле со Скрипалями, с Навальным, с якобы действиями ГРУ в Чехии и проч.), налицо реальная видеозапись. То есть зафиксирована ситуация, связанная, в том числе, и с тем, что Россия не провоцирует, а всего лишь ответно реагирует на инсинуации западной стороны, на оголтелость всевозможных обвинений в свой адрес. И действует в данном отношении куда более достойно, чем наши «западные партнёры». Ну, вот представьте себе, что, согласно версии чешского МИДа, Петров и Боширов взорвали некие склады в Чехии аж в 2014 году. Как Россия должна реагировать на такие обвинения? Рассказать чешским чиновникам и стоящим за ними американским спецслужбам про солдата Швейка, причастного к организации взрывов в московском метро? Российские спецслужбы отреагировали оперативно — с использованием того материала, который оказался под рукой. Но это реальный материал, реальное доказательство вмешательства каких-то западных граждан в дела независимой Белоруссии. Вполне допускаю, что в разоблачении этого вмешательства свою роль сыграли и белорусские спецслужбы. Вполне возможно. А что тут странного? Даже в окружении Лукашенко достаточно много людей, которые не заинтересованы в том, чтобы пролонгировать его правление. Естественно, они контактируют с самыми разными структурами западными. То есть прорабатываются разные варианты, и за этими контактами вынуждены приглядывать белорусские спецслужбы. Поэтому можно, конечно, предполагать всё, что угодно. Но пока у нас информации достаточно мало для однозначных выводов, мы располагаем только видеоплёнкой.
Игорь ШИШКИН. Владимир Анатольевич, в связи с этим такой ещё вопрос. С точки зрения логики событий, те силы, которые попытались «снести» Лукашенко и по украинскому сценарию превратить Белоруссию в анти-Россию, — у них ведь получился провал? Через дворцовый переворот под прикрытием улицы не сработало. Самостоятельно, без уличных протестов, прозападная группировка в белорусской власти переворот осуществить не может. Что у Запада остаётся, кроме устранения первого лица? Ведь действительно в Белоруссии всё замкнуто на первое лицо…
Владимир ЛЕПЕХИН. Ну, все эти схемы давно и хорошо известны… Поэтому, когда, например, на Украине готовился сценарий Майдана, он готовился сразу в двух форматах. То есть, с одной стороны, оппозиция готовила улицу, готовились боевики. Но, с другой стороны, был и внутренний заговор против президента страны внутри госаппарата и силовых структур. То есть кто и когда, собственно, начал сдавать Януковича? Это его собственная администрация, собственные спецслужбы, которые, так или иначе, работали в связке с оппозицией в логике осуществления госпереворота. Поэтому в Белоруссии, естественно, идёт аналогичная работа. Другое дело, что кто-то — в данном случае, гражданин США Зенкович —прокололся со своим спичем, который оказался публичным. Но, разумеется, не нужно всё воспринимать это дословно. В том плане, что кто-то, какая-то группа готовила убийство президента Белоруссии и взятие власти. Не тот состав участников собрался в московском ресторане, да и разговор предельно глупый… Но то, что эта сходка так или иначе имеет отношение к подготовке каких-то провокаций против первого лица, в том числе и внутри госаппарата, совершенно очевидно. Кстати, развал Советского Союза происходил по такой же схеме. Потому что, с одной стороны, поднималась улица в столице страны, раскачивалась митингами, всевозможными акциями неформалов и т.д. А, с другой стороны, главным действующим субъектом организации будущего перехвата власти были представители как раз высшей партийно-государственной номенклатуры, которые изнутри, используя «втёмную» того же Горбачёва, готовили переворот… Потом, условно, «в светлую» использовали того же Ельцина — как таран против власти КПСС и осуществили в стране в итоге государственный переворот.
Игорь ШИШКИН. Да, переворот всегда осуществляет внутренняя группировка под прикрытием улицы. Владимир Анатольевич, вот вы вспомнили про Майдан, второй, последний. Но ведь там как раз в сценарии физическое устранение Януковича, насколько я понимаю, было. И если бы не вмешательство российских спецслужб, сейчас не сидел бы он на территории России в качестве почётного пенсионера.
Владимир ЛЕПЕХИН. Конечно. Везде используется не единожды отработанный сценарий. Никто никогда не полагается целиком на улицу. И никто никогда целиком не полагается на верхушечный, аппаратный переворот. То есть всегда идёт взаимодействие между ними. И, более того, та же тактика используется не только в процессе смены власти, но и в процессе подготовительных мероприятий к этой смене. Мы же знаем, например, как Навальный и его сторонники выводят молодёжь на улицу. И знаем, что они имеют «крышу», прикрытие, кураторов непосредственно в структурах российской власти. Поэтому и в данном случае работает та же связка — агентов и их покровителей внутри власти.
Игорь ШИШКИН. Владимир Анатольевич, тогда последние два вопроса, как раз связанные с нашей страной. В какой мере этот опыт применим к России? Насколько вероятно, что попытаются именно под прикрытием массовки, недовольной исходом выборов, устроить государственный переворот? А если не получится, то могут ли задействовать методы, о которых мы сейчас говорим? Могут ли американцы выдать санкцию на физическое устранение первого лица нашего государства?
Владимир ЛЕПЕХИН. Мы видим такую подготовку. Мы, кстати, не так давно обсуждали с вами ситуацию, которая складывается сейчас в политическом поле России. Когда ключевые наши либералы персонально сосредоточили свои усилия, свою пропаганду и критику на первом лице. И, в принципе, последние события, которые происходят вокруг России, заявления достаточно известных прозападных политиков, того же Байдена, — все они направлены преимущественно против главы России. И естественно, продумываются какие-то сценарии его отстранения от власти. И вот буквально сегодня, например, целый ряд СМИ начинает обсуждать вероятную смерть Навального. Не провокация ли это, направленная непосредственно против первого лица нашего государства, которого пытаются представить в качестве якобы главного бенефициара смерти Навального в тюрьме?… Более того, полагаю, что западные спецслужбы и их агентура внутри страны получили конкретные санкции на операции внутри РФ против главы государства. И примерно такие же санкции даны в отношении первого лица Белоруссии. Иное дело, что эти сценарии не так просто осуществить…
Прорабатываются разные варианты, естественно. И есть информация инсайдерская, например, от наших спецслужб, что попытки покушения на жизнь главы РФ уже были во время его зарубежных турне. Сейчас я не могу называть какие-то годы и страны… Тем не менее, такая информация курсирует в компетентных органах, со ссылкой на конкретные источники, что было, по меньшей мере, если говорить о действиях западных спецслужб, как минимум, две попытки, с использованием высоких технологий, физического воздействия на жизнь и здоровье нашего президента.
Игорь ШИШКИН. Спасибо, Владимир Анатольевич, за ваши комментарии. Из них следует, что попытка покушения на президента Белоруссии — не какой-то фейк, а очень серьёзный «звонок». И не только для Лукашенко, а для всех нас. Сценарий, который отрабатывался в Белоруссии, наверняка попытаются реализовать и в России. Поэтому нужно к этому относиться серьёзно и не смотреть на мир через розовые очки.
На орбиту выведены 36 спутников OneWeb
На орбиту выведены 36 спутников OneWeb. Об этом сообщил Роскосмос после восьмого пуска с российского космодрома «Восточный», который состоялся 26 апреля в 01:14 MSK.
Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb. Спустя 562.1 секунды головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.
Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло штатно в соответствии с заложенной циклограммой полёта. В общей сложности в ходе миссии в течение почти четырех часов было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки и восемь включений двигательной установки СОЗ, необходимых для безопасного отделения и расхождения аппаратов OneWeb.
Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана. Данный пуск стал шестым в рамках пусковой кампании OneWeb.
Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» — ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» — выполнили свою работу в штатном режиме. Сегодняшний запуск спутников OneWeb выполнен в рамках контракта Главкосмоса с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и российско-французской компанией Starsem в тесной кооперации с дочерними организациями Роскосмоса — РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 спутника, планируется запуск сотен других. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года из Гвианского космического центра с использованием ракеты-носителя «Союз-СТ» и разгонного блока «Фрегат». Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 21 марта 2020 года с космодрома Байконур при помощи ракет-носителей «Союз-2.1б» и разгонных блоков «Фрегат». 18 декабря 2020 года и 25 марта 2021 года с Восточного запустили еще по 36 аппаратов.
Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LTE или 5G. Будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LTE или 5G.
Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков. Данный пуск стал 96-м для разгонного блока «Фрегат».
Политика США и их союзников мешает возрождению Сирии
Социальная ситуация требует налаживания стойчивого гуманитарного снабжения населения через легитимные механизмы во взаимодействии с правительством САР.
Межведомственные координационные штабы Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики выступили в среду с совместным заявлением «О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц в родные места», в котором отметили, что ими проводится последовательная работа по содействию возвращению сирийских граждан на родину и восстановлению мирной жизни в республике, что позволило вернуть в места избранного проживания более 2 миллионов 242 тысяч сирийцев.
Основной поток возвращающихся граждан идёт через пункты пропуска на сирийско-ливанской границе. С начала текущего года из Ливана в Сирию прибыло около 17,8 тысячи беженцев. На сирийско-иорданской границе пункт пропуска «Насиб» по-прежнему остаётся закрытым. Из-за оказываемого США давления на власти Иордании вопрос возобновления процесса возвращения сирийских граждан на родину не рассматривается.
В этих условиях сирийское правительство, как подчеркнули руководители межведомственных координационных штабов по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф, «прилагает максимум усилий для преодоления всех препятствий процессу возвращения беженцев, являющемуся национальным приоритетом Сирии. Активно ведётся борьба с распространением коронавирусной инфекции. Организованы санитарно-эпидемиологические мероприятия и работа по вакцинации населения».
В условиях бесчеловечных антисирийских экономических санкций, введённых США и их союзниками, правительство Сирии продолжает вкладывать десятки миллиардов фунтов на восстановление и строительство новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения и электроэнергетики.
В совместном заявлении внимание мировой общественности обращается на то, что «серьёзный ущерб сирийской экономике наносит незаконная оккупация США и их союзниками обширных территорий Сирии, где расхищаются природные ресурсы, принадлежащие сирийскому народу. Ими организованы лагеря для внутренне перемещённых лиц, своими порядками напоминающие места заключения. Гуманитарные организации практически лишены туда доступа».
Экономические и политические санкции, незаконная оккупация, поддержка антиправительственных боевиков, делают вывод Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф, свидетельствуют «о стремлении США и их союзников не допустить возрождения Сирии, добиться коллапса экономики и гуманитарного кризиса. Этому способствуют и принципы так называемого механизма трансграничной помощи в Сирии, который нарушает суверенитет и территориальную целостность республики. Гуманитарные грузы на неподконтрольные сирийскому правительству территории доставляются без согласия официального Дамаска. Страны-доноры, используя трансграничный механизм, поддерживают антисирийские силы, лишая мирное население Сирии гуманитарного содействия в условиях пандемии коронавируса и увеличивая страдания народа».
Гуманитарные структуры ООН и Международный Комитет Красного Креста отмечают ухудшение ситуации во всей Сирии, несмотря на отсутствие масштабных боевых действий. Основными причинами такого положения дел, отмечается в совместном заявлении, является стремление США и их союзников «задушить» санкциями национальную экономику, обесценить местную валюту и добиться резкого падения уровня жизни сирийцев. В этих условиях вероятно появление новых волн вынужденной эмиграции населения, потоков беженцев в другие страны.
Экономические и политические санкции, незаконная оккупация, поддержка антиправительственных боевиков, делают вывод Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф, свидетельствуют «о стремлении США и их союзников не допустить возрождения Сирии, добиться коллапса экономики и гуманитарного кризиса. Этому способствуют и принципы так называемого механизма трансграничной помощи в Сирии, который нарушает суверенитет и территориальную целостность республики. Гуманитарные грузы на неподконтрольные сирийскому правительству территории доставляются без согласия официального Дамаска. Страны-доноры, используя трансграничный механизм, поддерживают антисирийские силы, лишая мирное население Сирии гуманитарного содействия в условиях пандемии коронавируса и увеличивая страдания народа».
Гуманитарные структуры ООН и Международный Комитет Красного Креста отмечают ухудшение ситуации во всей Сирии, несмотря на отсутствие масштабных боевых действий. Основными причинами такого положения дел, отмечается в совместном заявлении, является стремление США и их союзников «задушить» санкциями национальную экономику, обесценить местную валюту и добиться резкого падения уровня жизни сирийцев. В этих условиях вероятно появление новых волн вынужденной эмиграции населения, потоков беженцев в другие страны.
Наша справка. По состоянию на 7 апреля 2021 г., как сообщает информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев от 22 апреля 2021 г., в 43 государствах находились 6 756 619 сирийских беженцев, в том числе в Турции – 3667,7 тыс., Ливане – 865,5 тыс., Иордании – 665 тыс., Германии – 595 тыс., Швеции – 137 тыс., Нидерландах – 63,7 тыс., Австрии – 58 тыс., Канаде – 50 тыс., Франции – 36 тыс., Дании – 35,5 тыс., Великобритании – 17,5 тыс.
«Убеждены, что налаживание устойчивого гуманитарного снабжения во всех частях Сирии через легитимные механизмы во взаимодействии с правительством республики позволит оказать помощь всем нуждающимся», – говорится в совместном заявлении.
***
Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев продолжает работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Как сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов, на днях российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 450 продовольственных наборов общим весом 3,44 тонны. В Ашек-Омар (провинция Хама) выдано 150 продовольственных наборов общим весом 1146 кг, в Длейб (провинция Хама) – 300 продовольственных наборов общим весом 2292 кг.
Всего в Сирии организовано и проведено 2816 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлено и распределено 4949,99 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.
Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Патрулирование подразделениями российской военной полиции осуществлено в районе города Манбидж провинции Алеппо из посёлка Аджами по двум маршрутам. Проведено также патрулирование восточнее реки Евфрат: в провинциях Алеппо и Ракка – по маршруту от Метраса до Самхана и обратно, в провинции Хасеке по маршруту от Мамадухи до Камышлии. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Метрас до аэродрома Квайрес и обратно.
***
В среду страны Запада предприняли очередной шаг по дискредитации Сирийской Арабской Республики в глазах мировой общественности. Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов одобрили в Гааге резолюцию, которая ограничивает права и привилегии Сирии. Документ лишает Сирию права участвовать в голосованиях на конференции государств-участников и в исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции и совета. Резолюция была вынесена на рассмотрение членов ОЗХО по инициативе Франции. Поводом для её подготовки стали утверждения «экспертов», что власти САР несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, имевших место в населённом пункте Эль-Латамина (провинция Хомс) в марте 2017 года.
Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что обвинения в адрес Дамаска надуманны и продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу. По его словам, конечной целью этих государств является смена власти в Сирии.
Александр Шульгин, выступая во вторник на конференции государств – участников ОЗХО, заявил, что западные страны создают в ОЗХО механизм для дискредитации неугодных государств. «Простая схема, – отметил он, – при помощи вскормленных на деньги спонсоров НПО, в первую очередь пресловутых «Белых касок», организуются провокации. Всё это активно раскручивается ведущими западными СМИ, а затем задействуется структура ОЗХО, чтобы легализовать эти фейки».
Екатерина Виноградова, , «Красная звезда»
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























