Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
По инициативе Вьетнамской корпорации угля и полезных ископаемых (Vinacomin), Минпромторг Вьетнама выступил с предложением к правительству по снижению природоохранного сбора на бокситовую руду с нынешнего уровня 30-50 тыс. вьетнамских донгов за тонну (1,5-2,5 долл.) до 4 тыс. донгов за тонну.
Предложение аргументируется тем, что существующий уровень сбора неоправданно высок - равен себестоимости добычи одной тонны бокситовой руды, при том, что данный вид полезных ископаемых не является вредным (период восстановления почвы после разработки – 3-4 г., после чего она может быть передана назад для использования домашними хозяйствами).
Ранее Vinacomin получил согласие правительства на беспошлинный ввоз в течение 5 лет 2 видов химических реагентов, необходимых для функционирования производства глинозема, в соответствии с ежегодной заявкой со стороны корпорации. В настоящее время Vinacomin ведет работу по сооружению во Вьетнаме 2 пилотных проектов глиноземных комбинатов – Lam Dong и Nhan Co. Работы по сооружению глиноземного завода. Lam Dong завершены, состоялись промышленные испытания, продукция поставляется на продажу. Сооружение проекта Nhan Co завершено на 52%, ввод в эксплуатацию намечен на 3 квартал 2014 г.
Проект Lam Dong финансируются на заемные средства, полученные от вьетнамских и зарубежных коммерческих банков, выпуска облигаций корпорации, а также за счет собственных средств корпорации по средней ставке 4-5 % годовых для кредитов в долл. и 13 % во вьетнамских донгах. Проект Nhan Co финансируется за счет эмиссии облигаций Vinacomin с доходностью 12% годовых, а также собственных источников компании.
(Dau tu)
Компания Vietnam Airlines планирует сэкономить 60 млн. долл. при покупке новых самолетов благодаря планируемому вступлению в 2015 г. в Кейптанскую конвенцию и протокол воздушных судов. Ожидается, что основные кредиторы – банки Export-Import Bank of the U.S. и European Export Credit Agencies (European ECAs) смогут снизит кредитную ставку с 3% до 2%.
В 2014 г. планируется закупить 10 воздушных судов А321 со скидкой в 6 млн. долл., и еще 26 млн. долл. компания прогнозирует сэкономить при покупке 8 самолетов Boeing787-9 Dreamliner. К 2018 г. Vietnam Airlines наметила израсходовать 2,4 млрд. долл. на приобретение 20 новых самолетов.
(Saigon Times)
Согласно утверждённому премьер-министром Вьетнама плану реструктуризации государственных активов в наиболее эффективных отраслях и предприятиях, Генеральная компания государственных инвестиций (SCIC) сконцентрирует свое акционерное участие в таких ведущих компаниях как FPT Telecom, Vinamilk, Hau Giang Pharmaceutical и Vietnam National Reinsurance Corp. Согласно предварительным данным, в 2013 г. во многом благодаря этим 3 компаниям SCIC заработала более 1 млрд. долл.
В частности, акции Vinamilk выросли на 40% и принесли SCIC около 70 млн. долл. дивидендов. В FPT Telecom Генеральная компания государственных инвестиций владеет более 50% активами. SCIC сохраняет контрольные пакеты акций в 26 крупнейших компаниях в сфере наземного и водного транспорта, туризма, добычи полезных ископаемых, торговли, сервиса и инвестиций. Извлечен государственный капитал из 376 предприятий, в т.ч. из компании Vinaconex, FPT Group, Bao Viet Holding, Binh Minh Plastic и Tien Phong Plastic. К 2015 г. ожидается рост активов SCIC до уровня 2,38 млрд. долл.
(Vietnam News)
Согласно опубликованному агентством Vietnam Report и газетой Vietnamnet ежегодному списку «Топ-500 вьетнамских компаний» (VNR500) корпорация нефти и газа «Петровьетнам» уже в седьмой раз заняла первое место. При подготовке учитывались такие показатели, как, объем доходов, прибыль, темпы роста, совокупные активы. Государственные компании заняли 8 мест в первой десятке. Общий доход десятки составляет 39% доходов 500 компаний, обследованных агентством. В этом году в списке появились160 новых участников, больше 40% из них частные компании, 23% - иностранные. В декабре также был опубликован список «500 крупнейших частных компаний Вьетнама», который возглавила Doji Gold and Gems Group. Следом за ней идут Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company or Vinamilk, Intimex Group Joint Stock Company, FPT Corporation, and Asia Commercial Bank.
Топ-10 (VNR500):
1. Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam)
2. Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd
3. Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex)
4. Electricity of Vietnam (EVN)
5. Viettel Group
6. Vietnam Post and Telecommunication Group (VNPT)
7. Vietsovpetro Joint Venture
8. Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited (Vinacomin)
9. PetroVietnam Oil Corporation (PV OIL)
10. Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
(Vietnam news)
Судя по сообщениям Министерства промышленности и торговли СРВ, в 2014 г. рынок ГСМ Вьетнама по-прежнему останется под контролем и будет регулироваться Правительством.
В частности, до сих пор не выдано разрешение на право продажи ГСМ участниками консорциума по строительству нефтеперерабатывающего завода Nghi Son, объем инвестиций в который составляет 9 млрд. долл., где 75 % - это доля иностранных инвесторов. Кроме того, участникам консорциума буде запрещено строить аналогичный завод в северной части Вьетнама в течение 10 лет с момента ввода в эксплуатацию создаваемого предприятия.
(Doanh Nhan Saigon, № 271, 2013)
По сообщениям Министерства сельского хозяйства и аграрного развития СРВ, задача Вьетнама обеспечить объем добычи морепродуктов к 2020 г. на уровне 2,4 – 2,6 млн.т/год. При этом объем добычи морепродуктов в прибрежных водах с текущих 1,2 млн. т снизится до 0,8 -0,87 млн. т. Добыча в удаленных водах должна вырасти с 1 млн. т/год до 1,4 – 1,45 млн. т/год. Для выполнения этой задачи необходимо модернизация рыболовецкого флота страны, который сейчас насчитывает 130 тыс. судов.
В течение ближайших 7 лет общая численность судов снизится до 110 тыс. При этом доля судов с мощностью двигателя до 20 л.с. с нынешних 49 % уменьшится до 34,5 %, а число судов с двигателями более 90 л.с. возрастет с 20,7 % до 27,3 %, а с двигателями 20-90 л.с будет увеличено с 30,4 % до 38,2 %.
(Thoi bao Kinh te Sai Gon, № 48, 2013)
Во Вьетнаме обозначился резкий рост цен на газ. По прогнозам, в декабре стоимость 1 т газа увеличится на 199 долл., и составит 1094 долл./т. Это самая высокая цена на газ за последние 15 лет.
В декабре цена 12 кг баллона газа возрастет на 60 тыс. донгов и более, достигнув 465 – 470 тыс. вьетн. донгов.
(Thoi bao Kinh te Sai Gon, № 48, 2013)
Национальное собрание Вьетнама ратифицировало новый закон о тендере (государственных закупках). В соответствии с новым законом, подрядчикам предоставляются преференции в случае, если доля местного производства составляет не менее 25 % от общей стоимости предложения.
Кроме того, преференции предоставляются местным подрядчикам и партнерствам местных и иностранных подрядчиков, если доля местных подрядчиков не менее 25 %; предприятиям, с долей женщин, ветеранов войны или инвалидов не менее 25 % от общего числа работников, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.
(Vietnam Investment Review)
По сообщениям Главного статистического управления СРВ, по состоянию на 15 ноября годовой план по наполнению государственного бюджета выполнен на 80,6 %.
При этом от деятельности на внутреннем рынке поступления составили 79,3% (от нефтегазовой отрасли в бюджет поступило 97,9 % годового плана). Поступления от экспортно-импортной деятельности зафиксированы на отметке 73,9 %.
(Kinh Te Viet Nam)
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг совершил визит в Японию. В ходе переговоров с японским Премьер-министром Синдзо Абэ стороны подтвердили намерение развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Японией. Официальная помощь развитию, выделенная Японией Вьетнаму на вторую половину финансового года 2013 г., составила 1 млрд. долл.
Деньги выделены на пять проектов: строительство двух секций автомагистрали Север-Юг, два инфраструктурных проекта в порту Хайфона, программа поддержки по преодолению последствий изменения климата, программа повышению конкурентоспособности.
(Vietnam News)
По данным ГСУ Вьетнама, в 2013 г. рост ВВП составит 5,42 % (2012г. – 5,25 %) в ценах 2010 г., инфляция выросла на 6,04 % (2012 г. – 6,81 %), что является самым низким показателем за последние 10 лет. Объем производства сельхозпродукции, морепродуктов и лесного хозяйства вырос на 2,67 % (почти уровень 2012 г.), промышленное производство увеличилось на 5,43 % (2012 г. – 5,75 %), прирост в сфере услуг - 6,56 % (2012 г. – 5,9%). Общий объем капвложений составил 30,4 % ВВП. Прямые иностранные инвестиции увеличились на 54,5 % и достигли уровня 21,6 млрд. долл. (зарегистрированные и оплаченные). Планом 2014 г. предусматривается увеличение размера ВВП на 5,8 %, в 2015 г. – 6-6,2 %.
(Thoibaokinhte, Nhandan)
Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг на встрече с сотрудниками Правительственной инспекции подчеркнул необходимость усиления контроля и повышения эффективности работы по противодействию коррупции и противоправным действиям. Согласно отчету Правительственной инспекции о проделанной работе за последние два года, за отчетный период было проведено 390 тыс. проверок, было обнаружено ненадлежащих расходов на сумму 3,9 млрд. долл., были приняты меры в отношении 3 тыс. организаций и 5,5 тыс. физических лиц.
(Vietnam News)
В Ханое состоялись два вьетнамо-британских семинара по тематике подготовки квалифицированного персонала для атомной отрасли СРВ. Выступая на пресс-конференции руководитель ВАРАНС (Вьетнамское агентство по радиационной и ядерной безопасности) заявил, что Вьетнам в течение ближайших 2-х лет рассчитывает направить на учебу в Англию как студентов, так и преподавателей для получения специализированного образования.
Указанные семинары явились следствием подписания 28 ноября 2013 г. меморандума о взаимопонимании в вопросе использования атомной энергии в мирных целях. В свою очередь, Ян Джексон (директор по стратегическому развитию бизнеса Национальной ядерной лаборатории Великобритании), сказал, что для обеспечения работы 4-х блоков Вьетнаму потребуется 2000 человек, в том числе 1200 техников-специалистов.
(Vietnam news)
Конец и новое начало
Итоги декабря и 2013 года в целом на мировом рынке стали
Мировой рынок стали закончил 2013 год на минорной ноте. Повышения котировок в последний месяц ушедшего года так и не произошло, в результате цены на стальную продукцию в конце декабря оказались на большинстве региональных рынков на $20-40 за т ниже, чем 12 месяцами ранее. В лучшем случае металлурги завершали 2013 год на тех же позициях, что и начинали его. В принципе, большинство экспертов считают, что крайняя точка спада уже пройдена, и в текущем году обстановка на мировом рынке стали начнет улучшаться. Но в ближайшие месяцы этого, скорее всего, все же не произойдет.
Проблемная стабильность
Декабрь 2013 года продолжил тенденцию стабильности, которая поддерживается на мировом рынке стали, по меньшей мере, с августа. В последние пять месяцев прошедшего года колебания цен на большинство видов стальной продукции происходили в интервале $20-30 за т. В течение декабря котировки в одних случаях остались практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, в других приподнялись на $5-10 за т. Ожидавшегося некоторыми аналитиками традиционного предпраздничного подъема на этот раз не произошло. Спрос на прокат, как правило, оставался вялым, а во второй половине декабря фактически сошел на нет.
Рынок по-прежнему остается под влиянием двух основных негативных факторов – избыточного предложения и недостаточного спроса. Причем, судя по всему, они продолжат свое воздействие и в начале текущего года.
По данным World Steel Association (WSA), глобальное производство стали в первые 11 месяцев 2013 года составило около 1,448 млрд. т. Это на 3,4% больше, чем в тот же период годичной давности. При этом, объем выплавки в Китае увеличился на 8,2%, а в странах остального мира – сократился на 0,9%. И тот, и другой показатель, похоже, является избыточным.
Китайская экономика в 2013 году сохранила весьма высокие темпы роста – порядка 7,6%. Промышленное производство в стране прибавило более 9,5% по сравнению с показателями годичной давности. Однако спрос на прокат в Китае увеличивается гораздо медленнее, чем раньше. Местные компании сталкиваются с теми же проблемами, что и их западные конкуренты. Существующие производственные мощности достаточны и даже избыточны, потребности в новых инвестициях в основной капитал значительно сократились. Соответственно, производителям поступает меньше заказов на промышленное оборудование. Кстати, это способствует уменьшению спроса на сталь не только в самом Китае, но и в западных странах – например, Германии, чье машиностроение в последние годы держалось, во многом, на китайских заказах.
В первые годы после начала кризиса китайское правительство пыталось поддержать промышленность и строительство за счет стимулирования внутреннего спроса – в частности, за счет государственных инвестиций. Однако в 2013 году власти были вынуждены ограничить объемы финансирования, так как продолжение подобной политики поставило под угрозу стабильность национальной финансовой системы. В последние месяцы прошлого года китайские госбанки ужесточали режим кредитования, что привело к снижению темпов роста инвестиций в промышленность и строительство.
Фактически сейчас основную поддержку китайской металлургической промышленности оказывает внутренний потребительский рынок. В 2013 году в стране высокими темпами увеличивались продажи автомобилей и бытовой техники. Кроме того, значительный прогресс наблюдался в таких отраслях как судостроение и железнодорожное машиностроение. Однако всего этого было недостаточно, чтобы поддержать прежние темпы роста потребления стальной продукции. В 2013 году они не превышали 5-6%, а в 2014 году, как ожидается, сократятся до около 4-5%.
В то же время, в Китае продолжался ввод в строй новых металлургических мощностей. Их совокупный объем, по оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, превысил 1 млрд. т в год. Выплавка стали в 2013 году оценивается примерно в 775 млн. т, так что средний уровень загрузки составляет менее 75%. Китайцам не помогло даже 12%-ное расширение экспорта, до 57 млн. т в январе-ноябре. Емкость мирового рынка стальной продукции ограничена, так что увеличение внешних поставок из Китая привело, прежде всего, к ценовой стагнации.
Правительство Китая уже давно заявляет о необходимости сокращения избыточных мощностей. В частности, в конце прошлого года была принята очередная программа, предусматривающая закрытие до 2017 года предприятий, выпускающих порядка 80 млн. т стали в год. Однако, как показывает опыт, из строя выводятся, в основном, небольшие устаревшие заводы, которые так или иначе были бы обречены на скорую ликвидацию. Между тем, основной рост производства приходится на достаточно эффективные современные предприятия. По прогнозам CISA, в 2014 году в национальной металлургической отрасли прибавится еще более 30 млн. т новых мощностей, а выплавка стали возрастет до около 810 млн. т. Вследствие этого избыток предложения проката сохранится, а цены на него останутся на относительно низком уровне на неопределенно долгий срок. Как считают специалисты китайского металлургического интернет-ресурса Mysteel, в 2014 году средний уровень внутренних котировок на прокат будет на 2,5-3% ниже, чем в прошлом году.
При этом, одной из основных причин продолжения депрессии на мировом рынке стали китайские аналитики называют снижение цен на сырье – прежде всего, железную руду. В течение 2013 года ее стоимость, как правило, находилась на высоком уровне вследствие повышенного спроса со стороны Китая. Даже в декабре, когда закупки сырья китайскими металлургами резко сократились, она удержалась на отметке, близкой к $135 за т CFR. Но в 2014 году темпы роста выплавки стали в Китае должны снизиться, а поставки руды – существенно возрасти, так что на вторую половину текущего года аналитики из американских и европейских инвестиционных банков прогнозируют понижение железорудных котировок до $120 за т CFR Китай и менее. А удешевление сырья, безусловно, потянет вниз котировки на стальную продукцию.
Впрочем, проблема избыточного предложения при недостаточном спросе в 2013 году была актуальной не только для Китая. В той или иной степени от нее страдали металлурги и из других регионов.
Естественные процессы
В течение всего 2013 года наиболее депрессивным регионом мирового рынка стали был европейский. Ничего не изменилось в этом отношении и в декабре. В начале месяца европейские металлурги предприняли попытку повышения котировок при заключении контрактов на первый квартал 2014 года, однако успеха, причем, ограниченного, им удалось достичь только в секторе длинномерной продукции. Ее стоимость немного поднялась благодаря намеченному на декабрь-январь сокращению выпуска. В то же время, плоский прокат в середине декабря снова подешевел из-за слабого спроса. Ни дистрибуторы, ни конечные потребители в то время не спешили с новыми закупками.
Спрос на стальную продукцию в Европе в 2013 году сократился, по оценкам различных экспертов, на 1-3% по сравнению с предыдущим годом. Правда, на 2014 год те же специалисты предсказывают рост примерно на ту же величину. Но эти умеренно оптимистичные прогнозы могут не оправдаться.
Спад на европейском рынке стали обусловлен, в первую очередь, сокращением финансирования строительного сектора государством и частными инвесторами, а также дефицитом кредитных ресурсов у промышленных предприятий. Но в этом отношении пока ничего не меняется. Европейские страны продолжают политику жесткой экономии, сокращая бюджетные расходы. Вследствие этого по-прежнему уменьшаются объемы государственных инвестиций, а безработица практически не снижается. В банковском же секторе обстановка в 2014 году может даже несколько ухудшиться по сравнению с прошлым годом.
Специалисты связывают это с проектом создания в ЕС банковского союза с централизованным режимом банковского регулирования. Это означает, что надзор над деятельностью около 130 крупнейших финучреждений еврозоны будет осуществлять Европейский центральный банк. Как ожидается, он будет проводить более жесткую политику, чем национальные регуляторы, и, в свою очередь, потребует от банков скорейшего оздоровления своих активов и списания безнадежных долгов. Однако вследствие этого банки, очевидно, будут и дальше сворачивать более рискованное для них кредитование компаний из реального сектора экономики, особенно, некрупных. Кроме того, из-за необходимости покрытия потерь прошлых лет в их распоряжении может просто оказаться меньше финансовых ресурсов.
В прошлом году многие европейские дистрибуторские компании жаловались на проблемы с привлечением финансирования. Доходило до того, что некоторые крупные металлургические группы предоставляли покупателям товарные кредиты. Судя по всему, в 2014 году ситуация в этом плане, по меньшей мере, не улучшится.
Не способствует росту европейской металлургии и климатическая политика Европейской комиссии, направленная, в первую очередь, на сокращение эмиссии углекислого газа. Для производителей стали это означает увеличение затрат на приобретение разрешений на выбросы (до 2013 года эти разрешения были для них бесплатными, но в дальнейшем предполагается ликвидировать эту льготу). Кроме того, розничные цены на электроэнергию в ЕС растут вследствие увеличения доли в генерации более дорогостоящей ветровой и солнечной энергии.
В 2013 году Европейская комиссия приняла План действий по стали, в котором, правда, не было предложено решения ни одной из этих насущных проблем. Поэтому не исключено, что в 2014 году выплавка стали в ЕС продолжит сокращаться. По крайней мере, на какие-либо иные способы стабилизации внутреннего рынка стали европейским металлургам в обозримом будущем не стоит рассчитывать.
Вообще, спад потребления либо снижение темпов его роста в 2013 году было характерно почти для всех основных рынков. Индия переживает самый тяжелый экономический спад с 2009 года, а потребление стальной продукции в стране в апреле-декабре прошлого года превысило уровень аналогичного периода годичной давности всего на 0,5%. В Бразилии завершается подготовка к Чемпионату мира по футболу, что в этом году приведет к уменьшению спроса на прокат в строительстве. Резко замедлились темпы роста российской экономики, спровоцировав спад в национальной металлургии. Не в лучшем состоянии находились в 2013 году и такие динамично развивающиеся страны как Турция, Корея, Вьетнам. При этом, специалисты и там в обозримом будущем не ожидают существенных изменений к лучшему.
Расширение спроса на прокат может дать только реальный сектор. Это показывает прошлогодний пример США, чью экономику буквально вытягивает на себе нефтегазодобывающая промышленность, демонстрирующая рекордные темпы роста. Расширение добычи нефти и газа способствует увеличению потребностей в трубах и соответствующем оборудовании, а доступная нефть и недорогой газ, в свою очередь, вызвали подъем в американской нефтехимической и химической промышленности. Правда, безработица в стране остается на высоком уровне, а государственные финансы пребывают в расстройстве, зато производство автомобилей в 2013 году оказалось наивысшим за последние шесть лет.
Не удивительно, что американский рынок стали выглядит намного более благополучным, чем другие регионы. В отличие от всего прочего мира, цены на прокат в США возросли в течение 2013 года. При этом, если в прошлом январе разница в стоимости горячекатаных рулонов в ЕС и США составляла около $70 за т, до к концу прошлого года она расширилась до около $140 за т (с учетом изменений валютных курсов).
Больше десяти лет тому назад, когда мировой рынок стали тоже находился в состоянии длительной депрессии, было высказано предложение осуществить согласованное выведение из строя избыточных мощностей в глобальной металлургической отрасли. Причем, в Комитете по стали ОЭСР по этому поводу было даже проведено несколько конференций, участники которых, впрочем, ни о чем не договорились, а вскоре подъем мировых цен на сталь в 2004 году сделал эту проблему неактуальной. В начале 2014 года аналогичное предложение высказал глава «Северстали» Алексей Мордашов, но и в этот раз оно вряд ли к чему-то приведет.
В этом году на мировом рынке стали, скорее всего, продолжится прошлогодняя стагнация. Прекратится же она, очевидно, только в силу «естественных» причин – расширения спроса или, что пока выглядит более вероятным, сокращения мирового производства стали вследствие хронической убыточности некоторых предприятий.
Виктор Тарнавский
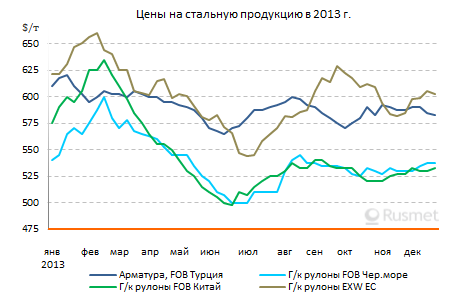
На китайско-лаоской границе открылся КПП Мэнкан
Контрольно-пропускной пункт (КПП) Мэнкан открылся на границе Китая с Лаосом. Это позволит нарастить торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
КПП Мэнкан размещен в городе Пуэр, который находится на территории юго-западной китайской провинции Юньнань. Со стороны Лаоса к границе прилегает провинция Пхонгсали. Пограничный пункт уже прошел государственную приемку. Через него планируется провозить уголь, древесину, сахарный тростник, сельскохозяйственную технику и другие товары.
Ранее сообщалось, что в ходе десятой ярмарки Китай-АСЕАН, на которой были представлены павильоны Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама, заключены договоры и соглашения об экономическом сотрудничестве на 100 млрд юаней ($16,12 млрд). Так, китайские компании заключили с зарубежными партнерами 73 договора на $8,6 млрд. В частности, с представителями стран АСЕАН подписано 23 договора на $3,42 млрд. Это на 30% больше, чем на предыдущей ярмарке. В то же время объем инвестиций по 94 контрактам между исключительно китайскими предприятиями оценивается в 68,1 млрд юаней.
Проекты международного сотрудничества касаются аграрного сектора, добычи полезных ископаемых, промышленности, транспорта, энергетики, инфраструктуры, туризма и др. Кроме того, соглашения заключены в сфере развития "зеленых" технопарков, биотехнологий, электронной торговли и туризме.
ВВС Израиля атаковали боевиков в секторе Газа в ответ на обстрел
Израильская авиация атаковала в четверг группу боевиков в секторе Газа, откуда ранее был обстрелян армейский патруль, сообщили военные.
Представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кидра заявил, что после авиаудара госпитализированы двое мужчин и ребенок. Среди израильских военнослужащих, по которым боевики выпустили три минометных снаряда, пострадавших нет.
"После сегодняшнего минометного обстрела из Газы мы атаковали террористов, которые собирались выпустить ракеты по Израилю", — сообщила армейская пресс-служба.
По палестинским данным, удар с воздуха был нанесен по окрестностям южного города Хан-Юниса. Его целью стали два боевика, ехавших на мотоцикле. Аль-Кидра уточнил, что оба мужчины ранены осколками израильской ракеты, а ребенок, который находился рядом с местом бомбардировки, пострадал от выбитого стекла.
В минувшем году Вьетнам стал крупнейшим поставщиком головоногих моллюсков на рынки стран-коллег по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Стоимостный объем вьетнамского экспорта только в Таиланд за 11 месяцев 2013 г. составил 38,5 млн. долларов.
Поставки головоногих моллюсков (цефалоподов) из Республики Вьетнам в другие государства,входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), начали расти с начала 2013 г. Однако в то же самое время произошло и сокращение объемов экспорта на три других крупнейших рынка – Южной Кореи, Японии и ЕС.
Как сообщает корреспондент Fishnews, крупнейшим импортером вьетнамских головоногих моллюсков стал Таиланд. Среди стран АСЕАН его доля достигла 79%. Общая стоимость поставок вьетнамских цефалоподов в эту страну за 11 месяцев 2013 г. составила 38,5 млн. долларов, что на 12% больше результата за аналогичный период прошлого года.
На втором месте по объему закупок среди стран АСЕАН находится Малайзия, однако здесь, напротив, импорт сократился до 6,2 млн. долларов, упав по сравнению с прошлым годом на 5%.
Еще одна авиакомпания, базирующаяся в аэропорту "Борисполь", WindRose ("Роза Ветров"), приступила к выполнению дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану (Доминиканская Республика). Сезонная программа полетов перевозчика в аэропорт на юге островного государства в Карибском море стартовала 27 декабря 2013.
Компания использует на маршруте широкофюзеляжный самолет Airbus 330, салон которого в двухклассной конфигурации вмещает более 320 пассажирских кресел. Несмотря на значительную емкость воздушного судна, первые беспосадочные полеты WindRose в Пунта-Кану отличаются высокой загрузкой, свыше 85%, что свидетельствует о растущей популярности туристического направления.
Ранее, 27 ноября, рейсы из "Борисполя" в Пунта Кану запустила еще одна украинская компания, "Авиалинии Харькова".
В целом на сегодняшний день из крупнейшего украинского аэропорта осуществляются 8 дальнемагистральных рейсов в города Таиланда, Индии, Вьетнама и Доминиканской Республики.
Кроме WindRose и "Авиалиний Харькова" прямые авиарейсы на дальние расстояния из "Борисполя" также выполняет компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), планирующая в этом году значительно расширить сеть трансконтинентальных воздушных линий. К регулярным рейсам Киев-Бангкок, открытым МАУ в декабре прошлого года, в период летней навигации 2014 г. перевозчик намерен добавить беспосадочные перелеты в Нью-Йорк, Торонто и Пекин.
Обстоятельства времени: евреи бывшего СССР в зеркале американского проекта мемориализации Холокоста
Юлия Бернштейн – независимый исследователь, переводчик.
1. Предисловие
К началу 1950-х годов в СССР, Европе и США были накоплены десятки тысяч свидетельств тех, кто уцелел в Холокосте: дневники и рукописи, фотографии и интервью. Некоторые из них возникли по собственной инициативе уцелевших, некоторые – в ответ на запросы судебных или общественных организаций. Последняя и самая многочисленная группа свидетельств начала оформляться в конце 1970-х годов. Она возникла в процессе создания обширных архивов аудио- и видеоинтервью с теми, кто остался в живых, пройдя Холокост. Долгое время анализом записей таких интервью занимались литературоведы, социологи и исследователи психики: психиатры, психологи, психоаналитики – various psys, как определила их французский историк Аннет Вьевьорка[1].
Вместе с тем у историков эти интервью, как правило, не вызывали интереса. Их смущало обилие неточных дат, неверных имен участников и географических названий. Согласно историографии того времени, записанные интервью не могли считаться историческими источниками, потому что нередко содержали «очевидные ошибочные понимания самих событий»[2]. Известный американский еврейский историк Люси Давидович даже полагала, что эти интервью могут принести исследователю «больше вреда, чем пользы»[3]. Однако с течением времени устные свидетельства, анализируемые в соответствующем историческом контексте, стали полноправными документами в изучении коллективной памяти о Холокосте.
Помимо уникальности каждого индивидуального опыта, свидетельства, накопленные различными проектами мемориализации памяти о Холокосте, отражают культурные приоритеты общества в тот момент, когда эти свидетельства были собраны. В мотивации вопросов и ответов присутствует контекстуальная историческая компонента.
В этой перспективе совмещения личной памяти и культурных рамок заслуживают внимания интервью, взятые американским архивом «Фонд Шоа» у евреев бывшего СССР во второй половине 1990-х годов. В Советском Союзе память о войне и судьбе евреев на оккупированных территориях долгие годы была на полуофициальной периферии дискурса о войне. Появившаяся в начале войны документальная и художественная литература о Катастрофе надолго исчезла после процесса над Еврейским антифашистским комитетом (1948–1952). Как заключает Илья Кукулин, в условиях запрета на неофициальные источники информации о прошлом «литература в СССР была основой структур... неофициальной памяти», косвенно легитимирующей частную биографическую память[4]. В отсутствие литературы о Холокосте не выработались и персональные формы повествования о еврейском опыте войны.
С перестройкой пришла потребность и возможность осмыслить Холокост без оглядки на официальную советскую версию войны. Как раз в этот момент, когда еще не наметились ориентиры нового взгляда на еврейское прошлое, архив видеодокументов «Фонд Шоа» предложил советским ветеранам поделиться военными воспоминаниями с неведомыми им американскими зрителями и воображаемыми будущими поколениями. Каким образом советские ветераны справились с этой задачей – создать собственное спонтанное повествование, инициированное американским проектом мемориализации Холокоста? Пытаясь ответить на этот вопрос, обратимся к интервью с бывшими узниками немецких лагерей для военнопленных. Им приходилось ежеминутно отслеживать и подавлять в себе те черты поведения, которые могли их выдать как евреев. Они должны были четко осознавать представления окружающих военнопленных о евреях и их отношение к нацистской политике геноцида. Можно было бы предположить, что бывшие военнопленные будут особенно ясно помнить эпизоды, связанные с ощущением себя евреем, и найдут нарративные стратегии для такого рассказа.
2. Архив «Фонд Шоа»
Концепция архива видеодокументов «Фонд Шоа» заслуживает небольшого отступления. Начнем с предыстории его создания. В конце 1970-х годов в США, Франции и Израиле начинается систематический сбор аудио- и видеосвидетельств европейских евреев, избежавших «окончательного решения» в странах, оккупированных или контролируемых (как Словакия, Венгрия) нацистской Германией, или в самом «третьем рейхе». В Америке к тому времени их стали устойчиво называть survivors. На идею массово записывать свидетельства «рядовых» участников Катастрофы и на само содержание свидетельств повлияли перемены, произошедшие в западных обществах после войны. Во-первых, к этому времени история геноцида евреев начинает оказывать большое влияние на формирование идеологии и политического дискурса США и стран Западной Европы. Во-вторых, происходит демократизация исторического дискурса. Люди, не принадлежащие к социальной верхушке, почувствовали себя «действующими лицами» истории[5]. Об этом свидетельствовали и французские волнения 1968 года, и массовые движения против войны во Вьетнаме и угрозы атомной войны.
Одним из показателей этих изменений стала дискуссия, развернувшаяся вокруг показа телесериала «Холокост». Этот четырехсерийный телевизионный фильм был показан осенью 1978 года на американском телевизионном канале NBC и привлек в общей сложности 120 миллионов зрителей. Фильм прослеживал путь немецкого врача-еврея Вейса и его жены к самоубийству. Из их двоих детей удается уцелеть лишь сыну, сначала сражающемуся в Сопротивлении, а потом уезжающему в Палестину. За показом сериала последовали многомесячные дебаты. Его обвиняли в «романтизации» Катастрофы, в превращении ее в «голливудскую продукцию»[6]. На страницах «The New York Times» Эли Визель назвал сериал «неверным, оскорбительным и дешевым»[7]. Фильм показывал, как в трагических обстоятельствах герои приходят к решению умереть. В нем отсутствовали массовые убийства, голод, унижение, моральная деградация, бессильный гнев. Вместо того, чтобы представить зрителям обреченность героев – заключает американский историк Лоуренс Лангер, – фильм подтверждал традиционную для американской культуры «идею выбора человеком своей судьбы»[8].
«Там было не так», – утверждал Эли Визель. Рассказать о том, как было там,могли только оставшиеся в живых узники гетто и лагерей. Попыткой рассказать о Холокосте словами уцелевших стал проект создания документального фильма на основе свидетельств проживающих в Коннектикуте европейских эмигрантов, прошедших через гетто и лагеря. В 1979 году в Нью-Хейвене журналистка Лорел Влок и доктор Дори Лауб записали первые видеоинтервью. О смонтированном из этих интервью документальном фильме «Свидетель: голоса Холокоста» («Witness: Voices of the Holocaust») с энтузиазмом писали газета «The New York Times» и журнал «Time». Начатый Лауб и Влок проект интервьюирования уцелевших в Холокосте к 1982 году перерос в «Fortunoff Archive» Йельского университета, сейчас насчитывающий 3600 свидетельств.
Лауба как психиатра-психоаналитика интересовала проблема выживания и неослабевающего воздействия на человека воспоминаний о травме, которую он пережил[9]. Идея Влок собрать видеоинтервью и показать их на экране привлекала его также своим терапевтическим потенциалом. Он считал, что «каждым уцелевшим движет настоятельное желание рассказать и таким образом узнатьсвою историю»[10]. Задавая перед камерой вопросы, он стремился помочь интервьюируемым найти способ описать свой военный опыт. Он поощрял выражение эмоций и воспринимал его как важную часть процесса свидетельства, однако уточнение исторических фактов не входило в его цели.
Появление в 1993 году «Списка Шиндлера» – нового американского художественного фильма о Холокосте – стало причиной создания еще одной, на это раз огромной, коллекции видеосвидетельств. В 1994 году режиссер фильма Стивен Спилберг объявил о создании архива видеодокументов «Фонд Шоа», который частично финансировался кассовыми сборами «Списка Шиндлера». В архив вошли видеоинтервью с 56 тысячами человек, соприкоснувшихся с Холокостом: узниками гетто и лагерей; военнослужащими советской и союзнических армий и партизанами; евреями, жившими под чужим именем на «арийской» территории; прятавшихся в чужих домах мужчин и женщин. Их интервьюировали в разных странах в домашней обстановке и на родном языке. Как объяснял Спилберг в интервью французской газете «Liberation», его намерением было «сохранить историю [Холокоста] такой, как она передана нам теми, кто жил в это время и сумел уцелеть. Очень важно видеть их лица, слышать их голоса и понимать, что они – обычные люди, такие, как мы, которые сумели пережить жестокости Холокоста»[11].
Хотя и йельский архив, и архив Спилберга обязаны своим появлением успеху художественных фильмов, их концепции различны. Внимание йельского архива сосредоточено на личности уцелевшего человека, навечно оторванного от общества чудовищным испытанием геноцида. Главная идея архива «Фонд Шоа» – идея возвращения к нормальной жизни после «кораблекрушения войны»[12]. Архив видит своих свидетелей психологически устойчивыми к испытаниям Холокоста. В центре внимания «Фонда Шоа» – передача истории последующим поколениям, при этом сами субъекты этих свидетельств не рассматриваются создателями архива как носители пережитой психологической травмы. Различие между этими проектами может быть описано как различие между «археологией памяти» о Холокосте и его мемориализацией. Коллекция «Фонда Шоа» – собрание повествований о пережитом, сформировавшихся под влиянием культуры и идеологии стран, где рассказчики жили после войны.
Повествования ветеранов часто разворачиваются как истории о необъяснимой власти свидетельствующего над собственной судьбой. Каждая следующая победа в поединке со смертью как будто бы «увеличивает расстояние» между ним и опасностью. Интересно, что в интервью людей, сформировавшихся в западной культуре, например, американских евреев-военнопленных, эта власть рационализируется и приписывается правильным решениям самого рассказчика. Повествовательная рамка советских ветеранов отличается от этой схемы. По словам Ирины Паперно, в конце 1990-х бывшие советские мемуаристы видят себя не субъектом истории, а людьми, попавшими под ее колеса[13]. Ту же тенденцию можно обнаружить и в свидетельствах советских людей из «Фонда Шоа», где собственным решениям рассказчики отводят подчиненную роль, а чудесная власть над их судьбой приписывается внешним силам.
После этого отступления можно перейти к самим воспоминаниям бывших советских военнопленных. Остановимся подробно на трех интервью: Исаака Могилевера, Самуила Ставицкого и Эсфири Вартанян. Все три рассказчика в деталях описывают фатальные опасности, подстерегавшие их каждую минуту жизни. Тем не менее, поскольку их интервью – история победы над смертью, гибель заключенных при всей своей трагичности, не ошеломляет слушателя. На фоне «ландшафта смерти», окружавшего свидетелей, особенно очевидно могущество силы, заслонявшей их от опасности.
3. Могилевер и партия
Нередко источником внешней спасительной власти оказывается партия, иногда родовое начало – семья, иногда – непреложный органический закон взросления. В повествовании Исаака Семеновича Могилевера этой силой является партия. Она вступает в его повествование с первых же слов, он предъявляет себя как орудие в ее руках:
«Избрали на освобожденную комсомольскую работу... Отправили на учебу в Полтаву в Военно-политическое училище. [...] Выдвинут в политуправление 12-й армии. [...] Член военной прокуратуры».
Попав в июле 1941 года в окружение в районе Умани, он с группой офицеров пытается прорваться к своим и попадает в плен. Этот эпизод Могилевер описывает с позиции армейского политработника:
«На моих глазах люди кончали жизнь самоубийством. Чтобы не сдаваться в плен к немцам. Рядом со мной была одна [...] украинка-женщина… она меня просила, чтобы я ее дострелил. Я не мог этого сделать, так она саперной лопаткой била себя по голове, пока не скончалась. При мне покончил с собой начальник штаба двенадцатой армии... помощник начальника политуправления армии по комсомольской работе».
В обязанности комиссара входило разъяснение взгляда политического и армейского руководства на самоубийство[14]. Как политработник Могилевер знал, что если в мирное время самоубийство в Красной армии признавалось слабостью, своего рода «болезнью быта», то сдача в плен считалась «тяжелым воинским преступлением», «изменой Родине». В соответствии со 193-й статьей советского Уголовного кодекса она каралась расстрелом с конфискацией имущества; 58-я статья этого кодекса не оставляла возможности плена даже для раненых военнослужащих. 28 июня 1941 года приказами НКВД и Прокуратуры СССР вводилась уголовная ответственность для членов семей изменников Родины. Особенно беспощаден закон был к офицерам. По вышедшему уже позднее (16 августа 1941 года) за подписью Сталина указу № 270 сдавшиеся в плен командиры и политработники приравнивались к дезертирам. Если им удавалось вернуться на советскую сторону линии фронта, их ожидал расстрел перед строем[15].
Исаак Могилевер тоже решает покончить с собой. Из-за тяжелого ранения правой руки стреляет левой и промахивается, его отправляют в лагерь для военнопленных. В лагере – Уманской яме – смерть опять обходит его стороной. Тяжелораненый, голодный, раздетый, он чудом избегает расстрела. В конце концов, ему удается бежать. После долгих мытарств Могилевер добирается до Днепра в районе Черкасс и пытается его переплыть. Ранение дает о себе знать, он возвращается, не проплыв и 20 метров. В этот момент рассказ о спасении опять обращается к партии. Могилевер вспоминает свой родной город Бершадь:
«Леса вокруг Бершади, детство, что я все это знаю, вспомнил, что нас учили в военно-политическом училище,.. что, если мы попадем в окружение, организовывать подпольно-партизанское движение. Решил двигаться в Бершадь».
В Бершади, входившей в зону румынской оккупации, к этому времени уже существовало гетто. Помимо бершадских евреев – Могилевер считает, что их было свыше 5 тысяч человек, – там находились еще 20 тысяч депортированных румынских евреев. Это были евреи из аннексированных Советским Союзом в 1939 году Бессарабии и Буковины, отправленных правительством Антонеско в Транснистрию – часть территории Южной Украины и Молдавии. По договору между Румынией и Германией (август 1941 года), Транснистрия находилась под юрисдикцией и контролем румын. Хотя с февраля 1942 года на этой территории были прекращены массовые расстрелы еврейского населения, десятки тысяч местных и приезжих евреев были заперты в гетто и лагеря. Зимой 1941–1942 года большинство жителей бершадского гетто, особенно из числа депортированных, погибли от голода и тифа. Исаак Могилевер утверждает, что той зимой погибли 94% населения гетто.
И вновь в ситуации обреченности взгляд повествователя обращается к партии: «Узнал о том, что райком партии оставил одного человека... для организации подпольно-партизанского движения». Могилевер сумел его найти и договориться о совместных действиях. Несокрушимая сила партии хранила рассказчика и тогда, когда он организовывал в гетто ячейку сопротивления:
«Мало смотрел на то, что это было гетто; всюду ходил. Потому что я был ответственный, организовывал подпольную работу».
Подпольщики под его руководством наводили ужас на румынских военных, за голову Могилевера было обещано 500 000 лей. Даже румыны, по его воспоминаниям, ощущали его таинственную связь с партией: «Когда брали какого-то человека, говорили: “Кто ваш бог – Исаак Могилевер или Сталин?”».
В конце августа 1943-го группа Могилевера получила приказ центрального командования вступить в открытую борьбу. Многие евреи-подпольщики не решились присоединиться к партизанам из страха за жизнь своих близких. Имена оставшихся оказались в руках немцев, и 326 подпольщиков были расстреляны. А Исаак Могилевер последовал приказу партии и остался жив. Он был избран руководителем подпольно-партизанского движения этой местности, «мстил немцам,.. пускал под откос поезда» и в 1944 году вернулся в Бершадь, освобожденную советскими войсками.
4. Взросление Ставицкого
Так же, как свидетельство Могилевера, рассказ Самуила Абрамовича Ставицкого о плене начинается с эпизода самоубийства командира: «На наших глазах застрелился командир полка».
На Самуиле Ставицком – замполите роты – тоже лежала обязанность разъяснять бойцам, что единственный способ избежать обвинения в измене Родине – самоубийство:
«Ведь сам, как замполит, говорил, что в плен сдаваться нельзя, что становишься изменником. И вот сам попал... Я... не имел даже возможности покончить с собой, потому что меня захватили внезапно».
На этом сходство с предыдущим свидетельством заканчивается. Два бывших военнопленных рассказывают совершенно разные истории о своем опыте. Повествование Ставицкого – история взросления, в которой трагические испытания представлены этапами на пути возмужания рассказчика, а силой, которая сохраняла Самуила Ставицкого, была органическая сила внутреннего развития и созревания.
В начале рассказа герой повествования – доверчивый, дружелюбный и веселый парень, призванный на фронт со скамьи Московского института философии, литературы и истории. Он и его товарищи – попавшие вместе с ним в плен однополчане – не разлучаются и стоят друг за друга горой. Все знают, что Ставицкий – еврей и политрук, но, рискуя собой, подтверждают легенду о его матери-татарке, настоявшей на обрезании сына. Ставицкий вспоминает:
«Ко мне подошел молодой парень-полицай:
– Скидывай штаны.
– Я обрезанный. У меня татарка мать.
Товарищи рядом стояли мои. Подтвердили это».
Постепенно волею обстоятельств Самуил Ставицкий остается один, попадает в рабочий лагерь «Шталаг 4Б» в Мюльберге-на-Эльбе и заболевает тифом. В лагерном лазарете в бреду он рассказывает о себе всю правду главному врачу барака – советскому военнопленному. Врач продержал его в лазарете до конца эпидемии тифа, но ни разу не дал понять, что знает о его тайне. Ставицкий усваивает урок осмотрительности.
Выздоровевший Ставицкий – осторожный и сдержанный человек. Он налаживает контакт с бывшим уголовником, веселым парнем, которого и свои, и немцы уважали за огромную физическую силу, приобретает популярность у солагерников, благодаря своим пересказам приключенческих романов. Благодаря знанию немецкого и моральному авторитету, он «выдвинулся в лидера лагеря», выполнял роль третейского судьи. «Мне, молодому парню, которому было 22 года, – вспоминает Ставицкий, – доверяли. Конфликты бывали ведь, и всегда мне доверяли, как я рассужу». Последним испытанием на пути к зрелости героя повествования становится история завершающих дней войны, когда Ставицкий с группой бывших заключенных решают самостоятельно двигаться на восток к советскому сборному пункту:
«Нашлись тут десяток брошенных велосипедов, и вот молодежь нашего лагеря во главе со мной уселись на эти велосипеды и поехали. Проехали километров десять и подумали: “Что же мы делаем? Самая молодая часть, мы оставили наших пожилых и инвалидов. Давайте возвращаться назад”».
Когда уехавшие на велосипедах возвращаются, упреки заключенных обращаются в первую очередь на Ставицкого: «Мне прежде всего говорят: “Мы верили в тебя”», – вспоминает он. После этого эпизода рассказчика выбирают командиром колонны, хотя среди заключенных были офицеры старше его по званию. Последние дни пути в советский полевой военкомат – апогей истории взросления. Заключенные достали ему красную повязку на руку. На забитой в обе стороны дороге бывшим заключенным попадаются советские офицеры, которые признают в Ставицком командира: «Я руку подниму, они знали, что я командир, говорят: “На восток, на восток”».
5. Сны Вартанян
Детство и юность Эсфири Ильиничны Вартанян не предвещают ее удивительной судьбы. Повествование подчеркивает заурядность героини. Она была «нежеланным ребенком», потом «коммунистическим зернышком, октябренком, пионеркой, комсомолкой, перед войной студенткой Московского юридического института, вступила в кандидаты в партию. Ушла добровольцем на фронт». Любимыми литературными героями Вартанян были «“Овод” Войнич, Д’Артаньян, конечно, и Павел Корчагин». Под их влиянием сложилось ее «жизненное кредо» – быть бесстрашной. Женщин среди ее любимых литературных героев нет.
Пружина рассказа Вартанян – состязание героини повествования с мужчинами в уме и храбрости. Оно началось 22 июня 1941 года. В тот день она пошла в военкомат записываться добровольцем на фронт. Поглядев на хрупкую, маленькую Вартанян, военком отказался ее мобилизовать, сказал: «Пока я жив, ты на фронт не пойдешь». Уже через две недели рассказчица записывается в народное ополчение. Она – бесстрашный санинструктор. Отвага Вартанян упомянута в книге «Солдаты Красной Пресни» и в радиопередаче 1969 года «Как рождаются герои».
В первых числах октября 1941 года под Ельней батарея Эсфири Вартанян попадает в окружение. Несколько дней спустя она оказывается в лагере для военнопленных, где прибавляет к фамилии бывшего мужа-армянина имя Нина и, благодаря минимальному знанию армянского, успешно выдает себя за армянку Нину Ильиничну Вартанян. Не страшась лагерного начальства, она дерзила вышестоящим и произносила патриотические речи перед заключенными. В июне 1943 года ей удается бежать к партизанам. Вартанян попадает в диверсионную бригаду и воюет наравне с мужчинами.
В начале октября 1941 года в занятом немцами Подмосковье Эсфирь Вартанян оказывается в огромной толпе окруженцев, собравшейся около шоссе. Она вспоминает, как к толпе подошли два офицера «и стали призывать сдать винтовки и сдаваться, потому что Москва пала. После читала в художественной литературе, что в этот день Сталин ходил по Казанскому вокзалу и говорил: “Уезжать – не уезжать; уезжать – не уезжать”, а я вышла и говорю солдатам: “Я не знаю, пала Москва или нет. Но Москва никогда не падет. Ее все равно заберут обратно. Поэтому давайте не будем сдаваться в плен”».
Вартанян важно доказать свое превосходство над мужчинами не только в доблести, но и в уме. Ее интеллектуальное превосходство признают даже немцы – два охранника, конвоировавших ее из тюрьмы в лагерь. В довоенном прошлом все трое были студентами; Вартанян объяснялась с ними на ломаном немецком. Получив представление о ее начитанности, «они были потрясены, говорили: “Какая ты умная, какая ты красивая”». Потом героиня повествования бросает вызов – правда, гипотетически – начальнику лагеря для военнопленных. Рассказывая о расстреле, от которого она чудом спаслась, Вартанян неожиданно отклоняется от повествования и замечает:
«Я бы сказала, что я еврейка, если бы у нас была полемика. Если бы со мной разговаривал комендант лагеря обер-лейтенант Лангут... Если бы он со мной разговаривал, я бы ему сказала: “Я еврейка, почему ты хочешь меня расстрелять: я умнее или я глупее?”».
Последний, кто признает недюжинный ум Вартанян, – офицер СМЕРШа. Это начальник проверочного лагеря, в который рассказчица попала после соединения своей партизанской бригады с советскими войсками. Как она вспоминает, на последнем допросе, завершавшем восьмимесячное дознание, начальник лагеря признает: «Какая ты умная».
Повествование Эсфири Вартанян о том, как она «уходила добровольцем на фронт, потому что ненавидела нацизм, расизм, фашизм», следовало своему курсу, когда берущая интервью сотрудница фонда спросила, верила ли она в Бога. «Нет», – ответила Вартанян, и тут же вспомнила о своем первом обращении к некой высшей силе: когда умирала ее мать, русская няня велела маленькой Эсфири повторять за собой слова православной молитвы. Этот эпизод влечет за собой признание, которое противоречит предыдущему описанию ее «типично советской» жизни. Неведомая сила, в соприкосновение с которой Вартанян приводит смерть матери, охраняла и защищала ее во всех испытаниях. «Уверена, что все то, что мне пришлось пережить в концлагерях… то есть каждая угроза расстрела, я была, видимо, под какой-то защитой». Позднее, рассказывая о том, как она избежала трех расстрелов, Вартанян заключает: «Я считаю, что кто-то меня охранял. Я считаю, что это был мой ангел-хранитель или Бог».
Помощь неведомой силы, мистическое избранничество – очень важный мотив в повествовании Вартанян. Она вспоминает, как впервые почувствовала вмешательство этой силы в свою жизнь:
«Я хочу вам сказать, что все, что со мной произошло... мне был вещий сон. Я, конечно, не знала, что это вещий сон. Уже потом, в окружении, в Смоленске, старый профессор Смоленского университета, когда я рассказала ему свой сон, сказал: “Вы это никому не рассказывайте, потому что это у вас вещий сон”».
Через обращение к авторитету университетского профессора сон наделяется статусом особого знания. Эсфирь Вартанян рассказывает:
«Этот сон снился мне три раза в жизни... Что я большая девушка, во лбу у меня горит звезда, по каким-то огромным катакомбам за мной гоняются люди в фашистской форме и мучают меня. Они меня и физически мучают, но особенно мучают духовно, переворачивают мне сердце, мою душу. [...] Я думаю, что это был сон, который был в жизни действительно реализован».
Интерпретация этого сна, мысль о том, что счастливое избавление оказалось «повторяющимся узором» на канве военной судьбы, – часть переживания сновидения об испытаниях в тесноте катакомб. Неявно рассказчица предлагает объяснение своей неуязвимости: во лбу героини светит звезда – знак ее причастности высшему миру. Такое совмещение сновидных образов с их рациональной интерпретацией Ирина Паперно назвала встречей между «незнающим и знающим “я”»[16]. Чтобы рассказать о «конфронтации с собой, со своим страхом, с деформацией своей личности, с своими компромиссами»[17], Вартанян прибегает к повествовательному приему, известному со времен Средневековья и характерному для жанра «онирической автобиографии». В рамках этого жанра «рассказы о сновидении представляют собой ключевые события в повествовании о жизни пишущего»[18]. Таким событием в рассказе Эсфири Вартанян становится вмешательство в ее судьбу высшей силы. Звезда во лбу делает героиню сновидения не только заметной для врагов, но и «видимой» обращенному на нее «взгляду» неведомого защитника.
Вторым доказательством мистического заступничества становится рассказ об одном тюремном эпизоде. Из-за доноса соседки по бараку Эсфирь Вартанян на несколько дней заключают в тюрьму; ей угрожает расстрел. Среди сокамерниц оказалась гадалка. Остальные заключенные упрашивают ее погадать им. Гадалка отказывается и заявляет, что погадает только «военной девушке» (остальные в камере – штатские). Из того, как разворачивается дальнейшее повествование, следует, что именно сокамерники уполномочивают гадалку открыть Вартанян ее будущее. Введение в повествование голоса сообщества (communal voice) характерно для представителей маргинальных групп, в том числе женщин[19]. В рамках этого приема сообщество (сокамерницы) наделяется повышенным повествовательным авторитетом, от лица и по поручению которого может говорить отдельный человек (гадалка).
Убеждая Вартанян в достоверности своего знания о будущем, гадалка рассказывает ей о ее прошлом. Как о самом главном в ее жизни, гадалка говорит о любви отца: «У тебя отец […] он очень страдает по тебе». Потом приступает к гаданию: «“Тебя не расстреляют, еще будешь воевать. После войны еще лет 10 с ним [отцом. – Ю.Б.] проживешь”. [...] Все, что она сказала, все свершилось».
В этом вердикте предстоятелем за Вартанян перед мистическим заступником оказывается род, выступающий в лице отца. Объяснение спасения посредничеством рода кажется противоречивым и архаичным на фоне многократных заверений Эсфири Вартанян в ее приверженности к рациональной просвещенческой традиции. Хотя разум – главная ценность в системе ее декларируемых приоритетов, силой, спасающей ее от смерти, оказывается мистическая сила рода.
5. Еврейская судьба не вписывается в нормативную структуру повествования
Многократные пересказы отфильтровали из воспоминаний Могилевера все, что не работает на образ непреклонного героя-коммуниста, которого окружающая действительность не в силах изменить. Единственное, что вносит в его повествование диссонанс, это именно «еврейские» эпизоды. В городке Гайсин Исаак Могилевер впервые становится свидетелем Катастрофы: «Я видел, как вели 15 тысяч евреев Гайсина на расстрел… Видел через… окно: голые, многие в одних рубашках». Гладкая энергичная речь прерывается, Могилевер замолкает.
«Правда никогда не будет записана», – писал о попытках исчерпывающе рассказать о пережитом опыте Катастрофы Эли Визель: «Как Талмуд, она будет передана из уст в уши, из глаза в глаз»[20]. Правду об этом опыте нельзя записать, но живая речь может с помощью интонации, повторов, остановок передать то, о чем невозможно рассказать словами. В живой речи мы можем услышать молчание, упирающееся в мучительный поиск слова. Когда Могилевер рассказывает о расстреле гайсинских евреев, в телекамеру больше не смотрит неуязвимый для смерти коммунист, сам выбирающий свою судьбу. Перед нами человек, ощутивший несопоставимость любых представлений о жизни с тотальным разрушением. «Голые, многие в одних рубашках», – единственное, что говорит он о последнем пути гайсинских евреев, их обреченность и оставленность не дает Исааку Семеновичу говорить.
Подробно, как профессиональный историк, описывая лагерь для военнопленных, Самуил Ставицкий добавляет, как будто об окружающем лагерь пейзаже: «На холмах, отдельно совершенно, евреи, приготовленные к расстрелу, евреи из оккупированных местностей, согнанные туда». Для попавшего в плен в самом начале войны Ставицкого это было первым столкновением с Катастрофой. Он ни слова не прибавляет к констатации этого факта; регистрирует то, что видели его глаза, и замолкает.
Вартанян описывает расстрел евреек из своего барака лишь через одну подробность: «Девочки плакали». Так же, без комментариев, она сообщает об антисемитизме партизан, к которым попала после побега из лагеря:
«Придя к партизанам, сказала свое настоящее имя и попросила сразу послать на диверсию. Другие ребята в группе говорили: “Ты просто особенная, вообще евреи трусливые”».
«Еврейские эпизоды», вплетенные в не раз проговоренное повествование, могут вызвать у зрителя интервью неоднозначную реакцию. Может, например, показаться спорным решение Могилевера отбирать скудный запас лекарств из больницы гетто в пользу еще не созданных партизанских групп. Он рассказывает:
«Они [Юденрат] получали медикаменты [от еврейских общин Румынии. – Ю.Б.] – больше половины мы забирали для того [...] чтобы потом мы могли действовать в партизанских отрядах и пользоваться этими медикаментами».
Могилевер и его соратники принуждали Юденрат освобождать подпольщиков от отправки в Николаев на тяжелые работы: ведь в будущем эти люди «должны будут открыто воевать против немцев». Уйдя по приказу командования с бойцами в лес, Могилевер бросает семейных подпольщиков гетто на произвол судьбы (правда, позже он героически пытается их спасти). Конечно, с позиции партии, стратегические решения не должны были соразмеряться с их «человеческой» ценой. Тем не менее смущает отсутствие в интервью Могилевера, пусть запоздалых, размышлений о последствиях своих действий для евреев гетто.
Неоднозначное впечатление производит и заключительный эпизод повествования Ставицкого о плене – допрос у офицера СМЕРШа в проверочном лагере. Сначала он регистрируется под своим лагерным «казацким» именем. Ночью – допросы шли круглосуточно, – Ставицкий сам возвращается к представителю СМЕРШа и открывает свое настоящее имя, но просит оставить ему его лагерную фамилию, потому что ему «неудобно перед ребятами». СМЕРШевец настоятельно советует ему назваться подлинным именем:
«Ну, вот вы смените фамилию, а что будет через год? Наши друзья станут нашими врагами […] наши союзники станут нашими врагами, и потом возникнет вопрос: “С чего вы сменили фамилию? А не шпион ли вы американский, английский или французский?”».
Похоже, перспектива лишиться авторитета, оказавшись не тем, за кого он себя выдавал, да еще и евреем, была невыносима для Ставицкого. Он не спорит со СМЕРШевцем, но просит направить его не в ту часть, куда определили его товарищей (потом страшно об этом жалеет). Он не комментирует своих мотивов. Говорит только: «Я же стал… Ставицким и очень стыдился этого момента».
Почему Самуил Абрамович не надеялся на понимание товарищей? У людей, выживших по одному из тысячи, такого рода «обман», казалось бы, должен был вызвать понимание. Но, как и многие «еврейские эпизоды» в рассказах советских ветеранов, история со сменой имени с трудом вплетается в ткань повествования.
Другой пример эпизода, неожиданного в контексте повествования, – рассказ Эсфири Вартанян о двух попытках поделиться военными воспоминаниями. Она рассказывает о первых месяцах мирной жизни:
«Должна была восстановиться в кандидаты в члены партии. Мне предложили написать свою подробную биографию. В это же время Эренбург предложил мне... чтобы я написала воспоминания, а он их отредактирует. Села писать, не могла. Что ни вспомню – то слезы. В войну никогда не плакала, а здесь каждую ночь снились сны. Не помню спокойной ночи: то меня расстреливают, то куда-то убегаю, то вешают. Не могла написать. А когда позвонили из парткомиссии и сказали в течение пяти дней написать воспоминания со ссылками на людей и географические пункты, я села и написала».
Как у всякого советского человека, у нее был опыт написания автобиографии для разных организаций: комсомола, партии, института. Она без труда изложила факты своего военного прошлого, которые интересовали партийную организацию. Однако просьбу Эренбурга, несмотря на его огромный авторитет как писателя и военного корреспондента, Вартанян так и не смогла выполнить. Специфически еврейский опыт войны оказался непередаваемым, а процесс воспоминания невыносимым.
Предложение Эренбурга могло быть связано с «Черной книгой» – одной из двух, запланированных Еврейским антифашистским комитетом (ЕАК, 1942–1948) книг свидетельств. «Черная книга» должна была повествовать о судьбе евреев на оккупированной территории, «Красная книга» – о мужестве, проявленном евреями в вооруженной борьбе с фашизмом. Проектом издания «Черной книги» руководили Илья Эренбург и Василий Гроссман. Весной 1943 года они опубликовали в газете ЕАК «Эйнинкайт» просьбу присылать личные свидетельства. В 1945 году было решено издать две версии книги: одна должна была содержать тексты свидетельств, вторая – их литературную обработку. В 1946 году обе книги были изданы в США. В СССР книга была послана в набор в июле 1947 года. В 1948-м набор был уничтожен, а в начавшемся в 1952 году процессе над ЕАК участие в издании «Черной книги» расценивалось как преступление.
Вероятно, Эренбург хотел опубликовать свидетельство Вартанян в обеих версиях книги и предложил ей вспомнить о пережитом с позиции жертвы Холокоста. Эта задача оказалась не по силам для рассказчицы. Как можно было сочетать прямоту и храбрость с унижением и покорностью, с которой она принимала антисемитизм соседок по лагерному бараку? Спустя пятьдесят лет после эпизода с Эренбургом Вартанян рассказывает:
«Сказали старшей, что сегодня утром баланду она [Вартанян] получит, а потом заберут и расстреляют. […] У меня был котелок, не у всех был. Думаю, пойду помою, а то потом найдут, скажут: “Вот, еврейка ведь была; не помыла после себя”. Ведь антисемитизм же такой был, чуть что – “жидовка”. Мне, другим, между собой».
Помимо ощущения страха и унижения, воспоминания о Холокосте были несовместимы с мечтой о счастливой жизни после войны. Человеку, пережившему тяжелейшие испытания и ставшему свидетелем моральной деградации окружающих, трудно было открыться навстречу безоблачному будущему. Включенный в воспоминание Вартанян рассказ о приснившейся девушке со звездой во лбу, неуязвимой для врагов, которые «особенно мучают духовно», – это попытка найти символическое выражение ее надежде выйти из военных испытаний психологически не искалеченной. По наблюдению Ирины Паперно, включая в повествования сновидения, мемуаристы задают встречу между их «преднамеренным и непреднамеренным (приснившимся) значением»[21]. Тем самым они раскрывают свое сложное отношение к задаче свидетельствовать о пережитом, к «разрыву между прошлым, настоящим и будущим, к самим себе»[22].
6. Заключение
Свидетельства Могилевера, Ставицкого и Вартанян привлекли меня не только красноречием, эмоциональностью и невероятной судьбой мемуаристов. Их интервью позволяют представить себе жизнь, в которой укоренен повествовательный голос рассказчика. В рамках архива видеодокументов повествовательный голос становится историческим свидетельством эпохи, которую он выражает, даже если уточнение исторического контекста не входит в задачи интервью.
Протоколы интервью для архива «Фонд Шоа» не содержат вопросов, которые бы заставили интервьюируемых вспомнить вытесненные на периферию их памяти эпизоды. Интервьюер не пытается пересечь границы пространства повествования, которое очерчивает сам рассказчик. Однако при всех ограничениях позиции «невмешательства» каждое интервью – диалог, в котором свидетель рассчитывает на сопереживание и одобрение интервьюера и гипотетического потомка, представителем которого выступает интервьюер.
Конечно, рассказчик заранее уверен в одобрении слушателя, если тема его повествования – спасение от смерти в Холокосте. В конце 1990-х годов американский психолог Генри Гринспан, говоря о поднявшейся волне интереса к свидетельствам уцелевших, обращал внимание на тенденцию превращать уцелевших в символы Холокоста. «На самом деле, – уточняет Гринспан, – они превращаются в символы наших собственных страхов и желаний, возникающих как реакция на Холокост»[23]. В контексте этих страхов и желаний каждое следующее избавление рассказчика от смертельной опасности опосредованно делает слушателя недосягаемым для собственных страхов.
Захваченные «эйфорией спасения», интервьюирующие и зрители меньше интересуются послевоенной жизнью рассказчиков. «Отрепетированная», не раз повторенная часть повествования охватывает, как правило, только период военных испытаний. Сами советские ветераны видят себя в первую очередь «свидетелями истории» и о послевоенной жизни говорят лишь в общих чертах. Тем не менее, понимая, что рассказчик говорит о прошлом с позиции современности, стоит искать смысл свидетельства в контексте всей жизни свидетелей. Она, незаметно для самих советских ветеранов, из истории победы над судьбой превращается в историю поражения.
Повествовательные фигуры, созданные рассказчиками, так и не пережили войны. Когда рассказ перемещается на послевоенную жизнь, его герои радикально меняются. Неустрашимая Вартанян безропотно выслушивает отказы в найме на работу под предлогом отсутствия вакансии. Она отлично знает, что вакансия есть, ей только что, думая, что она армянка, сказали об этом по телефону. Но, увидев ее паспорт, говорят, что вакансии нет, и Вартанян не возмущается, не произносит пламенных речей, как сделала бы героиня ее повествования о военных годах. Ставицкий после блестящего окончания университета долго мыкается, пока не находит в провинции работу лектора общества «Знание». О всепобеждающей силе дружбы он больше не вспоминает. Даже Могилевер, надежно укрытый, казалось бы, под крылом партии, жалуется на оскорбительный антисемитизм, встречающийся на каждом шагу.
Расцветший в военные годы, отчасти под влиянием фашистской пропаганды, антисемитизм пережил войну. Послевоенные кампании (например «Дело врачей»), клеймившие евреев как враждебных отщепенцев, привели к еще большему расцвету антисемитских стереотипов. Чудом уцелевшим в Катастрофе пришлось смириться с советским государственным антисемитизмом и с тем, что Холокост не стал частью официальной советской военной истории. По многим причинам его надлежало забыть[24].
В атмосфере начавшейся «холодной войны» в Советском Союзе заглохли попытки средствами искусства привлечь внимание к трагической участи евреев. Именно в этой системе представлений и атмосфере поддерживаемого властью антисемитизма создавались ранние версии повествований советских евреев, уцелевших в испытаниях войны. Эти повествования отражают антиеврейские предрассудки послевоенных лет, например, подчеркивают храбрость евреев, их стремление участвовать в опаснейших военных операциях. И нередко не находят слов для свидетельств об их массовом уничтожении. Рассказчики вспоминают только, что «видели» или «слышали» гибнущих евреев.
В 1960-е годы вследствие разных причин, в том числе процессов над несколькими нацистскими преступниками, например, Эйхманом в Иерусалиме, во всем мире началось осознание исторической уникальности Холокоста. В СССР в эти годы написаны поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр» (1961) и одноименный роман Анатолия Кузнецова (1966). На волне «оттепели» появилась «лейтенантская проза» – новое направление в советской военной литературе, попытавшееся отрефлексировать экзистенциальные вопросы, которые война ставит перед человеком. В книгах Василя Быкова, Бориса Балтера, Олеся Гочара и других авторов эти проблемы были представлены как испытания на пути к внутреннему этическому взрослению человека[25]. Но, хотя и Ставицкий, и Вартанян пользуются этим тропом военного взросления, он не дает им оптики, через которую можно было бы увидеть еврейскую трагедию и передать память о Катастрофе.
В 1990-е годы, когда историческое значение Холокоста было уже признано в Европе и США, советские ветераны неожиданно для себя оказались в ситуации, в которой им пришлось рассказывать о своем военном прошлом перед неведомой для них западной аудиторией. Неинтегрированность еврейских эпизодов в общую ткань их повествования свидетельствует о том, что они впервые включались в текст связного воспоминания. Будь они вплетены в ткань повествования давно, все противоречия и шероховатости были бы уже сглажены самими рассказчиками. Таким образом, внутренняя противоречивость и умолчания устных воспоминаний оказываются важным свидетельством, отсылающим как к непосредственному историческому опыту, так и к исторической специфике его репрезентации.
[1] Wieviorka A. The Era of the Witness. Ithaca; London, 2006. P. XIV.
[2] Ibid. P. XIII.
[3] Ibid.
[4] Кукулин И. Регулирование боли. Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 618.
[5] Wieviorka A. Op. cit. P. 97.
[6] Ibid. P. 99.
[7] Ibid. P. 100.
[8] Langer L. Admitting the Holocaust. New York; Oxford, 1995. P. 158.
[9] См.: www.holocausttestimonies.com.
[10] Wieviorka A. Op. cit. P. 109.
[11] Ibid. P. 110.
[12] Ibid. P. 111.
[13] Paperno I. Stories of the Soviet Experience. Ithaca; London: Cornell University Press, 2009. P. 13.
[14] Pinnow K. Making Suicide Soviet: Medicine, Moral Statistics and the Politics of Soviet Science in Bolshevik Russia 1920–1930. New York, 1998. Р. 27.
[15] Полян П. Жертвы двух диктатур. М., 2002. C. 84. В соответствии с «Боевым приказом № 8» от 17 июля 1941 года, подписанным группенфюрером СС Гейнрихом, попавшие в плен члены политсостава Красной армии и военнослужащие-евреи подлежали безусловному уничтожению (Там же. С. 74–76).
[16] Paperno I. Op. cit. P. 160.
[17] Ibid.
[18] Паперно И. Сны террора: сон как источник для истории сталинизма // Новое литературное обозрение. 2012. № 116 (http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/p18.html).
[19] Herman L., Vervaek B. Handbook of Narrative Analysis. Lincoln; London, 2005. P. 140.
[20] Greenspan H. On Listening to Holocaust Survivors. St. Paul, 2010. P. 39.
[21] Paperno I. Op. cit. P. 163.
[22] Ibid. P. 166.
[23] Greenspan H. Op. cit. P. 42.
[24] «Евреи составляли меньше 2% населения СССР, а русские – больше 50%, при этом число жертв среди еврейского гражданского населения – 2,6 миллиона человек – было выше числа русских жертв. Дело не только в стремлении руководства выстроить государственную идеологию вокруг идеи величия русского народа и его жертвы в период войны; 1,6 млн. евреев были уничтожены на территориях, оккупированных СССР в 1939–1940 годах. В то время, как советская пресса вплоть до начала войны держала этих евреев в неведении относительно расовой политики нацистских союзников, ничего не было сделано для их эвакуации. Более четверти европейских жертв Холокоста были недавними гражданами Польши, Румынии и балтийских стран, жителями территорий, захваченных СССР по договору с Гитлером. Предание гласности статистики Холокоста привлекло бы внимание к той части предвоенной истории, которую надлежало забыть. Память о геноциде не только вызывала нежелательные воспоминания. Уничтожить так быстро такое количество евреев фашистская армия, рвущаяся на восток и оставляющая минимум солдат в тылу, могла только при помощи местного населения. Массовый коллаборационизм на Украине, в Белоруссии, в аннексированной Восточной Польше и Прибалтике доказывал враждебность населения к советской власти. Кроме того, память о геноциде евреев порождала сомнения в этической природе “этнических чисток”, ставших привычными за годы войны переселениях “народов-изменников”» (см.: http://booknik.ru/context/all/voyina-i-mir-glazami-evreev-v-armiyah-sssr-i-ssha-19411948/).
[25] Кукулин И. Указ. соч. С. 621.
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2014, №1(93)
Купить остров. Новый сладостный олигархический стиль
Дмитрий Косырев утверждает, что вовсе не хотел пародировать азиатские рассказы Мастера Чэня, просто так получилось – Таиланд навеял.
— А начиналось все с Лёшика, – с ехидной улыбкой сказал Евгений, зачем-то посматривая на главную (и очень маленькую) площадь городка.
Евгений уже не первый год обитает в Таиланде, с постоянными заездами в Лаос, Вьетнам, Камбоджу и прочие соседние места. Он знает здесь всех – по крайней мере, всех русских. И он знает, с кого все начиналось и чем продолжается.
— Лёшик приехал сюда лет десять назад в одних резиновых тапочках, не считая майки, шорт, знания языка и тощей сумки на плече, – продолжил Евгений, все еще улыбаясь. – И поначалу был занят тем же, что и прочие, то есть приработками в качестве гида и переводчика для наших туристов. Начал пару предприятий, ну – не буду даже говорить, чем они закончились. Но тут по соседству поселился беглый олигарх Полянский, и его история дала старт для новой затеи Лёшика.
Что такое "по соседству", мне объяснять было не надо. Мы сидели под навесами кафе на пристани, среди запаха рыбы и урчания лодочных моторов. Дальше была расплавленная белая зыбь морской воды, черные точки лодок и грибовидные силуэты островов на горизонте, а ближе островов – еще одна пристань, такая же, как наша. С белым сараем под черепичной крышей, над которой развевался флаг. Там и тут ставили штампы в паспортах, эта пристань – еще Таиланд, а та – уже Камбоджа.
…Лёшик, конечно же, не мог знать, что вот-вот наступит 2013 год, черный для олигархов – особенно отдалившихся от родины. Черный потому, что какой, в сущности, смысл эту родину оставлять, если все кончается лондонской ванной и шарфиком, да еще и посмертными долгами? То есть, конечно, 2013-й принес много и других важных поучительных событий, даже совсем много, но если вы беглый олигарх, то вот эта история с шарфиком и ванной для вас неизбежно выходит на первое место.
Год несчастного олигарха. "Смерть в результате удушения" и "никаких следов борьбы не обнаружено" – это как? Для подобного финала и Лондона никакого не надо, а раз так, то зачем вообще всё?
А при чем здесь Лёшик? История такая: еще за пару лет до того он вдруг решил – за комиссию, конечно – помочь соотечественникам купить в теплых азиатских краях по острову. И вдруг у него получилось, сообщил Евгений.
Эта часть его рассказа, впрочем, меня не впечатлила. Что за проблема – купить здесь остров? А вот заплатить за то, чтобы на твой остров привезли на здоровенной ржавой барже большой бак для воды… А потом еще сделать так, чтобы в баке всегда была та самая вода… И высверлить в скале штольню, куда надо упрятывать ревущий генератор… Не говоря уже о доме на этом самом, вполне твоем, острове… Это уже деньги.
— И тут, после истории с островом, Лёшик с его резиновыми тапочками напал на золотую жилу, – заметил Евгений. – Он разработал программу "побыть олигархом", да что там – побыть Полянским. Пусть только неделю, на якобы своем острове. И клиенты вдруг полюбили программу и Лёшика в придачу. Вон там… Как раз на сегодня двое эту штуку заказали, в порядке разминки перед новогодним вечером.
И Евгений указал пальцем на яхту, замершую вдали на воде.
— Это такой аттракцион, – сказал он. – Под названием "да пошли бы вы все, козлы". Можно пошвырять в воду моряков с твоей яхты, Лёшик их нанимает, и недорого. Можно отправить поплавать за ними вслед людей, переодетых в полицейских, но тут, правда, вмешалась настоящая полиция. Дело в том, что в этих краях выдавать себя за официальное лицо – уголовно наказуемое преступление. После чего полиция предложила: а вы кидайте нас, в форме, когда мы не несем службы. Заработок все-таки… Процент – Лёшику, плюс его работа – поставка горячительных напитков в нужных для достижения эффекта количествах… Далее: один день в камбоджийской тюрьме. Это ведь незабываемо. Какие там сафари. Тюрьма – это для реальных пацанов. Тем более что тюрьма самая настоящая.
Мы помолчали. Теплая вода влажно плескалась о пирс у наших ног.
— Но тут добавились развлечения для подруг олигархов, – продолжил он. – Вот представь: она, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет мобильник так, что сыплются стразы Сваровского…
— Что, Лёшик организовал еще и поставку фальшивых стразов? – предположил я.
— Стразы самые настоящие, – невозмутимо отозвался Евгений. – Клиенты бы на меньшее не согласились. Ну, и скажи мне сам: за каким лешим нужен какой-то там холодный Лондон? Вот она – настоящая жизнь. Вот он, новый сладостный олигархический стиль.
Я проследил за его взглядом, вновь брошенным в сторону площади, с ее двумя магазинчиками и интернет-кафе: чего или кого он ждет?
— Ну и вон там, повыше на холме, – небрежно показал он через плечо большим пальцем. – Это так, пустяк… Для полного эффекта, поскольку Полянский стал тут уже культовой фигурой, вроде местного духа… Мелькают?
— Что-то и правда мелькает, – всмотрелся я в прогалины между деревьями на холме над городком. – Стой, они там что, голые?
— Ни в коем разе не голые. Бег по джунглям в одном полотенце на бедрах, три километра, с полицией на хвосте. Очень популярно. И ведь расходов для Лёшика никаких, кроме полотенец… А в счете строка стоит. И деньги вперед. А, ну вот… Сейчас я вас познакомлю.
Евгений снизошел даже до того, чтобы чуть развернуть корпус в сторону площади.
Из-за поворота появился снежно-белый "Бентли", плавно описал дугу, покачался на рессорах у входа на наш пирс. Его дверь не спеша открылась.
— Что – "ну вот"? – не понял я. – Это что, лично Полянский? Но ведь он же, как я понимаю, сейчас никак тут быть не может…
— Какой еще там Полянский? – сверкнул глазами Евгений. – Бери выше. Это – Лёшик.
Из тьмы салона "Бентли" высунулась нога в резиновом тапочке и замерла над раскаленным асфальтом.
Десантные корабли на воздушной подушке класса «Зубр» позволят Китаю развернуть войска в короткий период времени в спорных районах островов Дяоюйтай или Дяоюйдао (находятся в ведении Японии, острова Сенкаку , но на их претендуют и Китай и Тайвань) в Восточно-Китайском море и островов Спратли в Южно-Китайском море, пишет сегодня wantchinatimes.com со ссылкой на сообщение телеканала Shenzhen TV.
В сообщении было сказано, что Китай разместил заказ на четыре корабля «Зубр» по контракту стоимостью 315 млн долларов. Из них два корабля будут построены в Украине на Феодосийском судостроительном заводе, остальные два будут построены по лицензии в Китае. Первый «Зубр» был доставлен в Китай в мае 2013 года. В рамках контракта Китай также получил лицензию для создания и строительства собственных кораблей класса «Зубр».
С грузовым отсеком в 400 квадратных метров и запасом топлива в 56 тонн, сообщает Shenzhen TV, десантный корабль класса «Зубр» способен перевозить три основных боевых танка или 10 бронемашин с 140 солдатами. Без боевой техники корабль способен взять на борт 500 солдат. Его максимальная скорость составляет около 63 узлов или 111 километров в час.
Если Китай вступит в территориальный конфликт с Японией в Восточно-Китайском море или с Вьетнамом в Южно-Китайском море, корабль класса «Зубр» будет играть решающую роль, благодаря своей скорости и грузоподъемности. Десантный корабль класса «Зубр» в три раза крупнее патрульных кораблей японской береговой охраны и большинства стран Юго-Восточной Азии, и его почти невозможно остановить, даже когда он будет обнаружен.
С ближайшей базы в восточной части Китая «Зубр» может прибыть на острова Дяоюйтай всего за три часа. Пока Япония будет принимать решение отправить или не отправить свои военные силы, Китай сможет занять спорные острова, сообщает Shenzhen TV, и, таким образом, Китай выиграет конфликт еще до начала военных действий. Десантный корабль класса «Зубр» буде представлять еще большую угрозу, если его оснастить противокорабельными ракетами и артустановками, говорится в сообщении.
Острова Спратли представляют собой группу спорных островов в Южно-Китайском море. На них полностью или частично претендуют Китай, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Малайзия и Тайвань.
Комитет по приватизации «Нового Кабул Банка» рассмотрел финансовые и технические аспекты двух поданных к середине декабря заявок.При оценке технических аспектов компания «KRU Capital Partners Ltd» из ОАЭ набрала 80 баллов из 100, а американская компания «Construction Business Group Inc» — 76 баллов из 100. Окончательный исход тендера будет решён после утверждения его результатов кабинетом министров, отмечает информационное агентство «Пажвок».
Напомним, что если победитель тендера справится с задачей реструктуризации банка успешно, то ему будет передано 70% акций.
В марте текущего года 20 человек были признаны виновными в банкротстве «Кабул Банка» в 2010 году. Главными виновными были признаны экс-глава и бывший исполнительный директор «Кабул Банка» Шер Хан Фарнуд и Халилулла Ферози. Их обязали выплатить 278 и 530 млн. долларов, соответственно.

Вице-президент РСПП, председатель совета Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев подводит финансовые и экономические итоги 2013 года.
- Александр Васильевич, каковы, на ваш взгляд, итоги деятельности российского финансового рынка и, в особенности, банковского сектора в 2013 году? Можно ли сегодня назвать отечественный банкинг устойчивым? - Ситуация в отечественной экономике в конце 2013 года сложилась довольно напряженная. Особенно хочется отметить тревожные настроения и тот во многом сложный психологический контекст, в котором находятся сейчас представители банковского сообщества и их клиенты. Хотя, если брать статистические показатели, то можно с уверенностью сказать, что финансовый сектор в России демонстрирует достаточно устойчивый рост и по активам, и по кредитному портфелю. Уже понятно, что рост по активам в банковском секторе в 2013 году составит не менее 10%. Однако если брать всю российскую экономику, то по итогам текущего года объем ВВП составит порядка 1,3%: на этом фоне можно сказать, что банковский сектор по критерию доходности чувствует себя просто прекрасно.
Однако ситуация на финансовом рынке сейчас такая, что одних показателей прибыльности недостаточно для понимания всей картины. События последнего месяца – отзывы лицензий сначала у Мастер-банка, а затем сразу у трех довольно заметных кредитно-финансовых организаций – вызвали большой резонанс в профессиональном сообществе, в результате чего на рынке воцарилась атмосфера напряженности. Доливают «масла в огонь» и усиливают психологическую неустойчивость безответственные люди, зачастую представители кредитных учреждений, ведущих недобросовестную конкурентную борьбу на рынке посредством создания и распространения «черных списков» и неправдоподобных слухов. К сожалению, особенно сложная картина сложилась в этом смысле за пределами двух столиц.
И все же, если отбросить психологическую составляющую, то ситуация в банковском секторе вполне управляемая. Если определенные заинтересованные круги не будут нагнетать атмосферу с целью убрать тех, кто в регионах «мешал работать» и делать бизнес, то здоровые показатели развития банковского сектора смогут вселить уверенность в игроков этого рынка. Надеюсь, что, несмотря на старания недоброжелателей, ситуация по-прежнему останется системной и управляемой.
Нужно отметить важную, серьезную, целенаправленную работу, проводимую Центробанком и направленную на борьбу с недобросовестными участниками рынка. Регулятор реализует вполне понятную политику, его деятельность достаточно прозрачна. Финансовый рынок покидают те игроки, которые прямо или косвенно нарушают закон, выводят активы, демонстрируют проверяющим «дутые» балансы и т.д. Если посмотреть, то количество лишенных лицензии банков в этом году находится в общем тренде работы регулятора и соотносимо с цифрами, которые были в прошлые годы. Так, по данным на 2 декабря 2013 года в России лицензии были лишены 27 банков, с учетом случая «пятницы 13-го» – 30 банков. При этом хочу напомнить, что в 2012 году таких кредитно-финансовых организаций было 22, в 2011 – 18, а за 2009 год были отозваны аж 43 лицензии. Соответственно, на самом деле ситуация с очищением банковского рынка находится в «общем тренде» последних пяти лет. Можно даже говорить о некотором уменьшении количества отозванных лицензий, если смотреть на динамику внутри подходящей к концу пятилетки. Это свидетельствует о том, что ЦБ РФ ведет системную работу уже давно: он избавляет рынок от недобросовестных участников.
- Одним из итогов года будет замедление экономического роста в нашей стране. Как вы оцениваете общую ситуацию?
- Действительно, ведя речь о банках, не следует забывать, что экономика первична, а финансовый сектор вторичен. Банки выполняют роль посредников, которую не следует переоценивать. Хочу напомнить, что в классическом понимании отсутствие каких-либо показателей роста в течение двух кварталов можно назвать рецессией. По итогам года в России ожидается уровень темпов роста ВВП порядка 1,3%. Тем не менее я считаю, что в сложившихся условиях вполне правомерно говорить о стагнации. На самом деле, давайте проанализируем, чем на самом деле обеспечивался рост потребительского кредитования? В последний год в России он идет, в первую очередь, за счет потребления. Если отбросить это влияние, то рецессия в нашей стране будет всем очевидна.
Свою негативную роль в этом вопросе сыграла ситуация, возникшая в первом полугодии 2013 года, когда был увеличен социальный налог на юридических лиц – представителей малого и среднего предпринимательства. В результате этого в количественном отношении бизнес-прослойка в нашей стране резко сузилась. На 1 января 2013 года в России было зарегистрировано свыше 6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, где было занято порядка 18 млн. человек, то есть каждый четвертый работник в нашей стране трудился в области малого и среднего предпринимательства. Объем услуг и продуктов, которые производили субъекты МСП, составлял порядка 25% от общего показателя по стране. И надо сказать, что вплоть до 2012 года наблюдался рост основных показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в России: постепенно увеличивалось общее количество таких предприятий, объем их продукции в общем обороте и т.д. И вот с 1 января по 1 июля 2013 года произошло резкое сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 11,5%, или на 474 тыс. Количество малых предприятий с оборотом до 100 млн. рублей уменьшилось на 1,5%, а средних – на 3,4%.
Безусловно, жаль, что средний бизнес сократился в объемах, поскольку в этом сегменте находятся предприятия, которые уже «встали на ноги»: это весьма амбициозный бизнес, но он также был вынужден как-то реагировать на изменение экономической ситуации.
- Сомнительно, чтобы такое количество людей пришли на биржу труда. Скорее всего, они стали частью теневой экономики…
- Да, я тоже считаю, что отчасти так и произошло, а другой тенденцией стало изменение юрисдикции предприятий, и здесь свою положительную роль сыграло создание Таможенного союза. Пока окончательные итоги 2013 года только подводятся, но уже ясно, что к нашим соседям по ТС перерегистрировались сотни предприятий, поскольку в этих странах налоговый комфорт и инвестиционный климат лучше по качеству.
- Правильно я поняла, что вы считаете, что Россия сейчас все же находится, скорее, в состоянии рецессии, если ориентироваться на состояние реального сектора?
- Если говорить об уровне промышленного производства, то да, мы находимся в рецессии.
- В связи с этим я хочу вас спросить, видите ли вы какие-нибудь точки роста, возможности для выхода из этой ситуации в будущем?
- В целом сложившаяся сейчас ситуация экономически никак не объяснима, большую роль сейчас играют психологические факторы. В мире в последние несколько лет установилась достаточно высокая цена на нефть – в среднем за год она составит порядка $105 за баррель. Для России это должно быть просто великолепно. Но вопрос в том, как правительство использует эту конъюнктуру рынка, удается ли за счет сырьевых доходов оживить национальную экономику?
Президент всегда говорит и призывает к реальным структурным преобразованиям, чтобы мы смогли «отойти» от сырьевой зависимости. Бог дал нам большое богатство, но теперь весь вопрос заключается в том, чтобы грамотно его использовать, чтобы наша страна, наконец, начала создавать продукцию, конкурентную для международной торговли. Но пока на этом пути нам похвастаться нечем: с каждым годом мы все больше залезаем в нефтяной бюджет. Сейчас доходы государственной казны от продажи сырья превышают 50%. Что будет с ценами на нефть дальше, никто не знает, поскольку стоимость «черного золота» зависит от многих, по большей части политических факторов.
Соответственно, ситуацию замедления в российской экономике, которую мы все видим, экономически объяснить невозможно, а психологически очень легко. Ни инвесторы, ни владельцы предприятий не знают, что ждет их в будущем, поэтому они стремятся наполнить хранилища до пределов, запасаясь «на черный день». В этой обстановке большую негативную роль играет отток капитала. Инвестиционный климат у нас, действительно, недостаточно хороший, хотя Россия и повышается в рейтинге «Doing business» год от года.
- Хочу поделиться с вами своим предположением: возможно, дело в отсутствии идеологии? Инвесторам, руководителям предприятий не ясно, куда идет наша страна, какова наша цель, а быть жертвой «метаний» от одного экономического показателя к другому никому не хочется. В этом смысле СССР люди сейчас и вспоминают с такой теплотой, потому что там все было понятно: «строим коммунизм к 80-му году, век не уточняется». Люди были уверены в своем будущем, несмотря на такую общую формулировку ориентира. А сейчас ситуация совершенно иная. Поскольку вы сами акцентировали внимание на том, что современные проблемы экономики России носят не экономический, а психологический характер, то, возможно, и решение следует искать именно в этой области?
- Это правильная постановка вопроса. По моему мнению, сейчас правительству следует действовать по двум направлениям.
Первое из них – это как раз решение вопросов в неэкономической плоскости. Необходима консолидация общества вокруг вполне понятных целей и задач. Не следует мерить благополучие в масштабах страны только показателем ВВП. Необходимо повышать качество работы общественных институтов, государственных структур, принимать меры по усилению защиты частной собственности, давать ориентиры для создания уверенности людей в своем завтрашнем дне, снимать административные барьеры. Необходимо создавать условия, которые мотивировали бы предпринимательскую активность людей, следует преодолевать недоверие между обществом и властью. Конечно, за один день все эти проблемы не решить, здесь нужна выстроенная государственная программа с приобщением всех ветвей власти, общества и бизнеса. У нас есть огромные возможности, у нас есть умные люди, у нас замечательные традиции, высокая культура и прекрасные природные богатства, у нас большие мощности – в общем, у нас есть все, что необходимо для построения счастливой жизни.
Второе направление – это роль самого государства, его инвестиционная активность, которая очень важна именно в нынешних условиях. В области инфраструктурных преобразований сейчас много критики в адрес государства. А я лично сторонник того, что нужно что-то делать, нужно двигаться вперед, стремиться менять положение к лучшему каждым усилием. И правильно начинать преобразования с дорог: это очень выгодный шаг. Необходимо совершенствовать законодательство в области частно-государственного партнерства, достраивать все общественные институты и создавать условия, чтобы бизнес шел в новые проекты, был готов солидарно участвовать в их реализации.
- Звучит очень красиво и вдохновляюще. Если вернуться к сегодняшней конкретике: скажите, в свете ожиданий 1,3% ВВП по итогам 2013 года и рецессии в области реального производства, последуют ли в 2014 году сокращения зарплат бюджетников?
- Сейчас уже очевидно, что 2014 год начнется с сокращения финансовых результатов в области промышленного производства, снижающейся рентабельности предприятий – все это очень неблагоприятные показатели. В РСПП постоянно ведутся исследования настроений и планов руководителей крупных предприятий и компаний, как вы, наверное, знаете. Так вот, по нашим данным, сокращать зарплаты или количество рабочих мест никто из промышленников пока не собирается. Мы ежемесячно делаем замеры по всем направлениям реального сектора российской экономики. В 2014 году никаких особенно значимых социальных потрясений, роста безработицы или сокращения доходов домохозяйств не ожидается.
- Наша страна уже год как вступила в ВТО. По вашим оценкам, есть ли уже какие-либо экономические последствия этого шага? И что ждать в будущем экономике России от ВТО?
- В РСПП мы проводили специальные исследования, посвященные последствиям вступления России в ВТО. В целом наши замеры показали, что сам по себе шаг присоединения к этой международной организации – это только получение возможностей. А удастся ли нам ими воспользоваться или нет – зависит только от нас самих.
В этой связи я могу привести пример Китая. После вступления в ВТО он увеличил товарооборот в 7,6 раза. Вьетнам после аналогичного шага сумел повысить этот показатель в 2,4 раза, Киргизия – в 4,7, Молдова – в 5,9, Армения – в 3,6, а Украина только в 1,3 раза. Данных о том, как сильно увеличился товарооборот в России после вступления в ВТО, у меня пока еще нет. Однако я полагаю, что мы не сильно от показателей Украины оторвемся и будем находиться в схожей пропорции. При этом хочу сказать, что самые худшие прогнозы относительно последствий вступления в ВТО не оправдываются. Когда мы оцениваем структуру импорта, то понимаем, что там мало что изменилось после вступления России в ВТО. С сентября 2012 года по август 2013 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья возрос всего на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2011 года. Это совершенно нормальное отклонение, которое свидетельствует, что ничего страшного вообще не произошло. Когда мы делали замер, то 86% руководителей предприятий реального сектора ответили, что вступление России в ВТО никак не повлияло на их бизнес. Лишь 13% респондентов заметили отрицательный эффект, заявив, что почувствовали некий стресс. Но ведь отдельные сектора экономики в различные периоды и так находятся под воздействием того или иного стресса, а здесь просто немного обострились условия ведения бизнеса. Эти предприятия и раньше нуждались в господдержке, а теперь они еще больше испытывают в ней необходимость.
Правительству в подобных случаях следует просто усилить адаптационные меры, а этим предприятиям следует активнее пользоваться возможностями переходных периодов и т.д. У нас есть разного рода инструменты – таможенные пошлины, налоговые преференции, субсидирование и антидемпинговые мероприятия – их просто следует более активно использовать для поддержки собственных производителей.
- Снова хочу вернуться к ситуации в банковском секторе. Скажите, пожалуйста, как выполняются некогда написанные документы, скажем, «Стратегия развития банковского сектора до 2015 года»? Удается ли соответствовать этому документу или нет? Нужны ли, в принципе, нашему банкингу какие-либо стратегии?
- Ранее в разговоре мы уже поднимали тему необходимости иметь высокую цель: строительство коммунизма в рамках большой страны здесь подходило как нельзя кстати. Важно иметь маяки и в банковском секторе: рынку следует понимать, какие параметры должны быть в отрасли через 5–10 лет. Вопрос реализации стратегии зависит от того, заглядывают ли в эти документы после их написаний те, для кого они были написаны, и кто хотел, чтобы они появились на свет. И реальность такова, что эти люди далеко не всегда заглядывают и сверяют свои шаги с теми, что указаны в стратегии.
Обращаясь к прошлому опыту, я понимаю, что достижения прежней стратегии были реализованы лишь на четверть из всего утвержденного календаря действий. Достижения действующей стратегии, надеюсь, будут реализованы в больше мере, хотя уже сейчас понятно, что полностью выполнить ее не удастся. Зато в нашей жизни есть много всяких нововведений, которые никакой стратегией не предусмотрены. Самый яркий пример – строительство мегарегулятора. Эта тема ни в одном написанном документе даже не обсуждалась: ни в стратегии развития финансового рынка, ни в стратегии развития банковского сектора на эту тему нет ни одного предложения. Но мегарегулятор у нас был создан в кратчайший срок и сейчас уже активно действует на рынке.
Еще раз хочу подчеркнуть, что в том, что стратегии реализовываются в такой малой степени, что на финансовом рынке происходят явления, ни одним из документов не учтенные, виновны те, кто очень редко в них заглядывают, хотя должны бы, по идее, соотносить свои действия с принятым планом. Но это недостаток не только банковского сектора или финансового рынка, эта слабость есть у всех целевых программ в нашей стране. День и ночь люди в министерствах сидят, анализируют тенденции, делают прогнозы и пишут документы, а потом свои собственные цифры по несколько раз в год пересматривают, как, например, у нас бывает с прогнозируемым уровнем ВВП. В целом, конечно, рынку нужны маяки, целевые установки, но эффективными они будут только в случае, если на них действительно будут ориентироваться различные органы власти, государственные ведомства, регуляторы, которые, сказать по правде, просто обязаны это делать. Только тогда будет понятен ход развития событий, только в этом случае происходит консолидация отрасли в движении к целевым показателям и возможно системное развитие. А когда с такими усилиями созданный документ кладут под стол, а через месяц предлагают очередные инновации, которые никакого отношения к стратегии не имеют, то и результаты будут соответствующими. Подытоживая свой ответ, я хочу сказать, что стратегии рынку нужны, но лишь при условии контроля за их исполнением, ответственности за принятые решения и выполнения предписанных документами действий.
- Что вы думаете о таком объединении, как Таможенный союз? Насколько он экономически жизнеспособен?
- Мир сейчас переживает достаточно тревожные времена в экономическом и политическом плане, поэтому идеи и шаги, связанные с созданием единого экономического пространства и строительством Евразийского союза к 2015 году, я считаю исключительно полезными. В процессе реализации такого проекта будут мобилизованы ресурсы ряда стран, которые согласились войти в единое экономическое пространство, прежде всего, Беларуси, России и Казахстана. К чему это приведет на практике? К унификации законодательства, унификации режима функционирования финансовых рынков, свободе торговых операции. К 2015 году нужно иметь некое общее регулирование на рынке.
Я думаю, что полноты возможностей единого евразийского пространства мы достигнем к 2020 году: именно к этому времени удастся окончательно унифицировать финансовое законодательство и достичь единства в регулировании, то есть навести порядок. В рамках действий единого правового поля можно будет получить лицензию на создание финансовой организации от ЦБ РФ, и ее действие будет распространяться на территорию Казахстана и Белоруссии. В союзных государствах не нужно будет получать особое разрешение. При этом мы строим единое экономическое пространство, учитывая правила ВТО. Создание Таможенного союза мобилизует силы и возможности основных участников рынка во всех трех странах: финансовые посредники, производители, промышленные предприятия обретут всесторонние выгоды, смогут увеличить доходность.
И уже полученные цифры доказывают это: по итогам 2013 года ожидается 30% рост товарооборота между странами, входящими в ТС. Это значительное достижение, особенно по сравнению с показателями в странах ЕС. Конечно, очень важно понять, что здесь быстрых решений не будет: Европа 40 лет строила свои границы, создавала единые «правила игры», и все равно до сих пор, посмотрите, сколько у нее проблем с южными экономиками.
- Новогодний период – это такое время, когда принято не только подводить итоги, но и строить прогнозы на будущее. Каким, по вашему мнению, будет 2014 год для России в целом и для банковского сектора, в частности?
- Нам следует реалистично смотреть в будущее: общее ощущение нестабильности в экономике сохранится и в начале 2014 года. К концу 2014 года возможно ожидать незначительного увеличения темпов роста национальной экономики, но я не думаю, что ВВП России превысит 2%. Кредитное здоровье населения будет ухудшаться, в том числе и по причине охлаждения рынка потребительского кредитования, последствия которого как раз все ощутят в следующих двух полугодиях. Темпы роста заработной платы, я думаю, также замедлятся. Доля проблемной задолженности в банках вырастет. Требования Центробанка по надзору, резервированию, контролю за рисками, в связи с введением части нормативов Базеля-3 ужесточатся. Мой прогноз по развитию российской банковской системы остается сдержанным.
Наталия Трушина, Bankir.Ru
Дальневосточный базар
Потребители плоского проката в Восточной Азии блокируют попытки повышения цен
На протяжении большей части декабря спрос на плоский прокат в странах Восточной Азии оставался низким. Настолько низким, что некоторые китайские компании вообще отзывали экспортные предложения, сосредотачиваясь на внутреннем рынке. Только во второй половине месяца региональные металлурги, наконец, дождались притока новых заказов. При этом, хотя некоторые производители до сих пор продавали январскую продукцию, большая часть контрактов заключалась на февраль-март.
Правда, это увеличение объема закупок лишь в минимальной степени отразилось на ценах. Подорожание китайской продукции по сравнению с началом декабря составило не более $5 за т. Котировки на горячекатаные рулоны SS400 расширили свой ценовой интервал до $525-540 за т FOB, а нижняя граница стоимости толстолистовой стали приподнялась от $510 до $515 за т FOB при сохранении верхней на уровне $530 за т FOB. Средний уровень цен на холодный прокат с ноября остается неизменным на отметке $620 за т FOB.
Индийские металлурги еще в первой половине декабря повысили цены на горячекатаные рулоны в странах Юго-Восточной Азии до $560-570 за т CFR, прибавив около $10 за т. Эти котировки так и остались без изменений. Конкуренция со стороны индийских поставщиков, в свою очередь, препятствует росту цен на продукцию японского, корейского и тайванского производства, которая так и не смогла выйти за пределы $550-570 за т FOB. Более того, при заключении сделок стоимость японского горячего проката могла опускаться до $540 за т FOB.
Основная проблема региональных металлургических компаний по-прежнему заключается в несоответствии спроса и предложения. Китайские компании в ноябре-декабре несколько ограничили объем продаж, но зато в то же время увеличился корейский экспорт. При этом, спрос со стороны Таиланда в последнее время упал из-за политической нестабильности в стране, а вьетнамские и индонезийские компании располагают достаточными запасами и поэтому не спешат принимать условия поставщиков. В конце декабря местные потребители выставляли встречные заказы на японский и корейский горячий прокат не более чем по $550-555 за т FOB.
Негативное воздействие на цены в регионы продолжают оказывать и валютные факторы. Курс иены во второй половине декабря опустился до более 104 за доллар – самого низкого уровня более чем за пять лет. Вследствие этого японские компании достаточно легко идут на уступки при заключении сделок. Свою дешевизну относительно доллара сохраняет и индийская рупия.
Впрочем, в январе азиатские металлурги намерены повторить попытку повышения котировок. Тайванская Chung Hung Steel заявила о возможном подъеме экспортных цен на $5-10 за т, а японские производители уже выставляют новые предложения для корейских клиентов на уровне, доходящем до $600 за т CFR. В самой Японии компания Tokyo Steel Manufacturing увеличила стоимость некоторых видов своей продукции для местных потребителей на 1-3%. О намерении повысить цены на горячий прокат на $5-10 за т по февральским и мартовским контрактам заявляют и китайские производители.
Тем не менее, ожидания большинства региональных потребителей продолжают оставаться негативными. Во многих странах региона состояние экономики оставляет желать лучшего, так что существенного расширения спроса в ближайшее время, скорее всего, не произойдет несмотря на приближение Нового года по китайскому календарю (30 января). Вряд ли сократится и объем предложения, который так и останется избыточным. Наконец, против повышения котировок начинает играть сырьевой фактор. Во второй половине декабря железная руда в регионе подешевела и вряд ли вернется на прежние высоты.
Виктор Тарнавский
Ученые США совершили прорыв в области лечения малярии
Исследователи поняли, что с этим заболеванием нужно бороться при помощи поливалентной вакцины
Ученые из США поняли, в каком направлении нужно развивать производство антималярийных препаратов: они создали вакцину, которая может уберечь людей от широкого спектра штаммов возбудителей этой болезни. Результаты исследования опубликованы в издании PLos Pathogens.
Дело в том, что существующие медицинские препараты могут противостоять только одному штамму. Однако исследователи провели опыты на кроликах — ранее животным вводили вакцину с белком AMA1. Как правило, его можно найти на поверхности мембраны клетки паразита.
На этот раз были испытаны несколько вакцин, в каждой из них находились белки от разных штаммов. В итоге эксперимент показал, что смесь из менее десятка штаммов способна защитить от 26 других. Как ожидается, в дальнейшем новый метод будет опробован на людях.
«Многочисленные сообщения о неэффективности вакцины обоснованы несоответствием генотипа и целевых штаммов». <…> Поливалентные вакцины более эффективны, так как способствуют выработке большего количества антител. <..> Разработки были затруднены крайним антигенным однообразием в этой области. Мы же предлагаем решить проблемы при помощи разнообразия», — отметили ученые.
Другой американский профессор чуть было тоже не совершил прорыв в науке, однако его достижения оказались фикцией. Доктор Донг-Пай Хан из Университета штата Айова вначале объявил, что ему удалось разработать вакцину от СПИДА, однако, как выяснилось, он всего лишь сфальсифицировал итоги исследования, желая заполучить грант в размере 19 млн долларов.
Профессор Университета штата Айова Донг-Пай Хан сфальсифицировал данные лабораторных исследований, посвященных разработке вакцины против СПИДа с целью получения 19-миллионного гранта от правительства США. Об этом сообщила газета New York Post. По данным издания, Хан, профессор биомедицины, добавил в кроличью сыворотку образцы крови человека с антителами к ВИЧ, вызывающему СПИД.
Профессор Университета штата Айова Донг-Пай Хан сфальсифицировал данные лабораторных исследований, посвященных разработке вакцины против СПИДа с целью получения 19-миллионного гранта от правительства США. Об этом сообщила газета New York Post.
По данным издания, Хан, профессор в области биомедицины, добавил в кроличью сыворотку образцы крови человека с антителами к ВИЧ, вызывающему СПИД. Таким образом, создавалось впечатление, что вакцина на основе кроличьей крови способна вырабатывать защитные механизмы для борьбы с ВИЧ.
Сфабрикованные результаты исследования Хана и его команды были опубликованы в 2010-2012 годах в нескольких медицинских журналах и привлекли большое внимание научного сообщества. При этом, как выяснилось, коллеги Хана не знали о том, что результаты исследования были подделаны. На продолжение своей работы ученые получили от федерального правительства США грант в размере $19 млн.
Обман вскрылся после того, как сразу несколько лабораторий безуспешно попытались повторить результаты команды Хана. В итоге кроличья сыворотка была проверена, и в ней были обнаружены человеческие антитела. Хан вынужден был признать, что сфальсифицировал результаты исследований, и подал в отставку.
Охотник на львов
Александр Гуров — о победах в войне с мафией и поражениях в аппаратных играх, о том, как слежка за политическим провокатором привела в ЦК КПСС, о путчах, состоявшихся и предотвращенных, о последней встрече с Борисом Пуго, последних днях Юрия Щекочихина и о том, как поживает лев, прыгнувший четверть века назад
История не имеет сослагательного наклонения. И все же на ум то и дело невольно приходит мысль: насколько меньше в той или иной ситуации могло быть жертв, если бы... Впрочем, судя по рассказу Александра Гурова, некоторые страницы нашего недавнего прошлого имели все шансы стать, напротив, куда более кровавыми.
— Чем из сделанного за годы работы во главе 6-го управления гордитесь больше всего, Александр Иванович?
— Мне трудно выделить какое-то одно дело или даже несколько. Их были сотни, и каждое заслуживает отдельного рассказа. Операции «Паутина», операция «Окно», операция «Лабиринт», дело киевских и московских фальшивомонетчиков, дело Большого театра, диссертационное дело, дело «Востокинторга»... Десятки ликвидированных преступных групп, тысячи арестованных активных членов ОПГ, в том числе большое количество криминальных авторитетов. Таких, например, как Сильвестр, лидер «солнцевских», или знаменитый московский вор в законе Толя Черкас.
Черкаса, помнится, мы посадили за распространение порнографии. Он кричал, вопил: «Ну дайте хоть «наркотики», хоть «оружие». Что ж вы меня, старика, позорите?!» «Не-е, — говорим. — Пойдешь по 228-й». Очень интересная, кстати, судьба у этого Черкаса, Анатолия Павловича Черкасова. Ветеран войны: на фронт попал из штрафбата, дошел до Берлина, был награжден боевыми орденами и медалями. И всю свою воровскую жизнь скрывал эти награды от «товарищей по работе»... Взяли мы тогда и Тайванчика. Он, правда, никогда не был вором в законе.
— А кем же он был?
— Обычным каталой, карточным шулером. И тусовщиком. Любил крутиться среди певцов, актеров, прочей артистической публики. Да и сейчас, насколько я знаю, не изменяет своим привычкам. Но тогда он нам здорово надоел: то в одном деле мелькнет, то в другом засветится... Короче говоря, решили мы проучить Тайванчика. Посадили его за «чердак», то есть по 198-й статье: проживание без прописки. Когда дали год общего режима, он просил, чтоб позволили отбывать срок в СИЗО: «Все что угодно сделаю, только не отправляйте в лагерь». Я поспособствовал тому, чтобы Тайванчика оставили во «Владимирке», Владимирском централе...
— Большая политика вмешивалась в вашу деятельность?
— Старался держаться от нее подальше. Получалось, правда, не всегда. Среди множества дел, находившихся в нашей разработке, есть два, которые можно назвать политическими. Ими, кстати, я действительно горжусь, несмотря на то что на скамью подсудимых никто не сел. Первое связано с митингом, устроенным демократами в центре Москвы. Это была одна из первых уличных акций оппозиции и, пожалуй, самая массовая на тот период — начало 1990 года. Собралось около двухсот тысяч человек. За несколько дней до этого ко мне в кабинет влетает мой сотрудник. Рассказывает, что на нашего агента, подвизавшегося в националистической организации «Память», вышел некий человек, который предложил ему «поработать» на демократическом митинге. А именно: выстрелить в толпе из какого-то специального оружия.
За заказчиком было установлено наружное наблюдение. Слежка закончилась на Старой площади: объект скрылся в одном из зданий цековского комплекса. Установили личность — инструктор ЦК КПСС! Вот так дела! Перед тем как проинформировать руководство, решил получить для верности вещественное доказательство. Агент заинтересовался предложением, и вскоре мы смогли изучить выданное ему оружие. Оно оказалось сигнальным устройством, предназначенным, насколько понимаю, для моряков, геологов и прочих путешественников. Очень компактным, чуть больше авторучки, но довольно мощным: дальность выстрела — несколько сотен метров. Начинкой был фосфор, который даже днем дает при горении очень яркий свет.
Такую пиротехнику, конечно, нельзя купить в обычном магазине, но в самом устройстве не было, в принципе, ничего криминального. Весь вопрос, как и где его применять. Если попасть в упор в человека — а в этом-то и состояло задание, — горящий фосфор прожжет одежду, проникнет в тело, человек начнет гореть заживо. Понятно, что за этим последует: крики, вопли, давка... Уверен, наш агент был не единственный, кто должен был участвовать в провокации. У кого-то, наверное, были похожие функции, кто-то должен был подогревать толпу, сеять панику.
Докладываю Бакатину, он недоверчиво смотрит: «Гуров, ты не шутишь?» — «Такими вещами не шутят, товарищ министр». Показываю «авторучку». Бакатин раздумывал недолго. «Дай-ка, — говорит, — мне эту штуку, поеду с ней в ЦК». Мне стоило больших усилий отговорить министра от идеи продемонстрировать наш вещдок на Старой площади. «Мигом ведь, — доказываю, — спалим агента. К тому же мы не знаем, какие силы за всем этим стоят». В конце концов министр согласился со мной и поехал налегке... Бакатин никогда не рассказывал, с кем он там встречался и о чем они в итоге договорились. Но, судя по косвенным признакам, беседа не была безрезультатной: митинг прошел без происшествий, а того инструктора сразу же выперли из ЦК.
Правда, он недолго сидел без дела. Начал выступать на митингах, орать о том, как ненавидит коммунистический режим, вошел в ближайшее ельцинское окружение... Пришлось поделиться информацией с Владимиром Олейником, бывшим прокурорским «важняком», будущим судьей Конституционного суда, а в тот момент — довольно близким к Ельцину оппозиционером. «Володя, — говорю, — гоните вы этого провокатора в шею». Видимо, демократы восприняли мое предупреждение всерьез, и бывший инструктор окончательно пропал из поля зрения. По крайней мере — моего.
Теперь второй случай. 1991 год. Две крупные криминальные группировки, «чеченская» и «солнцевская», не поделили между собой сферы влияния в Москве. Намечалось настоящее «генеральное сражение», результатом которого могли стать десятки трупов. «Шестерка» тогда тесно взаимодействовала с управлением КГБ по борьбе с организованной преступностью. Вместе с коллегами-чекистами мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что допустить бойню ни в коем случае нельзя. Решили работать на упреждение, запрягли агентуру...
Вдруг вызывает один из замминистра: «Чего вы там с ними возитесь, с этими бандитами? Да пусть постреляются!» И насмешливо так на меня смотрит. Дескать, я, может быть, и не всерьез говорю. Сам думай, как реагировать.
— А почему бы и в самом деле не дать им постреляться? Пожалели бандитов?
— Пострадать могли не только бандиты, но и случайные люди. Представляете, что такое перестрелка в условиях города? Но самое главное — столкновение неизбежно привело бы к обострению межнациональных отношений, которые и без того находились, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Вспомните, что происходило в эти годы в стране: одна резня за другой. А у лидера «солнцевских», Сильвестра, была репутация человека, боровшегося против засилья кавказцев в криминальной среде. Короче говоря, за разборкой могли последовать опасные политические события, а виноватыми оказались бы мы, милиция. Собственно, примерно это я и сказал тогда своему начальнику. Он не настаивал: «Ну, вам виднее».
А вскоре после этого со мной захотел встретиться один сотрудник аппарата президента СССР. Не будут называть, кто именно, он и сейчас жив-здоров. Аппаратчик начал говорить то же, что я слышал от замминистра: «Пусть стреляются. Воздух будет чище!..» И тут меня осенило. Откуда, думаю, ты, штатский человек, об этом знаешь? Даже в КГБ и МВД круг посвященных был очень узким. Чиновник произнес еще одну загадочную фразу: «Твое имя зазвучит». В общем, у меня возникло ощущение, что в беспорядках заинтересован кто-то на самом верху. Пошел за советом к Дмитрию Алексеевичу Лукину, возглавлявшему в КГБ управление по борьбе с оргпреступностью: так и так. Тот в ответ: «Мы эту ситуацию знаем. Не поддавайся ни на какие уговоры». Словом, мы смогли отстоять свою позицию, «битва за Москву» не состоялась.
— Кто же все-таки был заинтересован в заварушке? Неужели Горбачев?
— Не думаю, что за этим стоял сам Михаил Сергеевич. Но то, что это был кто-то из его ближайшего окружения, — точно. Анализируя потом оба этих «политических дела», я пришел к выводу, что определенная часть руководства СССР, увидев, куда ведут перестроечные процессы, искала повод для введения чрезвычайного положения.
— Но в конце концов обошлись и без поводов. С какими чувствами, кстати, встретили новость о ГКЧП?
— Первая мысль: «Кто ж так делает перевороты?!» Ведь и делать-то ничего особенно было не нужно. Лозунги, прозвучавшие в «Заявлении советского руководства», разделяло 80 процентов населения. Активные противники ГКЧП были в основном в Москве и в Ленинграде. Надо было просто кое-кого арестовать на время, и все — никаких проблем.
— Похоже, вы и сами входили в проценты, поддерживавшие путч.
— В душе я и большинство моих коллег были, конечно, за наведение порядка. Мы ведь видели, в какую яму катится страна, информации на этот счет у нас было предостаточно. Но я видел также и то, что люди, вошедшие в Госкомитет по чрезвычайному положению, не способны ни на какие чрезвычайные, решительные меры. Я в это время находился в отпуске. Сразу же позвонил своему оставшемуся на хозяйстве заму, приказал: что бы ни случилось, работаем в обычном режиме. Шкурой чувствовал: если сейчас засветимся — хана. Пришлось, конечно, прервать отпуск.
Хорошо запомнился последний день путча — среда 21 августа. С утра побывал в Белом доме. Я ведь был народным депутатом России, членом Верховного Совета — тогда это можно было совмещать с основной работой. Гляжу, мои коллеги-депутаты уже изрядно приняли на грудь, отмечают победу. Прошла информация, путчисты вылетели к Горбачеву в Форос — вымаливать прощение. «Ты где был? — говорят, — Мы тут танки останавливали…» — «Да ладно, танки вы останавливали...» Если бы танки на самом деле пошли на Белый дом, никто бы их не остановил. Ну, посмотрел на все это ликование и поехал к себе в МВД...
Раздается раздирающий душу сигнал «инфарктника» — прямого телефона. Министр: «Ты здесь? Зайди!» Я немного удивился: думал, Пуго тоже улетел в Форос. Он был, как обычно, в своем сером помятом костюме (иногда казалось, что это единственный в его гардеробе), на лице нездоровый румянец. Но абсолютно спокоен. «Как там, — спрашивает, — в Белом доме?» — «Ликуют, товарищ министр, проигрыш полный». — «А что, не идут громить МВД?» — «Не-е, никто не идет». Звонит прямой телефон — ЦК. Пуго снимает трубку: «Нет, я не поехал Форос. А эти... Эти поехали. Кто оправдываться, кто — каяться». Опять звонок, уже кто-то из своих. Пуго: «Да никто не идет вас громить, успокойтесь».
Потом поднялись ко мне. Насколько я понимаю, Борису Карловичу хотелось отвлечься. Мы тогда как раз реализовали одно дело, по которому работали целый год, и весь мой большой кабинет был заставлен предметами, изъятыми у главного фигуранта, — бивни мамонта, картины, иконы. Министр осмотрел «экспозицию», я выступал в роли гида. «Экскурсию» снимала пресс-служба МВД — это последняя съемка Пуго... Уже собрался уезжать, когда позвонили из приемной: министр вновь приглашает к себе. Меня, замминистра Николая Демидова и владыку Питирима. Питирим был в тот день по каким-то своим делам в МВД. Был, кстати, и у меня, плакал над тремя иконами допетровского периода.
Ну, заходим. В кабинете накрыт стол: картошка, селедка, колбаска, бутылка коньяка, водка... Садимся. Пуго молчит, мы тоже. Никто же не знает, зачем он нас пригласил. Прервал молчание Питирим. Начал говорить о каких-то детских колониях, о народных промыслах... Пуго не слушает, смотрит в одну точку. Чувствую, разговор не клеится. Говорю: «Товарищ министр, ну что вы так переживаете? На ваших же руках крови нет». «Да я и пошел туда, — отвечает, — чтобы не было крови. Но мне показали эту пленку: студенты погибли. Это ужасно, ужасно...» Спустя несколько недель в одной московской газете появилась заметка о той нашей трапезе. Со ссылкой на Генпрокуратуру России сообщалось, что мы обсуждали планы, связанные с путчем. Нет, ни о каких планах речи тогда уже не было. Пуго собрал нас только затем, чтобы попрощаться.
— Вы чувствовали, что провожаете его в последний путь?
— В тот момент нет. Настроение было, конечно, поганое. Понятно уже было, что его арестуют. Но арест — еще не трагедия. На следующий день прихожу в Верховный Совет, идет чрезвычайная сессия. И вот на трибуну врывается генпрокурор России Степанков: «Поехали арестовывать Пуго». Проходит час, Степанков снова влетает на трибуну: «Пуго застрелился!» Что тут началось! Депутаты вскочили, аплодируют... А я сижу и думаю: до какой же сволочной морали надо дойти, чтобы так радоваться смерти человека?! Впрочем, у меня на душе тоже лежал камень. За несколько часов до этого арестовать Пуго предлагали мне. Инициатива исходила от нескольких милицейских чиновников. «Ты, — говорят, — начальник главка, депутат. Арестуешь Пуго — станешь министром. А мы тебе поможем». Коллеги очень боялись, что после Пуго министерство возглавит какой-то чужак и начнется великое изгнание генералов. Что, кстати, потом и случилось. Поэтому решили сыграть на опережение. План, в принципе, выглядел логичным. Но я сразу отказался играть в эти игры. Слишком уважал этого человека. Не поехал бы арестовывать даже в том случае, если бы знал, что за ним что-то есть, а я был абсолютно уверен в его невиновности. Но с того момента, как я узнал о самоубийстве Пуго и его жены, меня не перестает терзать мысль: правильно ли я сделал, что отказался? Ведь если бы арестовывать поехал я, они наверняка остались бы живы. Но тогда бы умер я. Морально.
— Отношения с новым руководством, насколько знаю, у вас не сложились.
— Ну а как они могли сложиться, если новый глава МВД СССР Виктор Баранников, возглавлявший до этого российское МВД, на первом же совещании заявил, что надо разобраться с 6-м управлением? И в течение считаных недель «шестерку» расформировали. В таких условиях я работать не смог и покинул МВД. Справедливости ради должен сказать, что реформа не была инициативой нового министра. Ветер дул из правительства и парламента России: фамилии чиновников и депутатов стали все чаще мелькать в наших оперативных разработках. В общем, ничего личного. Да и не было у Баранникова причины точить на меня зуб. Дорогу я ему не переходил, скорее наоборот — расчистил.
История тут такая. В 1990 году комитет Верховного Совета по вопросам законности и правопорядка выдвинул меня на пост главы только что созданного МВД России. Парламент в те годы обладал практически абсолютной властью. Ельцин, кстати, был тогда не президентом, а председателем Верховного Совета. Потенциальных кандидатов было несколько, но наибольшие шансы — у меня. Я представил свою программу, выдержал полагающуюся в таких случаях психологическую экспертизу. Вопросы, помню, были типа: «Боитесь ли вы змей и если не боитесь, то почему?» Меня представили тогдашнему председателю Совета министров Ивану Силаеву... В общем, вопрос был практически решенный. Вот-вот должно было состояться голосование, в результатах которого я не сомневался.
Сомнения возникли по другому поводу. По мне ли, думаю, эта «шапка Мономаха», справлюсь ли? Ведь ситуация в стране начинала уже отчетливо пахнуть большой кровью. За советом обратился к уже упомянутому мной Дмитрию Алексеевичу Лукину, мнение которого очень ценил. Он задал всего один вопрос: «Ты сможешь отдать приказ стрелять в собственный народ?» Отвечаю: «Нет, не смогу». «Тогда тебе там делать нечего». Поразмыслив, я решил, что Лукин прав. Следующим кандидатом — с точки зрения шансов на утверждение — шел Баранников. «Витя, — говорю ему, — давай действуй. Я снимаю свою кандидатуру». И, чтобы никто не смог переубедить, уехал из Москвы к себе на дачу.
По иронии судьбы через несколько лет история повторилась. Я тогда работал в Министерстве безопасности, наследнике КГБ, — директором НИИ проблем безопасности. В конце сентября 1993 года, когда Ельцин объявил о роспуске Верховного Совета, ко мне на дачу нагрянули три моих зама. Я, как и в августе 1991 года, находился в отпуске. Коллеги потом шутили: «Скажи, когда пойдешь отдыхать, чтобы знать, когда будет следующий переворот». «Александр Иванович, — начинают мои подчиненные, — вас разыскивают Хасбулатов и Руцкой». «Зачем?» Хотя я уже, конечно, понял зачем. Гости подтвердили мою догадку: «По нашим сведениям, вам хотят предложить пост министра внутренних дел». — «Нет, я не пойду». — «Правильно, мы тоже считаем, что вам туда не надо идти». Ну а Баранников, уволенный к тому времени Ельциным, согласился войти в «правительство президента Руцкого». И через несколько дней оказался в «Лефортово»...
Меня трудно отнести к сторонникам Ельцина. Я был в ужасе от того, что вокруг него творилось. Какую преступную группировку ни начнем «бомбить» — обязательно выходим на кого-то из ельцинского окружения. Но не вызывала восторга и противоположная сторона баррикады. За несколько месяцев до октябрьских событий мы с одним генералом пришли к Хасбулатову. Делимся информацией: дело, мол, по нашим данным, идет к президентскому правлению, в Кремле настроены на роспуск парламента. Спикер ходит по кабинету, курит трубку... «Руслан Имранович, — говорим, — надо что-то делать!» Хасбулатов в ответ: «Ха-ха-ха, мы им этого не позволим». Мы переглянулись и вышли. Какой смысл продолжать разговор, если у человека такая совершенно неадекватная уверенность в своих силах?
Словом, то, что Верховный Совет обречен на поражение, мне стало ясно задолго до развязки. А как только в Белом доме забряцали оружием, я понял: это конец. Перевод политической борьбы в плоскость силового противостояния был полным безумием. На стороне Ельцина вся мощь государственной машины — армия, милиция, спецслужбы... А что у них? Да, Ельцин тоже не пользовался большой популярностью в нашей среде. Но если говорить откровенно, большую роль сыграла национальность Руслана Имрановича. Многие рассуждали так: «Пусть пьяница, но зато свой».
И все-таки жестокость, с которой был подавлен «бунт» парламента, меня поразила. 800 человек погибли!..
— Официальные цифры совсем другие.
— Естественно. Но я больше доверяю своим источникам. Эту цифру мне впервые назвал Сергей Солдатов, который тогда занимал должность начальника управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы. А потом то же самое я услышал от одного замминистра безопасности, побывавшего на следующий день в Белом доме: «Где-то 800 погибших. Трупы лежат повсюду!» Называть его не буду, поскольку этот человек и сегодня занимает высокое место во властной иерархии. Впрочем, я не настаиваю на цифрах. Говорю лишь о том, какая информация была на тот момент.
— Вскоре после этих событий вы покинули госслужбу. Сами ушли?
— Нет, «ушли» меня. Вернее — заставили уйти. После расстрела Верховного Совета стали выяснять, кто из депутатов где был. Я не появлялся в эти дни в Белом доме, но, поскольку входил в состав счетной комиссии, мое имя автоматически попало в протоколы последнего, чрезвычайного съезда. Вызывает Голушко, министр безопасности: «Ты где был, на съезде?!» Я объяснил, в чем дело. Однако министр потребовал, чтобы я сделал публичное заявление. Мол, не был, не привлекался, ни в чем не участвовал. Чувствую, дело труба: откажусь — попаду в черный список. Но представил, как это будет выглядеть со стороны: пролилась кровь, погибло столько людей, а я оправдываюсь, выгораживаю себя... Спасаю, короче, шкуру. В общем, я отказался. А вскоре началась чистка спецслужб. Мой институт упразднили, и я подал рапорт об увольнении.
— Слышал, что судьба столкнула вас с еще одним путчем, остановленным, правда, на стадии подготовки. Было дело?
— Речь идет о событиях осени 1996 года. Я тогда возглавлял службу безопасности в одной фирме, но связи с коллегами по МВД и спецслужбам, конечно же, не терял. Рано утром раздается звонок: «Александр Иванович, вас беспокоят из военной контрразведки». Голос незнакомый, но я кое-кого знал в этой структуре и понял, что меня не разыгрывают. Меня попросили связаться с Анатолием Куликовым, министром внутренних дел, и сообщить, что у него могут быть неприятности: Лебедь, секретарь Совета безопасности, затевает «нехорошие вещи, по сути — готовит переворот». По словам звонившего, с этой целью в Москву прибыло из Приднестровья подразделение спецназа 14-й армии... Я постарался как можно скорее передать содержание разговора Анатолию Сергеевичу. Реакция Куликова: «Теперь понятно, почему Лебедь так себя ведет».
Проходит какое-то время, вновь звонок ни свет ни заря: «Александр Иванович, вас опять беспокоят из контрразведки. Спуститесь вниз: в почтовом ящике найдете документы. Передайте их, пожалуйста, Куликову». Спускаюсь, вытаскиваю большую пачку бумаг. Речь в них, насколько помню, шла о деятельности Лебедя на посту командующего 14-й армией. Не о самых светлых, естественно, ее сторонах. В детали компромата я не вникал — не было ни времени, ни, самое главное, желания. Понимал, что меня используют в темную, и, значит, чем меньше буду знать, тем полезнее для здоровья. Шлепнут — как нечего делать. Снова встречаемся с Куликовым. Протягиваю ему эту пачку, спрашиваю: «Ну что, доложили Ельцину и Черномырдину?» «Докладывал... Не верят. Брось ты, говорят, Куликов, ерундой заниматься, не навоевался в Чечне, вечно у тебя все на подозрении. Непробиваемая стена».
Я предложил Анатолию Сергеевичу зайти с другой стороны. Если бы я, говорю, писал политический детектив, то сюжет был бы такой. Россия, страдающая от экономического кризиса и политического хаоса. Популярный, пользующийся поддержкой армии политик. И вот этот любимец публики приходит однажды в Кремль вместе с сотней преданных, вооруженных до зубов военных. Они нейтрализуют охрану, отключают связь, запирают президента в комнате отдыха: «Вот вам выпивка, вот чаек. Отдыхайте». Проделывают то же самое с премьером. Затем харизматик собирает в Кремле прессу и телеканалы и объявляет на всю страну, что режим, который довел страну до ручки, низложен и что теперь все пойдет по-другому. И все ему подчиняются.
Проходит еще немного времени: Куликов выступает по телевидению, рассказывает о готовившемся заговоре, Лебедя увольняют. Через несколько лет, когда мы с Анатолием Сергеевичем встретились в Думе (он тоже стал депутатом), я спросил, пригодился ли ему тот детективный сюжет. Куликов ответил, что мой сценарий действительно ему помог. Он пересказал его премьеру, дополнив, как он выразился, «армейскими моментами». Произведенное впечатление оказалось сильным. По словам Анатолия Сергеевича, Черномырдин откинулся в кресле и потрясенно сказал: «Елки-палки, как же все просто...» В общем, стену удалось пробить.
— В ноябре 1998 года Юрий Щекочихин поделился с читателями своей радостью: «Александр Гуров снова в МВД. Вот новость так новость!» А какова предыстория новости?
— Да не было никакой особенной предыстории. Просто Сергей Степашин, сменивший Куликова на посту министра, предложил мне возглавить ВНИИ МВД. С материальной точки зрения я был тогда очень хорошо устроен. Высокая зарплата, хорошая машина... Но удовлетворения от работы не было. Чувствовал, что занимаюсь не своим делом. Не мое. Поэтому, не раздумывая, согласился. Пришел на заплату 160 долларов. В фирме, для сравнения, получал пять тысяч «зеленых». И тем не менее я был счастлив. За тот год, что проработал во ВНИИ, я прямо-таки распрямился. Ну а в 1999 году подался в депутаты...
— Не жалеете сегодня об этом?
— Вы не первый, кто задает мне этот вопрос. Приходилось слышать и более жесткие формулировки. Не стыдно ли мне, мол, за то, что, возглавив вместе с Шойгу и Карелиным список «Единства», привел к власти тех, кто нами сегодня управляет? Отвечаю: нет, не стыдно. А чего мне стыдиться? Того, что бюджетникам стали платить зарплаты, а пенсионерам пенсии? Того, что ветеранам войны дали бесплатно квартиры? Того, что нашу страну начали уважать на международной арене? Да, осталось, конечно, немало проблем. Не удалось, например, почти ничего сделать с коррупцией. Однако по многим направлениям страна за эти годы продвинулась далеко вперед.
— К сожалению, на этом пути не обошлось без потерь. Одна из самых больших загадок, относящихся к периоду вашей работы в Думе, — смерть вашего друга и коллеги Юрия Щекочихина. Вас устраивает официальная версия?
— Я считаю, что смерть Щекочихина была насильственной. Не думаю, что она связана, как полагают некоторые, с делом «Трех китов». Там была обычная, банальная контрабанда. К тому же на тот момент картина преступления была уже вся налицо. Вряд ли к ней можно было добавить что-то новое, а мстить постфактум — какой смысл? Нет, нужно искать связь с какими-то другими делами.
К сожалению, в последний период своей жизни Щекочихин не был со мной полностью откровенен. Я частенько ругал его за то, что он лез на рожон. «Юра, — говорю, — ты ведь не в «Литературной газете», сейчас другие времена. Надо чувствовать порог безопасности». И он в итоге перестал делиться со мной своими планами. Уже после его смерти ко мне подошел депутат-«яблочник» Валерий Останин и сообщил, что незадолго до того, как это все случилось, Юра сказал ему: «Старик, я собрал такой материал! Это будет похлеще, чем «Лев прыгнул». Но не привел никаких деталей.
О чем мог быть этот материал? Загадка. Известно только, что смерть помешала Щекочихину поехать в Соединенные Штаты. Он собирался поделиться с американцами информацией по делу об отмывании, связанному с одним крупным международным банком. Там присутствовал и «русский след». Мне кажется, что копать нужно именно здесь. Очевидно, что материалы, имеющиеся у Щекочихина, несли кому-то угрозу.
— Естественные причины смерти вы исключаете?
— Да, абсолютно. Первый раз он заболел после поездки в Чечню. Симптомы были теми же, но менее выраженными. То ли доза отравляющего вещества оказалась недостаточной, то ли это была мина замедленного действия. Он, кстати, заходил ко мне перед этой поездкой. «Слушай, — говорит, — старик. Не хочу ехать. Какие-то нехорошие предчувствия». Я ответил: «Юр, вообще предчувствия — вещь серьезная. Тем более если речь идет о творческих людях. Ты относишься как раз к этой категории. Прислушайся к своему сердцу, не езди». «Да ты понимаешь, Явлинский обидится...» Вернулся — и сразу слег. Ему, по-моему, поставили тогда ОРЗ. Полежал с месяц, оклемался, вернулся в Думу. Наступает 9 июня — его день рождения. Он собирает нас, как всегда, в Переделкине. Много народу, раскованная атмосфера, Юра играет на гитаре... При мне он не притронулся к вину, но, как я потом выяснил, один бокал все-таки выпил. Впрочем, вино, возможно, ни при чем.
И началось... Ему опять ставят ОРЗ, кладут в больницу. Ну, думаю, с кем не бывает. Вдруг звонок Муратова, главного редактора «Новой газеты»: «Юра умирает». «Как умирает?!» Словно обухом по голове. Муратов описывает состояние Щекочихина: выпали волосы, слезает кожа... И просит позвонить Шевченко, министру здравоохранения. Звоню: так и так, такие-то симптомы. Чувствую, говорю, что это связано с какой-то отравой. Шевченко: «Хорошо, попробую чем-нибудь помочь». И произносит следующую фразу: «Александр Иванович, у меня к тебе просьба: будешь на каких-либо мероприятиях, старайся не есть и не пить».
— Он не прокомментировал эту просьбу?
— Не прокомментировал.
— И вы не удивились?
— Откровенно говоря, нет. Мне уже приходилось слышать подобную рекомендацию от некоторых чиновников (сами они вели себя на фуршетах аскетически). Помочь Щекочихину Шевченко уже не успел... Я как председатель думского комитета по безопасности пишу письмо генпрокурору Устинову — с просьбой возбудить уголовное дело в связи со смертью известного лица. На этом основании расследование можно провести даже в том случае, если человек умер совершенно естественной, не вызывающей подозрение смертью. Только чтобы пресечь возможные домыслы. А уж тут домыслов более чем достаточно. Но дело не возбудили. Делаю новый запрос: прошу сообщить основания отказа в возбуждении. Проигнорировали. Хотя по закону обязаны были ознакомить — не только меня, но и любого другого гражданина — с отказным материалом.
— Но через пять лет, в 2008 году, дело все-таки появилось.
— А в 2009-м было закрыто — за отсутствием события преступления. Да, провели эксгумацию, сделали кое-какие экспертизы... Но хочу задать один вопрос: ребята, если вы и впрямь хотели докопаться до истины, то почему не допросили меня, не сняли показания с других депутатов, работавших рядом с Щекочихиным? Неужели вас не интересуют обстоятельства его поездки в Чечню, его разговор с Останиным, мой разговор с Шевченко? Вы что, все это знаете? Нет. Значит, я делаю вывод: дело возбудили для проформы, затем лишь, чтобы успокоить общественное мнение.
— С вашей и Щекочихина легкой руки лев стал 25 лет назад настоящим тотемным животным отечественной мафии. Во всяком случае в прессе ее с тех пор сравнивают именно с этим зверем: «лев все еще в прыжке», «лев затаился», «лев прыгнул в XXI век»... А по вашей информации, что сейчас поделывает лев?
— Лев управляет своим прайдом и спокойно дожевывает жертву. Преступные группировки давно поделили между собой сферы влияния, им нет необходимости устраивать шумные разборки.
— Несколько лет назад вы заявили, что у каждой преступной группировки «есть свой чиновник на любом уровне». Ситуация не изменилась?
— Нет, в этом отношении она стала только хуже. Мафия активно перемещается в сферу бюджетных денег — туда, откуда, собственно, и начался ее прыжок. Но масштаб преступного бизнеса теперь совершенно иной. Вместо афер с приписками и припрятанным дефицитом — многомиллиардные госконтракты.
— Выходит, лев победил?
— На этом этапе нашей истории, к сожалению, да.
Андрей Камакин
Швейцарская фармкомпания Такеда Фармасьютикалз Интернешнл (Takeda Pharmaceuticals International GmbH), дочерняя компания японской Такеда Фармасьютикалз открыла подразделение в Израиле – Такеда Израиль (Takeda Israel LTD). Это уже шестое подразделение Такеда. Кроме Израиля, компания имеет подразделения в Алжире, Эквадоре, Перу, Сингапуре и Вьетнаме. Штаб-квартира Такеда Израиль будет располагаться в Тель-Авиве.
В задачи подразделения входи маркетинг и продажа ряда продуктов из ассортимента Такеда Фармасьютикалз Интернешнл. Изначально основной упор будет делаться на противоопухолевые препараты. Такеда Израиль также займется поиском местных партнеров для вывода на израильский рынок других препаратов из своего продуктового портфеля.
В настоящее время Такеда Фармасьютикалз Интернешнл продает в Израиле такие препараты, как Актос/ Пиоглитазона гидрохлорид (Actos/ Pioglitazone hydrochloride), Атаканд / кандесартан (Atacand/ candesartan), Контолок/ пантопразол (Contoloc/ pantoprazole), Люкрин/ лейропрелин (Lucrin/ leuroprelin), Ксефо/ лорноксикам (Xefo/ lornoxicam), Мепакт/ мифамауртид (Mepact/ mifamurtide) и др.
Руководителем подразделения назначен Ари Крамер, до этого возглавлявший службу финансов и стратегического коммерческого планирования в компании ЭббВи Биофарма (AbbVie Biopharma). На фото: штаб-квартира Takeda в Цюрихе, Швейцария.
Руководство террористической организации "Аль-Каида" принесло извинения за подрыв госпиталя при министерстве обороны Йемена в Сане, в результате которого погибли 52 человека, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Глава йеменского крыла "Аль-Каиды" заявил, что один из его боевиков не подчинился приказу не нападать на госпиталь, а также на место для молитв.
"Сейчас мы осознаем свою ошибку и вину. Мы приносим извинения и соболезнования семьям погибших. Мы полностью берем на себя ответственность за произошедшее в госпитале", - цитирует агентство слова командира "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове Кассима аль-Рими.
Теракт произошел 5 декабря этого года и унес жизни 52 человек, включая семь иностранных граждан из Германии, Индии, Филиппин и Вьетнама. Неизвестные, переодетые в военную форму, подорвали заминированный автомобиль у ворот Минобороны Йемена в районе Баб-эль-Йемен в центре Саны. Затем на территорию комплекса заехал еще один заминированный автомобиль, взрывчатка сдетонировала возле военного госпиталя. За взрывами последовало вооруженное нападение. Йеменское крыло террористической организации "Аль-Каида" взяло на себя ответственность за нападение.
Крупнейшая чешская энергетическая компания CEZ начала активное продвижение своих услуг среди граждан Вьетнама, проживающих в Чехии, сообщает Чешское радио.
Выходцы из Вьетнама составляют в Чехии одну из самых больших этнических групп.
В частности, CEZ открыла свой офис на пражском рынке Sapa, который является центром местной вьетнамской диаспоры. "Договоры на поставку электричества и газа здесь будут предлагаться на вьетнамском языке", - сказал пресс-секретарь СEZ Ян Павлу, слова которого цитирует радиостанция.
В прошлом году на рынке Sapa открыл свой офис чешский мобильный оператор Vodafone. Заявки на вьетнамском языке с этого года принимает в Чехии и торговая сеть Makro Cash & Carry. Леонид Свиридов.
Состоялась встреча Владимира Путина с президентом, председателем правления компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Обсуждались итоги работы компании за 2013 год и планы на 2014 год.
В.ПУТИН: Игорь Иванович, поговорим о результатах работы за год.Должен заметить, что уже под Вашим руководством компания стала крупнейшей публичной нефтедобывающей компанией в мире. Это само по себе о многом говорит. Но есть, конечно, немало вопросов текущего характера и стратегия развития компании на ближайшее время. Пожалуйста, прошу Вас.
И.СЕЧИН: Уважаемый Владимир Владимирович! Несколько слов об итогах 2013 года для компании.
Этот год для нас стал рекордным. В целом успешно завершили интеграцию новых активов, компания провела мероприятия по внедрению лучших мировых стандартов по управлению. У нас подписаны со всеми топ-менеджерами компании антикоррупционные документы. Внедрены стандарты по избежанию конфликта интересов. Таких нормативных документов около 35, и это позволяет нам осуществлять работу по повышению эффективности управления.
В производственной сфере, Владимир Владимирович, в этом году мы добудем в нефтяном эквиваленте 240 миллионов тонн, в том числе 207 миллионов нефти и газа. Органический рост при этом – 9 миллионов тонн.
В.ПУТИН: Тот показатель, который даёт нам право говорить, что это крупнейшая публичная компания, это именно по добыче сырой нефти или по совокупности обоих видов?
И.СЕЧИН: По добыче нефти. По добыче и запасам нефти мы действительно являемся публичной компанией номер один в мире.
В.ПУТИН: Как оцениваются сейчас запасы «Роснефти»?
И.СЕЧИН: Владимир Владимирович, мы, во-первых, в результате геологоразведки возмещаем примерно на 108 процентов за год. То есть мы добываем 207 миллионов тонн, примерно 222 миллиона мы в результате геологоразведки прирастили запасов. То есть у нас возмещение превышает добычу.
В.ПУТИН: Это хорошо.
И.СЕЧИН: И за год капитализация компании выросла, если брать эти же даты прошлого года, примерно на 20 процентов.
В.ПУТИН: Запасы не помните, какие?
И.СЕЧИН: У нас сейчас коммерческих запасов…
В.ПУТИН: Если точную цифру сейчас не помните – лучше не говорите. А то сейчас начнутся исследования по этому вопросу.
И.СЕЧИН: Сейчас доложу, Владимир Владимирович.
В.ПУТИН: Вы кроме России ещё в каких странах работаете?
И.СЕЧИН: У нас 35 международных проектов. Добываем и в Северной Америке, и в Южной Америке, в Мексиканском заливе, в Канаде, во Вьетнаме, у нас есть проекты в Алжире, в Северном море. 35 международных проектов.
В.ПУТИН: Запасы в миллиардах баррелей – 29,6. На втором месте – Exxon Mobil, 25,2.
И.СЕЧИН: Да, точно.
В.ПУТИН: Как строится работа с вашими партнёрами?
И.СЕЧИН: Работа с партнёрами строится корректно. Мы буквально на днях подписали дополнительное соглашение с Exxon о реализации пилотного проекта по трудноизвлекаемым залежам. Это в Российской Федерации. Аналогичные документы, аналогичные проекты мы продвигаем с компанией Statoil. Речь идёт о повышении коэффициента нефтеотдачи в Ставропольском крае. Практически со всеми работаем.
В.ПУТИН: Сделали большие шаги сейчас в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.
И.СЕЧИН: Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за поддержку, которую Вы нам оказали в переговорах с Китайской Народной Республикой. С удовольствием Вам докладываю о том, что в Государственной Думе прошла ратификация Межправсоглашения об увеличении поставок нефти в Китай. Это историческое событие в мире экономики, потому что общий объём контракта предусматривает поставки до 2038 года и контракт в ценовом выражении достигает 270 миллиардов долларов. При этом совокупный бюджетный эффект будет порядка 12 триллионов рублей за весь период поставки. Примерно 6,5 триллиона – это налоги и сборы от нашей компании, 5,4 триллиона – это доходы бюджета в результате заказа оборудования, поставки услуг для развития месторождений, транспортников и других участников этой работы. Это, конечно, очень серьёзное достижение для нашей компании, для нашей экономики.
В.ПУТИН: А с транспортом Вы решили проблемы? Договорились с «Транснефтью», другими участниками?
И.СЕЧИН: У нас подписано соответствующее соглашение с «Транснефтью». Сегодня мы как раз подписали новое соглашение с «Транснефтью», с Николаем Петровичем Токаревым [президент ОАО «АК «Транснефть»], на поставку услуг в следующем году, как по нефти, так и по нефтепродуктам. Все эти вопросы решены у нас.
В.ПУТИН: И по «железке» ещё что-то грузите?
И.СЕЧИН: По железной дороге мы поставляем очень много. Те решения по сдерживанию тарифов, которые приняты Правительством, конечно, напрямую влияют на эффективность. Мы просили поддержать это направление работы.
В.ПУТИН: Хорошо, спасибо.
Полумеры для полуфабрикатов
В середине декабря на Ближнем Востоке и в странах Восточной Азии наметилось новое повышение цен на металлолом, которое теоретически должно оказать благоприятное воздействие на стоимость заготовок. По крайней мере, некоторые производители из стран СНГ подняли котировки по январским контрактам до $505-510 за т FOB при поставках через черноморские и азовские порты, прибавив порядка $5 за т по сравнению с началом месяца.
Тем не менее, пока что реализовать это повышение не удается. По данным трейдеров, заготовки в последнее время продаются в Турцию не более чем по $505 за т FOB. При этом, некоторые украинские и российские производители, в частности, Донецкий и Ростовский ЭМЗ по примеру Белорусского метзавода перешли на торговлю на условиях предоплаты и в связи с этим устанавливают цены ниже $500 за т FOB. Впрочем, встречные предложения на уровне ниже $500 за т FOB поступают от турецких клиентов и при традиционном механизме оплаты. Покупатели явно стремятся к тому, чтобы расходы на ожидающееся зимой увеличение тарифов на фрахт покрывались за счет поставщиков.
В самой Турции некоторые компании подняли внутренние цены на полуфабрикаты до $535 за т EXW по сравнению с $520-530 за т EXW в первой половине декабря, чтобы компенсировать подорожание сырья. Однако прокатчики не принимают новые котировки, так как сами не могут добиться увеличения стоимости длинномерного проката – своей конечной продукции. Спрос на заготовки в Турции в последнее время сократился до минимума, хотя ряд мини-заводов еще не обеспечили себя ими на январь. Судя по всему, некоторые компании предпочтут приостановить выпуск, но не производить арматуру себе в убыток.
За пределами Турции потребность в импортных заготовках остается ограниченной. Египетские компании готовы приобретать эту продукцию, но всеми силами пытаются сбить цены на нее. Страны Персидского залива в настоящее время находятся вне рынка. Иранские компании совершают лишь эпизодические покупки, а цены не превышают $525 за т CFR Энзели. В первой половине декабря сообщалось о поставках заготовок из СНГ в Италию по ценам, достигающим $540 за т CFR, но сейчас европейские заводы уходят на «каникулы», так что сделки на этом направлении тоже практически прекратились.
В Восточной Азии стоимость металлолома в последние дни немного сдвинулась вверх, но на стоимости заготовок в регионе это не отразилось. Впрочем, азиатский рынок этой продукции все больше попадает под контроль китайских компаний, которые поставляют полуфабрикаты за рубеж под видом квадратного прутка, микролегированного бором. Это позволяет продавцам не только избегать уплаты 25%-ной экспортной пошлины, но и претендовать на частичный возврат НДС. Судя по значительно расширившимся в последние недели объемам поставок, эта деятельность, очевидно, происходит с молчаливого одобрения властей, больше озабоченных хроническим перепроизводством стали в стране.
Китайские заготовки продаются в страны Юго-Восточной Азии по $520-535 за т CFR. Соперничать с ними может только российская продукция, которая котируется в интервале $525-530 за т CFR. Тайванские, корейские и вьетнамские компании, предлагающие полуфабрикаты не менее чем по $540 за т CFR, находятся вне рынка и вряд ли смогут вернуться на него в обозримом будущем. Сейчас страны АСЕАН скупают большие объемы китайской заготовки, а в январе, очевидно, сделают длительную паузу.
В принципе, зима обычно является достаточно благоприятным временем для производителей полуфабрикатов. Однако в этом году слабость ближневосточного рынка длинномерного проката и конкуренция со стороны дешевого китайского материала делают дальнейший рост цен на заготовки проблематичным.
Виктор Тарнавский
Для улучшения дорожно-транспортной ситуации и увеличения пропускной способности улиц в Северо-Восточном административном округе Москвы будет проведена реконструкция улицы Ротерта и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети, сообщили в Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Данные участки находятся на улице Проходчиков - от пересечения с Малыгинским проездом до улицы Ротерта - и на улице Ротерта. Реконструировать предстоит в общей сложности 1,7 км дорог.
Ширина проезжей части улиц Проходчиков и Ротерта увеличится до 12 метров (4 х 3 м) - по две полосы движения в каждом направлении. Сегодня она составляет девять метров по одной полосе движения в каждом направлении.
В районе строительства находится множество подземных коммуникаций и сооружений. В проект реконструкции включены работы по переустройству инженерных коммуникаций. Будет установлен новый светофор на пересечении улицы Проходчиков с Малыгинским проездом и реконструирован существующий на улице Ротерта при выезде из культурно-делового центра «Ханой-Москва».
После завершения реконструкции территория будет благоустроена и озеленена, там, где необходимо, будут установлены дорожные знаки и пешеходные ограждения, нанесена дорожная разметка.
В результате экспертизы сметная стоимость реконструкции снижена почти на 50 млн рублей, что составляет 15% от первоначально заявленной стоимости.
На Портале Стройкомплекса можно ознакомиться с картами развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, а в разделе «Дорожное строительство» - узнать о том, как столичные власти решают транспортные проблемы.
Информационная служба портала
Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером Гуанси
Вьетнам стал первым крупнейшим торговым партнером Гуанси-Чжуанского автономного района, который расположен на юге Китая. К концу 2013 г. объем товарооборота между Гуанси и Вьетнамом ожидается на уровне $10 млрд. Об этом сообщило Управление коммерции китайского региона.
В 2012 г. товарооборот между Гуанси-Чжуанским автономным районом и Вьетнамом достиг $9,73 млрд. На этот показатель приходится 80,7% от общего объема торговли китайского региона со странами АСЕАН. К концу октября текущего года товарооборот Гуанси с Вьетнамом составил $9,69 млрд.
По итогам прошлого года, объем торговли китайского региона со странами АСЕАН превысил $12 млрд. Это на 26,4% больше, чем в 2011 г. В частности, торговый оборот в рамках мелкой приграничной торговли составил $8,35 млрд. На его долю пришлось 69,3% от всего объема торговли Гуанси со странами АСЕАН. По итогам января-октября 2013 г., в китайском регионе объем мелкой приграничной торговли вырос на 45,2% по сравнению с аналогичным показателем 2012 г.
Немецкая фармкомпания STADA объявила 16 декабря, что начнет производство ЛС на новом заводе в Янгоне (Мьянма) к концу 2015 года. STADA специально для этих целей основала совместное предприятие STADA Myanmar Joint Venture Co Ltd. По условиям договора, в будущем STADA имеет возможность взять управление компанией в свои руки.
До этого момента страна будет получать дженериковые и брендированные препараты с заводов во Вьетнаме.
В Мьянме, стране с населением 60 млн человек, спрос на медицинские товары, в особенности на высококачественные и недорогостоящие препараты, остается неудовлетворенным, отметил генеральный директор STADA Хартмут Рецлафф в пресс-релизе компании.
STADA Arzneimittel AG – немецкая фармацевтическая компания, созданная в 1895 году. STADA производит дженерики и безрецептурные препараты. Выручка компании в 2012 году – 1,8 млрд евро, прибыль – 86,5 млн евро.
NOVAS: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ
Технология, разработанная компанией, позволяет выжать приличный объем углеводородов из уже отработанных скважин
Очередной герой проекта Анны Чеботаревой - компания Novas, разработчик энергосберегающей технологии повышения нефте- и газоотдачи.
Компания Novas, резидент энергоэффективного кластера "Сколково", основана в 2007 году. Разрабатывает экологически чистую технологию плазменно-импульсного воздействия на пласт, для увеличения добычи нефти и газа из вертикальных и горизонтальных скважин. Имеет представительство в Хьюстоне, штат Техас. Американская компания группы Novas - Novas Energy USA. Торгует на внебиржевом рынке американской биржи Nasdaq с капитализацией около 50 миллионов долларов.
Представьте, что внутри уже отработанной скважины, использование которой фактически прекращено, еще существует нефть. С применением технологии плазменно-импульсного воздействия на пласт его проницаемость увеличивается, вязкость нефти уменьшается, а, следовательно, возрастает приток нефти.
Одним словом, из скважины, которая уже считалась пустой, можно добыть еще более 20% нефти. В США, где бригады Novas обкатывали свою технологию на истощенных месторождениях середины прошлого века, средний прирост нефти превышал 150%.
Никита Агеев
Гендиректор компании Novas
"
Суть технологии - повышение проницаемости. Вы понимаете, через обычную губку, которой вы моете посуду, вода протекает. Через бетонный блок не протечет. Но под землей все намного сложнее. И у каждой породы есть своя определенная проницаемость. Эту проницаемость мы повышаем. В настоящий момент мы это делали для нефти, для природного газа, метана из угольных пластов. Это еще одна наша разработка. И в данный момент планируется начать испытания на сланцевом газе. Разработка для горизонтальных скважин, конечно на 50% предназначена именно для работы в скважинах по добыче сланцевого газа"
Олег Перцовский
Директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково"
"
В отличие от технологии гидроразрыва пласта, химических методов повышения нефтеотдачи, она не загрязняет окружающую среду. Это же влияет на ее универсальность. Ее можно использовать для совершенно разных типов месторождений вне зависимости от того, из каких пород эти месторождения складываются. Технология для более традиционных вертикальных скважин уже разработана. Сейчас они делают технологию следующего поколения, которая позволит использовать их разработку для более сложных запасов нефти. Для любых трудноизвлекаемых запасов нефти"
Сфера интересов компании Novas - все страны, где есть хотя бы минимальные запасы углеводородов и месторождения, пусть даже истощенные. В феврале этого года Novas открыла представительство в Хьюстоне. В Америке более одного млн скважин, около 10 тысяч маленьких компаний, на которые приходится до 80% всей нефтедобычи США. При поддержке фонда "Сколково" команда Novas смогла наладить контакты с американскими нефтяными компаниями.
Их технология вызвала интерес в первую очередь у небольших и средних компаний, у которых не так много собственных скважин, а значит, каждый дополнительный баррель нефти имеет для них особое значение.
И сегодня у группы компаний Novas уже подтверждены заказы на работу более чем на тысяче скважин в США, подписана серия контрактов на вьетнамском рынке, есть запросы от нефтяных компаний из Персидского залива, Европы и, как ни странно, пошли заказы и из России. Одним словом, внедрять инновации в нефтегазовом секторе за пределами России оказалось не только быстрее, но и выгоднее.
В следующем году Novas готовится приступить к активной работе в Канаде, откуда родом один из инвесторов проекта, компания TechnoVita Technologies, вложившая шесть млн долларов в усовершенствование технологий Novas по добыче нефти на горизонтальных скважинах. То, что в компанию вложился внешний инвестор, как нельзя лучше говорит о качестве данной технологии и перспективах самой компании, полагает инвестдиректор фонда "Сколково" Эдуард Каналош.
Эдуард Каналош
Инвестдиректор фонда "Сколково"
"
Фактически, одним из немногих критериев успеха сколковской компании являются внешние инвестиции. Никто не может заставить инвестора дать его собственные деньги в проект, в который он не верит. С этой точки зрения, когда инвестор приходит, это показатель правильности того, что мы делаем это правильно"
В ноябре этого года российская технология была отмечена премией за выдающиеся достижения в области инноваций на конференции Total Energy в американском Хьюстоне. Первое место Novas поделила с компанией Hallyburton. Весьма лестно от технологиях Novas отозвались и в Houston Technology Center, который по версии Forbes входит в мировую десятку инкубаторов, которые изменят наш мир.
Мэриэн малдонадо
Вице-президент Houston Technology Center
"
У Novas есть возможность продвинуть не одну, а сразу несколько своих технологий, которые вполне могут быть востребованы нефтедобывающими компаниями у нас в Хьюстоне. Однако я знаю и другие стартапы в области плазменно-импульсного воздействия на нефтяной пласт. И в этом отношении интеллектуальная собственность Novas, конечно, не уникальна. Но наш центр всегда готов помогать таким компаниям как Novas. Мы рады познакомиться с сильной командой, которая способна довести свою технологию до рынка"
В фонде "Сколково" считают, что в перспективе ближайших пяти лет компания Novas может войти в топ-50 крупнейших независимых нефтесервисных компаний мира с выручкой в несколько сотен миллионов долларов.

Однобокая держава
О пределах возможностей дипломатии – даже выдающейся
Резюме Россия с ее высококачественной дипломатией, подкрепленной модернизированными военными возможностями, может какое-то время продержаться в тройке ведущих держав. Но в перспективе только этими инструментами не обойтись.
Статья основана на исследованиях, которые проводил СВОП в течение 2013 г. в рамках программы «Стратегия XXI».
Несколько десятилетий назад блистательный острослов, бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт назвал Советский Союз Верхней Вольтой с ракетами. Намек был обидный, но во многом справедливый. СССР стремительно серел, терял культурную, идеологическую привлекательность, а экономическое и технологическое отставание от передовых стран Запада, Японии, Южной Кореи шло по нарастающей. Только военная мощь позволяла претендовать на роль второй сверхдержавы.
К рубежу 1970 – 1980-х гг. советская модель развития себя исчерпала, но курс не менялся. Номенклатура благоденствовала, интеллигенция тихо ненавидела власть, кто мог – уезжал, народ безмолвствовал. Советские идеология и идентичность, навязанные кровью, гибелью миллионов и массированной пропагандой, закрепленные победой в Великой Отечественной и все больше апеллировавшие только к этой победе, начинала трещать. Почти никто ни во что не верил и не видел будущего. Когда посыпались нефтяные цены, начался развал. Военная мощь не спасла, а лишь усугубила кризис.
Сейчас Россия находится в лучшем состоянии. Из-за краха СССР она потеряла часть самой себя – Украину, Белоруссию. Но отпали и многие окраины, завоеванные царями в геополитических играх XIX века и лишь потреблявшие ресурсы метрополии – Средняя Азия, Закавказье. Сбросила Россия – и с излишком – военное ярмо, душившее Советский Союз, где армия и оборонно-промышленный комплекс пожирали четверть или даже более (никто не знает сколько) не бюджета, а валового национального продукта. Сейчас в результате реформ, начатых при министре обороны Анатолии Сердюкове и в целом продолженных Сергеем Шойгу, Россия, скорее всего, к концу десятилетия будет иметь вооруженные силы, адекватные угрозам и задачам.
Но с распадом Советского Союза Россия не потеряла статус ядерной сверхдержавы и место в Совете Безопасности ООН, сохранила свою историю страны-победительницы на протяжении последнего полутысячелетия. Маленькие войны, конечно, проигрывали. Но в конечном итоге всегда побеждали. Сохранила Россия – хотя и использует из рук вон плохо – великую культуру, создававшуюся элитой всей империи.
С начала 2000-х гг. Россия вступила в полосу везения. Подъем Азии подстегнул спрос на традиционные товары нашего экспорта – сырье, энергоносители, металлы. По нарастающей увеличивается потребность в водоемких товарах – продовольствии, целлюлозе, нефтехимии, производство которых Россия может относительно легко наращивать. Повезло и геополитически. Традиционные конкуренты разом просели. Соединенные Штаты одно за другим потерпели два масштабных поражения – в Ираке и Афганистане. Кризис 2008 г. выявил слабости американской экономической модели – ныне преодолеваемые, но политический раскол элиты пока лишь углубляется. Европа травмирована последствиями слишком быстрого расширения ЕС и зоны евро, которые усугубились из-за нежелания большинства стран (кроме Германии и скандинавов) отказаться от модели развития, нацеленной на потребление и безудержный рост прав в ущерб обязанностям. Такой способ существования, несмотря на его очевидную гуманитарную привлекательность, неконкурентоспособна перед лицом поднимающейся Азии.
Тот факт, что Запад буксует, несет, правда, и серьезные негативные последствия. Ослабевают модернизационные импульсы, которые почти всегда в русской истории приходили со стороны заката. Уменьшились, пока по крайней мере, шансы на создание геополитического альянса с Европой. Все это повысило влияние традиционно сильных в России изоляционистских и неконкурентоспособных слоев общества и элиты. Они заметно оживились в противодействии всему «западному», а на самом деле – чаще всего продвинутому и эффективному. Хотя «угроза» с Запада, будь то военная или даже духовная, беспрецедентно мала.
Вся надежда на дипломатов
Однако не только везение, но и нечто в высшей степени рукотворное – жесткая внешняя политика и мастерская дипломатия, позволяющие максимально укрепить позиции – являются ныне главным источником международного влияния и престижа России. Благодаря этим факторам удается до известной степени компенсировать замедляющуюся и демодернизирующуюся экономику, неэффективные институты, а также численно сокращающийся и качественно ухудшающийся человеческий капитал. Хотя внешняя политика может быть лишь отчасти независима от внутренней, сегодня российская внешняя политика необычно мощно ушла вверх и вперед от скудеющей внутренней базы.
Российская дипломатия во многом играет по правилам, созданным по лекалам геополитики прошлых веков и государственно-ориентированной Вестфальской международной системы. Это, как выясняется, весьма уместно в современном глобализированном, но стремительно теряющем управляемость мире, где народы, испугавшись новых вызовов, бросились обратно к государству – ослабленному, но еще способному защищать их интересы. Где в международных отношениях вновь возрастает роль национальных государств, зато не сбылись надежды (или страхи) о грядущем всевластии транснациональных корпораций, глобального гражданского общества, НКО или мирового правительства (если менее деликатно – мировой закулисы). Наконец, где отвергаются нормы права, морали, приличий, определявшие международные отношения еще в недавнем прошлом.
В этом мире российская дипломатия, сохранившая и нарастившая мастерство, но не обремененная идеологией, чувствует себя как рыба в воде. Она руководствуется ценностями, которые связаны с безусловной защитой суверенитета и, пожалуй, укоренившимися за последние 300 лет в национальной идентичности великодержавностью и стремлением быть среди первых.
Последний пример такой дипломатии – лихой сирийский гамбит 2013 года. Предложение о ликвидации химического оружия вызволило администрацию Обамы из ловушки, в которую она себя загоняла и ее загоняли, требуя нанесения удара по Сирии. Оно также спасло, хотя бы на время, и Башара Асада, воспринимающегося как клиента и союзника России. Однако в первую очередь оно повысило внешнеполитический вес Москвы.
Но и до того удачных решений было немало. Россия заметно укрепила позиции на территории бывшего СССР. Строится, хотя медленно и не без проблем, не только Таможенный, но и Евразийский экономический союз. Цель его – не столько восстановление гегемонии, сколько укрепление позиций в мировой конкуренции. Внешние силы, раньше открыто противодействовавшие усилению России на постсоветском пространстве, делают это менее жестко и открыто. Нынешнее столкновение с Евросоюзом по поводу Украины не приведет к переориентации Киева, в первую очередь из-за неспособности украинской элиты к какой-нибудь ориентации, кроме желания сосать двух маток. К тому же в проигрышной для всех «битве за Украину» Москва пока по очкам выигрывает.
Правда, очередной тур этой «битвы» показал и слабость России – не внешнеполитическую. Желание многих украинцев примкнуть, хотя бы и виртуально, к ЕС вызвано не только страхом перед более жестким и сильным российским конкурентом. Речь идет о той самой «мягкой силе» – европейский уровень жизни и ее качество кажутся гораздо более привлекательными. Украинцам хочется хотя бы помечтать «жить как в Европе». А не как в России.
В Азии Россия при пока слабых экономических и военно-политических козырях ловко маневрирует в треугольниках Россия – Китай – США и Россия – Япония – Китай, оказываясь постоянно «третьим выигрывающим», несмотря на подавляющее экономическое превосходство КНР в регионе. Поддерживаются теплые и дружеские отношения с Пекином, но одновременно, что было очевидно во время ноябрьского 2013 г. азиатского турне Владимира Путина, строятся дружеские или конструктивные связи со странами, окружающими Китай. Не только с Индией, но и с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией. В отличие от Соединенных Штатов, пытающихся наладить систему военно-политического сдерживания Китая, Россия, похоже, проводит политику дружеских объятий, создавая условия для невраждебного уравновешивания мощи Пекина, выгодного в том числе и для него. Но в первую очередь для Москвы.
Российская дипломатия отлично играет на иранском направлении. Вместе со странами Запада Россия участвует в жестком экономическом давлении на Тегеран, пытаясь предотвратить превращение его в военную ядерную державу. Одновременно Москва настойчиво и успешно препятствовала развязыванию войны против Ирана, чреватой дальнейшей дестабилизацией региона и необходимостью для России выбирать. В результате удалось не поссориться с геополитически важным южным соседом, который вел себя конструктивно во время чеченской войны, в целом в ситуации на Кавказе, способствовал разрешению кризисов в Центральной Азии. И можно надеяться, будет содействовать в урегулировании ситуации в Афганистане.У России не только корректные отношения с Ираном, но и почти просто хорошие – с Израилем. Налаживаются связи с Египтом – другой ключевой страной региона. Очень быстро и с минимальными издержками Россия занимает ниши, образующиеся на Ближнем Востоке из-за ухода оттуда уставших США.
Можно по-разному относиться к жесткой приверженности российских властей идее предотвращения иностранного влияния на внутреннюю политику. И через ограничение финансирования извне российских НКО, и через меры по уменьшению возможностей для чиновничества хранить, не объявляя, активы и собственность за границей. И через нежелание далее обсуждать с западными партнерами внутриполитическую ситуацию, как это было до недавнего времени.
Однако все больше политиков и аналитиков приходят к выводу, что внешнее давление на Россию по вопросам внутренней политики контрпродуктивно. Так же думают и многие россияне, видящие, что апелляции к Западу пользы не приносят. Нужно рассчитывать на себя. Россия избавляется от наследия 1990-х гг., да и от советской традиции, когда режим, чувствуя собственную нелегитимность и слабость, согласился де-факто обменивать советских граждан-евреев на экономические подачки и хотя бы частичное политическое признание.
Пока риски для России от проведения такого курса не слишком велики. Раздражение Запада по поводу демонстративной самостоятельности российской политики, отвержения права диктовать правила в сфере ценностей не переросло в его готовность жестко и коллективно давить на Кремль. Тем более что Западу не до того. Он разъединен. И часто нуждается в России. Однако едва ли стоит рассчитывать, что такая ситуация сохранится навсегда.
У российской внешней политики есть слабости. Очень многие посольства закрыты от обществ принимающих стран чуть ли не больше, чем во времена СССР. Дипломаты не хотят и не умеют общаться, а их не стимулируют к этому. Поворот к Азии не подпирается стратегией по новому освоению Сибири и Дальнего Востока и провисает. Большинство наблюдателей привыкли посмеиваться над готовностью Москвы демонстративно противостоять США где надо и где не надо. Правда, эта почти автоматическая готовность к противоборству не вполне распространяется на сирийский конфликт, когда Москва протянула Вашингтону руку помощи.
Но перечисленные недостатки не отменяют основного вывода: внешняя политика и дипломатия России последних лет чрезвычайно успешны.
Пределы возможностей дипломатии
СССР в поздние свои годы был односторонней военно-политической державой. Россия, как особенно выпукло показал 2013 г., превращается в одностороннюю дипломатическую державу, не имеющую или не использующую другие источники силы. Конечно, дипломатическая держава – лучше, чем военная. Но все равно односторонняя, а значит, по определению неустойчивая.
Если нынешняя дестабилизация мира продолжится, Россия с ее дипломатией, подкрепленной усиленными и модернизированными военными возможностями, может еще какое-то время продержаться в тройке ведущих держав. А Владимир Путин сохранит первые места в рейтингах влияния мировых лидеров. Но ставка на нестабильность ненадежна. Тем более что один из основных источников этой нестабильности – Ближний Восток, а волна оттуда, скорее всего, рано или поздно докатится и до России в виде роста исламского экстремизма в ряде российских регионов.
Соединенные Штаты, обеспечив свою энергетическую независимость и избавившись от участия в конфликтах на Ближнем Востоке, фактически покинут регион и обретут большую свободу рук, в том числе для давления на Москву. Китай продолжит усиливаться и оказывать воздействие самим фактом своего присутствия. Есть и другие тревожные тенденции, которые могут привести к ослаблению в политико-дипломатической – ключевой сейчас для России – сфере. С расширением альтернативных источников энергии из Африки, Азии и, конечно, из-за сланцевой революции сокращается вес нашего государства как поставщика нефти и газа. Замедление экономического роста в Азии уменьшает политическую, не говоря уж об экономической, ценность природных ресурсов России. Еще важнее, что накапливаются нерешенные проблемы российской экономики. Оставшаяся от 1990-х гг. нелегитимность крупной частной собственности, еще более – ее правовая незащищенность, глубокая коррупция ведут к падению инвестиционной активности и предопределили на ближайшие годы замедление темпов экономического роста вне зависимости от конъюнктуры на мировых рынках, которая тоже не выглядит позитивной.
Это ухудшение среднесрочных перспектив экономического развития достаточно очевидно снижает нынешний внешнеполитический вес, готовность партнеров учитывать интересы или уважать мнение Москвы. Это сокращение «мягкой силы» можно лишь в малой степени компенсировать жесткой риторикой или даже волевой и умелой дипломатией. Вряд ли Барак Обама позволил бы себе проигнорировать встречу с китайским руководством, представляющим самую динамичную и вторую после США экономику мира. Но именно так он поступил в сентябре, отказавшись от российско-американского саммита перед встречей «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Хотя действия Пекина вызывают по крайней мере не меньшее раздражение и опасения в Вашингтоне. А этот отказ, пусть и непрямо, ослаблял позиции России в диалогах с китайцами, европейцами, другими партнерами и конкурентами.
Пока российской дипломатии удалось с лихвой восполнить возможные потери сирийским маневром. Но проблемы с внешней оценкой России как страны с тусклым будущим это не решило.
Так, постепенное ужесточение риторики Германии в отношении Москвы в последний год объясняется не только внутриполитическими соображениями – стремлением оттеснить считающихся «пророссийскими» социал-демократов, раздражением в связи с проверками немецких благотворительных фондов на территории России и финансируемых ими НКО. Или российским неприятием новейшего европейского отношения к правам сексуальных меньшинств, другими различиями в ценностях. Они существовали всегда. И были, как правило, глубже.
Колебания Берлина, который склоняется к менее благоприятной оценке происходящего в России, почти напрямую связаны с ожиданием долгосрочного уменьшения зависимости Европы и Германии от российских энергоносителей и пессимистическим взглядом на перспективы российского рынка. Это ослабило позиции делового сообщества, игравшего в последние десятилетия ключевую роль в определении политики Берлина на российском направлении.
Наконец из-за остановки экономического роста и главное – отсутствия активной и целеустремленной стратегии развития Россия просто не очень интересна для многих партнеров. Это очевидно любому постоянному участнику международных форумов.
Еще большую тревогу, чем сегодняшние проблемы, вызывают долгосрочные внешнеполитические перспективы, и именно из-за ослабления внутренней базы. Нарастает технологическое отставание России. Она не только почти не участвует в создании нового, шестого, технологического уклада, но, похоже, у нас даже не понимают, что это такое. Вместо решения этих и других основополагающих задач, стоящих перед российским обществом, государство достаточно умело манипулирует общественным мнением, подбрасывая все новые и новые искусственные проблемы.
Доминирующим настроением в обществе становится пессимизм. Элиты воруют, бегут, выводят капиталы и детей или сладострастно поносят власть. Русские теряют кураж, лихость, которая столько раз спасала нас в невыносимо трудных перипетиях истории и вела к блестящим победам. Россия замедляется, смотрит в прошлое, не устремлена в будущее.
Предыдущие абзацы можно было бы опустить в статье, посвященной внешнеполитическим позициям России, если бы не то обстоятельство, что замедление развития и пессимизм в условиях нынешней информационной открытости легко считываются внешним миром и эти позиции подрывают. Наступательная бодрость Владимира Путина или Сергея Лаврова общий пессимизм компенсируют лишь отчасти.
К тому же фокус конкуренции в мире все более определенно смещается в экономико-технологическую и идейно-информационную сферы. Военная сила не утратила свою роль, но решает проблемы на втором-третьем уровне отношений и между второстепенными державами. Первостепенные не могут позволить ее массированного применения из-за ядерного пата. А когда применяют, все чаще проигрывают. Последние примеры – США и НАТО в Афганистане и Ираке. Да и Ливия не стала победой. Ракеты весят на мировых весах гораздо меньше, чем во времена, когда Гельмут Шмидт смеялся над СССР.
Побеждают же в конкуренции те, кто способен производить новые технологии и/или эффективно, массово и быстро применять их в экономике. Либо те, кто, используя новейшие коммуникации, может навязывать или предлагать свои или выгодные себе взгляды и представления. В современном небывало открытом мире брендами становятся не только товары, но и страны, и имидж определяет конкурентные позиции государств в не меньшей степени, чем корпораций.
Люди важнее всего
Технологии сегодня более доступны, чем когда бы то ни было. Но чтобы их применять, нужны подготовленные и мотивированные люди. И тут я подошел к главному. У России есть шансы войти в круг передовых стран и сохранить статус великой державы. Но, повторюсь, ставки на дипломатию или военную силу недостаточно. Нужно повернуть усилия государства и общества на преумножение все еще значительного человеческого капитала – через опережающее развитие образования, здравоохранения и высокой культуры нации, с массированным инвестированием в молодое поколение и создание условий – политических, социальных, обязательно правовых, чтобы эти молодые оставались в стране, связывали с ней будущее свое и своих детей. Развитие человеческого капитала нации и должно стать новой национальной идеей на поколение. Если мы пойдем на это, то мир быстро зафиксирует перспективу будущего экономического и социального подъема, и нынешнее неизбежное на несколько лет отставание не приведет к потере внешнеполитического веса. У страны появится будущее.
Нужен и большой «духоподъемный», но экономически выгодный проект, устремленный в будущее. Евразийский союз, при всей его полезности, таким не является. Стремление к интеграции с Европой, объединившее элиты восточноевропейских стран, ныне в условиях длительного внутреннего кризиса ЕС и европейской модели тоже не тянет. Хотя отвергать европейский путь, начавшийся с варягов, с принятия Русью христианства у тогдашней передовой Европы – Византии – значит отвергать самих себя, свою сущность как нации.
Таким проектом должно, видимо, стать уже много лет обсуждаемое новое освоение Сибири и Дальнего Востока с использованием технологий и капиталов из Европы, Америки, передовых азиатских стран, конечно, Китая, прицепляющее Россию к тихоокеанскому локомотиву роста и делающее ее великой не только европейской, но и азиатско-тихоокеанской державой. Как – достаточно очевидно. Но это предмет отдельной статьи. Эту же завершу утверждением, что на ближайшее десятилетие главный резерв внешнеполитического влияния России лежит как никогда прежде в сфере внутреннего развития. Там же – и главные угрозы утраты внешнеполитического веса, и столь любимого большинством россиян статуса великой державы.
Сергей Караганов — политолог, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала "Россия в глобальной политике". Декан Факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ.

Оборона на диете
Как бюджетные кризисы улучшили стратегию США
Резюме Режимы экономии прошлых лет заставили официальные круги признать, что главный источник безопасности – жизнеспособная национальная экономика, действующая в условиях открытого мирового порядка, а вовсе не военная сила или ее необдуманное использование.
Статья представляет собой сжатый вариант работы, выполненной для Аспенской стратегической группы. В полном объеме она будет издана в очередном томе, готовящемся к изданию Институтом Аспена. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2013 год.
Соединенные Штаты живут в эпоху экономии, и после многолетнего роста оборонный бюджет неизбежно будет урезан. Но даже сторонники подобных мер подчеркивают необходимость избежать неприятных последствий уменьшения военных расходов, как это было в прошлом.
«Нам необходимо помнить уроки истории, – сказал президент Барак Обама в январе 2012 года. – Мы не можем позволить себе повторять ошибки, которые были сделаны после Второй мировой войны и вьетнамской кампании, когда наша политика в военной сфере была совершенно непригодна для решения будущих грандиозных задач. Как главнокомандующий я не допущу, чтобы это повторилось». В свою очередь министр обороны Леон Панетта, выступая перед Конгрессом в октябре 2011 г., заявил: «После любого крупного конфликта – Первой мировой войны, Второй мировой войны, Кореи, Вьетнама, падения Советского Союза – мы выхолащивали наши вооруженные силы и снижали их боеготовность. Что бы мы ни делали для решения сложных финансовых проблем, стоящих сегодня перед нами, нам нельзя допускать этой ошибки».
Вопреки этому расхожему мнению, последствия сокращения оборонного бюджета США в прошлом были не так уж ужасны. Фактически, если взглянуть на пять таких периодов в прошедшем столетии – после Первой и Второй мировых войн, в эпоху корейской и вьетнамской войн и холодной войны, – очевидно, что экономия может быть полезна, поскольку вынуждает мыслить стратегически, что редко происходит в «тучные» годы.
Мировые войны
После Первой мировой войны Соединенные Штаты резко снизили военные расходы – в 1919 г. они превышали 17% ВВП, а 1922 г. едва достигали 2 процентов. Армию сократили с 3,5 млн солдат под ружьем до примерно 146 тысяч. В 1922 г. США, Великобритания, Франция, Япония и Италия подписали Договор об ограничении ВМС. Документ в частности устанавливал тоннаж линейных флотов Соединенных Штатов, Великобритании и Японии в соотношении 5:5:3 (после Лондонской военно-морской конференции 1930 г. оно изменилось на 10:10:7). Великая депрессия вынудила Вашингтон строить кораблей даже меньше, чем разрешалось договором.
После нападения японцев на Пёрл-Харбор и вступления Америки во Вторую мировую войну многие объясняли провалы американской армии сокращением оборонного бюджета в 1920-е гг. и наивной верой Вашингтона в беззубые соглашения о контроле над вооружениями. Однако несколько поколений бесстрастных и более объективных историков точнее обрисовали ситуацию: низкий уровень военных расходов США в 1920-е и 1930-е гг. не подорвал безопасность и не помешал серьезным технологическим прорывам и организационным переменам. На самом деле Соединенные Штаты были плохо готовы к надвигающейся буре из-за ошибочного восприятия угрозы и неумелой дипломатии в предвоенные годы, что усугублялось изоляционистской позицией Конгресса, не желавшего поддерживать более решительную оборонную политику.
Когда началась Вторая мировая война, скудость ресурсов фактически вынудила американцев сделать непростой, но мудрый стратегический выбор. Быстрое завоевание Франции Германией в июне 1940 г. продемонстрировало, что существовавшие на тот момент в США военные планы устарели, а трехсторонний пакт, подписанный Германией с Италией и Японией в сентябре того же года, вплотную приблизил к американским границам призрак глобальной тоталитарной угрозы. Вынужденный импровизировать и расставлять приоритеты, глава ВМС Харольд Старк предложил стратегическую концепцию, которая могла бы лечь в основу внешней политики Соединенных Штатов на следующие полстолетия. После того как длительные склоки между армейскими и военно-морскими стратегами привели к появлению нескольких конкурирующих планов ведения военных действий, Старк взял на себя инициативу и составил меморандум для президента Франклина Рузвельта. В нем он утверждал, что главная угроза безопасности США исходит от Германии. Соединенные Штаты не могут позволить Гитлеру победить Великобританию, утвердить свое доминирование в Атлантическом регионе и выиграть время для того, чтобы усилить нацистскую военную машину ресурсами и живой силой из Северо-Западной Европы. Предотвращение такого развития событий должно стать главной задачей. В то же время Америке следовало использовать дипломатию, чтобы избежать войны с Японией, укрепить британскую и канадскую армии, готовиться к вторжению на европейский континент.
И здесь не столь важны детали стратегии, получившей название План «Собака» (Plan Dog), как обстоятельства ее появления. В середине 1940 г. Соединенные Штаты не имели стратегической концепции, не было согласованного курса ведения боевых действий и механизмов эффективной координации военной и внешней политики. Вынужденный принимать жесткие меры, Старк рассмотрел несколько вариантов стратегии, прикинул цели и средства их достижения, оценил задачи и приоритеты и рекомендовал действия, которые, как ему представлялось, позволят с наибольшей вероятностью добиться решения масштабных задач обеспечения национальной безопасности. Его взгляды имели большой резонанс, поскольку соответствовали формирующимся представлениям внутри и вне правительства о том, что необходимо для выживания, обеспечения благополучия нации и сохранения демократических институтов. Незадолго до появления меморандума Старка Рузвельт предупредил, что США не должны стать «одиноким островом в мире, где доминирует философия силы... Такой остров представляется мне... кошмаром, который могут испытывать голодные люди, содержащиеся в тюрьме, в наручниках, когда их кормят через прутья тюремной решетки презирающие их безжалостные хозяева других континентов».
Конечно, План «Собака» не давал ответа на многие вопросы, например, сколько военной техники следует поставить союзникам и сколько требуется для перевооружения собственной армии, как умиротворить Японию или обуздать ее активность во время военных действий против Германии и так далее. А между тем президент сопротивлялся точному определению целей, госсекретарь не желал координировать дипломатию с военной политикой, а в обществе не было единства до тех пор, пока японцы не напали на Пёрл-Харбор. Но сочетание жесткой экономии и кризиса помогло выработать ключевую стратегическую концепцию, по-новому оценить нависшую угрозу, а также понять тесную связь между национальными интересами и ценностями и расставить приоритеты.Мир по-американски
После Второй мировой войны базовая концепция Старка продолжила существование. В 1945 г. ведущие американские стратеги и мыслители объединили усилия в рамках исследования, проводимого Институтом Брукингса. Они пришли к выводу, что важно не допустить доминирования в Евразии какой-либо державы или коалиции. «Во всем мире, – полагали они, – только советская Россия и бывшие неприятельские державы способны сформировать ядро, вокруг которого может образоваться антиамериканская коалиция, угрожающая безопасности Соединенных Штатов». Поэтому нельзя было допустить бесконечного расширения Советского Союза на запад независимо от того, «будет ли это происходить путем формальной аннексии, политического переворота или нарастающей подрывной деятельности». Комитет начальников штабов, равно как и большинство гражданских официальных лиц, взяли на вооружение это стратегическое мышление. Но широкая общественность была настроена на демобилизацию и конверсию. Президент Гарри Трумэн, как и республиканская оппозиция, жаждали сбалансировать бюджет и подавить инфляцию. Между внешнеполитическими целями и военными возможностями вскоре вновь образовалась пропасть, поскольку Комитет начальников штабов требовал средств для противодействия возможным действиям Советов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Он добивался необходимых ресурсов для преодоления кризисов в Греции, Иране и Турции, а также гражданской войны в Китае, сосредоточивая внимание и на периферийных регионах.
И снова режим экономии побудил к более взвешенной оценке угроз. Ведущие американские политики пришли к консенсусу, что вероятность советской военной агрессии – не самая серьезная угроза безопасности США. По их логике, Советы были слишком слабы в экономическом плане, чтобы решиться на нападение. В 1946 г. Фердинанд Эберштадт, бывший директор Объединенного совета по боеприпасам для СВ и ВМС, написал Джеймсу Форрестолу, своему близкому другу и тогдашнему министру ВМС, что «только сумасшедшие могут решиться развязать против нас войну». Куда большая угроза заключалась в том, что Советский Союз начал бы эксплуатировать голод, социальную напряженность и политическое брожение, имевшие место в большей части Европы и Азии. Еще 16 мая 1945 г. министр обороны Генри Стимсон предупреждал Трумэна: «Следующей зимой в Центральной Европе случится голод и эпидемии. За ними может последовать политическая революция и проникновение коммунистических идей». В следующем месяце помощник госсекретаря Джозеф Гру сообщил президенту, что Европа стала благодатной почвой для «спонтанных проявлений классовой ненависти, которую умелому агитатору нужно лишь направить в нужное русло».
Не имея возможности использовать инструменты, которые могли показаться им наиболее желательными, американские политики решили, что помочь зарубежным странам в развитии важнее их перевооружения. Даже Форрестол признал в декабре 1947 г.: «До тех пор пока мы можем производить больше продукции, чем другие страны мира, контролировать морские пути и нанести атомный удар по суше, если потребуется, есть возможность ради восстановления мировой торговли, баланса сил – военной мощи – и устранения некоторых условий, способствующих войне, принять на себя риски, которые в противном случае были бы неприемлемы». Он разделял желание тогдашнего заместителя госсекретаря Дина Ачесона поручить подкомитету Комитета по координации действий государства, армии и ВМС разработать всеобъемлющую программу помощи и определить приоритеты. Сотрудники подкомитета при распределении помощи руководствовались своим пониманием критичности ситуации в той или иной стране. Первыми в их списке значились Греция, Турция, Иран, Италия, Корея, Франция и Австрия.
Тем временем Комитет начальников штабов провел собственное исследование зарубежной помощи, принимая во внимание как остроту потребностей потенциальных получателей, так и их важность для национальной безопасности США. В результате было рекомендовано оказать содействие Великобритании, Франции и будущей Западной Германии с таким определением: «Полное возрождение немецкой промышленности и в частности добычи угля важно для экономического восстановления Франции, безопасность которой неотделима от безопасности Соединенных Штатов, Канады и Великобритании. Таким образом, экономическое возрождение Германии имеет первостепенное значение с точки зрения безопасности США». Эти мысли, которые хорошо стыковались с начальными исследованиями отдела политического планирования Госдепартамента и взглядами многих должностных лиц, отвечавших за европейское направление, легли в основу знаменитого Плана Маршалла.
Вынужденный аскетизм заставил американцев как следует подумать о приоритетах и альтернативах: восстановление экономики за рубежом или перевооружение собственной армии, а также признать, что Западная Европа и Япония важнее для США, чем Китай. Если восстановление Западной Европы и налаживание тесных связей с бывшими врагами, такими как Германия и Япония, приведут к ухудшению отношений с Москвой и обострению начинающейся холодной войны, то так тому и быть.
Джордж Кеннан, который в те годы возглавлял Отдел политического планирования, рассматривал решения Советов о создании Коминформа (организации, задача которой состояла в распространении коммунизма по всему миру) в 1947 г. и государственном перевороте в Чехословакии в 1948 г. как «вполне логичный» ответ на «решимость Америки помогать свободным государствам мира». Подобные действия усилили опасения войны, но Кеннан, госсекретарь Джордж Маршалл и большинство их коллег из Госдепартамента все же считали ее маловероятной. Поэтому Трумэн призвал к проведению всеобщей воинской подготовки, временному восстановлению призыва и к осмотрительному увеличению оборонных расходов, но не изменил своей решимости ограничить военный бюджет, даже во время блокады Берлина в 1948–1949 годах.
Форрестол, которого Трумэн назначил первым министром обороны страны, занервничал. Его военачальники сообщали, что обязательства США намного превышают их реальные возможности, а действия Америки и контрмеры Советов повышают вероятность войны. Они были правы в обоих случаях, но это не поколебало Трумэна. Экономия означала, что рисками необходимо управлять, но полностью исключить их невозможно. Поэтому президент поставил на то, что большой войны не будет, и решил сконцентрироваться на внутриполитических задачах и укреплении союза с прежними врагами вместо того, чтобы взаимодействовать с новым противником, трансформировать экономику дружественных стран вместо того, чтобы заниматься перевооружением своей армии, и сосредоточиться на восстановлении и укреплении Западной Европы вместо того, чтобы увязнуть в китайском вопросе. Когда военные выразили несогласие и Форрестол стал допускать двусмысленные высказывания, Трумэн его уволил.
После корейского кризиса
Нападение Северной Кореи на 38-й параллели в июне 1950 г. положило конец десятилетию аскетизма военного бюджета. С 1950 по 1953 гг. США почти утроили расходы на оборону в отношении к размеру ВВП и почти вдвое увеличили численность вооруженных сил. Лишь малая доля этого наращивания военных возможностей была использована для разрешения конфликта на Корейском полуострове. Большая часть предназначалась для подготовки к ведению тотальной и глобальной войны с Советским Союзом, следуя логике, сформулированной в апреле 1950 г. в документе NSC-68 – сверхсекретном исследовании Госдепартамента, в котором обосновывалась необходимость крупного перевооружения американской армии для сдерживания советской экспансии.
Однако в 1953 г. вновь избранный президент Дуайт Эйзенхауэр дал ясно понять: военную мощь невозможно наращивать бесконечно. Он доказывал, что фундамент военной силы – крепкая экономика, а ключ к ней – платежеспособное государство и здоровая фискальная система.
За несколько месяцев до избрания он писал своему близкому другу: «Финансовая состоятельность и здоровая экономика Соединенных Штатов – первая предпосылка обеспечения коллективной безопасности в свободном мире. Это самое главное». Он считал, что расходы на оборону необходимо обуздывать, а бюджет должен быть сбалансированным. Заняв президентское кресло, он начал претворять свои идеи и принципы в жизнь. Эйзенхауэр поручил провести комплексный пересмотр стратегии государственной безопасности США в виде знаменитого Проекта «Солярий». Наверное, это была самая глубокая переоценка из всех когда-либо предпринятых. Были созданы три рабочие группы, каждой из которых предстояло доказать обоснованность предлагаемого подхода.
Эйзенхауэр утверждал, что на него произвели впечатление отдельные элементы всех трех подходов, и он распорядился включить их в новое комплексное изложение политики национальной безопасности. По правде говоря, данное исследование не привело к изменению стратегической концепции сдерживания или пересмотру точки зрения, согласно которой Соединенные Штаты не должны позволить Советскому Союзу получить контроль над большей частью ресурсов Европы и Азии. Но исследование подтвердило решимость Эйзенхауэра добиваться этой цели при сохранении куда большей финансовой дисциплины, чем это было в последние годы пребывания у власти администрации президента Трумэна.
Так называемая политика «нового взгляда» Эйзенхауэра, а также доктрины сдерживания и массированного контрудара повышали ценность и значение военно-воздушных сил и ядерных вооружений. Президент держал под контролем рост традиционных наземных войск и много говорил о постепенном уменьшении зависимости армии США от планов и целей НАТО. Но в то же время президент и госсекретарь Джон Фостер Даллес фактически наращивали обязательства страны и создавали новые альянсы.
В конце концов по мере того как росли стратегические возможности СССР, а американские союзники становились более настойчивы в своих требованиях и революционно-националистическое брожение охватывало все большее число стран и регионов, подход Эйзенхауэра подвергался все более решительной критике. Бюджетные ограничения, которые отстаивал президент, невозможно было сохранить в случае неизменности его фундаментальной стратегической концепции: по мере расширения интересов США на периферии и учащающихся заявлений американских политиков о том, что они будут выполнять взятые на себя обязательства, разрыв между целями и тактикой увеличивался. В 1953–1954 гг. финансовое благоразумие Эйзенхауэра было оправданным, но его администрация не скорректировала долгосрочную стратегию, так чтобы она согласовывалась с режимом экономии, который казался желательным президенту.
Фактически принимаемые бюджеты никогда не были слишком «тощими», и стратегические возможности быстро увеличивались. Но еще быстрее рос разрыв между средствами и целями, что неизбежно приводило к новой волне расходов, перевооружения, военных доктрин и интервенций в последние годы пребывания Эйзенхауэра у власти и в еще большей мере в 1960-е годы.
В 1940–1941 гг. режим экономии породил долговременную стратегическую концепцию, а с 1946 по 1949 гг. – чуткое восприятие угроз и сложную расстановку приоритетов. Но в 1953–1954 гг. последствия режима экономии воспринимались не столь однозначно. «Новый взгляд» был призван сузить расширявшуюся пропасть между целями и тактикой. Для Эйзенхауэра с его опытом, навыками и авторитетом это не было проблемой, чего нельзя сказать о преемниках «Айка», которым не удавалось найти компромисс между партийной политикой, организационным давлением, растущими стратегическими возможностями Советов и нараставшими волнениями в странах третьего мира.После Вьетнама
Проводя далеко идущую стратегическую переоценку в 1953–1954 гг., Эйзенхауэр и Даллес, по сути, проигнорировали реальный способ сбалансировать цели и средства Соединенных Штатов: они не использовали разрядку, чтобы с ее помощью попытаться снизить напряжение холодной войны. Эйзенхауэр никогда не исключал переговоры: на самом деле он проявлял интерес к контролю над вооружениями и в 1955 г. заключил договор с Советским Союзом, в результате которого было воссоздано австрийское государство. Но он считал переговоры с противниками менее важным делом, чем переговоры с нынешними или потенциальными друзьями и укрепление существующих альянсов.
Однако спустя почти два десятилетия, заняв президентское кресло почти в самый разгар, казалось бы, неразрешимого конфликта во Вьетнаме, президент Ричард Никсон и его помощник по национальной безопасности Генри Киссинджер пошли другим путем. Они также не изменили базовую концепцию государственной безопасности; Советский Союз оставался главным противником, и никто не собирался отказываться от политики сдерживания. Но, столкнувшись с финансовыми ограничениями, они изо всех сил старались найти новые способы заставить СССР вести себя более сдержанно. Никсон и Киссинджер понимали и признавали, что мир меняется. Они рассуждали о развитии многополярного мира, об оживлении взаимодействия с союзниками в Западной Европе и Северо-Восточной Азии, о необходимости углублять советско-китайские противоречия и разрыв и о растущей настойчивости националистических лидеров в развивающихся странах, стремящихся изменить конфигурацию мирового экономического порядка. Они также хотели вывести Соединенные Штаты из Вьетнама так, чтобы при этом не пострадал престиж страны, а американские политики не утратили кредит доверия. Но им досаждали партийные склоки, волнения в городах, расовые трения, инфляционное давление, утечка золотых запасов и финансовые ограничения. Хотя они детально обосновали необходимость благоразумного отстаивания национальных интересов в мировом порядке, который характеризуется устрашающими стратегическими возможностями СССР и вездесущей угрозой ядерной войны, их определение национальных интересов США было более двусмысленным.
Задача сводилась к разработке стратегии уравновешивания советской мощи в напряженных политических, финансовых и законодательных условиях. Они не пытались переформулировать цели, но маневрировали, чтобы добиваться их осуществления дешевле и эффективнее. Доктрина Никсона (авторы которой призвали союзников Соединенных Штатов в Азии обеспечить собственную оборону), разрядка в отношениях с Кремлем, начало официальных отношений с Пекином, секретные операции в ЮАР, Чили и других странах – усилия, направленные на поддержку союзников Соединенных Штатов, внесение раскола в ряды их противников и сдерживание советской мощи. При этом важно было не попасть в ловушку новых войн (которые американская общественность не потерпела бы) или вновь оказаться перед необходимостью добиваться стратегического превосходства (Конгресс не одобрил бы финансирование подобной программы). Как Никсон изложил это в меморандуме для Александра Хейга, заместителя помощника по национальной безопасности, и Киссинджера в мае 1972 г.: «Все, кто работал над этой проблемой [переговоры по ограничению стратегических вооружений], знают, что эта сделка наилучшим образом отвечает нашим интересам, но по самым практическим соображениям, которые не дано понять правым, мы просто не получим от Конгресса дополнительного финансирования, необходимого для продолжения гонки вооружений с Советами в области оборонительных или наступательных ракет».
Никсон и Киссинджер полностью не ликвидировали разрыв между обязательствами и имеющимися ресурсами или между целями и средствами их достижения. Но они искусно импровизировали, взаимодействуя с противниками и передавая больше полномочий и ответственности союзникам. Они воспользовались другими политическими инструментами, чтобы продолжать использовать основные элементы сдерживания в эпоху кажущегося упадка, для которой были характерны бурные события на внутриполитической арене, ослабление на международной арене и подрыв доверия к американским политикам.
После холодной войны
Американские политики понимали неизбежность сокращения расходов на оборону после распада Советского Союза и окончания холодной войны. Президент Джордж Буш-старший, министр обороны Дик Чейни и председатель Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл знали, что общественность и Конгресс ожидают дивидендов от наступления мира. В рамках согласованной стратегии после окончания холодной войны они были готовы пойти на необходимые сокращения, включая более миллиона военного и гражданского персонала. Именно об этой стратегии Буш был намерен говорить в Аспене, штат Колорадо, 2 августа 1990 г., когда иракский лидер Саддам Хусейн неожиданно напал на Кувейт.
Последовавший кризис заставил отложить планы по сокращению оборонных расходов, но администрация Буша вернулась к ним после окончания войны в Персидском заливе. Перед официальными лицами стояла нешуточная задача сократить военную мощь не так резко, как того требовали Конгресс и американская общественность. Вместе с тем всем было понятно, что международная обстановка оставалась тогда удивительно спокойной. При отсутствии глобальной угрозы Чейни и его стратеги подчеркивали региональные «вызовы», доказывая, что главная угроза заключается теперь в «неопределенности» и «непредсказуемости». В такой обстановке, говорили они, необходима такая конфигурация вооруженных сил, которая позволит США осуществлять лидерство и формировать будущее. Это требовало сохранения возможностей для продолжения ядерного сдерживания, укрепления и расширения альянсов, наращивания передового базирования и проецирования силы – особенно в регионах Персидского залива, Большого Ближнего Востока и Северо-Восточной Азии. Страна также должна сохранить способность достаточно быстро восстановить большую и боеспособную армию, если в этом возникнет необходимость.
При разработке Руководства по планированию обороны 1992 г. стратеги Пентагона сохранили две важные концепции времен холодной войны. Они доказывали, что Соединенным Штатам важно «не допустить, чтобы какая-либо недружественная держава доминировала в регионе, имеющем большое значение для американских интересов». (В список этих регионов попали Европа, Восточная Азия, Ближний Восток и Персидский залив и Латинская Америка.) И они настаивали на том, что США нужны достаточные оборонные возможности для создания мирового порядка, благоприятствующего их образу жизни, точно так же как официальные лица прошлого верили, что преимущественно выгодный для Соединенных Штатов расклад сил важен для сохранения демократического капитализма на родине. Учитывая режим жесткой финансовой экономии в стране, стратегическая концепция администрации Буша – подготовка к неопределенности, формирование будущего, борьба с региональной нестабильностью – гарантировала еще одну растущую пропасть между целями и средствами. У США не было достойных конкурентов на мировой арене, и вряд ли они могли бы появиться в течение нескольких лет или даже десятилетий. Но до тех пор пока администрация ставила перед собой такие амбициозные цели, угрозы Соединенным Штатам оставались неясными, а их интересы определялись столь расплывчато, имеющихся возможностей вряд ли когда-нибудь могло хватить для преодоления всех региональных и гуманитарных кризисов, которые представлялись неизбежными. К концу 1990-х гг. на долю США и их союзников приходилось почти 75% всех мировых расходов на оборону в сравнении с 6% Китая и России вместе взятых. Но даже при этом многие обозреватели упрекали администрацию Клинтона в том, что она уделяет недостаточно внимания обороне. Между тем администрация также взяла на вооружение ключевые элементы региональной оборонительной стратегии Чейни.
Уроки прошлого
Каким урокам учит нас история? Во-первых, тому, что негативные последствия экономии на военных расходах были явным преувеличением. США не стали уязвимы, отказавшись от глобального присутствия после 1919 года. С учетом отсутствия угроз в 1920-е гг. и ограничений, наложенных на британские, немецкие и японские вооруженные силы до середины 1930-х гг., оборонная политика после окончания Первой мировой войны не была опрометчивой. Точно так же вовсе не ограниченный оборонный бюджет 1946–1949 гг. стал причиной холодной войны, и он не подавил творческую реакцию на маячившие впереди угрозы. Враждебно настроенное общественное мнение и жесткая бюджетная экономия, характерные для последних лет войны во Вьетнаме, не препятствовали творческой адаптации, и нет оснований полагать, будто неадекватные военные расходы Соединенных Штатов стали спусковым крючком для исламской революции в Иране или советской авантюры в Афганистане в конце семидесятых. И требования мирных дивидендов после окончания холодной войны не помешали администрации Джорджа Буша сформулировать новую стратегию, призванную поддерживать американскую гегемонию.
Конечно, страна сталкивалась с разными проблемами в периоды бюджетных сокращений. Но эти проблемы редко или лишь отчасти были следствием самой экономии. Слишком часто официальные лица держались господствующих стратегических понятий, не полностью переоценивая их полезность, их издержки и выгоды, угрозы и возможности, и не переосмысливая цели и тактику. Острые военные вызовы после окончания Второй мировой войны – вмешательство Китая в корейскую войну, затруднительное положение во Вьетнаме, «болото» в Ираке – не имели ничего общего с бюджетной экономией.
Второй урок – это важность последовательной стратегической концепции, четкая оценка угроз, точное очерчивание интересов и целей и выверенная расстановка приоритетов. В этом смысле история показывает, что экономия не вредит, а скорее помогает, как это случилось в 1940–1941 и 1946–1949 годах. Во времена бюджетной экономии политика должна искусно сочетать инициативы, направленные на заверения союзникам и на взаимодействие с противниками. Эйзенхауэр и Даллес больше внимания уделяли первому, а Никсон и Киссинджер – последнему, но обнадеживание и взаимодействие одинаково важны, а здравое суждение – необходимая предпосылка правильного сочетания этих двух составляющих.
Одна из причин дурной репутации режима экономии в том, что картину часто смазывают другие факторы, такие как бюрократия и внутренняя политика, которые вынуждают Вашингтон сокращать не те статьи, и притом неверными способами, либо мешают ему понимать новые вызовы и возможности и оперативно реагировать на них. Битвы за место под солнцем и недоверие, а также технические сложности переориентации такого гигантского предприятия, как американская политика в сфере обороны и безопасности, часто мешают тщательному, комплексному планированию. Но в благоприятные для экономики времена это случается даже чаще, чем в эпоху экономического кризиса.
Правда в том, что необходимость экономии, с которой сегодня сталкивается Пентагон, не столь критична. В настоящее время США тратят больше на армию, чем все их геополитические конкуренты вместе взятые, и эта ситуация сохранится и после вынужденных сокращений. Расходы на оборону не будут кардинально урезаны, а лишь немного уменьшены – или просто будут медленнее расти. Эти перемены не должны стать поводом для отчаяния; скорее их следует воспринять как стимул для повышения эффективности, укрепления творческой составляющей, большей дисциплинированности и, что самое главное, благоразумия. Режимы экономии прошлых лет заставили официальные круги признать, что главный источник государственной безопасности – это жизнеспособная национальная экономика, действующая в условиях открытого мирового порядка, а вовсе не военная сила или ее необдуманное использование. Было бы неплохо сегодня повторить и усвоить этот урок.
Мелвин Леффлер – профессор истории в Университете Вирджинии и сотрудник Центра Миллера. В соавторстве с Джеффри Легро написал книгу «В неспокойные времена: Американская внешняя политика после Берлинской стены и 9/11».

Размышления об общности
Чем похожи Россия и США
Резюме У американцев и россиян есть особое общее чувство – ощущение пространства и природного разнообразия, свойственное большим странам, о котором более 200 лет назад писал Алексис де Токвиль. Даже в период эскалации холодной войны явственно ощущалось уважение к достижениям друг друга.
Статья представляет собой сокращенную версию работы «Common Interests of the United States and Russia: A Reflection», опубликованной в журнале American Foreign Policy Interests, № 2, 2013.
Пресса в Соединенных Штатах и России склонна педалировать разногласия между двумя державами. Однако есть сущностные моменты, которые сближают две страны. В список можно включить следующее: 1) общие европейские корни; 2) принятие, несмотря на критику, «американского образа жизни»; 3) глубокое взаимное уважение сторон независимо от возникающих конфликтов интересов; 4) желание ограничить распространение ядерного оружия; 5) решимость остановить рост исламского фундаментализма; 6) понимание необходимости не допустить превращения экономической экспансии Китая в геополитическое преимущество в ущерб России или США; 7) стремление сохранить политическую и экономическую стабильность в Европе; 8) миграционные проблемы и, наконец, 9) мультиэтническая природа общества в обеих странах.
Европейские корни
Споры о роли и значимости европейских корней характерны и для американского, и для российского общества. Соединенные Штаты основаны эмигрантами из Европы, которые перенесли на новый континент европейский образ жизни, хотя при этом стремились положить конец так называемым «несправедливостям старого мира» – от ущемления свободы вероисповедания до классовых привилегий. Россия также была форпостом европейской цивилизации, однако исполнение этой роли ограничивалось отчуждением между византийской православной церковью и Римом, различием исторического пути – Россия не прошла этапы Возрождения и Просвещения, разъединяющим фактором служила также русская тенденция рассматривать абсолютизм как способ избежать хаоса. Все это привело к тому, что между авторитарной православной Россией и тем, что в России принято называть «Западом», возникло расхождение.
Однако Европа оставалась эталоном и для США, и для России. Америка усвоила английский язык, английские правовые и административные нормы, переняла европейскую систему образования, моду и социальные отношения. В России европейским образом жизни восхищались по крайней мере с середины прошлого тысячелетия. Иностранные языки становились модными среди российской элиты как проводники европейской цивилизации. В XVII веке это был польский, при Петре I – немецкий, с начала XIX века – французский и, наконец, в XX столетии – английский. Столкновение прозападных и антизападных тенденций в России имеет давнюю историю, которая началась задолго до появления в XIX веке терминов «западники» и «славянофилы». Иван Грозный и Николай I были приверженцами исконных традиций, а Петр I, Екатерина II и Александр I, напротив, ориентировались на западные.
Два случая американского вмешательства в дела Европы (Первая и Вторая мировые войны) были обусловлены прочными связями со старым континентом, хотя изоляционистские тенденции возникли на основе идеи о том, что Соединенные Штаты уже ничего не объединяет со Старым Светом.
Сегодня в России и США заметна тенденция отрицать особые связи с Европой. Владимир Путин не раз говорил, что Россия – часть Европы и потому претендует на полноправное партнерство в европейских делах, но в последнее время он склоняется к славянофильским по существу идеям о российской исключительности, обусловленной религией и имперским прошлым. В послании Федеральному собранию 2012 г. Путин подчеркнул, что в XXI веке «вектор развития России направлен на Восток», и цитировал Александра Солженицына и Льва Гумилева – двух сторонников особого пути.
В Соединенных Штатах налицо мощная тенденция, в соответствии с которой будущее страны видится сквозь призму Тихоокеанского региона, а не Атлантического – дескать, люди европейского происхождения скоро станут меньшинством и их влияние уменьшится, и, соответственно, ослабеют связи с Европой.
В России эти настроения в значительной степени обусловлены политической целесообразностью и общей привлекательностью националистических идей. В США другие мотивы – торжество «политкорректности» требует подчеркнутого внимания к согражданам неевропейского происхождения.
Россия и Соединенные Штаты испытывают схожие трудности в определении значимости европейского влияния на свои страны в прошлом и настоящем. Очевидно одно: независимо от того, что говорят или пишут сегодня, «новый мировой порядок» без евроцентричного прошлого, за который выступают развивающиеся нации, на самом деле неприемлем ни для Москвы, ни для Вашингтона.
Американский образ жизни
Привлекательность внешних проявлений американского образа жизни в некоторой степени сближает американский и российский взгляд на мир. Западная демократия, верховенство закона, уважение прав граждан привлекают российских либеральных интеллектуалов, однако для большинства россиян главной целью является именно американское общество потребления во всех его аспектах, некоторые из которых оспариваются даже самими американцами. И с этим Кремль в постсоветский период никогда не осмеливался бороться. Возможность обогащаться, покупать, потреблять, инвестировать, ездить за границу, иметь частную собственность и передавать ее своим детям – все это долго отрицалось советским режимом, а сегодня считается ключевыми элементами свободы и главным ее мерилом. Сам Путин признает, что после советского периода граждане России прошли через этап восстановления значимости своих частных интересов. Российское общество полностью приняло американскую идею «свободы выбора», но россияне, как и многие американцы, ограничивают ее «потребительской свободой», не уделяя особого внимания политическим аспектам.
То, что обычно называют американским образом жизни, – это современный способ существования в любой индустриально развитой стране. Поскольку многие его компоненты появились именно в США, слова «современный» и «американский» стали синонимами, когда речь идет о джинсах, кроссовках, фастфуде, смартфонах и веб-браузерах, поп-культуре и т.д.
Взаимное уважение
Что касается имиджа своей державы, который сложился у граждан двух государств, – сходства очевидны. И в России, и в Соединенных Штатах люди привыкли воспринимать свою родину как целый континент, а не просто страну. Вот как поется в двух песнях, советской и американской: «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей...» и «От гор до прерий, от моря до моря…». Это пример подлинного параллелизма национальных мировоззрений. У американцев и россиян есть особое общее чувство – ощущение пространства и природного разнообразия, свойственное большим странам, о котором более 200 лет назад писал Алексис де Токвиль. Даже в период эскалации холодной войны явственно ощущалось уважение к достижениям друг друга. В США высоко оценивали не только воинскую доблесть и научные достижения России, но и театр, музыку, литературу, образование и т.д. А в России, независимо от того, что выдавала пропагандистская машина, «догнать и перегнать» предлагалось именно Америку. Хотя в тот период уровень жизни в России был ниже, чем в странах Варшавского договора.
Оружие массового уничтожения
Среди национальных интересов, которые объединяют США и Россию, особое место занимает стремление ограничить распространение ядерного оружия. Обе державы накопили его более чем достаточно и не склонны открывать другим государствам доступ к нему. Российско-американское сотрудничество в этой сфере было особенно продуктивным в постсоветский период, когда бывшие республики Союза ССР, на территории которых осталось ядерное оружие (в первую очередь Украина и Казахстан), согласились передать свои арсеналы Российской Федерации. Вашингтон поддержал такой шаг дипломатически и финансово, а дальнейший процесс сокращения ядерного оружия занял годы. Владимир Путин отказался от сотрудничества с США в этой сфере только в 2012 году.
В ситуации с Ираном Россия играет двойственную роль: она поставляет Тегерану оборудование и материалы для развития атомной энергетики, но ее тревожит перспектива обретения им ядерного оружия. Это опасная игра, так как одно может стать следствием другого. В остальном Москва активно сотрудничает с Вашингтонам в вопросах нераспространения, в частности, пытаясь остановить трафик ядерных и других материалов для производства оружия массового поражения. Россия действительно обеспокоена тем, что смертоносное средство попадет в руки террористов, в частности тех, кто заинтересован в дестабилизации Центральной Азии, – и Соединенные Штаты разделяют эту озабоченность.
Исламский фундаментализм
Общее для США и России стремление остановить распространение исламского фундаментализма стоит рассматривать на примере сотрудничества по Северной распределительной сети – маршруту снабжения американских войск в Афганистане через Россию и Центральную Азию. До сих пор Москву не слишком тревожило присутствие американских баз и транспортировка военных грузов через российскую территорию. Но ее беспокоит перспектива сохранения американских объектов в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана.
Неопределенность ситуации, которая сложится после 2014 г., создала проблемы для всех заинтересованных сторон. Многие страны, в том числе те, кто высказывал недовольство по поводу присутствия Соединенных Штатов, сегодня озабочены уходом американцев и заявляют что-то вроде «вы заварили эту кашу, а теперь нас здесь бросаете». Россия и все центральноазиатские республики предпочли бы, чтобы США остались. Иран не желает допустить победы «Талибана» и, скорее всего, будет стараться сохранить режим Хамида Карзая. Только Пакистан может выиграть в случае вывода американских войск, хотя и это сомнительно, потому что, если в Афганистане возникнет хаос, он распространится во всех направлениях, не только на север. Беспокоит, что у Вашингтона, по-видимому, нет разработанной политики в отношении Центральной Азии на период после вывода войск, и Соединенные Штаты будут действовать по ситуации. Москва, в свою очередь, хотя и разделяет американскую тревогу, не может удержаться от злорадства, так как США, как и Советский Союз, не преуспели в попытках навязать афганцам то, что им совершенно безразлично (будь то коммунизм или демократия).
Экономическая экспансия Китая
Феноменальный рост китайской экономики и, как следствие, увеличение влияния и значимости КНР явлются предметом беспокойства и России, и США. Обе страны прекрасно осознают возможные вызовы и не хотят столкнуться с ними лицом к лицу, так как с Китаем их многое связывает. Кроме того, ни Соединенные Штаты, ни Россия не хотели бы втянуть Пекин в противостояние. В Вашингтоне понимают, что растущий торговый дефицит с КНР неприемлем, а бесконечное заимствование у него опасно, в то время как доступ на китайские рынки остается ограниченным. Более того, политика Пекина в Южно-Китайском море становится все более напористой, а позиция на международной арене – менее дружественной. В свою очередь, в Москве отдают себе отчет в том, что коммерческая деятельность Китая в пяти центральноазиатских республиках оттесняет Россию на второй план. То же касается региональных организаций, например, Шанхайской организации сотрудничества, где Китай уже играет ведущую роль. Кроме того, китайские мигранты (легальные и нелегальные) все более активно присутствуют в экономике Сибири. Идея о том, что небольшому российскому населению на Дальнем Востоке противостоит в десять раз большее число китайцев через границу, пугает не только демографов.
Официальная Москва игнорирует эти проблемы, говоря только о сотрудничестве с КНР (включая общую позицию по Ирану и Сирии в ООН) и взаимовыгодной торговле (российские энергоресурсы и сырье в обмен на китайские потребительские товары). Но часто повторяемые уверения, что экономическое продвижение Пекина не вызывает беспокойства и в российско-китайских отношениях все замечательно, производят противоположное впечатление – ощущается озабоченность по поводу китайской экспансии. У США похожая ситуация складывается в Тихоокеанском бассейне, но проблема обсуждается более открыто. Продажа оружия соседям Китая и усилия по укреплению региональных альянсов откровенно признаются, так же как и пока безуспешные попытки сократить торговый дефицит, уменьшив объем заимствований у Китая. Что касается российско-американского сотрудничества по китайской проблематике, то в будущем оно неизбежно, особенно если Пекин не начнет учитывать интересы других сторон.Стабильность в Европе
Москва и Вашингтон заинтересованы в стабильности и благополучии Европы. Евросоюз – ключевой деловой партнер и для России, и для США и самый близкий по культуре регион для обеих держав (какие бы заявления ни делались). Старый Свет остается крупнейшей экономической силой в мире. Лондон – по-прежнему влиятельнейший финансовый центр, немецкая тяжелая промышленность производит товары, которые покупают во всем мире, французская мода и косметика являются символами роскоши, а гастрономия остается непревзойденной. Подтверждением этого служат расходы российского олигарха или состоятельного американца. Правительства в Москве и Вашингтоне не просто заинтересованы в мире и процветании Европы, они готовы активно этому содействовать. В конце концов, обе страны не раз приходили на помощь Европе в прошлом. Известна роль, которую сыграла Россия в XIII веке, остановив орды монголо-татар и защитив остальную Европу. В современный период Россия объединялась с Великобританией и объявляла войну тем, кто хотел завоевать европейский континент, будь то Франция при Наполеоне или Германия в Первой и Второй мировых войнах. Со своей стороны, Соединенные Штаты после ослабления Британской империи взяли на себя роль стража морей и пришли на помощь в мировых войнах.
Самым тяжелым периодом российско-американских отношений была холодная война, которая длилась 45 лет. В этот период Вашингтон и Москва избегали прямых вооруженных конфликтов в Европе, но вели борьбу друг с другом в Азии и Африке, используя третьи страны. Во время Карибского кризиса Никита Хрущев ясно дал понять Фиделю Кастро, что СССР не будет ввязываться в войну с США. Вооруженные конфликты шли в Анголе, Конго, Корее, Вьетнаме и других странах во имя социализма – с советской стороны, во имя сдерживания советской экспансии – с американской. Во время блокады Берлина стрельбы не было, Соединенные Штаты не вмешивались в события в Будапеште и Праге. Правительства обеих стран не были готовы к прямой конфронтации и не хотели подрывать статус-кво в Европе. Стороны уважали существующие конфигурации сфер влияния, а послевоенные границы в Европе были подтверждены Хельсинкскими соглашениями в 1975 году. Только распад СССР, который привел к радикальному изменению баланса сил, позволил государствам Центральной и Восточной Европы перейти на другую сторону – из умершего Варшавского блока в НАТО. Но сейчас, когда Россия восстановилась, она не настроена нести дальнейшие потери (пример – российско-грузинский конфликт 2008 года).
Ситуация не особенно изменилась сегодня, кнопка «перезагрузки» между Москвой и Вашингтоном пока не работает так, чтобы все были довольны, а Евросоюз в целом не испытывает особых трудностей в отношениях с Россией и США. Внутри ЕС Берлин, Париж и Рим поддерживают тесные связи с Москвой, в то время как у Лондона прочные трансатлантические отношения. Поведение бывших стран Варшавского блока и государств Балтии, которые покинули сферу российского влияния более 20 лет назад, все еще вызывает обиду (хотя и все меньше с каждым годом).
Все трения между Америкой и Европой имеют краткосрочный и ограниченный характер. Еще до войны в Ираке, во время горячих споров с Францией в ООН по поводу наличия у Саддама Хусейна ядерных материалов, постпред Франции в ООН назвал разногласия «спором друзей», а недовольство позицией Парижа в США выразилось в появлении «картофеля свободы», который на короткое время заменил «французский» картофель (French fries) в американских фастфудах.
Миграционные проблемы
Сходство российской и американской ситуации в сфере миграции редко обсуждают. В Соединенных Штатах это иммигранты из Латинской Америки и Азии, в России – выходцы с Кавказа и из Центральной Азии, а также китайцы в Сибири. Проблемы, стоящие перед Россией и США, похожи: рост нелегальной иммиграции и отсутствие четкой политики для управления ситуацией; медленная ассимиляция преимущественно экономических мигрантов, включая отказ учить язык принявшей их страны; а также нежелание коренного населения принимать чужаков. Масштабы иммиграции похожи: Соединенные Штаты занимают первое место в мире по приему иммигрантов, Россия – на втором месте, опережая Германию.
Разница в подходе к проблеме в основном связана со стилем дискуссий. Россия выбирает более жесткий подход, настаивая на владении русским языком и уважении традиций принимающей страны, но не предпринимая действий в пользу мигрантов. Россию и США объединяет и то, что реальность, определяемая многими факторами – некоторые из которых стараются не обсуждать, – кардинально отличается от официальной картины, а правительственные директивы, призванные навести порядок, не всегда реализуемы.
Многонациональность
Многонациональная природа американского и российского общества обусловила создание союзов (Советского Союза, Соединенных Штатов с федеральным правительством), империй (империя Романовых) и федераций (Российская Федерация), а не национальных государств. Термин «российский» (как противоположность понятию «русский» или «этнический русский») возник столетия назад для определения многонациональной Российской империи.
В последние годы Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изначально русские люди собирали вокруг себя менее крупные народы, которые связывали свою судьбу с Россией. Часто говорят, что русское национальное самосознание сформировалось позже имперского, а русские не представляли свою родину отдельно от земель других этнических групп, которые стали частью империи, начиная с финских племен, населявших территории от современной Москвы до Мурманска и Архангельска еще во времена Киевской Руси. То же самое можно сказать и о США, где 16 языков, на которых говорили на Манхэттене в XVII веке, были зарегистрированы задолго до появления гражданских прав. Затем последовали многочисленные волны иммиграции, особенно начиная с XIX века. Массовое появление чужаков на территории Великобритании, Франции и Германии, напротив, произошло после Второй мировой войны, несмотря на колониальное прошлое этих держав.
Основное различие многонационального характера России и Соединенных Штатов заключается в том, что нерусские народы появились в России в результате присоединения их земель, в то время как не англосаксы прибыли в Америку на кораблях (добровольно или по принуждению, как в случае с рабами) – так же, как и англоговорящие иммигранты. Как следствие, среди нерусских растет сепаратизм, что беспокоит Кремль. В свою очередь, США никогда не сталкивались с сепаратизмом, обусловленным желанием неанглосаксов создать собственную страну. Внутри американской компартии шла дискуссия о предоставлении чернокожим собственного государства в пяти южных штатах, но эта идея не получила серьезной поддержки среди афроамериканцев. С чеченским стремлением к независимости, напротив, пришлось бороться силой и не так давно, в то время как сепаратизм среди многих мусульманских групп на Северном Кавказе и на Волге продолжает беспокоить Владимира Путина.
* * *
Любой рациональный подход к российско-американским отношениям должен учитывать, что с распадом Советского Союза исчезла главная причина для конфликта, а именно противоборствующие идеологические лагеря, которые по определению должны ссориться друг с другом. С точки зрения Кремля, причиной нынешних разногласий является американская позиция, согласно которой США как единственная супердержава может делать все что угодно, в том числе на российском «заднем дворе», – и для России, остающейся великой державой, это неприемлемо. Вступление России в ВТО и отмена устаревшей поправки Джексона–Вэника могли бы способствовать усилиям по «перезагрузке», но принятый параллельно «Акт Магнитского» свел на нет достигнутый прогресс. В свою очередь, Вашингтон воспринимает Россию как закоренелого рецидивиста, который не хочет отказываться от старых понятий о сферах влияния, создает другим ненужные препоны ради поддержания собственного престижа и продолжает нарушать права человека.
Обеим сторонам не хватает осознания того факта, что, поскольку причин для взаимопонимания гораздо больше, чем поводов для конфронтации, пришло время разделить краткосрочные выгоды и долгосрочные преимущества, которые можно получить благодаря сотрудничеству.
Майкл Рывкин – почетный профессор Городского университета Нью-Йорка, автор многих книг о Советском Союзе и России.

Как провожают пароходы
Морские конфликты в Восточной Азии и угроза миропорядку
Резюме Деструктивный потенциал морских конфликтов больше, нежели наземных. Военно-морскими флотами, менее многочисленными, чем сухопутные силы, можно контролировать большие территории и достигать более амбициозных целей, в том числе геополитических.
Тенденция, набирающая силу в Восточной Азии, вызывает серьезную обеспокоенность – напряженность вокруг островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях таит опасность перерастания в полномасштабный вооруженный конфликт. К числу системных факторов, негативно воздействующих на ситуацию в Восточной Азии, относится неурегулированность вопроса о морских границах и линиях разграничения исключительных экономических зон (ИЭЗ). Если сухопутные границы между государствами за редким исключением достаточно давно демаркированы и закреплены международными соглашениями, то морские в значительной степени остаются неопределенными. По некоторым оценкам, около половины протяженности существующих морских границ являются спорными.
Вода опаснее суши
В постбиполярную эпоху в характере и формах территориальных споров произошел качественный сдвиг. Сдерживающий момент, связанный с вовлеченностью большинства стран Восточной Азии в орбиту ядерного противостояния сверхдержав, отошел на задний план. Освободившись от «привязки» к одному из двух противостоящих лагерей, государства региона теперь существенно меньше руководствуются соображениями мирополитического контекста и больше – собственными интересами, в том числе внутриполитическими, часто эгоистическими и игнорирующими требования международной безопасности.
Между тем деструктивный потенциал морских конфликтов больше, нежели сухопутных. В мире устоялась точка зрения, согласно которой захват чужих территорий военным путем и их удержание оккупационными войсками в современную эпоху неприемлемы, так как чреваты не только многочисленными человеческими жертвами, но и перерастанием в полномасштабный ядерный конфликт. Для Восточной Азии, кроме того, особое значение имеет тот факт, что на фоне сложной и во многом запутанной ситуации с военно-блоковой системой безопасности в сухопутный конфликт с большей вероятностью могут быть втянуты ядерные державы, даже не являющиеся участниками морских споров.
В противоположность этому «битва на море» не столь разрушительна, но в чем-то более эффективна – военно-морскими флотами, менее многочисленными, чем сухопутные силы, можно контролировать большие территории и достигать более амбициозных целей, в том числе геополитических.
К тому же в морской войне используются средства «двойного назначения», включая рыболовецкий и промысловый флот, корабли береговой охраны, исследовательские суда и т.д. К подобной тактике, кстати, прибегает Китай, активно применяющий альтернативные формы «псевдовоенного» давления в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Кроме того, действия на море не обязательно сопровождаются постоянным военным присутствием – во многих случаях для достижения цели достаточно лишь демонстративно зайти в чужую акваторию.
О широком распространении указанной точки зрения в политической и военной элитах стран Восточной Азии свидетельствует ее активное применение на практике – в регионе набирает обороты гонка военно-морских вооружений, заметно превосходящая процесс наращивания сухопутных сил. В 2013 г. на воду спущен первый авианосец ВМС Китая, проходящих период активной модернизации. К 2020 г. Китай примет на вооружение 70 обычных и атомных ударных подводных лодок, 84 эсминца и фрегата, два авианосца и ряд других боевых кораблей и катеров. От Китая не отстают и соседние страны – Япония, Южная Корея, Вьетнам, Филиппины, Индонезия.
Гонка военно-морских вооружений, подстегиваемая периодическим обострением напряженности вокруг спорных территорий, ведет к усугублению вооруженной конфронтации, снижению уровня международной безопасности и повышению риска неспровоцированного вооруженного конфликта. Возникает порочный круг. С одной стороны, напряженность в связи с территориальными конфликтами в Южно- и Восточно-Китайском морях, сохраняющаяся на протяжении многих десятилетий, не позволяет нормализовать отношения между государствами. С другой стороны, проблемы морских границ невозможно решить в отсутствие спокойной и доброжелательной обстановки и на фоне взаимного недоверия.
Особенность морских конфликтов в Восточной Азии последнего времени заключается также в том, что на них, как правило, наслаивается гораздо более широкий комплекс проблем, нежели вопросы размежевания территорий и экономических зон. Речь идет в первую очередь об исторических претензиях, связанных с болезненными воспоминаниями колониального прошлого и периода Второй мировой войны. Свою роль играют и факторы геополитического и экономического соперничества, в ходе которого существенно меняется общая расстановка сил – державы, прежде сохранявшие экономическое и военное лидерство, уступают позиции конкурентам. Так, по мере относительного усиления Китая размываются региональные позиции США, Японии, да и России, в результате чего в региональной повестке дня появляются новые акценты. Например, когда КНР была относительно слаба экономически, вопросы суверенитета не выходили на передний план ее политики по отношению к соседям, преобладали мотивы экономического сотрудничества. Однако по мере роста совокупной мощи Пекин стал активно выдвигать территориальные претензии.
Ситуация осложняется тем, что во многих, казалось бы, двусторонних конфликтах на деле участвуют несколько акторов. Все чаще трения становятся выражением геополитического противостояния США и их союзников, с одной стороны, и Китая – с другой. Подобная биполярность воспроизводит ментальные стереотипы холодной войны, которые по-прежнему сильны во внешнеполитическом истеблишменте как Китая, так и Соединенных Штатов. Не только военные, но и дипломаты, политики, лидеры общественного мнения двух государств продолжают искренне верить в cуществование «врага», любые действия которого подчиняются логике «игры с нулевой суммой» и представляют угрозу национальным интересам.
Поиск разрешения морских споров обременен тем, что морские границы регулируются различными видами законодательства, и во многих случаях допускают разную трактовку. Так, Конвенция ООН по морскому праву, вступившая в силу в 1982 г., позволяет провести разграничение исключительных экономических зон как по срединной линии, так и по линии шельфа, что фактически перекладывает бремя ответственности на международные судебные органы. Между тем страны Восточной Азии неохотно идут на рассмотрение территориальных проблем в судах, например, в Международном суде ООН. Связано это с тем, что Международный суд ООН отдает приоритет существующей договорной базе, которая в регионе практически отсутствует. В этом случае на первый план выходят такие моменты, как наличие и продолжительность эффективного административного контроля над спорными территориями, факты, свидетельствующие об их экономическом освоении, и, в меньшей степени, чисто географические показатели (методы определения срединной линии, целостность хребтов, архипелагов, шельфов и проч.).
Однако большинство государств – участников конфликтов предпочитают оперировать аргументами, связанными с историческими правами той или иной нации. В ход идут, например, старые карты, созданные еще до заключения первых договоров о границе, исторические хроники и т.д. К таковым, в частности, относятся «линия девяти пунктиров» на тайваньских картах 1947 г., по которым практически вся акватория Южно-Китайского моря относится к Китаю, или старые хроники, свидетельствующие о включении архипелага Сэнкаку/Дьяоюйдао в зону экономических интересов Китая еще четыре столетия назад. Подобные же аргументы нередко выдвигают Россия и Япония в диспуте о «северных территориях». Необходимо учесть, однако, что такие доводы не имеют правовых последствий и оказывают, скорее, морально-психологическое воздействие, создавая соответствующий настрой общественного мнения.
Катализатором конфликтов служат и внутриполитические соображения. Нередко провоцирующим фактором выступают медиа, раздувающие из искры локальных, зачастую малозначимых инцидентов пламя националистических эмоций. Иногда правительства, неспособные справиться с насущными социально-экономическими проблемами и испытывающие дефицит внутренней поддержки, подогревают интерес к территориальным спорам, надеясь заработать дополнительные очки. Ситуация в ряде случаев усугубляется тем, что власти проявляют чрезмерную мягкость и не могут взять кризисную ситуацию под контроль. Даже небольшие стычки, происходящие против воли администрации (например, высадки националистических групп на острова), могут легко перерасти в полномасштабное военное противостояние.
Поиску взаимоприемлемых решений препятствуют соображения государственного престижа. Многие региональные лидеры опасаются, что любая уступка или даже отход от жесткой позиции будут восприняты как проявление слабости, причем в глазах не только и не столько вовлеченного в конфликт государства, сколько третьих стран. Боязнь «эффекта домино» провоцирует неуступчивость даже в том случае, когда проявление гибкости ради стратегических интересов добрососедства вполне возможно. В результате территориальный вопрос сохраняет конфронтационный потенциал, оставаясь постоянным источником нестабильности.
А ведь на кону не столько сами территории, представляющие собой во многих случаях лишь скалы посреди океана, сколько колоссальные экономические богатства – морепродукты, углеводороды, различные рудные ресурсы и т.д. Конфронтационная составляющая споров не позволяет его участникам (в том числе и тем, под чьим контролем находится та или иная территория) осуществлять проекты экономического освоения на спорных территориях, даже если одна из сторон не признает самого факта наличия подобного спора. При этом оглядываться на реакцию сторон конфликта вынуждены и третьи страны, которые могли бы принять участие в реализации того или иного экономического начинания. Например, Россия волей-неволей должна думать о том, как КНР отреагирует на участие российских компаний в совместных с Вьетнамом проектах освоения нефтяных ресурсов в Южно-Китайском море. Это, в свою очередь, отдаляет перспективы успеха, нанося прямой ущерб всем участникам противостояния.Лучше доброй ссоры?
Между тем основные государства региона постепенно приходят к заключению о необходимости налаживания механизмов урегулирования споров. В 2013 г. произошли определенные сдвиги. Надежду у многих вызвала в июне встреча в Калифорнии президента США Барака Обамы и председателя КНР Си Цзиньпина, которая длилась рекордные восемь часов. Между Соединенными Штатами и Китаем заработали несколько диалоговых форматов (например, стратегический и экономический диалог), где обсуждаются проблемы Корейского полуострова, кибербезопасности, взаимных инвестиций. Однако по-прежнему повисает в воздухе ключевой вопрос о том, удалось ли политическому руководству двух стран достигнуть договоренности, пусть неформальной, относительно предотвращения неконтролируемого развития ситуации в Восточно-Китайском море.
Конфликт вокруг островов Сэнкаку/Дьяоюйдао требует, безусловно, особого внимания. Это связано и с огромным значением японо-китайских связей в региональной системе международных отношений, и с гигантским деструктивным потенциалом, который таит в себе данный конфликт для региональной стабильности. Ясно, что спор не имеет перспектив решения в обозримом будущем, поскольку ни одна из сторон, скорее всего, не смягчит позицию. Маловероятным представляется даже то, что Токио признает территориальную проблему как таковую.
Между тем конфликт уже перерос в стадию, когда многое будет зависеть не только от политической воли руководства, но и от выдержки и хладнокровия военного командования, в том числе среднего звена. Вооруженное столкновение может случиться совершенно неожиданно. В январе 2013 г. японская сторона обвинила Пекин в использовании боевого радара, который, по ее утверждению, был наведен китайским военным кораблем на японский сторожевой катер. Активное применение обеими сторонами беспилотников для контроля воздушного пространства спорных территорий создает опасность неспровоцированного столкновения в результате сбоя техники.
Новый виток напряженности начался в октябре 2013 г., когда правительство Китая объявило о создании «зоны воздушной обороны» над широкими акваториями Восточно-Китайского моря, в том числе и над спорными островами. Пекин потребовал, чтобы в МИД КНР заблаговременно представлялись полетные планы, а экипажи судов находились на связи в момент прохода над указанной зоной. В ответ японские авиакомпании JAL и ANA заявили об отказе подчиняться предписаниям китайской стороны, хотя несколько авиакомпаний третьих стран взяли под козырек. 26 ноября в эту зону без предварительного уведомления демонстративно вошли два стратегических бомбардировщика США. В игру активно включился Сеул, заявивший свои претензии к соседям в связи с тем, что, по его мнению, на акватории, которые он считает своими, накладываются зоны ответственности Токио и Пекина.
Ясно, что джинна уже не загнать обратно в бутылку. По всей видимости, в дальнейшем для Китая патрулирование вокруг Сэнкаку станет рутинной практикой, а Японии придется если не смириться с этим, то привыкнуть к постоянному китайскому присутствию в спорных акваториях. Таким образом, вопрос в том, как наладить механизмы предотвращения эскалации напряженности, сопровождающей эту практику, в стадию вооруженного конфликта.
Ясно, что механизмы пока несовершенны. Их лишь предстоит выработать, причем не на двустороннем, а на многостороннем уровне. Новый «кодекс поведения» может включать пункты, согласно которым в спорные воды с обеих сторон не будут допускаться любые боевые единицы регулярных вооруженных сил. Примечательно, что китайцы пока проводят патрулирование кораблями береговой охраны, которая с недавних пор взяла на себя функции контроля над морским промыслом, океанографическими исследованиями, таможенной службой и пограничной охраной. Именно это ведомство становится ключевым агентом КНР в реализации политики в отношении Сэнкаку.
Кроме того, речь может идти о недопущении на спорные острова, причем как с китайской, так и с японской стороны, членов националистических организаций. Опыт прошлого показывает, что высадки националистов сопровождаются риском прямых стычек с японской береговой охраной. Если столкновение повлечет за собой человеческие жертвы, это неизбежно вызовет новый всплеск враждебности, что многократно повышает вероятность конфронтации (в том числе военной), поскольку японские и китайские руководители находятся, пусть и в разной степени, в зависимости от общественного мнения. Недавние опросы показали, что около 90% граждан Японии и Китая негативно относятся к стране-партнеру.
О стремлении японской стороны наладить подобные механизмы свидетельствует упорство и настойчивость, с которыми Токио летом 2013 г. добивался от китайцев согласия на встречу на высшем уровне. Несмотря на продолжавшуюся практику нарушения морского пространства вокруг спорных островов китайскими кораблями береговой охраны, визиты токийских эмиссаров в Пекин следовали один за другим. Премьеру Синдзо Абэ даже пришлось наступить на горло собственной песне и воздержаться от посещения храма Ясукуни 15 августа, когда в Японии вспоминают окончание Второй мировой войны. Однако единственным результатом всех усилий стала короткая неформальная беседа между лидерами двух стран в сентябре 2013 г. на полях саммита «двадцатки» в Санкт-Петербурге.
Для Китая, который также понимает важность снижения конфронтационного настроя в отношениях с Токио, согласие на встречу в верхах, тем не менее, становится своего рода разменной монетой. КНР неоднократно заявляла о том, что главным условием проведения саммита является признание Японией проблемы Сэнкаку как таковой. В Пекине понимают, что Токио не может пойти на такой шаг по принципиальным соображениям – это подорвало бы его позиции в споре. Однако у Китая появляется возможность, решившись на «уступку» (например, согласившись на саммит без выполнения японской стороной указанного условия), добиться преимуществ на других направлениях.
Немалое значение будет иметь ситуация вокруг нефтяных месторождений, расположенных вдоль срединной линии между исключительными экономическими зонами двух стран. В 2008 г. Япония и Китай договорились начать совместное освоение шельфа, однако соглашение не воплотилось в жизнь. Если кто-либо начнет разработку явочным порядком, действуя со своей стороны срединной линии, это будет воспринято по другую ее сторону как пощечина, что немедленно приведет к новому витку эскалации напряженности.
Россия постоянно обращает внимание на то, что только многосторонний режим с участием всех стран региона приведет к снижению уровня общей напряженности и структурной нестабильности в Восточной Азии. Стоило бы подумать о системе перекрестных договоров между всеми странами региона, которые позволяли бы контролировать выполнение обязательств другими участниками. Кстати, это позволит малым и средним странам чувствовать себя в большей безопасности и не прибегать к услугам крупных военных держав для обеспечения ее гарантий. Иными словами, многосторонний подход является залогом предотвращения углубления военно-политического противостояния на блоковой основе.
Д.В. Стрельцов – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России.
Правительство Японии заявило о намерениях поставить Вьетнаму патрульные суда на фоне осложнения территориальных споров двух стран с Китаем, а также в связи с недавним заявлением Пекина об установлении опознавательной зоны ПВО над Восточно-Китайском морем, сообщило в воскресенье агентство Jiji.
Кроме этого, Япония намерена предоставить Вьетнаму заем в размере 96 миллиардов иен (927 миллионов долларов) на развитие транспортной инфраструктуры и расширение морских портов.
"Сотрудничество наших стран особенно важно для мира и стабильности в регионе, и особенно важно для поддержания в порядке судоходства и международных авиаперевозок", - цитирует, в свою очередь, агентство Киодо слова японского премьер-министра Синдзо Абэ.
Особый саммит Японии и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проходит в Токио в честь установления 40-летия отношений Страны восходящего солнца с этой организацией. В рамках саммита японский премьер проведет встречи с лидерами 10 стран-участниц АСЕАН. Екатерина Плясункова.
РСПП оценил проект судовых правил пересечения границы
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре проанализировала проект новых правил для неоднократного пересечения границы промысловыми судами. В документе обнаружились прежние пробелы и новые административные барьеры для «прибрежки».
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил председателю Правительства Дмитрию Медведеву заключение Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. Комиссия оценила проект постановления о порядке получения разрешения на неоднократное пересечение государственной границы российскими рыбопромысловыми судами.
Как сообщает корреспондент Fishnews, отраслевые специалисты отметили, что в документе не отражена необходимость устранения существующих пробелов. Как и действующая редакция Правил, проект в качестве основания для отказа в выдаче разрешения рыбопромысловым судам на неоднократное пересечение границы устанавливает следующее условие: «если район добычи водных биоресурсов находится в пределах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации» (пп. «г» п. 7 проекта Правил). Таким образом, из сферы регулирования по-прежнему выпадают две категории субъектов рыбохозяйственной деятельности, имеющие потребность в регулярном сбросе сточных вод в исключительной экономзоне РФ. Первая категория - организации, использующие рыбопромысловые суда для приемки лосося и весенней нерестовой сельди со ставных неводов и их переработки на борту для дальнейшей транспортировки на российский берег. Также из правовых норм оказываются исключенными организации, ведущие промысел только в пределах морских вод и территориального моря РФ.
По мнению Комиссии РСПП, такая дискриминация «приводит к невозможности исполнения международного и национального законодательства, является причиной массового административного преследования пограничными органами судовладельцев-прибрежников и наложения многомиллионных штрафов на них и капитанов судов, осуществляющих сброс сточных вод и отходов без процедуры оформления «закрытия границы».
Авторы заключения отмечают, что проект новых Правил не только не устраняет, но и еще более укореняет необоснованные административные барьеры в прибрежном рыболовстве.
В частности, в п. 7 проекта добавлено новое ограничение: на получение разрешения не сможет претендовать организация, допустившая нарушение законодательства о госгранице в течение года до даты обращения за получением разрешения. «Учитывая сложившуюся практику взаимодействия пограничных органов с российскими рыбодобывающими организациями, слабую профилактику правонарушений в сфере соблюдения пограничного режима, полагаем, что данная норма сделает практически недоступным упрощенный механизм пересечения госграницы для большинства рыбохозяйственных предприятий», - комментируют в РСПП.
Также проект предусматривает установление необоснованно продолжительного срока для принятия погранорганом решения о выдаче разрешения (7 рабочих дней согласно пункту 5), оформления и выдачи заявителю (3 рабочих дня согласно пункту 8). «Затягивание административного регулирования в сфере рыбохозяйственной деятельности не соотносится с ограниченными сроками навигации в прибрежном рыболовстве, может причинить социально-экономический ущерб участникам промысловой деятельности и населению прибрежных регионов», - подчеркнули члены Комиссии. Они предлагают сократить процедуру принятия решения до трех дней, а время оформления и выдачи разрешения – до одного дня.
Еще одним проявлением излишней бюрократизации Порядка эксперты сочли положения пункта 15 об обязанности возвращения в погранорган прекращенного разрешения, а также пункта 16 о порядке его повторной выдачи.
«Все перечисленные выше ограничения не только осложнят проведение промысловой деятельности, но и окажутся на руку рыбодобывающим странам-конкурентам Российской Федерации, заинтересованным в увеличении экспорта в нашу страну продукции из водных биоресурсов (Китай, Норвегия, Вьетнам)», - резюмируют авторы заключения.
КАК ПРЕВРАТИТЬ ШАШЛЫК В МАШЛЫК: ОСОБЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНСКОГО ЭТНОТУРИЗМА
СЕЛЬСКИЙ ИЛИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОТНОСИТЕЛЬНО НЕТРОНУТОЙ АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕРРИТОРИИ, КОГДА ТУРИСТЫ ВЕДУТ СЕЛЬСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПИТАЮТСЯ ДОМАШНИМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ ПРОДУКТАМИ, ЗНАКОМЯТСЯ С МЕСТНОЙ КУЛЬТУРОЙ И ОБЫЧАЯМИ», ПРИ ЭТОМ «СЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕГО ДУШЕВНОЙ ГАРМОНИИ». В конце октября в Кыргызстане побывали ведущие украинской познавательной телепередачи о путешествиях «Орел и решка», позиционирующейся как практическое пособие для туристов. Андрей Бедняков Бишкеком остался доволен. А вот процесс «слияния с природой» его партнерши Анастасии Короткой, увы, прошел не так гладко: оно было настолько полным, что «душевная гармония» ведущей вместо восстановления получила пару-тройку хуков.
Нынешний седьмой сезон программы называется «Назад в СССР»: ведущие отправляются на выходные изучать достопримечательности бывших союзных республик.
Незатейливое название передачи проистекает из традиции подбрасывать монетку, чтобы решить, кому из ведущих придется потратить за два дня в незнакомой стране всего 100 долларов (в сумму входит все: питание, проживание, проезд, экскурсии, развлечения), а кому — ни в чем себя не ограничивать, соря деньгами, хранящимися на золотой карточке Visa. В общем, страну показывают с двух сторон: глазами туриста, стесненного в средствах, и глазами господ из категории «деньги для меня не проблема».
В начале передачи о КР, которая вышла в свет 1 декабря, Андрей спрашивает Настю о том, мечтала ли она когда-нибудь побывать в Кыргызстане, а получив отрицательный ответ, дает нашей республике краткую характеристику: «Это же Бишкек, шашлык-машлык, кефир-шмефир, настоящие киргизы на не менее настоящих лошадях. В общем, будет круто!» Подброшенная монетка «определила», что тратить деньги напропалую будет Настя. Следовательно, ее должны были ждать «шикарные машины, фешенебельные отели и изысканная еда». Однако на деле Настя получила машлык и шмефир. Ну, и коня в придачу — далеко не ахалтекинца по цене ахалтекинца. На все про все Короткая за два дня спустила 3,3 тысячи долларов. Бедняков — чуть более полсотни. Его путешествие при этом оказалось удачным, зато не таким экстремально-насыщенным, как у партнерши.
Отдых для шотландского лорда
Итак, Андрей охарактеризовал Бишкек как «типичный постсоветский город, каких десятки, где на тополях ножиком оставляют автографы, в переходах продают всякий хлам, а молодожены приходят фотографироваться на центральную площадь». Все достопримечательности нашей столицы (оперный театр, памятники Манасу, Токтогулу Сатылганову, Курманджан-датке, площадь Победы и т.п.) ведущий «Орла и решки» осмотрел за полчаса. «Неудивительно, что туристов я тут не увидел, — говорит Андрей. — Но есть у Бишкека огромное преимущество, которое разом перечеркивает его недостатки: тут все очень дешево. Как выяснилось, 100 долларов на два дня здесь хватит с головой».
Бедняков побывал в дорогом ресторане, где салат с жареным пармезаном стоит 4 доллара, а миньон на гриле с жареным шпинатом и кедровыми орешками — 9 долларов. Но миньоны/пармезаны он пробовать не стал, взял традиционные манты (внешний вид которых в этом ресторане оказался вообще-то не традиционным: они больше походили на огромные вареники). Заплатив за вкусный обед 5,5 долларов, Андрей отправился на поиски приличной гостиницы. И нашел очень даже приличную — за 12 долларов в сутки. «Мы привыкли, что такую цену можно отдать за койку в номере на 8–10 мест, — описывает впечатления ведущий. — За все свои путешествия с «Орлом и решкой» я не припомню ни одного хостела с отдельным туалетом, душевой кабиной, плазмой, бесплатным вай-фаем, большой двуспальной кроватью и дизайнерским интерьером за такие деньги. А тут еще и бассейн».
Побывал ведущий и в ала-арчинском заповеднике, заплатив за такси в обе стороны 20 долларов и доллар за вход. А вечерком посетил бар, обустроенный в стиле холостяцкой квартиры, с официантками в бигуди, халатах и тапочках и с пивом, которое в тот вечер раздавалось за скороговорки: произнес без запинки что-то вроде «Наш пономарь вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит» — получай заслуженную кружку пенного напитка.
В итоге оценка Беднякова была весьма щедрой: достопримечательностей в нашей столице — пшик, но креатива достаточно, и если, имея в кармане 100 долларов, вы желаете два дня чувствовать себя шотландским лордом, то вам сюда.
«Удобства как в XV веке»
Насте предложили испытать на себе прелести джайлоо-туризма: пожить в юрте в Григорьевском ущелье, поесть баранину, покататься на коне, поохотиться. И понеслась настина душа, как говорится, на пастбище…
Аренда большого внедорожника обошлась съемочной группе в 1000 долларов. В ущелье ведущую встретила, надо полагать, семья из семи человек, облаченных в национальные костюмы. Установили юрту. Барашка зарезали на глазах ошеломленной гостьи. Та поморщилась, поохала и решила развеяться, прокатившись верхом, чтобы не смотреть еще и на то, как разделывают тушу. Правда, в ходе прогулки, рассуждая о незавидной участи барана, Настя резонно заметила, что на самом деле все это не так уж страшно. «Посмотрев на традиционную жизнь киргизов, понимаешь, насколько в мире относительны правила жестокости и морали, — звучит за кадром ее голос. — Киргизам вещи вроде перерезания горла барашку не кажутся ужасными, для них это такое же обычное дело, как для нас вскапывание картошки. К таким вещам они относятся без ханжества: глупо ведь думать, что мясо барана растет на дереве. Или что колбасу можно съесть, не убив животное».
За возможность пофилософствовать о мясе верхом на коне ведущая заплатила… 105 долларов. В Варшаве за тур по Старому городу в карете берут 8 евро в час — за 100 долларов можно кататься от восхода до заката. Это, конечно, не этнотуризм, но все равно непонятно, почему катание на лошади в КР стоит в разы дороже, чем катание в карете в Польше.
За ужином перед Настей как перед почетной гостьей поставили блюдо с бараньей головой (трапеза обошлась, представьте себе, в 550 долларов). Изумленная ведущая смотрела, как «блюду» отрезают уши («их отдают детям, играющим на улице»), как с левой части головы барана снимают кожу, нарезают ее кусочками в пиалу и заливают бульоном, как вырезают нёбо («его полагается отдать молодой девушке, чтобы в будущем она стала вышивальщицей»). Потом настал через бараньих глаз, после поедания которых ошарашенной гостье предложили зачерпнуть ложкой бараньи мозги прямо из черепа («Ну, хоть поумнею, надеюсь», — пошутила неунывающая Анастасия). Пиршество завершилось «попой барашка» — курдюком, который Настя охарактеризовала как «вареное мерзкое теплое сало». При этом на вкус, хотя Короткая поначалу и морщилась, ей понравилось все, кроме «попы». Ну и вполне ожидаемое резюме: «Часть традиционного киргизского ужина больше похожа на вскрытие в морге».
После «изысканного» ужина Настю ждало новое испытание: спать в юрте было невозможно из-за собачьего холода — не помогли ни одеяла, ни обогреватель, к тому же не давал уснуть тарахтевший подле жилища генератор. За такую ночевку Настя, как сообщается в программе, заплатила 450 долларов. «Это была самая холодная ночь за две тысячи баксов, — поделилась впечатлениями ведущая. — Если вы привыкли к теплу и комфорту, то джайлоо-туризм точно не для вас. Спать в юрте холодно, туалет под кустом, душ — в горной реке. Удобства как в XV веке».
С юмором, надо отдать должное, у Анастасии все в порядке: проводя утренние «мыльно-рыльные» процедуры у реки, она заявила, что главное, дескать, чтобы какой-нибудь богатый турист выше по течению не принимал в это же самое время ванну…
Была у Насти прогулка на допотопном катере по Иссык-Кулю (175 долларов), в ходе которой ведущая отметила кристальную чистоту воды, поскольку больше отметить было нечего. А завершилась ее программа охотой с беркутом. Ну как, охотой… Бедную лисичку отловили заранее, заперли ее в ящике, а в нужный момент выпустили, что называется, в чисто полюшко: явно дезориентированная рыжая бедолага не знала, в какую сторону ей бежать, а пока решала этот вопрос, на нее с неба свалился беркут. Итог: плутовке капут, у Насти глаза на мокром месте («Это не развлечение, а убийство какое-то!.. Лисе не дали ни одного шанса!»). Доволен собой и жизнью был только беркут. Ну, может быть, еще его хозяин — в том случае, если большая часть из 400 долларов, которые ведущая заплатила за так называемую охоту, досталась ему, а не дяде-организатору.
Авторы, выпейте яду!
Этим коротким предложением можно выразить суть всех гневных комментариев кыргызстанских интернет-пользователей в адрес тех, кто принимал украинских ведущих. Кыргызстанцы, посмотревшие передачу, сошлись во мнении, что Настю, грубо говоря, «развели на бабки». Катание на лошади стоит 600 сомов в час (1000 — максимум), барашек на вертеле — 10 тысяч, ночевка в юрте никак не может обходиться дороже ночевки в пятизвездочном отеле, и так далее…
Все камни полетели в огород Kyrgyz Concept — туристической компании, имеющей 20-летний опыт организации туров по Центральной Азии и отдыха за рубежом. Между прочим, на сайте компании указано, что сотрудники Kyrgyz Concept «искренне заинтересованы в клиентах», а также работают в интересах общества и страны. А тут тебе ни клиент, ни, в некотором роде, страна недовольны. Но, как оказалось, главными организаторами и авторами развлекательной программы были не «концептуальщики».
Из собственных источников «МК» стало известно, что сотрудников Kyrgyz Concept наняли за сутки до съемок, когда люди, взявшиеся за организацию встречи украинцев, поняли, что не справляются.
— Цена 2000 долларов — это за ночевку в юрте и ужин на шесть человек, то есть на всю съемочную группу, — сообщил мой собеседник. — Авто было арендовано не на день, как показали в передаче, а на все время съемок. Коня везли из Чолпон-Аты, потому что в октябре в горах туристов не ждут, и за 100 долларов на нем откатались все гости в течение дня. Понимаете, устроить в конце октября в горном ущелье такой прием за сутки — совсем не то же самое, что привезти клиентов в июле на все готовое. В итоге чистая прибыль «Кыргыз Концепта» не превысила 150 долларов, никакого сверхнавара не было. В юрте было холодно, потому что она декоративная. Сотрудники «Концепта» предупреждали, что она не годится для этого времени года, но подрядчики, которые их наняли, настояли на декоративной — как более подходящей для телекартинки. Были жалобы на шум генератора — но изначально он стоял у речки, это для съемок его попросили перенести поближе к юрте, чтобы, так скажем, масштабировать дискомфорт. Умываться в речке и, пардон, справлять нужду под кустом не было никакой необходимости — сотрудники «Концепта» грели воду и заливали ее в умывальник в юрте, а рядом был нормальный туалет — он мелькает в кадре. Вообще, надо понимать, что многое в передаче было сделано ради эффектности.
— А кто разрабатывал программу отдыха?
— Я говорил с руководством компании, они сами негодуют. Если бы ее разрабатывал «Концепт», она была бы совсем иной. Та же охота с беркутом опасна: птица должна воспринимать хозяина не как обычного человека, а как лидера, которому она всецело подчиняется, а тут рядом турист — человек посторонний, чужак. Беркут может напасть на него. Если вы читали повесть Тологона Касымбекова «Сломанный меч», то должны помнить эпизод, где ловчая птица, не узнав хозяина (тот обрил голову, и она блестела на солнце), напала на него, выклевав глаза. Это, конечно, редкий случай, но технику безопасности никто не отменял. На видео Настя сама говорит, что охота — не женское дело. Резать барана при ней — моветон. Кормить вареной бараньей головой — тоже. У кыргызов есть масса традиционных блюд, которыми можно было угостить девушку, не шокируя ее: бешбармак, боорсоки, шорпо и так далее. Впрочем, подобная еда тоже была приготовлена и подана, но не попала в кадр — она же не так шокирует, как бараний глаз. Заказчик изначально поставил условие, чтобы картинка была яркая, передача зрелищная, чтобы ведущие пугались, изумлялись… Могу еще добавить, что продюсеры передачи несколько раз меняли сценарий на ходу, что тоже создавало трудности.
— Почему же «Кыргыз Концепт» не озвучил имена тех, кто стоял за организацией этого «чудесного» уикенда для украинской съемочной группы? На компанию вылилось столько негатива, не легче ли было разъяснить ситуацию?
— Руководство компании соблюдает бизнес-этику и считает неприемлемым «сливать» подрядчиков и клиентов. Это, к сожалению, их принципиальная позиция…
• • •
Как бы там ни было, туристам до всех этих тонкостей и проблем дела нет. О чем подумает наш потенциальный гость, увидев, как «отдохнула» Настя Короткая? «МК» обратился к своим коллегам из ближнего зарубежья с просьбой посмотреть передачу и ответить на простой вопрос: возникло ли у них желание «попробовать» джайлоо-туризм в Кыргызстане по озвученным ценам? Ответы были предсказуемы, примерно одинаковы, поэтому приведем два из них, самые развернутые.
Андрей Бурмакин, главный редактор «МК в Бурятии»:
— После просмотра передачи отпадает всякое желание ехать в КР в туристических целях. Что касается отдыха Насти, по-моему, это большой развод на деньги. А если учесть, что я живу в Бурятии, где есть юрты, бараны, кони, то вообще было бы глупо ехать в такую даль за сомнительными развлечениями. У нас недалеко от Улан-Удэ есть юрточный городок, до которого добираться минут 30. Но в юртах имеется отопление и современные санузлы. Пищу готовят на кухне ресторанного уровня. Барана, конечно, варят на улице в чане — так экзотичнее. Но цены на проживание совсем не такие, как у вас, а приемлемые. Туда обычно возят гостей максимум на сутки — поесть свежей баранины и блюда из потрохов.
Дмитрий Дурнев, главный редактор «МК в Донбассе»:
— Ваша республика для меня — мечта. К сожалению, пока неосуществимая. В Украине открывается небо для лоу-костов, и полет в Лондон, Стамбул или Милан за 100 долларов в оба конца понемногу становится обыденностью. Хитом сезона в Донецке стали полеты в Грузию. В Кутаиси и обратно можно слетать за 60 долларов, стоимость поездки, как в Батуми, так и в Тбилиси на автобусе — 10 баксов с носа. Жилье тоже стоит понятных денег, а еда неописуемо вкусна и дешева. Аналогичную киргизской поездку в горы Грузии недавно совершил мой друг. Ездили по горам две недели. Аренда «Тойоты» с водителем-экскурсоводом стоила 100 лари в день (примерно 62 доллара). Бензин оплачивали отдельно. Цену делили на четверых пассажиров из Донецка и Днепропетровска. Маленькие гостиницы в горах стоили до 20 долларов, вкуснейшие домашние завтраки — 4 доллара с человека. За горные виды Сванетии денег не брали. Безопасно, комфортно, вкусно и сравнительно недорого — главные слова о таком отдыхе. Передача об отдыхе в Киргизии напоминает мистификацию. Отдать тысячу долларов за полет в Бишкек, а потом две — за два дня мужественной борьбы с простудой и острым панкреатитом в горах? Даже не верится… Может быть, во времена Чингисхана этим самым ханам жилось, по нашим меркам, не очень комфортно. Но лучше я погляжу про это фильм «Орда». И пойду домой. В действительности на сурпердорогой отдых на природе есть спрос. Я лично знаю людей, которые за большие деньги летают из наших краев в Магаданскую область порыбачить и поохотиться на медведя. Оплачивают перелеты, лицензии на отстрел, джипы, полеты на вертолетах. Но представить себе, что те же люди будут платить сравнимые деньги за лубочный этнотуризм в Киргизии, не могу. При этом лично для себя понял, что в Киргизию полечу обязательно. К друзьям. Без помощи местных туристических операторов. Я их после этой передачи уже боюсь.
Елена АГЕЕВА.
К 2017 году Узбекистан станет самым быстрорастущим рынком международных пассажирских авиаперевозок. Об этом говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).11 декабря 2013 года IATA опубликовала свой прогноз развития мирового рынка авиаперевозок на 2013-2017 годы.
Согласно отчету, Узбекистан к 2017 году будет лидировать по росту рынка международных пассажирских авиаперевозок. По прогнозам IATA, среднегодовой темп роста в сложных процентах (compound annual growth rate или CAGR) в Узбекистане составит 10,3%.
Узбекистан обойдет по этому показателю Казахстан (9% CAGR). В десятку быстрорастущих рынков также войдут Россия (7,7%), Турция (7,6%), Оман (7,5%), Китай (7,1%). Вьетнам (6,9%), Саудовская Аравия (6,9%), Азербайджан (6,8%) и Пакистан (6,7%).
По прогнозам IATA, рост пассажирских авиаперевозок к 2017 году составит 31% по сравнению с 2012 годом и достигнет 3,91 млрд. пассажиров.
Согласно прогнозу, в 2017 году самым большим в мире по-прежнему будет рынок внутренних авиаперевозок США с 677,8 млн. пассажиров, которые совершат перелеты внутри страны.
Китайский внутренний рынок за пять лет вырастет на 10% и с 487,9 млн. пассажиров прочно закрепиться на втором месте. Третью строчку списка займет Бразилия - 122,4 млн. пассажиров.
США продолжат удерживать первое место и по объемам международных перевозок - 177,5 млн. в 2017 году, опережая по этому показателю Германию - 176,6 млн.
UzDaily.uz
Более 30 жителей сектора Газа получили ранения из-за сильного ветра и дождей, обрушившихся на палестинский анклав, сообщил в четверг представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.
Исламистские власти сектора Газа, где живут более полутора миллионов человек, объявили режим чрезвычайной ситуации, закрыли школы и учреждения. Жителям рекомендовано без надобности не выходить на улицу.
"За последние сутки госпитализированы около 30 граждан, в том числе дети. Больше половины пришлось на (южные города) Рафах и Хан-Юнис", - сказал медик журналистам.
Ветер срывает крыши со строений, сдувает сельскохозяйственные теплицы, обрывает линии электропередачи, вырывает с корнем деревья на средиземноморском побережье. Дожди подтопили дороги и сотни жилых домов в центральной и южной части Газы.
Последствия аномально низких температур усугубляют перебои с подачей электроэнергии.
Улучшение погоды ожидается не ранее конца недели. Назар Альян.
События в Киеве и в Бангкоке существенно изменили планы российских путешественников. Согласно данным aviasales.ru, падение продаж по тайскому направлению доходит до 43%.
"Сравнивая первые декады ноября и декабря, мы наблюдаем 43% падение продаж по направлению Москва - Пхукет и падение на 29% по маршруту Москва - Бангкок" - говорит основатель сервиса, Константин Калинов. "Вместе с тем, соседние страны набирают популярность на волне новостей из Таиланда. Рост бронирований по Бали увеличился вдвое, также увеличилось количество покупок билетов на рейсы Москва - Сайгон, +28% за аналогичный период". В 2012 году ситуация была обратной - количество бронирований в декабре намного превышало ноябрьские показатели.
Таким образом, тайские туристы достанутся Вьетнаму и Индонезии. Путешественников не смущает даже разница в цене. Самый дешевый билет на Пхукет в декабре стоит 17 930 рублей, в то время как цена билета на Бали почти в два раза выше и составляет 32 919 рублей.
Любопытно, что события в Украине, напротив, только увеличивают пассажиропоток на линии Москва - Киев. Сравнивая первые десять дней ноября и декабря, эксперты туристического поисковика aviasales.ru констатировали 57-процентный рост числа бронирований.
Вьетнам увеличивает поставки креветки за рубеж
Вьетнамские экспортеры морепродуктов рассчитывают заработать в этом году 6,5 млн. долларов - на 5% больше, чем в 2012 г. Доходы планируется повысить за счет увеличения поставок белоногой креветки.
Однако планам поставщиков может помешать сокращение сырьевой базы. С начала ноября в некоторых вьетнамских провинциях дельты Меконга цены на черную тигровую и белоногую креветки выросли на 10-15%. Высокая стоимость сырья положительно сказалась на заработке фермеров и отрицательно повлияла на доход экспортеров.
Как сообщает корреспондент Fishnews, с июля по сентябрь 2013 г. переработчики Вьетнама столкнулись с высокой конкуренцией за креветку. Компании, экспортирующие необработанную креветку в Китай, предлагали фермерам более выгодные сделки, чем местные переработчики. Это вызвало дефицит сырья и последующий рост его стоимости.
Обычно с одного гектара фермер-разводчик креветки мог получить около 1,4 тыс.-1,88 тыс. долларов. Однако сейчас удачливый аквафермер сможет заработать 2,35 тыс.- 2,82 тыс. долларов с гектара благодаря высоким ценам на внутреннем рынке. Поэтому число производителей белоногой креветки в стране стало увеличиваться.
Для того чтобы насытить внутренний рынок необработанной креветкой, государство усилило контроль над ее экспортом в соседние страны. Ожидается, что совместные действия вьетнамского правительства и бизнеса помогут сохранить тренд на рост экспорта креветки из страны до конца 2013 г. В результате общий годовой доход от продажи этого морепродукта может достичь 2,8 млрд. долларов, что на 27% больше, чем в 2012 г.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в понедельник заявил на встрече с министром обороны США Чаком Хейгелом о недопустимости продолжения ударов американских беспилотных летательных аппаратов на северо-западе Пакистана, сообщает телеканал Geo News.
Встреча прошла во время официального визита Хейгела в Исламабад. Шариф заявил, что атаки беспилотников фактически подрывают в долгосрочной перспективе усилия правительства по борьбе с терроризмом.
Шариф и Хейгел также обсудили перспективы мирного процесса в Афганистане. Глава Пентагона поблагодарил Пакистан за "огромную поддержку в войне с терроризмом". Он заявил о стремлении углубить оборонное сотрудничество двух стран. При этом Хейгел признал, что в двусторонних отношениях есть "некоторые трения".
Отношения Исламабада и Вашингтона в последнее время обострились из-за продолжающихся на северо-западе Пакистана ударов беспилотных летательных аппаратов США по предполагаемым террористам. Так, 1 ноября при атаке беспилотника в Зоне племен был убит лидер пакистанских талибов Хакимулла Мексуд. Исламабад резко осудил атаку. Глава МВД Чаудхури Нисар Али Хан обвинил США в попытке саботировать начинавшийся мирный диалог с талибами. После гибели Мехсуда талибы заявили, что не будут вести переговоры с правительством.
Гибель Мехсуда и другие атаки беспилотников привели к массовым протестам на северо-западе Пакистана - на прошлой неделе США временно прекратили сухопутный транзит военных грузов через Пакистан в Афганистан из-за блокады демонстрантами дорог. В воскресенье западные информагентства сообщили со ссылкой на представителей Пентагона, что США решили возобновить транзит грузов. Однако, как передает агентство Франс Пресс в понедельник, заявление о возобновлении поставок было отозвано. Александр Невара.
В субботу, 7 декабря 2013 года, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" выполнила первый прямой дальнемагистральный рейс Киев - Бангкок, а в понедельник, 9 декабря, обратный рейс Бангкок - Киев.
Рейсы выполняются по маршруту Киев (Международный аэропорт "Борисполь") - Бангкок (Международный аэропорт "Суварнабуми") - Киев (Международный аэропорт "Борисполь") три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Киева - в 19:25, прибытие в Бангкок - в 09:50 местного времени на следующий день. Рейсы Бангкок - Киев выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Бангкока в 02:40, прибытие в Киев в 08:30 по местному времени.
Рейсы выполняются на современном дальнемагистральном самолете "Боинг 767-300ER". На рейсах предлагается три класса обслуживания: бизнес, премиум-эконом и экономический класс. Салон бизнес класса оснащен новыми комфортабельными креслами производства итальянской компании Andromeda.
В салоне эконом-премиум класса дополнительный комфорт для пассажиров обеспечивается благодаря увеличению расстояния между рядами кресел до 36" (91,44 см).
Пассажиры из всех регионов Украины могут приобрести единый билет: внутренний рейс МАУ в/из Киева + международный рейс из Киева в Бангкок и обратно. Тариф на перелет из любого региона Украины составляет от 850 долл. США (аэропортовые сборы не включены и взимаются дополнительно).
Для участников программы лояльности "Панорама Клуб" МАУ предлагает привлекательную возможность - до 28 февраля 2014 года совершить авиаперелет в Бангкок по специальной стоимости 60 000 миль в экономическом и 90 000 миль в бизнес классе. За каждый перелет в обе стороны в салоне премиум-эконом участник программы получает 10 090 миль и, таким образом, совершив два перелёта в Бангкок с МАУ, может оформить наградной авиабилет на любой рейс МАУ в Европу.
Для пассажиров, вылетающих рейсами МАУ из Киева в Бангкок и из Бангкока в Киев доступна услуга самостоятельной регистрации на веб-сайте авиакомпании. Онлайн регистрация открывается за 23 часа и заканчивается за 2 часа до вылета рейса по расписанию.
"Открытие прямого регулярного воздушного сообщения между Киевом и Бангкоком - это начало эры дальнемагистральных перевозок МАУ, - отметила Евгения Сацкая, корпоративный пресс-секретарь авиакомпании МАУ. - В киевском международном аэропорту "Борисполь" рейсы между Киевом и Бангкоком удобно стыкуются со всеми пунктами маршрутной сети нашей авиакомпании в Украине, Западной и Центральной Европе и Российской Федерации. Благодаря специальным соглашениям с авиакомпаниями-партнерами МАУ также "построила" самый быстрый и удобный воздушный мост между Украиной и всей Юго-Восточной Азией. Наличие прямого регулярного рейса в Бангкок позволяет оформить единым билетом МАУ перевозку из Украины во Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Индонезию, Мьянму. А благодаря трехклассной компоновке салона каждый пассажир может выбрать для себя наиболее комфортный и экономически привлекательный вариант путешествия".
Вчера Государственное агентство Украины по туризму и курортам и Национальная туристическая администрация Китайской Народной Республики подписали Меморандум о содействии групповым туристическим поездкам китайских туристов в Украину. Документ подписан в рамках государственного визита в Китай Президента Украины Виктора Януковича.
"В европейских столицах сложно сфотографироваться, чтобы в кадр не попал китайский турист. Мы надеемся, что организованные туристические группы из Китая значительно увеличат туристический поток в нашу страну и принесут дополнительные финансовые ресурсы в экономику", - сказал Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.
Правительство Украины одобрило Концепцию Государственной целевой программы развития туризма и курортов на период до 2022 года. Выполнение этой программы позволит увеличить к 2022 году в два раза количество въездных туристов в Украину - до 50 млн человек в год. По итогам 2012 года в Украину въехало более 24,6 млн иностранных туристов, это на 1 миллион больше, чем в 2011 году. За 9 месяцев этого года в Украину въехало более 20,5 млн туристов, что более, чем на 5% превышает показатели соответствующего периода 2012 года.
"Мы ведем диалог с профильными государственными туристическими структурами других стран, с международными туристическими агентствами. Ведем работу по привлечению туристов, презентуем нашу страну на международном уровне", - сказал Александр Вилкул.
В октябре 2013 в Украине состоялся Киевский международный туристический форум. В его работе приняли участие Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, Генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи, генеральный секретарь Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Виктор Цвиркун, дипломаты и туроператоры из 30 стран мира.
Важным фактором привлечения туристов является развитие пассажирских авиационных перелетов.
В ноябре Украина парафировала Соглашение с Европейским Союзом о Совместном авиационном пространстве и "Открытое небо". Присоединение Украины к этому проекту создает дополнительные возможности открытия рейсов на новых направлениях, как для украинских, так и для зарубежных авиакомпаний. Любая европейская авиакомпания сможет прилетать в любой украинский аэропорт, так же как и украинские авиакомпании смогут прилетать в любой европейский аэропорт.
Рост конкуренции в сфере авиаперевозок не только позволит повысить качество авиауслуг, но и снизит стоимость перелетов.
Осенью 2013 года Украина получила 1 категорию FAA (ФАА - Федеральной Авиационной Администрации США), которая относит Украину к Категории 1 Программы IASA. Это свидетельствует о том, что Государственная авиационная служба Украины отвечает всем нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО ) и украинские авиаперевозчики смогут значительно расширить географию полетов и открыть новые рейсы без ограничений частот.
В Украине уже восстановлены дальнемагистральные рейсы в Индию (Гоа), Тайланд, Вьетнам и Доминиканскую Республику. Украинские авиакомпании активно расширяют сеть беспересадочных рейсов в страны Азии и Америки.
Украина также активно сотрудничает с лоу-кост авиакомпаниями. В этом году на украинский авиарынок уже привлечено 2 новых лоу-кост компании - испанскую "Vueling Airlines" и итальянскую "air one". Сейчас в Украине работают 8 иностранных лоу-кост авиаперевозчиков, которые летают по 19 маршрутах в 8 стран мира.
Проведенные мероприятия позволили увеличить пассажиропоток через аэропорты Украины за 10 месяцев этого года на 5,8% до 12,9 млн человек.
"Подписание Меморандума будет иметь значительное влияние на рост количества групповых поездок китайских туристов в Украину, которые в последние годы активно осваивают туристические рынки многих стран мира. Подписание этого документа - результат системной работы", - сказала Председатель Гостуризмкурортов Елена Шаповалова.
По данным Всемирной туристической организации, в 2012 году китайские туристы вышли на 1 место по количеству денег, которые тратят за границей во время поездок, опередив Германию. Китайские туристы в 2012 году потратили более 102 млрд долл, что составляет 9,5% от общих мировых затрат на выездной туризм. Таким образом, Китай впервые превратился в крупнейшего потребителя в сфере выездного туризма в мире.
Елена Шаповалова отметила, что Украина рада принимать у себя иностранных туристов из любой страны: "Украинские туроператоры - профессионалы своего дела и имеют большой опыт в организации путешествий. Они могут предложить группам китайских туристов множество маршрутов. Туристы из КНР интересуются как морем и солнцем, так и оздоровлением, историей и культурой. Поэтому они могут посещать Украину круглый год".
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























