Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
В 2020 году Китай, Южная Корея и Япония стали крупнейшими импортерами сырья лития
Согласно опубликованным данным Геологической службы США (USGS), в 2020 г. Чили была самым крупным экспортером карбоната лития.
Основными импортерами карбоната лития стали Китай, Южная Корея и Япония – ведущие производители литиевых аккумуляторов. В Китай было поставлено из Чили 37,117 тыс. т карбоната лития, в Южную Корею – 27,108 тыс. т материала, в Японию –13,367 тыс. т, в Бельгию – 6142 т. Из Аргентины в Китай было экспортировано в минувшем году 12,841 тыс. т карбоната лития.
Запасы эквивалента карбоната лития в Чили составляют 44% от общемировых.
Heraeus: экономические факторы оказывают давление на цену палладия
Согласно докладу аналитиков Heraeus, замедление экономики Китая оказывает негативное воздействие на спрос на палладий и вызывает снижение цен. «Последние опубликованные индикаторы объема инвестиций, промышленной активности и внутреннего потребления продемонстрировали, что китайский рост замедлился более заметно, чем прогнозировали в июле. Рост розничных продаж уменьшился в прошедшем месяце до 8,5% по сравнению с 12,1% в июне, что гораздо ниже ожиданий», – подчеркивают аналитики организации.
Также в докладе указывается на снижение на рынке заимствований, что тоже влияет на цены на палладий.
Эксперты полагают, что, если китайское экономическое замедление станет устойчивым, то это отразится на цене палладия в оставшийся до конца года период.
Кроме того, рост числа заражений COVID-19 из-за распространения «дельта»-варианта коронавируса также не способствует подъему цен на палладий, отмечают специалисты Heraeus.
Еще одним фактором снижения цены палладия аналитики Heraeus называют падение объемов продаж автомобилей, которые сократились в июле третий месяц подряд.
«Частично это связывается с продолжающимся дефицитом полупроводников, однако есть признаки того, что спрос на полупроводники снижается по мере ужесточения условий кредитования и сокращения расходов их потребителями, – уточняют эксперты Heraeus. – Китайские автомобилестроители представляют собой крупный конечный рынок для палладия – в минувшем году они потребили 2,4 млн унций металла (27% от общего объема спроса на палладий).
«Если масштабное ухудшение китайских экономических индикаторов станет устойчивым, то прогноз по спросу на палладий во второй половине 2021 г. будет более слабым, чем это представлялось лишь несколько месяцев назад, и цены на металл могут еще более просесть», – говорится в докладе специалистов.
В конце августа цены на палладий серьезно снизились, просев почти на $350, до уровней чуть ниже отметки $2250 за унцию. Однако в понедельник, 30 августа стоимость драгметалла совершила заметный отскок. Так, на Comex фьючерсы на палладий выросли в цене на $125, достигнув отметки $2401,50 за унцию.
В Китае алюминщики больше не будут получать электроэнергию по льготным ценам
Китайская комиссия по развитию и реформам опубликовала распоряжение, согласно которому с 1 января 2022 г. запрещается предоставлять предприятиям, производящим электролитический алюминий, ценовые преференции в отношении поставляемого им электричества.
Целью данного решения является желание властей КНР стимулировать потребление алюминиевой отраслью электроэнергии, не связанной с водными ресурсами, в частности, вырабатываемой ветряными и солнечными электростанциями (при уменьшении потребления и ископаемого сырья при электрогенерации).
Цветные металлы дорожают на фоне активного спроса и перспектив снижения их производства
Утром во вторник, 31 августа, на Шанхайской фьючерсной бирже наблюдалась позитивная динамика в секторе цветных металлов как реакция на заявления главы ФРС США г-на Пауэлла в конце минувшей недели. В ходе ночных торгов стоимость меди выросла на бирже на 0,7%, до 70180 юаней за т, и, как ожидается, металл будет торговаться сегодня в пределах диапазона 70,000-70,600 тыс. юаней за т. Спотовые премии к цене меди составляют 150-230 юаней к стоимости тонны. На LME стоимость контракта на медь будет находиться сегодня, по прогнозу, в границах диапазона $9440-9530 за т.
Тем временем рост цены «красного металла» сдержало опубликование индекса продаж жилья в США в июле, который снизился, как и показатель промышленной активности в августе.
Запасы меди на крупных мировых рынках снизились на минувшей неделе на фоне уменьшения поставок и роста уровня загрузки обрабатывающих предприятий на севере Китая, что, наоборот, оказало поддерживающее влияние на котировки.
Стоимость алюминия на ShFE выросла по состоянию на 9:36 мск на 1,2%, до 21390 юаней ($3311,09) за т, приблизившись к максимуму августа 2008 г. 21,550 тыс. юаней за т, который был достигнут на предыдущей сессии в Шанхае.
Тем временем встреча представителей властей в китайском Гуанси с целью ужесточения контроля за энергопотреблением вызвала озабоченность рынка возможными новыми сокращениями выпуска алюминия в Китае. В Юньнани также продолжается политика снижения энергопотребления. «Влияние ограничений потребления электричества и производства на рынок в Юньнани усиливается», – отмечают специалисты Huatai Futures.
Между тем китайская China Nonferrous Metals Industry Association также провела встречу в понедельник с представителями крупнейших алюминиевых заводов страны, проговорив с ними «иррациональный подъем» цен на алюминий.
Стоимость никеля на ShFE достигла рекордных 149,870 тыс. юаней за т.
На утренних торгах на LME стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца обновила 10-летний максимум на фоне озабоченности возможным сокращением поставок металла из Китая из-за производственных ограничений в попытке смягчить нагрузку на электросети. Цена алюминия выросла на 2,9%, до $2726,50 за т – самого высокого значения с мая 2011 г. Премия к спотовому контракту на алюминий достигла $25,75 к стоимости трехмесячного – самого высокого показателя с июля 2018 г.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:34 моск.вр. 31.08.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2720.5 за т, медь – $9530.5 за т, свинец – $2413.5 за т, никель – $19693.5 за т, олово – $34460 за т, цинк – $2982 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2694.5 за т, медь – $9517 за т, свинец – $2264 за т, никель – $19665 за т, олово – $33855 за т, цинк – $2993.5 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2021 г.): алюминий – $3309.5 за т, медь – $10864 за т, свинец – $2319.5 за т, никель – $23427.5 за т, олово – $38708 за т, цинк – $3472 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2021 г.): алюминий – $3308.5 за т, медь – $10825 за т, свинец – $2332 за т, никель – $22778 за т, олово – $37798.5 за т, цинк – $3457 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2021 г.): медь – $9516 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2021 г.): медь – $9635 за т.
Одна из провинций Китая сократит выпуск энергозатратной продукции металлургии
Крупнейшая по производству металлов провинция Китая Гуанси намерена снизить выпуск материалов, потребляющих много энергии, чтобы уменьшить выбросы углекислых газов. Речь идет об алюминии, глиноземе, стали, ферросплавах и цементе. Жертва обусловлена новой кампанией Пекина, направленной на спасение планеты. Об этомсообщаетBloombergсо ссылкой на источники.
Китай считается крупнейшим производителем стали и алюминия в мире. Некоторые алюминиевые и глиноземные заводы будут вынуждены сократить производство в сентябре на половину их мощностей, а новые проекты будут отложены. Сокращение производства в Гуанси может негативно сказаться на балансе спроса и предложения, что приведет к очередному скачку цен. В ходе торгов 30 августа алюминийподскочилв цене на 3,9% ($3322,47 за тонну), достигнув пика с 2006 года. Самый популярный металл на планете за год уже вырос на 50%.
Новый план по производству энергозатратных металлов местные власти начали разрабатывать после того, как вице-премьер Хань Чжэн призвал сократить промышленную деятельность, не соответствующую стандартам энергоемкости. На производство стали приходится 15% выбросов Китая.
Китайские власти возобновят продажу цветных металлов из госрезерваКак сообщают китайские власти, 1 сентября на продажу из госрезерва будут выставлены 70 тыс. тонн алюминия, 50 тыс.тонн цинка и 30 тыс. тон меди в целях сдерживания роста цен и поддержки малых и средних металлургических предприятий. По правилам аукциона, приобрести металл могут только компании, занимающиеся его переработкой, долгосрочное складирование или перепродажа запрещены.
В августе власти КНР не проводили продажи металлов из резервов по причине всплеска случаев коронавируса.
Инвесторы снова поверили в золото
Котировки золота на мировом рынке вышли на максимум с начала месяца, опередив по темпам роста остальные драгоценные металлы. Мягкие комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США на симпозиуме банкиров в Джексон-Хоуле и высокие темпы распространения коронавируса вынуждают инвесторов увеличивать вложения в золото. Аналитики не исключают возвращения цен выше уровня $1,9тыс. за тройскую унцию.
В понедельник, 30 августа, стоимость золота на мировом рынке, по данным агентства Reuters, поднималась до $1823 за тройскую унцию. Таким образом, она вернулась к значениям, предшествовавшим недавнему обвалу на фоне ужесточения риторики ФРС и роста курса доллара (см. “Ъ” от 7 августа). Даже с учетом незначительной коррекции, произошедшей во второй половине дня, котировки остаются на 7,4% выше минимума, установленного 9 августа.
Укреплению позиций драгоценного металла способствовали итоги встречи глав центробанков в Джексон-Хоуле. Ключевым событием симпозиума стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого участники рынка ожидали намеков на дельнейшую монетарную политику регулятора. Вопреки опасениям глава ФРС подтвердил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением, и отметил, что начало ожидаемого сокращения выкупа активов не станет сигналом к скорому повышению процентных ставок.
В таких условиях произошло снижение процентных ставок на американском рынке. В понедельник доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,285% годовых, потеряв за два дня почти 9 б.п.
Драгметалл крайне чувствителен к реальным процентным ставкам, а они сейчас отрицательные. То есть безрисковые краткосрочные ставки по гособлигациям США дают доходность меньше, чем инфляция»,— отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Повышению цен на золото способствуют и новости о росте числа заболевших COVID-19 в мире. По данным американского Университета Джонcа Хопкинса, на минувшей неделе в мире было зафиксировано 4,5млн выявленных зараженных коронавирусом, что сопоставимо с результатом предшествующей недели и почти в два раза выше показателя двухмесячной давности. «Новости последних недель, где, с одной стороны, идет увеличение числа заболевших COVID-19, а с другой — замедление экономического роста, в том числе и в Китае, существенно подпортили настроение инвесторам»,— отмечает аналитик УК «Промсвязь» Илья Голубов. К тому же он отмечает рост инфляции в мире, что заставляет инвесторов обратить внимание на защитные активы. За последние четыре недели только серебро продемонстрировало сопоставимый рост котировок — 6,4%, до $23,9 за унцию. Платина подорожала только на 4,6%, до $1тыс. за унцию. При этом палладий подешевел на 5%, до $2,47тыс. за унцию.
Уникальность текущего роста в том, что он происходит на фоне снижения спроса на металл со стороны профессиональных инвесторов. По данным агентства Bloomberg, суммарные активы золотых ETF сократились за четыре недели на 23 тонны, до 3,1тыс. тонн, минимума с начала мая. По словам старшего аналитика «Альфа-Капитал» Максим Бирюков, расхождение динамики цены и объема активов ETF могло быть связано с покупками металла со стороны других участников рынка, в частности центробанков. По данным World Gold Council, только во втором квартале они приобрели в резервы почти 200 тонн металла — вдвое больше, чем кварталом ранее. Высокий спрос в последнем квартале отмечался и со стороны частных инвесторов, хедж-фондов, ювелирной отрасли.
Ключевыми для рынков драгметаллов остаются вопросы продолжения восстановления экономики после коронакризиса и сохранения высокой инфляция, отмечает руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке. В долгосрочной перспективе, как ожидает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков, котировки золота продолжат рост на уровне как минимум долларовой инфляции. «Высокая инфляция еще некоторое время может подогревать спекулятивный спрос на золото, и цены могут вернуться выше уровня $1,9тыс. Однако по мере сворачивая QE (количественного смягчения.—“Ъ”) могут начать расти процентные ставки, что сдержит подъем стоимости драгметаллов»,— считает Василий Карпунин.
Baosteel объявила о рекордной квартальной прибыли
Как сообщает агентство Reuters, компания Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel), крупнейший производитель стали в Китае, сообщила в пятницу о самой высокой квартальной чистой прибыли, чему способствовало восстановление спроса после пандемии и меры глобальной денежно-кредитной политики.
Чистая прибыль выросла на 276,76% до 15,08 млрд юаней ($2,33 млрд.) в первом полугодии по сравнению с тем же периодом годом ранее, как показали данные компании, представленной на Шанхайской фондовой бирже.
Это означает, что прибыль во втором квартале составила 9,68 млрд юаней, что на 79% больше, чем в первом квартале, как показывают расчеты Reuters.
«В первом полугодии внутренняя экономика была хорошей, а спрос на сталь в переработке был устойчивым», - заявили в компании, отметив, что потребление стали в Европе и США также значительно выросло.
За первые шесть месяцев 2021 года компания произвела 22,74 млн тонн чугуна и 26,23 млн тонн стали.
Другие компании, акции которых котируются на китайских биржах и принадлежат China Baowu Group, материнской компании Baosteel, также показали блестящие результаты в первом полугодии: их чистая прибыль выросла с четырехкратного до более чем 20 раз.
Компания утвердила планы по увеличению производства кремнистой стали в два этапа, нацеленные на производство высококачественной ориентированной кремнистой стали на уровне 1,5 миллиона тонн в год и годовое производство неориентированной кремнистой стали на уровне 3,8 миллиона тонн. Кремнистая сталь используется в электродвигателях, генераторах и трансформаторах.
Fortescue видит водородное будущее австралийской железной руды
Как сообщает агентство Bloomberg, австралийская компания Fortescue Metals рассчитывает получить надбавку к цене на свою железную руду после перехода к производству с нулевым выбросом углерода к 2030 году, а покупатели будут платить более высокую надбавку за покупку сырого чугуна, изготовленного с использованием водорода, непосредственно у Fortescue.
В краткосрочной перспективе компания ожидает сезонного подъема цен на железную руду в октябре-декабре в связи с временным нарушением спроса на железную руду в Китае, сообщила инвесторам исполнительный директор Fortescue Элизабет Гейнс 30 сентября. Чистая прибыль компании выросла до $10,3 млрд за год, по сравнению с $4,7 млрд. в предыдущем году.
В среднесрочной перспективе компания ожидает премию за свою железную руду за счет поставок железной руды с низким или нулевым содержанием углерода с использованием экологичных водородных грузовиков и возобновляемой электроэнергии. В более долгосрочной перспективе компания ожидает, что потребители железной руды перейдут от закупки зеленой железной руды к покупке зеленого железа прямого восстановления непосредственно в Fortescue в Западной Австралии или где-либо еще.
Fortescue через свою дочернюю компанию Future Industries планирует к 2030 году экспортировать 15 млн тонн водорода, полученного с использованием возобновляемых источников электроэнергии, в Европу. Это будет экономически выгодно за счет более дешевых методов производства и оборудования.
«Зеленый водород - это выход из глобального потепления», - сказал председатель и основатель Fortescue Эндрю Форрест. «Мы не намерены терять деньги из-за перехода Fortescue в зеленый цвет», - добавил он.
Fortescue планирует экспортировать 180-185 млн тонн железной руды в год до 30 июня при денежных затратах C1 в размере $15-$15,50 за тонну сырой метрической тонны (wmt). Это меньше половины ожидаемых денежных затрат на $33-$38 за тонну концентрата Iron Bridge
Мировое производство железной руды будет расти вплоть до 2025 года
Как сообщает Mining.com, согласно последнему отраслевому отчету Fitch Solutions, глобальный рост добычи железной руды ускорится в ближайшие годы. Fitch прогнозирует, что глобальный рост добычи железной руды составит в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год по сравнению с -2,3% за предыдущие пять лет.
По данным исследовательской компании, это увеличит годовое производство на 571 млн. тонн к 2025 году по сравнению с уровнем 2020 года, при этом рост предложения будет в основном обеспечен Бразилией и Австралией.
«У бразильской горнодобывающей компании Vale есть агрессивные планы расширения, в то время как горнодобывающие компании в Австралии, включая BHP, Rio Tinto и Fortescue, будут реинвестировать имеющуюся в настоящее время высокую прибыль в дополнительную добычу», - сообщает Fitch.
«Это положит конец стагнации, которая сохраняется с тех пор, как в 2015 году цены на железную руду достигли рекордно низкого уровня в $55 за тонну».
Fitch прогнозирует рост добычи железной руды в Австралии в среднем на 1,8% в течение 2021-2025 гг.
Компания ожидает, что производство железной руды в Китае также вырастет в следующие 3-4 года, поскольку страна работает над повышением своей самообеспеченности и сокращением австралийского импорта.
«Мы прогнозируем, что производство достигнет пика в 1,07 млрд. тонн в 2025 году, прежде чем снова снизиться».
Fitch заявляет, что добыча железной руды в Бразилии будет расти в среднем на 10,6% в год в течение 2021 года с 397 миллионов тонн в 2020 году до 542 миллионов тонн в 2025 году.
«В более долгосрочной перспективе рост добычи замедлится, и мы прогнозируем среднегодовой рост на 1,8% в течение 2026-2030 годов, в результате чего к 2030 году годовой объем добычи достигнет 592 млн тонн», - заявило Fitch.

Дуров: «Человечество сейчас менее свободно, чем несколько лет назад»
Один из создателей «ВКонтакте» и Telegram в соцсетях обвинил власти разных стран и крупные компании в стремлении отобрать у людей свободу. Павел Дуров задается вопросом: что нынешнее поколение может оставить следующему?
Индивидуальной свободы у людей с каждым годом все меньше, считает Павел Дуров, один из создателей «ВКонтакте» и Telegram. Он опубликовал заявление в своем англоязычном телеграм-канале. По его мнению, компании-гиганты и власти разных стран отбирают у человечества свободу, к которой оно стремится. Но вышло наоборот.
Текст Дурова появился 30 августа:
«Мы полагаем, что мир становится все лучше с каждым годом, но когда речь заходит об индивидуальных свободах, все наоборот. Многие исследования показывают, что человечество сейчас менее свободно, чем несколько лет назад.
20 лет назад у нас был децентрализованный интернет и сравнительно неограниченная банковская система. Сегодня Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на наших телефонах, в то время как Visa и Mastercard ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить. Каждый год мы все больше отдаем контроль над нашими жизнями горстке глав фирм, которых мы не избирали.
Большинство из нас по собственному желанию носят отслеживающие устройства — смартфоны. И позволяют корпорациям использовать приватную информацию, чтобы таргетировать нам контент, который отвлекает нас дешевыми развлечениями.
В отличие от того, что было 20 лет назад, сейчас мы окружены камерами наблюдения, которые в таких странах, как Китай, используют искусственный интеллект, чтобы никто не мог скрыться.
В 2017 году Китай превзошел США как крупнейшую экономику в мире по покупательской способности, показав миру, что индивидуальные свободы не требуются для экономического развития. Глядя на успех Китая, многие страны становятся авторитарными, отбросив основные права человека: свобода слова, передвижения, мирных собраний.
Но кто это исправит?
Самые активные и творческие умы нашего поколения слишком заняты, играя в быстро уменьшающейся песочнице, которая называется «свободный бизнес», или выпуская цифровой контент, чтобы остальные тоже были приклеены к своим устройствам. Другие, кажется, слишком отвлечены преобладающими дешевыми развлечениями, чтобы критически осмысливать тенденцию и принимать какие-либо меры».
Далее бизнесмен задается вопросом, что станет наследием его поколения. «Нас запомнят в истории как тех, кто позволил свободным обществам превратиться в кошмар антиутопии? Или как тех, что защищал свободы, за которые так сильно боролись предыдущие поколения?» — подытожил Павел Дуров.

Через Амур могут наладить движение беспилотных автомобилей
На мосту между Благовещенском и Хэйхэ могут начаться испытания грузовых беспилотников.
"Достигнута договоренность о продолжении работы по развитию международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", а также о рассмотрении возможности организации экспериментальной беспилотной грузовой автомобильной перевозки по мостовому переходу через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ", - сообщает Минтанс РФ.
Строительство моста велось с 2016 г., его длина составляет более километра. Беспилотное сообщение может стать неплохой альтернативой обычным грзовикам, вынужденным стоять в очередях из-за карантинных мероприятий.
Китай оседлал тигра: Запад теряет деньги
Дмитрий Косырев
Гонконгская SouthChina MorningPost опубликовала репортаж-исследование на весьма редкую тему: о том, что новое поколение китайцев обзавелось не тем национализмом, что предыдущее. Нынешние (родившиеся после 2000 года) патриоты выросли уверенными, активными до скандальности, они создают мощную базу поддержки правительству, но как только оно проявит слабость — поддержки этой может и лишиться.
Это абсолютно российская тема по множеству причин. Во-первых, потому, что мы прошли или, точнее, проходим те же стадии национальных чувств, поэтому наблюдать за собратьями по разуму полезно и интересно. Во-вторых — потому, что китайский национализм, как нас постоянно пугают желающие подорвать отношения Москвы и Пекина, может и нас коснуться.
Сразу сделаем оговорку: в России есть неясность насчет того, чем отличается национализм от патриотизма. Первый уже чуть не записали в категорию ругательств, почти как синоним нацизма, а со вторым все нормально. Но во внешнем мире все необязательно так — там, например, национализмом часто называют политику правительств, направленную на отстаивание своих интересов в противовес "общечеловеческим", то есть западным альянсам разных эпох с их системой ценностей и прочим. Эта битва за термины довольно интересна, и к ней мы еще вернемся.
Итак, публикация гонконгской газеты, которая старательно сохраняет свое старое, колониальное "британское" лицо, оставаясь при этом вполне прокитайской или как минимум объективной. Она описывает знаменитых "воинов интернета", для которых 250 тысяч подписчиков — не сенсация. Такие люди в реальный мир за пределы Сети пока не выходят, но там очень грамотно устраивают, скажем, бойкоты иностранных марок, если те поддаются своим идеологам и отказываются от хлопка из Синьцзяна, где якобы угнетают уйгуров. И эти люди требуют от Пекина большей агрессивности во внешней политике, прежде всего для того, чтобы страну больше уважали в мире.
Самое интересное в этой публикации — анализ разницы между поколениями. Суть в том, что предыдущие генерации выросли в стране, заметно более бедной и более слабой, чем Запад. Нынешняя живет уже в другой державе, а заодно на этот самый Запад (как, впрочем, на восток, юг и север) выезжает по любому поводу, хотя бы просто чтобы отдохнуть. Видит мир и наблюдает: жизнь в Китае как минимум не хуже, чем где-либо еще.
В 2018 году — когда в США уже был Дональд Трамп и страну уже сотрясали внутренние битвы — социологическая служба университета Пэрдью выяснила, что у 42 процентов учившихся там студентов из КНР мнение о США стало хуже после того, как они там пожили и понаблюдали за происходящим. И 46 процентов стали лучше думать о своей стране, пожив в Америке.
История китайского национализма долгая и поучительная. Национализм разных видов обычно возникает при обнаружении публикой, что существуют и другие страны, но для Китая он стал реакцией на национальную катастрофу, которая возникла еще в конце колониалистского XIX века. То был национализм болезненный, ущемленный, злобный, смешной — но вырастал он среди образованного класса древней цивилизации, которая и правда превосходила множество прочих по части книгопечатания, личной гигиены, системы правосудия и так далее и тому подобное. Не говоря уже о порохе или чае. И вот поколения интеллектуалов, а также людей совсем неграмотных выясняли, почему другие и очевидно варварские страны рвут Китай на части, вторгаются, унижают, презирают.
Собственно, истерики хунвэйбинов в 60-е годы у российского посольства в Пекине (а они, кстати, однажды устроили свой шабаш на Красной площади в Москве) тоже были последними отголосками того самого изначального и ущемленного национализма.
Дальше можно подумать, что если нация богатеет, тем более, как Китай, выходит на уровень мировой державы, то она становится сытой и благодушной, как удав.
Но мировая история ничего подобного нам не демонстрирует. Римляне, владевшие громадной империей, имели склонность не замечать, что завоеванные ими народы иногда оказывались в чем-то цивилизованнее их самих. Что уж говорить об Америке. Эта нация с начала прошлого века вошла в стадию самоупоения, из которой выходит вот только сейчас, на наших глазах. Это мирные туристы могли свысока посмеиваться над кем угодно — европейцами, азиатами и прочими, но политики и военные стратеги на полном серьезе думали, что существуют для того, чтобы всех сделать американцами, причем иногда и силой.
Тот мир, повторим, рушится, приходит совсем другой — со своими национализмами и патриотизмами. И чего нам ожидать дальше от набравшего самоуверенности Китая? От Индии, идущей следом? От арабского мира?
У всех есть свой исторический счет обид к внешнему миру. Кстати, у России тоже. И счет этот хотя бы частично имеет основания, он вовсе не обязательно вымышленный.
Глобализм был ответом на эту проблему, но, видимо, отказ от наций, их особых культур, их патриотизмов был ответом не очень умным. Не говоря уж, что речь шла попросту о том, что одна цивилизация должна была поглотить все другие. Не сработало. Что дальше?
В Китае (мы возвращаемся к публикации гонконгской газеты) ситуация такова: власть оседлала тигра. Пока что нет фатальных расхождений между политикой Пекина и настроениями молодого поколения. Но все-таки это тигр, и управлять им не вполне безопасно. При этом в политической верхушке был и будет спор между "пандами" (которые считают, что образ страны за рубежом должен быть мирным, травоядным, безголосым и улыбчивым) и "волками", которые хорошо знают, что значит с волками жить.
Но дело в том, что так же выглядит ситуация внутри любого политического класса любой другой страны. И один из вызовов наступающей новой эпохи — не повторить ошибок эпох прежних, когда у волков было что-то вроде монополии на выработку правильных форм национализма.
Талибы вмешались в выборы во Франции и Германии
Елена Караева
Сегодня главы МВД стран ЕС в очном формате (что указывает на чрезвычайный характер дискуссии) должны обсудить, что им делать с грядущим новым потоком нелегалов (на этот раз из Афганистана), который должен достичь границ сообщества приблизительно через восемь-двенадцать недель. Не менее двух, но и не более трех месяцев, чтобы пройти несколько тысяч километров в поисках лучшей доли и убежища, оказавшись перед рубежами "европейского парадиза".
Границы, правда, будут заперты.
И тут не должно быть никаких иллюзий: и Германия, где до выборов осталось несколько недель, и Франция, где первый тур голосования назначен на середину апреля будущего года, больше всего боятся повторения сценария шестилетней давности, когда канцлер Меркель открыла ворота не только ФРГ, но и всего Евросоюза.
Тогда у находившихся у власти в Париже, Берлине и, главное, в Брюсселе были иллюзии насчет европейских возможностей ассимиляции миллионов нелегалов, как были и лозунги (и медийные рычаги, чтобы их продвигать), которые в тот момент помогли заморочить головы европейских обывателей.
Сегодня у элит в Европе нет ни первого, ни второго, зато они слышат отчетливо различимый ропот недовольного общества, считающего, что его фактически лишили дома.
Цифры, которые еще год назад приводил в своих опросах влиятельный французский IPSOS, никаких сомнений на сей счет не оставляют: свыше двух третей жителей Франции из-за притока нелегалов перестали себя чувствовать "как дома" в своей же собственной стране.
Вчера, за несколько часов до финальных звуков коды сокрушительного позора США, когда те положат конец своему 20-летнему присутствию в Афганистане, Франция (вместе с Британией) в последней попытке сохранить хотя бы видимость "плана эвакуации" инициировала внесение проекта резолюции для обсуждения на Совете Безопасности ООН. Она касается создания "буферной зоны", которая, по мысли уже проваливших все, что только можно провалить, парижских и лондонских дипломатов, должна позволить продолжить "усилия по эвакуации афганцев".
Макрон не успел толком это свое предложение сформулировать, как последовал ответ представителя движения Талибан*, который сообщил, что те, кто сегодня контролирует ситуацию в Афганистане, этого сделать никому не позволят, поскольку, как было подчеркнуто, "окажись в аналогичной ситуации Франция, Париж бы не приветствовал иностранное вмешательство в его внутренние дела".
В воскресенье вечером французский президент, давая еще одно интервью, уже TF1 (от жанра в обоих случаях — лишь название, журналисты задают вопросы, которые им диктовали в Елисейском дворце), выглядел утратившим и лоск, и элегантность. Положение, в котором он оказался, описывается известным выражением о желании сохранить невинность (ценности "правочеловеков") и приобрести капитал (выиграть грядущие выборы).
Но и в ситуации, когда каждый следующий ход на "большой шахматной доске" ведет к еще большему ухудшению позиции, Макрон не был бы представителем сегодняшнего европейского истеблишмента, если бы не позволил себе выпад, пусть и чуть закамуфлированный, в отношении России (а заодно и Китая).
Французский лидер сказал следующее: "при нынешнем положении каждый должен принять на себя определяемую моментом ответственность", призывая (или угрожая?) Москву и Пекин к согласованным (кем, кстати?) действиям.
Меркель, которой до личного "дембеля" остается 26 дней, но которая, разумеется, мечтает, чтобы ее партия пришла к финишу первой на выборах в бундестаг, заняла позицию куда как более осторожную. Она постаралась избежать громких деклараций, которые сегодня в Европе обычно предшествуют еще более громким провалам.
Ситуация с ассимиляцией полутора миллионов сирийцев выглядит отнюдь не блестяще, что бы по этому поводу ни писали авторы многочисленных "немецких волн", и даже, казалось, вытравленная ксенофобия, конденсируясь то тут, то там, дает о себе знать протуберанцами.
Политика, как полагал еще один германский канцлер, Отто Бисмарк, есть искусство возможного.
Судя по тому, что сегодня говорят и делают те, кто в ЕС решает судьбы сотен миллионов избирателей, политика из искусства выбирать опции, искать компромиссы, находить консенсус превратилась в игру привокзальных наперсточников, задумавших обмишулить случайных прохожих, когда те решили немножко поисполнять "гражданский долг".
Ложь — просто потому, что сказать правду решительно невозможно, подыгрывание тем, кто хочет, вильнув влево, потом качнуться и вправо, отсутствие любых принципов, а еще — поиск виновных в проблемах, созданных собственными руками, — такой пока выглядит будущая программа кандидата в президенты Эммануэля Макрона, если очистить сказанное от демагогии и увидеть суть.
Тем временем Марин Ле Пен (и сегодня об этом говорят не только открыто, но и с некоторым даже куражом) наращивает свой отрыв по возможным результатам первого тура.
Лидер "Национального объединения", у которой Макрон пытается стащить повестку дня в том, что касается ограничения нелегальной миграции, приходит первой.
С 26 процентами против 24, что получает нынешний обитатель Елисейского дворца.
Когда речь идет о том, чтобы вернуть себе чувство хозяина (или хозяйки) дома, то здравомыслящие, те, кто не играет с властями в наперстки, а думает о будущем собственной страны, голосуя так, как считают нужным, всегда предпочтут настоящее полотно, а не жалкую копиистику.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Поезд уходит в море
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Благодаря железнодорожному транзиту Калининградская область закрепила за собой статус альтернативного коридора Нового Шелкового пути. Поезда из Китая в Европу через самый западный российский регион начали ходить по регулярным маршрутам в 2017 году, и с тех пор это направление развивается ускоренными темпами. В первом полугодии 2021-го объем калининградского контейнерного транзита приблизился к уровню всего прошлого года.
Росту транзитных перевозок способствует развитие мультимодальных маршрутов. Всего в прошлом году по инфраструктуре Калининградской железной дороги проследовали 47,5 тысячи ДФЭ (единица измерения равна объему, занимаемому стандартным двадцатифутовым контейнером). Это в 4,6 раза больше, чем в позапрошлом году. И если в 2019-м по мультимодальным маршрутам перевезли 180 ДФЭ, в 2020-м - уже 29,1 тысячи.
По итогам семи месяцев 2021 года общий объем калининградского контейнерного транзита составил 56,7 тысячи ДФЭ - в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Из них в мультимодальном сообщении проследовали 46,9 тысячи контейнеров (в 6,7 раза больше, чем за семь месяцев прошлого года).
Вот как организованы транзитные железнодорожно-морские перевозки. Контейнеры из Поднебесной следуют в Калининградскую область по железной дороге. В самом западном российском регионе их перегружают на морские суда и направляют в европейские города. Общая продолжительность пути не превышает двух недель, а иногда и десяти дней. То есть железная дорога сокращает время доставки грузов в три-пять раз. Ведь исключительно по морю самые быстрые контейнеровозы идут из Китая в Европу полтора месяца, а иногда и два месяца.
Сейчас действуют два постоянных мультимодальных маршрута. Первый, берущий начало в китайском Сиане, связан с Калининградским морским торговым портом. Отсюда контейнеры отправляются в немецкий порт Росток, затем вновь встают на рельсы и по железной дороге следуют в Дуйсбург. В рамках второго маршрута груз из китайского Синьчжу через порт Балтийск направляется в Гамбург.
География мультимодальных перевозок расширяется. В начале этого года холдинг РЖД совместно с международным контейнерным оператором ОТЛК ЕРА, европейскими и китайскими партнерами организовал тестовые маршруты из Поднебесной через Калининградский морской торговый порт в Данию (Фредерисия), Норвегию (Осло) и Великобританию (Иммингем).
Согласно прогнозам ОТЛК ЕРА, к концу 2021-го объем калининградского контейнерного транзита достигнет 146 тысяч ДФЭ, превысив показатели 2020 года в три раза. Дальнейший ежегодный прирост оценивается примерно в 20 процентов (прогноз рассчитан до 2025 года). Здесь важно отметить, что потенциал для развития инфраструктуры у калининградского коридора Нового Шелкового пути есть, и он колоссальный.
Так, холдинг РЖД на полигоне Калининградской железной дороги (КЖД) реализует инвестиционный проект, расширяющий инфраструктурные возможности транспортно-логистического центра "Черняховск". Здесь обустраивают новый контейнерный терминал. Уже заработал мощный козловой кран с пролетом под четыре погрузочно-выгрузочных пути. Он обслуживает как европейскую железнодорожную колею шириной 1435 миллиметров, так и стандартную российскую колею шириной 1520 миллиметров (Калининградская область располагает двумя колеями, что уникально для российского региона). По итогам реализации проекта перегрузочная способность ТЛЦ "Черняховск" увеличится в полтора раза - с 300 тысяч до 450 тысяч ДФЭ в год.
Еще один перспективный проект - создание в Черняховске транспортно-логистического хаба, перераспределяющего грузы по конкретным маршрутам для адресной доставки получателям. Предусмотрено, разумеется, и развитие железнодорожно-морских перевозок на базе ТЛЦ.
Развиваются и исключительно сухопутные перевозки. В июле 2021 года из Черняховска уже отправился первый поезд с торфом в итальянский Милан. Также железнодорожники и ОТЛК ЕРА намерены запустить до конца этого года регулярный контейнерный поезд из Китая в Европу с использованием обновленной инфраструктуры ТЛЦ "Черняховск". Кроме того, в рамках инвестпроекта обустраивают другой транспортно-логистический центр КЖД на станции Дзержинская-Новая в Калининграде.
Даже если конкурирующие транспортные коридоры также начнут наращивать свою инфраструктуру, маршрут из Китая в Европу, пролегающий через Калининградскую область, безусловно, останется в числе самых эффективных. Помимо уникального географического положения и активно развивающихся логистических мощностей, следует учитывать нематериальные ресурсы калининградского транспортного узла.
Административные вопросы здесь решаются в кратчайшие сроки, ведь КЖД и правительство Калининградской области давно и конструктивно взаимодействуют, создавая принципиально новые возможности для развития транспортного потенциала региона. Не менее важны организационные и административные ресурсы РЖД, благодаря которым поезда из Китая в Калининград "летят" через всю Россию без заминок, проходя границу за считаные часы. Еще один важный нематериальный фактор - опыт, который накопили калининградские железнодорожники. Для профессионалов, которые десятилетиями живут и работают в транзитном регионе, нерешаемых транспортно-логистических задач нет.
О важности калининградского коридора Нового Шелкового пути говорят и европейские партнеры. Как сообщает одна из крупнейших ежедневных газет Германии S?ddeutsche Zeitung со ссылкой на гендиректора порта Росток Гернота Теша, транспортировка контейнеров из Китая в Европу через Калининград оказала позитивное влияние на работу морских ворот в период пандемии. Первую половину 2021 года порт Росток и вовсе завершил с рекордным объемом грузооборота. Как сообщил Гернот Теш, с января по конец июня через причал перевалили 14,4 миллиона тонн грузов. Это на 1,7 миллиона, или на 13 процентов, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первой половине 2019 года, предшествовавшего пандемии, показатель составил 13,3 миллиона тонн.
Сейчас калининградская и немецкая стороны обсуждают возможность запуска парома из Балтийска в немецкий порт Мукран. Речь идет о ранее существовавшей линии, закрытой несколько лет назад. Если паромные перевозки из Калининградской области в Германию возобновят, это даст дополнительный толчок для развития калининградского мультимодального транзитного коридора.
Частных инвесторов из ЮФО заинтересовали иностранные акции
Текст: Руслан Мельников
В середине августа на Московской бирже было зарегистрировано более 20 миллионов брокерских счетов. Их открыли 13,4 миллиона человек. А количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло почти 4,3 миллиона.
Биржевая лихорадка
Как отмечают эксперты, приходящих на фондовый рынок розничных инвесторов становится больше с каждым месяцем и ведут они себя довольно активно. При этом неизменно растет популярность ИИС. Что, впрочем, неудивительно, ведь для владельцев таких счетов предусмотрены налоговые льготы двух видов.
Первый тип индивидуального инвестиционного счета дает право на ощутимый налоговый вычет. Максимальная сумма возврата уплаченных налогов при этом составляет 52 000 рублей в год (13 процентов от 400 000 рублей, внесенных на счет). Но эти деньги можно получить лишь при наличии официальной "белой" зарплаты, с который платится соответствующий НДФЛ. Владельцы второго типа ИИС при закрытии счета освобождаются от выплаты налога на доход от сделок. И в том, и в другом случае средства с ИИС нельзя выводить минимум в течение трех лет.
Южане оказались среди самых активных инвесторов. В числе регионов-лидеров, где зарегистрировано наибольшее количество индивидуальных инвестиционных счетов, фигурирует, в частности, Краснодарский край. По данным Мосбиржи, на начало августа жители Кубани открыли 124,3 тысячи ИИС.
- Мы отмечаем существенный рост числа инвесторов, - подтверждает заместитель начальника Южного управления Банка России Александр Гостев. - За 2020 год количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями Южного и Северо-Кавказского федерального округа, увеличилось более чем в два раза и достигло примерно 390 тысяч. При этом наблюдается определенный дисбаланс, поскольку около 70 процентов ИИС, зарегистрированных в двух округах, приходится на ЮФО. За первое полугодие 2021 года здесь появилось еще около 80 тысяч ИИС. В топ-10 регионов по активности инвесторов входят Краснодарский край, находящийся на шестом месте, и Ростовская область, занимающая девятую строчку рейтинга.
На фоне увеличения количества частных инвесторов еще одним явным трендом отечественного финансового рынка, на который указывают аналитики, оказался растущий интерес россиян к зарубежным активам. Тем более что их теперь можно покупать не только в валюте, но и в рублях. Если в начале года на Московской бирже таким образом торговались лишь 55 ценных бумаг иностранных компаний, летом их стало 204, а уже в сентябре будет 281. До конца 2021 года количество таких активов на площадке планируется увеличить до 500, а в 2022 году - до 1000.
Очередь за Tesla
С момента начала торгов зарубежными активами на Московской бирже сделки с ними совершили 211 тысяч человек. Средний дневной объем торгов в июле 2021 года достиг 3,5 миллиарда рублей. При этом возможность покупать и продавать иностранные ценные бумаги на Мосбирже предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков.
По данным биржи, на начало августа наибольшей популярностью у россиян пользовались акции Alibaba, Tesla, Apple, Virgin Galactic, Baidu, Boeing, Amazon, Intel, Micron Technology и Qualcomm. Российские частные инвесторы также активно приобретали биржевые фонды, ориентированные на американские акции, IT-сектор США, акции Китая и Германии. Кроме того, они торгуют и более сложными производными финансовыми инструментами. Речь, в частности, идет о таких деривативах на иностранные ценные бумаги, как фьючерсы и опционы.
- Расширение инструментария, доступного инвесторам, увеличение времени торгов на срочном и валютном рынках привели к увеличению клиентских операций. Мы видим интерес клиентов к торговым стратегиям глобального рынка, которые реализуются с использованием деривативов, - отмечает председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.
При этом все отчетливее проявляется противоречие между желанием властей и ЦБ привлечь с помощью налоговых льгот средства частных инвесторов для развития отечественного финансового рынка и стремлением россиян вложить деньги в иностранные активы, и следовательно - в экономику других стран. А с увеличением количества физлиц на фондовом рынке становится особенно важным направление финансового потока, формируемого отечественными частными инвесторами. К тому же чем больше россиян приходит на биржу, тем больше требуется расходов на налоговые льготы. Но такая поддержка со стороны государства теряет смысл, если деньги "частников", активно скупающих Apple, Tesla, Boeing или Alibaba, уходят из России в другую юрисдикцию. Впрочем, судя по всему, скоро ситуация изменится.
- Покупка российскими инвесторами иностранных ценных бумаг - это способ диверсифицировать вложения, и мы понимаем, что при прочих равных такая диверсификация снижает риски. Поэтому серьезных ограничений на инвестирование в эти активы нет. Но у нас на ИИС действуют налоговые стимулы. И сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы для физлиц, которые в основном ориентируются на иностранные ценные бумаги, то есть по сути вкладывают деньги в экономику других стран, эти налоговые стимулы не применялись, - говорит директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Михаил Ковригин.
Деньги из-под матраса
Примечательно, что многие частные инвесторы согласны с такой позицией регулятора.
- Я думаю, это справедливо, - считает ростовчанин Алексей, открывший ИИС два года назад. - У государства есть свой интерес: привлечь на фондовый рынок деньги россиян, которые лежат на вкладах, а порой и просто "под матрасом", показать возможную альтернативу депозитам, но объяснив при этом риски инвестирования, повысить финансовую грамотность населения. Научить, наконец, принципам самостоятельного формирования капитала к пенсии. Для этого и вводились налоговые льготы на ИИС.
Но рано или поздно должен был возникнуть вопрос о том, зачем нужны такие стимулы при покупке иностранных акций. Я предполагал подобное развитие событий и не покупаю на свой индивидуальный инвестиционный счет ни валюту, ни ценные бумаги зарубежных эмитентов. Поэтому, если льготы на ИИС отменят, меня это не коснется. Для диверсификации по странам и валютам я использую обычный брокерский счет и таким образом приобретаю зарубежные активы. Возможно, на брокерском счете я со временем воспользуюсь льготой на долгосрочное, не менее трех лет, владение активами. Пока вроде бы ее отменять не собираются даже в отношении иностранных ценных бумаг. А если и отменят, это не критично.
Кстати, рассматривая вопрос об отмене налоговых льгот для владельцев ИИС, формирующих свой портфель из иностранных активов, регулятор в то же время намерен повысить привлекательность долгосрочного инвестирования в отечественный рынок. Для этого предполагается изменить подход к использованию индивидуальных инвестиционных счетов.
- Планируется, в частности, увеличить лимит ежегодных взносов на ИИС второго типа до трех миллионов рублей (сейчас он составляет миллион рублей - прим ред.) в год, предоставить возможность частично изымать с него средства до закрытия счета без потери налоговых льгот и открывать такие счета у разных финансовых посредников. Также рассматривается инициатива освободить от налогообложения зачисляемые на ИИС дивиденды с акций российских эмитентов. Кроме того, разрабатывается индивидуальный инвестиционный счет третьего типа с горизонтом инвестирования 10 лет и более. В этом случае будет действовать комбинация налоговых льгот, предусмотренных сейчас по отдельности для ИИС первого и второго типа, - говорит Александр Гостев.
На такой счет можно будет направлять до шести процентов от зарплаты инвестора, а также вносить самостоятельно до 120 тысяч рублей в год. Но средства с него можно будет использовать через 10 лет лишь на определенные цели: покупку жилья, формирование дополнительной пенсии или пожизненных выплат - аннуитета.
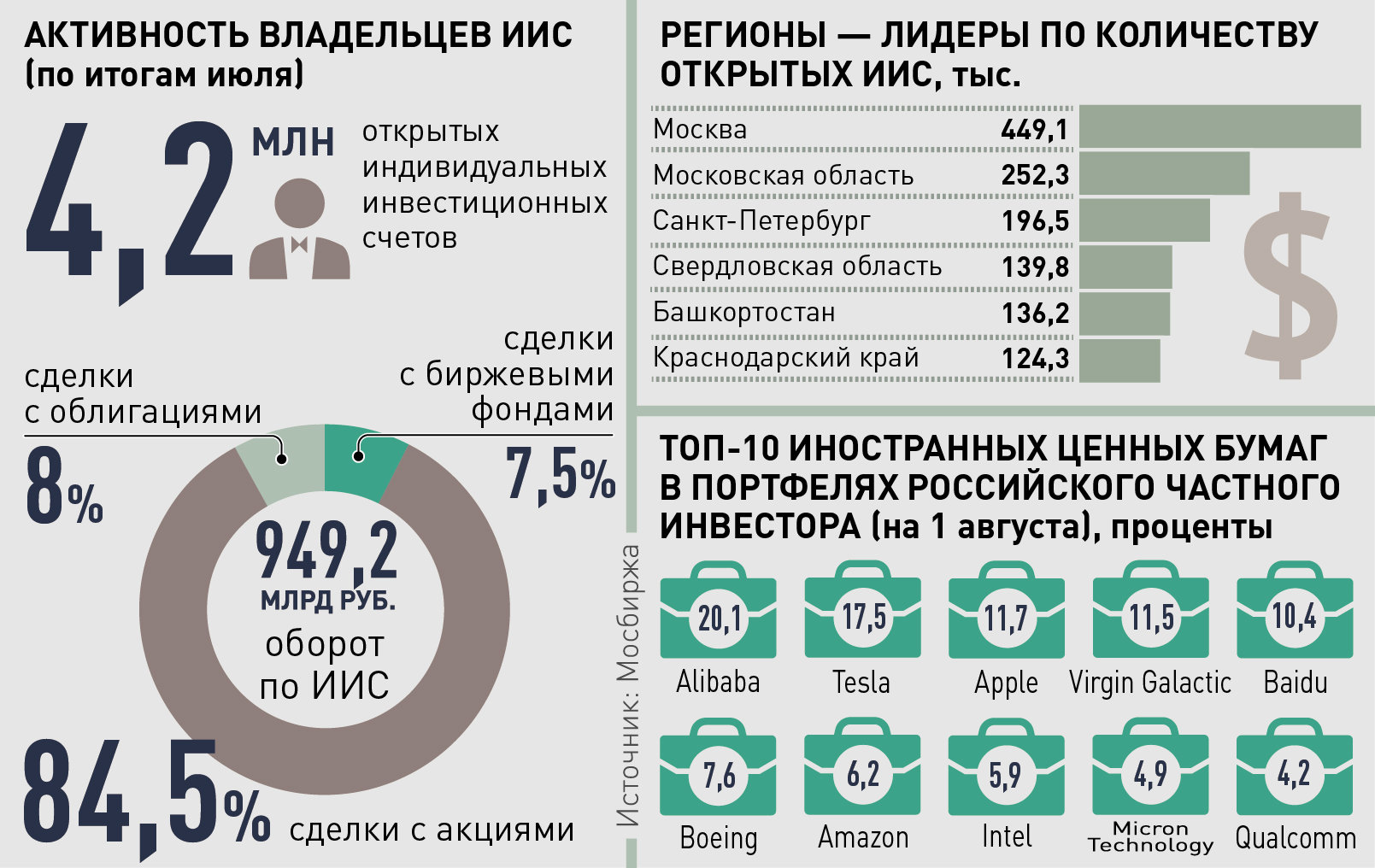
Радзиховский: Узбекистан не станет "подчиняться" никакой другой стране
Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Узбекистан - особое государство, единственное (кроме, понятно, России) из постсоветских республик, которое исторически может считаться "сверхдержавой", по крайней мере региональной. Самарканд был одно время столицей огромной империи Тимуридов, Бухарское ханство, затем Бухарский эмират (1500 - 1920 г.) включал в себя в разное время территории не только современных Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана, Казахстана, но и куски Афганистана, Ирана, Китая. Столицей Туркестанского края в Российской империи был Ташкент. Наконец, в СССР в ходе национально-государственного размежевания первыми статус "Союзной Республики" в октябре 1924 г. получили Узбекистан и Туркменистан, Казахстан и Киргизия были выделены из РСФСР только в 1936 г., а Таджикистан до 1929 г. входил в состав Узбекистана на правах автономной республики.
Такое прошлое остается в долговременной памяти элит и всего народа, влияет на самооценку, самоидентификацию. В своей "Великой шахматной доске" (1997) Бжезинский писал, что "Узбекистан является главным кандидатом на роль регионального лидера в Средней Азии". Звучит многозначительно, пафосно, а то и угрожающе. Жаль только, знаменитый геополитик забыл уточнить, что это может значить практически?
Но и без него мы знаем: ничего. В XXI веке "империи не носят": никто больше не претендует и тем более ничего не делает, чтобы захватывать, колонизировать другие страны или подчинять их политически, делать "протекторатами", "доминионами" и т.д. Иное у нас "тысячелетье на дворе" - нравится это кому-то или нет.
Естественно, не является исключением и Узбекистан. Формального, да и фактического статуса "Лидер Региона" у него нет и быть не может. Зато уж и "подчиняться" никакой другой стране - будь то Россия, Китай, США или кто угодно еще - Узбекистан, конечно, не станет. Страна не только де-юре, но де-факто вполне самостоятельна - политически, экономически, психологически. А вот это - в отличие от юридической независимости - уже относится далеко не ко всем государствам мира, в том числе и не ко всем странам бывшего СССР.
Сегодня Узбекистан - не только самая населенная страна Средней Азии. Он занимает 3-е место среди республик бывшего СССР и неумолимо догоняет государство № 2 - Украину. Так, по переписи 1989 г. Украина - 51,7 млн, Узбекистан - 16,5 млн, меньше 32% от Украины. В 2021-м картина абсолютно иная: Украина - 41,7 млн (включая ДНР-ЛНР), Узбекистан - 34,7 млн, больше 83% от Украины. Я выбрал эти страны, просто чтобы наглядно-контрастно показать, как меняется демографическая картина на пространстве бывшего СССР (кстати, сходные процессы, конечно, идут во всем мире). При этом в самом Узбекистане с 1989-го значительно выросла доля узбеков (с 71 до 84%) и резко (с 8 до 2%) рухнула доля русских, уменьшилось и их число - с 1,7 млн до 0,7 млн чел. Картина тоже типичная для всех постсоветских республик.
Узбекистан, как известно, богат природными ископаемыми (золото, газ, медь), а также один из крупнейших в мире производителей хлопка. Это определяет структуру внешней торговли. Так, в 2020-м экспорт из Узбекистана составил 13,2 млрд, импорт в республику - 20 млрд долл. Крупнейшими партнерами по экспорту были названы Россия (13%), КНР (9%), Турция (7%). Но при этом львиная доля экспорта (45%) обозначена без названия страны. Речь тут в первую очередь идет о Швейцарии - главном покупателе узбекского золота, на ее долю в 2018 г. приходилось свыше 31% экспорта - больше, чем во все республики бывшего СССР вместе взятые. Нет причин считать, что в 2020-м ситуация изменилась. Другим крупным экспортным партнером Узбекистана является Англия.
Что касается импорта, то в 2020-м партнеры Узбекистана - КНР (22%), РФ (20%), Казахстан (10,5%), Корея (10,5%).
Диверсифицированная, многовекторная картина. Такой же является и внешняя политика Узбекистана. Так, в 1992 г. республика вошла в ОДКБ, в 1999-м - не подписала договор о продлении членства в ОДКБ, в 2006-м - опять вошла, а в 2012-м - снова "приостановила членство". Такой же сложный танец Узбекистан проделал и с "прозападной" организацией бывших республик СССР ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова): в 1999-м Узбекистан вступил, в 2005-м - вышел. В общем, Узбекистан явно предпочитает и имеет силы "гулять сам по себе". Проявляется это и в географии "государственных визитов президента". Шавкат Мирзиеев стал президентом в 2016-м (в 2003-2016 гг. - премьер-министр). За прошедшие 5 лет совершил визиты в РФ (2017), США (2018), КНР (2017), Республику Корея (2017), Францию (2018), Германию (2019) и т.д. Это тоже показывает "равноудаленность" государства, которое поддерживает ровные отношения с Востоком и Западом.
Мирзиеев имеет репутацию реформатора, либерализующего экономику. И как будто довольно успешного: во всяком случае ВВП растет неплохо, даже с учетом исходно низкой базы. Так, в 2019-м рост ВВП по ППС - 10,5% (выше всех среди бывших республик СССР) и даже в кризисном 2020-м - рост на 1,6% (выше только в Таджикистане - 4,5%). Вообще же, если брать период с 1990 по 2018-й (данные Всемирного банка) ВВП Узбекистана вырос на 463%, второе место среди постсоветских республик (почти вровень Туркмения - 467%. Для сравнения: РФ - рост на 390%). Правда, при этом страна остается бедной: в 2020-м ВВП по ППС на душу населения 7,500 долл. (121-е место в мире, среди постсоветских стран ниже только Киргизия и Таджикистан). Соответственно, по объему ВВП - 253 млрд - 62-е место в мире, 4-е место в бывшем СССР (выше только РФ, Украина и Казахстан).
Почему в России закрываются гипермаркеты и супермаркеты
Текст: Татьяна Карабут
Россияне стали меньше ездить в большие гипермаркеты, чтобы закупить продукты впрок на неделю. Они предпочитают магазины у дома или онлайн-покупки. Так, "Ашан" уже закрыл треть супермаркетов только в первом полугодии. Однако эксперты уверены, что большой формат магазинов остается перспективным каналом продаж как для физических покупателей, так и для сервисов доставки продуктов.
"Ашан Ритейл Россия" принял решение о закрытии 17 супермаркетов, которые "показывали неудовлетворительные результаты", подтвердил "Российской газете" генеральный директор сети Иван Мартинович. Таким образом, если в июне прошлого года у российского подразделения работало 274 торговые точки разного формата, то в июне 2021 года - 238.
Закрываются магазины не стандартные для "Ашана": те, которые достались компании от сети "Атак" и открыты в качестве экспериментов самой компании, говорит генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Но дело не столько в этом. Рынок трансформируется в сторону онлайн-торговли, потребительские предпочтения заметно меняются.
Но "Ашан" из-за перестановок в самой компании, которые наблюдались в последнее время, за этими переменами не успевает, считает Иван Федяков. Несмотря на то, что сеть одной из первых открыла свой онлайн-магазин (уже после него появились первые сервисы доставок), она оказалась в этой гонке в отстающих.
При этом тенденция к сокращению магазинов формата супер- и гипермаркет наметилась задолго до пандемии и никак с ней не связана, уточняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Сейчас речь идет скорее не о закрытии физической розницы, а о диверсификации бизнеса, перенастройке форматов и каналов взаимодействия с клиентом. Так, именно сейчас быстрыми темпами развивается интернет-торговля - по итогам прошедшего года она занимает уже 9,6% продаж, поясняет Соколов.
Это подтверждает и опыт других крупных торговых сетей, которые развивают сразу несколько форматов торговли. В "Ленте" "РГ" рассказали, что в первом полугодии онлайн-продажи продемонстрировали рост на 300%. Трафик сократился на 2,1%, но средний чек вырос на 1,4%. При этом в первом полугодии "Лента" запустила новый формат магазинов у дома "Мини Лента", открыв двенадцать новых магазинов.
Во втором квартале 2021 года X5 закрыла 46 магазинов "Пятерочка", три супермаркета, девять гипермаркетов и один небольшой даркстор Vprok.ru "Перекресток", рассказали "РГ" в X5. Но вместе с тем сеть добавила 336 новых магазинов: 308 "Пятерочек" и 28 "Перекрестков". Количество онлайн-заказов "Перекресток Впрок" во втором квартале увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А заказы экспресс-доставки выросли в пять раз, до 4,2 млн. При этом и офлайн-продажи выросли на 4%. "С апреля трафик стал главным драйвером продаж в результате смены прежнего тренда: покупатели стали чаще посещать магазины", - утверждают в Х5.
Формат гипермаркета попал под давление из-за изменений потребительских предпочтений. И скорее всего, их количество будет сокращаться. Но это будет либо стратегическое решение, как в случае с Х5, который отказался от формата "Карусель", либо это будут закрытия региональных небольших сетей, которые не выдерживают конкуренции. Сейчас в стране 1100 гипермаркетов. Возможно, их количество сократится примерно на 50 магазинов, считает Федяков. Но сам по себе формат остается востребованным, уверен эксперт. Хотя трафик покупателей и снизился, это компенсировалось увеличением среднего чека. Свой потребитель у гипермаркетов есть.
Кроме того, гипермаркет сейчас выполняет роль магазина-склада. В отличие от обычного склада гипермаркет находится близко к потребителю, здесь установлены доступные цены, потому что у сетей достаточная закупочная сила. Поэтому для сервисов доставки продуктов это прекрасный вариант, считает эксперт.
При этом гипермаркеты могли бы использоваться более активно для доставки непродовольственных товаров. "Непродовольственный ассортимент ушел в онлайн. При этом сейчас активно развивается сервис экспресс-доставки. Люди привыкают, что через 15 - 20 минут можно получить не только продукты, но и смартфон или телевизор. А это невозможно сделать, если склад расположен за 300 километров от покупателя", - поясняет Федяков.
В формате магазина-склада для такой торговли кроется неплохой потенциал. Недаром в Китае "Ашан" продал свое подразделение Alibaba. В перспективе нечто подобное могло бы произойти и в России, считает Федяков.

Глава Минприроды о борьбе с пластиком и ответственности производителей за свои товары
Текст: Елена Березина
На каждого жителя планеты сегодня приходится более тонны пластмассы, а ежегодно в мире на свалках оказывается свыше 200 млрд пластиковых бутылок, почти 60 млрд одноразовых стаканов и несчетное число полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются столетиями. Если мы не остановимся, то скоро их просто некуда будет выбрасывать.
Стало известно, что минэкономразвития предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП, предполагает, что производители должны утилизировать за собой все товары) с 2022 года на 2024-й. У минприроды другая точка зрения. О том, почему нельзя больше откладывать реформу, несмотря на сопротивление бизнеса, в интервью "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Уже несколько лет говорим о том, что производители будут утилизировать все товары, но они по-прежнему бесхозные. Когда наконец заработает в полную силу концепция РОП?
Александр Козлов: Все замечания бизнеса, как в машине времени, отсылают нас назад - к пересмотру концепции. Основные разногласия по трем пунктам. Во-первых, бизнес предлагает отказаться от стопроцентного норматива и не утилизировать все, что производится.
Во-вторых, нам важно видеть отчетность производителей товара в операционном режиме. Условно, два раза в год. Сейчас мы видим ее лишь на следующий год после того, как прошел отчетный год.
В-третьих, мы предложили создать реестр производителей товаров и упаковки. Если данные производителя о товаре туда не внесены, то торговать им нельзя.
Мы столкнулись с дискуссией по каждому. Допустим, я продаю огурцы, но я покупаю стеклянную банку, крышку, этикетку. Почему я не должен думать, перерабатываются они или нет? Производителю пора задуматься, кого выбирать в партнеры. Государство никого не навязывает, а лишь говорит о том, что товар должен иметь возможность переработки.
И когда мне говорят - мы не готовы, я отвечу - мы никогда и не будем готовы, потому что долго разговариваем. Надо просто брать и делать. Да, для стопроцентного норматива утилизации нет мощностей, но они и не появятся, пока нет обязанности все перерабатывать. Каждый день промедления приводит к тому, что мусора копится все больше. Шоколадку купил, упаковку выбросил, а переработать этот фантик никто не должен.
Так давайте запретим фантики, пакеты, одноразовые трубочки. Когда откажемся от производства и импорта изделий из пластика?
Александр Козлов: Мы отправили в минпромторг предложения по запрету 28 позиций. Среди них пластиковые непрозрачные и цветные пэт-бутылки, пластиковые тарелки, трубочки, столовые приборы. Для всех есть альтернативный вариант. Например, непрозрачные бутылки предлагаем заменить прозрачными, тарелки делать из пульпекартона, пластиковые трубочки заменить бумажными или деревянными. Предлагаем вводить запрет постепенно до 2024 года.
Минпромторг формирует окончательный список, который потом утвердит правительство. По поводу импорта тоже решит минпромторг, но наша позиция неизменна - в чем смысл отказа от отечественного неперерабатываемого пластика? Чтобы на полигонах копить импортный.
И давайте уберем слово "запрет". У нас любят запрещать, не разрешать, но мы не за это. Просто зачем производить то, что не перерабатывается. Напиток в бутылке не изменится независимо от того, прозрачная или непрозрачная. Так зачем ты заказываешь упаковку для своего товара, которая не перерабатывается? Закажи прозрачную, ее семь раз переработать можно. И она будет постоянно в работе, а не гнить в земле.
Считали, сколько места на полигонах сэкономит отказ от одноразового пластика?
Александр Козлов: Сложно оценить, так как нет решения по видам товаров для отказа. К 2030 году нужно в два раза снизить полигонное захоронение. На это и ориентируемся. 28 позиций - это самая большая проблема. У нас много несанкционированных свалок. Сколько там всего этого хранится, тяжело даже угадать.
В каких городах вот-вот закончится емкость свалок?
Александр Козлов: Большие риски в 20 регионах - Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области - там мощности будут исчерпаны в ближайшие 2-3 года. Там, в том числе до 1 января 2023 года, закроют полигоны, работа которых временно разрешена.
Недавно начали заниматься Краснодарским краем. Пять районов свозят мусор на полигон, который уже истощается. В свое время не приняли решение о замещении этих мощностей, не говоря уже о переработке. Сейчас составляем пошаговый график по утилизации. А ведь это курорты, на которые ездит вся страна.
В 9 регионах - Забайкалье, Камчатка, Красноярский край, Магаданская и Новосибирская области, Дагестан, Якутия, Чукотка и Севастополь - уже дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки.
И что будете делать?
Александр Козлов: "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) составил с регионами план действий.
Для каждого спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов. Надеюсь, что губернаторы к этому отнесутся трепетно, потому что если эта проблема захлестнет города, мало никому не покажется.
Несмотря на "повсеместное внедрение" раздельного сбора мусора, в большинстве городов мусор сваливают, как и раньше, в один бак. Да и емкостей этих баков вечно не хватает. Как минприроды намерено с этим бороться?
Александр Козлов: Контейнеров для раздельного сбора мусора, правда, не хватает. В бюджете заложен 1 млрд рублей на предоставление субсидий на 70 тысяч контейнеров.
Дискредитирующе выглядит, когда на площадках есть раздельный сбор, люди поддерживают эту философию, а потом приезжает один мусоровоз и собирает отходы со всех. Это профанация, обман самих себя.
65 регионов ввели у себя раздельный сбор отходов (РСО), теперь мы хотим закрепить это регуляторно. Готовим изменения в законодательство для того, чтобы это стало обязательным; чтобы не смешивали раздельный мусор. Если в регионе введен РСО, то региональный оператор, который этим занимается, обязан соблюдать требования. В противном случае он не сможет выполнять эти работы.
Как предлагаете наказывать тех, кто кидает биоотходы в контейнер для вторсырья?
Александр Козлов: Не надо все взвалить на государство, оно определило игроков рынка. Губернатор назначил регионального оператора, мэр - управляющие компании. Им пора начать заниматься с этими людьми на местном уровне. Нормативная база для этого есть. Что мешает управляющей компании в отдельно взятом доме работать с определенными жильцами? Почему мы считаем, что чиновник из министерского кабинета должен наладить диалог между управляющей компанией и жильцом?
Мусор появляется не только сегодня, по стране полно заброшенных производств и свалок. Сколько денег и времени понадобится, чтобы убрать все объекты накопленного вреда?
Александр Козлов: Нам нужно накопить опыт ликвидации этих объектов, чтобы понять, сколько времени и средств требуется. Сейчас у нас около 2000 объектов накопленного вреда и более 26 тысяч скважин нераспределенного фонда недр.
Первоочередная задача - провести ревизию. Определить, какие объекты самые опасные. Их ликвидируем первыми. Некоторые могут выглядеть некрасиво, но вред здоровью не приносят. А бывает, стоит холмик, а под ним килограмм ртути лежит. Для этого мы расширим полномочия Роспотребнадзора и Росприроднадзора, которые выполнят эту оценку.
Но мы не только сидим и считаем. 64 объекта уже ликвидированы, из них пять крупных полигонов в Подмосковье. В этом году в рамках проекта "Чистая страна" уберем 14 свалок, в том числе в Челябинске (одна из крупнейших), и девять опасных объектов. Среди них три полигона Московской области - "Вальцово", "Царево", "Слизнево". Это улучшит качество жизни трех миллионов человек.
Авария в Норильске показала, насколько хрупка наша природа и как легко нарушить экологический баланс. Возможно ли развитие промышленности не в ущерб окружающей среде?
Александр Козлов: Необходимо организовывать работу так, чтобы свести к минимуму риск аварий. Такие ситуации, как с "Норникелем" в Норильске, не должны повторяться. Для этого мы разработали законопроект об ответственности собственников за вред окружающей среде. Получил прибыль - будь добр, проследи, чтобы не было ущерба природе. Осенью мы внесем его в Госдуму.
Развитие экономики не в ущерб экологии -это баланс, к которому мы должны стремиться и его соблюдать, это догма. Экономическая экспансия, которую ранее демонстрировало человечество, невозможна. Она губительна для планеты. Нужны иные подходы - за этим будущее.
Как усилить контроль за предприятиями, чтобы не парализовать бизнес?
Александр Козлов: После Норильска Росприроднадзор стал проверять подобные производства. Уже обследовано 112 объектов 17 компаний, еще 10 предприятий проверят до конца октября. Нашли 2058 нарушений, возбуждено 402 дела об административных нарушениях на сумму более 17,5 млн рублей.
Мы не можем проверить все предприятия сразу, на это просто физически не хватит сил, людей и времени. Поэтому при подготовке планов проверок на следующий год применяем риск-ориентированный подход. Росприроднадзор приходит туда, где вопросы экологической безопасности игнорируются. Плюс реагируем на жалобы жителей, общественных инспекторов.
Главная задача - не штрафы собирать, а сделать так, чтобы соблюдать экологическое законодательство было выгодно. Предприятие должно получать прибыль, вкладываться в производство, а не платить штрафы. Если бизнес заботится об окружающей среде, это видят люди, которые живут рядом.
Уже при проектировании производств нужно учитывать требования экологической повестки. Понятно, что это удорожает проект, но это не наказание, а норма. Акционер должен понимать: если он сегодня выгребает из предприятия максимум, покупает себе новые машины, самолеты, яхты, то это происходит за счет износа. Проходит какое-то время, надо утилизировать, а он этого сделать не может, потому что все полезное оттуда взял.
Наши коллеги из минпромторга готовы помогать производственникам, у них есть долгие деньги. Мы со своей программой "Чистый воздух" тоже готовы стать соучредителями специального фонда для того, чтобы предприятия на возвратной основе брали дешевые деньги на модернизацию.
Мне вопрос утилизации предприятий жизненного цикла кажется очень важным. Ты владеешь производством, на этом зарабатываешь, почему же не думаешь об ответственности, ведь вред наносишь всем людям.
Предприятия возмещают ущерб, платят штрафы, но деньги уходят в бюджет во имя экологии, а возвращаются оттуда куда угодно, не на охрану природы. Когда будут окрашены экологические платежи?
Александр Козлов: Окраска "экологических" платежей вводится законопроектом о предотвращении накопленного вреда окружающей среде. Сейчас он в правительстве, мы планируем внести его в Госдуму в осеннюю сессию. Окрашена будет плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения и платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде.
Сейчас мы санкциями и другими способами набираем по году где-то 23 млрд рублей. "Норникель" не беру, это исключение. Лишь 2% из этих денег пошло реально на экологическую повестку. Получается, виновные ответили рублем, но для отрасли и экологии ничего не изменилось, деньги ушли в общий котел.
Окрашенные средства по аналогии с дорожными фондами будут направлены на выполнение работ по ликвидации, а если в регионе нет объектов накопленного вреда, то на другие природоохранные мероприятия.
С 2023 года средства от экологических платежей будут частично перекрывать затраты федбюджета. "Окрасить" их в 2022 году нельзя, поскольку регионы в конце 2021-го уже сформируют свои бюджеты на следующий год.
Не меньше, чем уникальный штраф "Норникелю", удивило то, что компания его выплатила. На что все-таки будут потрачены эти деньги?
Александр Козлов: "Норникель" - крупная горно-металлургическая компания с мировым именем. И она взяла на себя ответственность за допущенные ошибки. Выполнила свой долг перед людьми и государством. Это достойное поведение бизнеса. Средства пойдут на экологические проекты. Регионы уже делают свои предложения. 38 млрд рублей будут выделены Красноярскому краю. В Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе планируется реконструировать очистные сооружения и сети водоотведения, которые сейчас изношены на 60-100%, построить комплекс по обработке и утилизации твердых бытовых отходов, заменить городской транспорт на более экологичный, ликвидировать накопленный вред и последствия нефтеразлива.
Красноярск планирует закрыть 25 угольных котельных и перевести частный сектор на электрическое отопление, отремонтировать трамвайную инфраструктуру и закупить более экологичный транспорт, рекультивировать шламонакопитель в черте города, который содержит 12 тысяч тонн опасных отходов.
Свою лепту в аварию в Норильске внесло и таяние вечной мерзлоты. Не пора усилить контроль за ней?
Александр Козлов: Осенью законопроект по созданию государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты внесем в правительство, а затем в Госдуму. Создать ее предлагаем на базе наблюдательной сети Росгидромета. Этот процесс небыстрый - займет несколько лет - и будет включать два этапа: "пилотный" и "основной".
На первом этапе - с 2022-го по 2024 г. - разработаем методы и технологии мониторинга исключительно для арктической зоны России на основе опыта пунктов, которые работают на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. После дооснащения эти пункты войдут в общероссийскую систему. Она будет создана уже после 2024 года и "накроет" территорию всей криолитозоны страны. На втором этапе - с 2025-го по 2035 г. - дооборудуем еще 120 пунктов мониторинга многолетнемерзлых грунтов.
Сколько средств потребуется на создание такого мониторинга?
Александр Козлов: В течение 10 лет потребуется 1,5 млрд рублей. Это 140 пунктов мониторинга. На каждом из них будут выполняться непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на глубине от 10 до 30 метров. Некоторые из них будут "опорными" и будут также заниматься регулярными наблюдениями за динамикой сезонно-талого слоя, наблюдать за динамикой наледей, таликов (слои мерзлоты, которые не замерзают. - "РГ"), деформациями земли.
Как жаркое лето 2021-го скажется на вечной мерзлоте?
Александр Козлов: Мы пока можем оценить только предыдущий год. Он оказался экстремально теплым в России и мире. В нашей стране было теплее в среднем на 3 градуса по Цельсию. Ледяной покров в акватории арктических морей, по которым проходит трасса Севморпути (СМП), к сентябрю 2020 года сократился до рекордно низкого уровня - 26 тыс. кв. км. Думаю, 2021 год нас тоже удивит.
Ущерб от таяния вечной мерзлоты минприроды оценивает в 5 трлн рублей. Удастся ли нам что-то приобрести? Например, увеличится время навигации по СМП?
Александр Козлов: Время навигации по СМП, возможно, увеличится. Но не уверен, что это как-то можно сравнивать с рисками для инфраструктуры. 65% нашей страны находится в зоне мерзлоты. Это 11 млн квадратных километров. Из них 3,5 млн - зона сплошной мерзлоты. То есть она там максимальна - доходит в глубину до полутора километров. И в условиях таяния амплитуда изменений колеблется от 250 до 400 метров.
Более 40% оснований зданий и сооружений в криолитозоне уже имеют деформации. Деградация мерзлоты, по некоторым подсчетам, оказывается причиной 23% технических систем и 29% потерь добычи углеводородов. Проблемы возникают при строительстве железных дорог, которые используются и для подъезда к Севморпути.
Когда на СМП может быть запущен контейнерный коридор, с учетом таяния вечной мерзлоты, чтобы ледоколы просто шли друг за другом, а путь в принципе не зарастал?
Александр Козлов: Проблема не в мерзлоте. Коридор заработает только тогда, когда Севморпуть станет магистралью. Для этого нужен ледокольный флот, точки сервисного обслуживания судов, связь по всему маршруту, возможность эвакуации людей. И все это в обмен на скорость. Но при этом я должен понять, что захожу на платную дорогу, меня по ней ведут, сколько стоит - это все раскидывается на группу товаров. Вот эти все вещи нужны.
Какая доля запасов нефти будет нерентабельной для разработки при ценах - 40, 50, 60 долларов за баррель?
Александр Козлов: Однозначно ответить на этот вопрос нельзя - доля рентабельных запасов сильно варьируется от одного месторождения к другому. Кроме того, оценки рентабельности зависят не только от цен на углеводороды, но и от курса рубля, инфляции, тарифов, которые все время изменяются. Сегодня запасы нерентабельные, а завтра обстоятельства изменились - и они стали рентабельными.
Будет ли проводиться повторная инвентаризация запасов нефти и планируется ли сделать механизм учета запасов регулярным?
Александр Козлов: Мы провели инвентаризацию запасов углеводородов для месторождений на суше и континентальном шельфе с запасами свыше 5 млн тонн по состоянию на 1 января 2019 года. Доклад был отправлен в правительство в июле 2021 года. Сейчас на госбалансе запасов полезных ископаемых учтено 2716 месторождений. В промышленной разработке 1940 месторождений с извлекаемыми запасами 22,8 млрд тонн.
Уточнена оценка извлекаемых запасов по 708 наиболее значимым месторождениям. В 2020 году инвентаризация продолжена, минприроды и минэнерго уточняют ее результаты по отдельным месторождениям. По итогам инвентаризации минэнерго и минфин оценят существующие налоговые условия и дадут предложения по дополнительному стимулированию добычи нефти.
Скоро стартует общефедеральная проверка лицензий на право пользования углеводородным сырьем. Что ждет нарушителей? Например, если лицензию на Обское месторождение "Новатэку" выдали под производство СПГ, а вместо него там ГХК - метанол и аммиак.
Александр Козлов: Мы затеяли инвентаризацию лицензий, чтобы уйти от человеческого ресурса и максимально перевести все в цифру. Экспериментально проверили Дальний Восток и Арктику. Из 6281 проверенных лицензий на твердые полезные ископаемые у 1192 выявили нарушения, 11 уже отозвали. Всего в списке по всей стране 9379 лицензий на твердые полезные ископаемые.
У нас нет задачи забрать лицензии, важнее, чтобы недропользователи активно разрабатывали и развивали ресурсную базу. Многое зависит от характера нарушений: у кого-то просто нарушены даты по сдаче отчетности, а кто-то задержал освоение. Кому-то три месяца дается на исправление, кому-то шесть, а где-то уже изъятие полное. Может, у него все хорошо, просто какой-то документ не доделали, а в жизни-то все работает. Работу хотим закончить и в сентябре, а в ноябре уже всю страну посмотреть полностью.
Проверка лицензий на углеводородное сырье начнется в сентябре. Сейчас по всей стране выдана 3931 лицензия на право пользования углеводородами.
Что касается "Новатэка", надо смотреть на конъюнктуру рынка. Почему пошел метанол и аммиак? Появились арктические льготы, в том числе и на химию. Раньше их не было. Предприятие посмотрело, что это более эффективно, выгодно и стране важнее. Не вижу в этом проблемы.
К слову, с 1 января 2022 года выдача и учет лицензий будут проходить только онлайн, как и электронные аукционы.
С учетом "зеленой повестки" и прогнозов по снижению потребления нефти и газа нужна ли морская геологоразведка?
Александр Козлов: Нужна. Снижение потребления углеводородов в среднесрочной и долгосрочной перспективе - вопрос вероятности. Нет ни точных сроков снижения потребления, ни объемов. Но самое главное - нет полной уверенности, что использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) надежно и экономически эффективно. Можно вспомнить ситуацию зимой 2021 г. в США в Техасе, когда замерзли ветряные электростанции.
Перспективы новых открытий и добычи связаны, прежде всего, с шельфами арктических морей. И это не только нефть, но и природный газ, который является важным элементом "зеленой повестки".
Ресурсы акваторий оцениваются в 15,7 млрд тонн нефти, 91,7 трлн кубометров газа и 4,7 млрд тонн конденсата. При этом степень разведанности начальных суммарных ресурсов по промышленным категориям составляет 4,7% по нефти, 10,1% по газу и 6,1% по конденсату. Очевидно, что для перевода потенциала в запасы необходима геологоразведка.
Сейчас в арктических морях - Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом - практически отсутствует буровая изученность, а степень разведанности ресурсов не превышает 3%. Но изучение этих морей дело не завтрашнего дня, нет нефте- и газотранспортной инфраструктуры, там сложная ледовая обстановка. Пока интересы компаний сосредоточены в Карском, Каспийском, Охотском и Печорском морях.
На балансе Росгеологии много судов, которые готовы работать на шельфе. Но мы сейчас переживаем сложный момент, эти месторождения для компаний - с учетом пандемии, падения числа заказов - нерентабельны. С другой стороны, мы должны смотреть в будущее. Важно сохранить компетенции, чтобы сегодня не порезать суда на металлолом, потому что завтра они понадобятся, а их нет. Нужно их сохранить, даже если это сейчас невыгодно.
"Зеленая повестка" не только про ВИЭ, большая дискуссия разгорается в мире из-за углеродного следа. Сколько его уже накоплено в России?
Александр Козлов: По рейтингу BP, крупнейшими эмитентами СO2 в 2020 году являются Китай, США и Индия. На их долю приходится более 50% эмиссии. Россия лишь на четвертом месте.
Вопрос в методиках подсчета. В нашей стране только формируется законодательство, регулирующее выброс парниковых газов. Этим занимается минэкономразвития. В начале июля был принят закон об ограничении парниковых газов. Он устанавливает принципы и меры ограничения выбросов, предусматривается создание реестра углеродных единиц.
Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о введении экспериментального углеродного регулирования в Сахалинской области. Речь идет о квотировании выбросов крупнейших эмитентов парниковых газов этого региона, а также о введении обращения единиц выполнения квот, которые в случае "экономии" на выбросах можно будет продавать другим предприятиям. При успешном проведении эксперимента он может быть распространен на всю страну.
Будут ли в России введены международные "зеленые" сертификаты, чтобы те, кто заплатил налог на углеродный след в РФ, не платили его за рубежом?
Александр Козлов: Законодательство в области зеленых сертификатов только разрабатывается. Курирует процесс минэкономразвития. Процесс выстраивания отношений с международными партнерами по этому вопросу только стартовал, он явно будет долгим и непростым. Наша задача - отстаивать интересы России, прежде всего, в ходе переговоров с ЕС.
Как и когда минприроды посчитает все леса, оценит наш вклад? Какая работа ведется с ЕС, чтобы там признали наши леса и ледники "поглотителями", а не эмитентом парниковых газов?
Александр Козлов: По данным на 2020 год, итоговый углеродный баланс управляемых лесов России оценен в 614,5 Мт СО2 эквивалента в год. В прошлом году завершен первый цикл инвентаризации лесов, в этом году обработаем данные по стране в целом.
Наша задача - верифицировать российские леса. В январе мы с Рослесхозом и Росгидрометом усовершенствовали методику подсчета наших лесов. Сейчас на международной арене будем ее защищать. Планируем продвигать этот вопрос на ноябрьской 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
Понимаете, у нас в стране 20% всех мировых лесов, а международные коллеги почему-то считают это само собой разумеющимся. Наша задача доказать, что эти леса надо учитывать. Если у них лесов мало, это не значит, что наши не надо учитывать. И самое главное - нам надо расширить номенклатуру. Мы считаем, что наши леса поглощают больше миллиона СО2. Вот это нам придется доказать.
Как будет меняться состав городов - участников федпроекта "Чистый воздух"?
Александр Козлов: Расширять список можно с 1 сентября 2022 года. Но нужна методика, которая позволит отнести населенный пункт к городу с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. До конца 2021 года мы ее подготовим. Затем правительство установит перечень городов, сроки и этапы квотирования в них, а также целевые показатели снижения выбросов в них. Наша задача - с 12 выйти в 48 городов и дальше по всей стране.
Когда будет готова дорожная карта по реформированию системы управления национальными парками?
Александр Козлов: Дорожная карта по реформированию системы ООПТ будет разработана после утверждения Стратегии развития системы ООПТ до 2030 года. В сентябре ее планируется рассмотреть на Общественном совете при минприроды. Затем внесем ее в правительство РФ. Рассчитываем, что Стратегия будет утверждена до конца года. Она впервые рассматривает развитие системы ООПТ комплексно, как единой экологической сети.
Как в нее встроят экологический туризм?
Александр Козлов: До сих пор в законодательстве отсутствует даже само понятие "экологического туризма". В осеннюю сессию в Госдуме состоятся второе и третье чтения законопроекта, который заложит единые основы правового регулирования экотуризма и рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
Актуальный вопрос - развитие туристской инфраструктуры: сети мини-гостиниц, гостевых домов, кафе, производство экологически чистых продуктов. Но нельзя превращать нацпарки в Великую китайскую стену, где ходят толпы туристов. Наша задача - создать комфортные условия для экотуризма и не навредить природе.
Будут созданы единые правила посещения ООПТ федерального значения. Для каждой ООПТ разработаем план развития с учетом особенностей. Создадим принцип "одного окна" для инвесторов. Оформление прав аренды будет идти через орган власти, в чьем ведении нацпарк. Также сократим сроки оформления документов для инвесторов, которым не требуется предоставление земельных участков. Например, при строительстве некапитальных построек.
Когда будет готов расчет допустимой антропогенной нагрузки на ООПТ?
Александр Козлов: Рассчитываем, что итоговый документ - методические рекомендации по расчету и мониторингу предельно допустимых и оптимальных рекреационных нагрузок на ООПТ - будет внесен в правительство в декабре 2021 года. В ноябре РАНХиГС закончит для нас научно-исследовательские работы. Кроме того, привлечены Кроноцкий и Хакасский заповедники, чтобы на практике посмотреть, что из этого получается. Должен получиться документ, который ООПТ смогут применять в повседневной работе.
Какой прогноз по количеству посетителей ООПТ в 2021 году?
Александр Козлов: К 2024 году количество посетителей в ООПТ должно вырасти до 10,3 млн человек. План на 2021 год - 8 млн человек. На 1 июля 2021 года их уже посетили 4,8 млн человек. В прошлом году в ООПТ было 6,7 млн гостей.

Россия как часть новой нормальности и европейского
Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 56, 2021
Сергей Константинович Дубинин — д.э.н., заведующий кафедрой финансов и кредита Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Совета директоровАО ВТБ Капитал. Председатель Центрального банка Российской Федерации (1995–1998).
ПОТУСКНЕВШИЕ ИЛЛЮЗИИ
Многообразие и единство противоположностей
Несколько поколений российских граждан на протяжении ХХ и ХХ1 веков приняли участие в двух противоречивых проектах глобализации человеческого общества. Первым из них было строительство коммунистического будущего. Вторая попытка включиться в решение глобальных задач происходила также на наших глазах в 1990-е годы. Тридцать лет назад Россия начала процесс присоединения к мировому рыночному хозяйству. Две эти задачи, на первый взгляд противоположные, имели одну важнейшую общую черту — они указывали нашей стране путь в Будущее, от технологической отсталости к модернизации, от архаичного кланового общества к интернациональному, и от «самодержавия» личной диктатуры к демократии. Ни один вариант идеального будущего построить в России нам не удалось.
Распад Советского Союза и социалистического лагеря был прямым результатом неэффективности их экономики, отсталости и непривлекательности социальных условий жизни. Модернизация не сводится к техническому прорыву, тем паче к прогрессу в производстве вооружений. Для поддержания потенциала развития само общество должно постоянно обновляться. Социализм отказывал людям в этом инновационном процессе.
Но и другой цивилизационный большой проект, — либеральная политическая демократия и рыночная экономика, — не оправдал надежды россиян. Не только многие рядовые граждане, но и российские элиты не верят сегодня в то, что эта модель применима в нашей стране. Более того, они не верят, что она реально работает и за рубежом, даже в наиболее развитых странах. Конечно, скептическое отношение к идеалам Нового времени и Просвещения сегодня широко распространились в мире. Однако, российское общество успело разочароваться в плодах эпохи Модерна даже до того, как в нашей стране была проведена реальная модернизация политической и экономической системы.
Теперь, анализируя пройденный путь, мы можем увидеть, что российский этно-национальный культурный комплекс не включает в себя достаточного набора модернизационных ценностей, которые должны сделать устойчивым воспроизводство современных общественных отношений и спроса на технологические инновации. Российская элита остается уверенной в неизбежности и преимуществах максимальной централизации власти в условиях громадной многонациональной страны. Консервативно настроено и большинство граждан старших поколений, ищущих свои ценности скорее в советской модели, советском образе жизни, чем в дореволюционной истории. Важнейшее достоинство СССР связывается ими не с туманными обещаниями коммунистического благоденствия, переносившегося во все более далекое будущее, а с относительным социальным равенством, вплоть до уравниловки.
Сегодня граждане России, уже со вполне потускневшими иллюзиями, вновь переживают период мучительного выбора дальнейшего пути. Правящие элиты предлагают строить Будущее как копию улучшенного и отретушированного Прошлого. Эффективным заранее объявляется то, что идейно и морально устраивает национальную элиту, претендующую на роль верховного судьи в этих спорах. Подавляющая часть этих идей также заимствуется из прошлого.
ФАНТОМНЫЕ БОЛИ ПОТЕРЯНОЙ ИМПЕРИИ
Устойчивая и привычная идеологическая установка «осажденной крепости», «враждебного окружения» позволяет происками врага объяснять любые трудности и неудачи, как во внутренней, так и во внешней политике. США, НАТО, Запад являются настолько мощным противником, что российские граждане должны гордиться своей способностью противостоять им.
Место и роль российского государства в системе международных экономических и политических отношений имеют чрезвычайно большое влияние на самосознание российской нации. Так называемый «имперский синдром» определяет многие не только внешнеполитические, но и внутриполитические решения. Печальный абсурд «Постмодерна» в России заключается в том, что возвращение к идеям консерватизма, к практикам прошлого и позапрошлого столетий, к популистским лозунгам возрождения «величия Империи» неизбежно ведет к усилению международных противоречий и напряженности.
Вместе с тем нельзя сказать, что общество поддерживает любые действия антизападной направленности. Атмосфера доверия со стороны общества к советскому руководству в середине 1940-х годов после победы в Великой Отечественной войне обеспечивала народную поддержку резкой смене курса от сотрудничества с западными союзниками к конфронтации. Но уже тридцать лет спустя поворот к разрядке был воспринят с большим облегчением, как проявление мудрости. «Лишь бы не было войны». В наши дни «гибридное» противостояние с Западом вызывает усталость и недоумение. Вызывает большие сомнения сама идея использования национальных исторических прецедентов для решения совершенно новых задач.
* * *
Модернизаторы и консерваторы
На протяжении нескольких столетий политические взрывы и перемены происходили в странах Европейской цивилизации под лозунгами модернизации. Прогресс общественного развития отождествлялся прежде всего с самоидентификацией и самореализацией свободной личности. В это понятие вкладывался смысл обновления общественной жизни на основе принципов правового государства, личной свободы и политического равноправия. «Модернизаторы» из числа элиты противопоставляли себя «консерваторам».
Для наших современников дискурс «модернизации», «эпохи Модерна», «Нового времени» оказался перегруженным оценочным положительным смыслом. В контексте данной работы понятие «модернизация» нами используется в том смысле, который ему придавали не только К.Маркс, Ф.Энгельс, но и такие современные историки и социологи как Р. Козеллек, О. Марквард, Х-У. Велер, Ю. Кока.*
Однако, как у каждой светлой идеи, и здесь обнаружилась своя темная сторона. В первой половине ХIХ века стало очевидно, что интересы нового национального государства органично включают в себя внешнюю военную экспансию. Революционные армии должны были «нести с собой идеалы освобождения» в соседние страны. Затем в веке ХХ-ом единство европейской христианской цивилизации подверглось колоссальным испытаниям в двух чудовищных мировых войнах. Ориентация на национальное единство и прогрессивное национальное государство обернулась воинственным национализмом. Именно он подтолкнул правящие классы к началу большой войны, обеспечил ей общественную поддержку. Национализм породил теорию и практику итальянского фашизма и немецкого нацизма.
Логическим следствием ориентации государства на развитие и расширение являлась территориальная экспансия. Именно приобретение новых подконтрольных регионов служило критерием успешности государственной власти. Создание трансконтинентальных морских империй и сухопутных континентальных империй (европейских, евразийских и азиатских) решало именно эти задачи. До настоящего времени и в народном сознании, и в ценностях правящих элит бывших имперских государств убежденность в том, что территориальное расширение — лучшее доказательство состоятельности власти, постоянно возрождалась.
Меняющаяся многополярность
Реальный ход истории опроверг оптимистическое убеждение как основоположников марксизма, так и их оппонентов из числа националистов, что именно массовые народные движения и насильственные революции — это «локомотивы истории», что они ведут человечество к модернизации и успеху. Ни кровавая коммунистическая революция и гражданская война в России, ни фашистский «поход на Рим» не привели к свободе, справедливости и процветанию, которые были обещаны простым людям. С исторической точки зрения политические и экономические перевороты в Восточной и Центральной Европе проходили почти синхронно в 1920 — 1930-е годы. Все они были направлены на разрушение либеральной рыночной экономики и либеральной политической демократии.
Первая Мировая война привела к гибели континентальных империй. Но это не обеспечило долгого мира. Национальные государства через два десятилетия вступили во Вторую мировую войну.
Сегодняшняя многополярность имеет глобальный, а не континентальный характер; соответственно, кризисы тоже. Структура мирового порядка трансформируется в неблагоприятном для европейских культур направлении. Под вопрос сегодня поставлены основы как внутреннего, так и внешнего общественного согласия.
Вес и влияние в мире США, Соединенного Королевства и стран ЕС чрезвычайно высок, их позиции в экономике, культуре, в военном потенциале остаются преобладающими. Однако европейская христианская цивилизация более не может претендовать на то, что наиболее развитые страны, принадлежащие к этой культурной традиции, прокладывают и предопределяют единственно возможные пути развития мира.
Во-первых, следует иметь в виду, что огромное большинство населения современного мира живет в условиях многонациональных, а не национальных единых государств. Это относится к США и странам ЕС, к России и к Соединенному Королевству, к крупнейшим по численности населения странам — Индии и Китаю. Таковы почти все крупные африканские страны южнее Сахары.
Во-вторых, все европейские страны просто вынуждены были констатировать, что современное общество в них неоднородно, и их «мультикультурализм» основан на многих этносах и религиозных группах. Объединение их в единую гражданскую нацию является желанной целью, но она пока далека от достижения.
В-третьих, постоянный приток в Европу мигрантов и беженцев из стран соседнего неевропейского мира вовсе не является лишь кратким кризисным эпизодом. Очевидно, что это долгосрочный вызов, на который нет адекватного ответа.
В-четвертых, структура современного мирового порядка, как функционирующей системы, характеризуется многополярностью мира, наличием многочисленных трендов социального и экономического развития. Для отражения этой реальности в настоящее время принято использовать понятие множественности взаимодействующих цивилизаций.
ФАКТОР КИТАЯ КАК НОВЫЙ ЭТАП МИРОВОЙ ИСТОРИИ
КНР сегодня вторая по значению экономическая держава в мире. По данным Всемирного банка ВВП Китая в текущих ценах составляет 17,5% мирового объема. Тогда как доля США равна 25,5%. В 2020 г. по абсолютным цифрам объем ВВП Китая уступал показателю США на 5,59 трлн. долл. в текущих ценах. Однако разрыв быстро сокращается. Темпы экономического роста Китая опережают американские, прогноз на 2021г. 8,24% и 3,08% соответственно [2]. В первом квартале 2021г. ВВП Китая вырос в годовом исчислении на 18,3%. Безусловно, это связано с сокращением данного показателя в первом квартале предыдущего года, когда впервые за несколько десятилетий экономический рост принял отрицательное значение около -6,0%. В конце 2020г. положительные показатели развития экономики восстановились [3].
Внешнеполитические амбиции Китая до последнего времени отчетливо не формулировались. Предпочитали говорить об экономическом сотрудничестве с соседними и далекими странами. Программа «Один пояс, один путь» (ОПОП) символизировала именно продвижение китайских товаров и инвестиций на мировые рынки. Однако времена изменились.
Именно в период пандемии руководство Китая приняло решение активно продвигать свою модель развития в качестве образца для широкого круга стран-партнеров. ОПОП стала концепцией нового механизма глобальной кооперации посредством инноваций и цифровизации. Новый глобализм стал не просто лозунгом, а двигателем конкурентной борьбы.
Подъем Китая, растущего экономического гиганта, который не принадлежит к европейской христианской цивилизации, открыл новую страницу в современной истории. Предшествующий пример данного рода — экономический расцвет Японии — не остался исключением из правил. За ними последовали Южная Корея и страны Юго-Восточной Азии, которые формируют сегодня зону самого устойчивого и интенсивного экономического роста.
США и Китай
Достижения в информационных технологиях выдвинули современный Китай на роль основного конкурента Запада на мировых рынках, а затем (что более важно) в качестве главного соперника в создании альтернативной модели развития. Это было зафиксировано в американском списке основных враждебных США «ревизионистских держав», опубликованном в декабре 2017 г. Администрация президента Дональда Трампа констатировала в Стратегии национальной безопасности США, что «Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, они пытаются нанести ущерб американской безопасности и процветанию» [9]. Затем в многочисленных официальных документах администрации Трампа было сказано о том, что Иран, Северная Корея, Россия, Китай представляют собой угрозу для международного порядка. Того самого мирового порядка, который лондонский журнал «Экономист» назвал «управляемым американским полицейским» [10].
Этот подход не изменился и со сменой политической власти в Америке. В программе торговой политики администрации Дж. Байдена утверждается, что практика внешней торговли КНР наносит ущерб национальным интересам США. Речь идет о «спектре китайских несправедливых практик»: пошлинах и нетарифных барьерах, несправедливых субсидиях и использовании Китаем принудительного труда. «Противодействие вызову со стороны Китая требует всеобъемлющей стратегии и более систематического, а не фрагментарного подхода, как это было в последнее время». По вопросу противостояния Китаю правительство США намерено работать с союзниками и партнерами.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил: «Китай — наш фундаментальный конкурент. Китай является для нас главным геополитическим вызовом в ХХI веке…[Россия] не несет или не имеет потенциала, возможностей, чтобы представлять такой же вызов, как Китай» [11].
Между США и КНР в 2018-2020 гг. было развернуто нарастающее противостояние во внешнеэкономической сфере. Администрация США пытается теперь изменить условия конкуренции в свою пользу, для чего использует инструментарий многочисленных санкций. «В результате между США и КНР началась новая торговая война, в ходе которой США объявили о взимании повышенных таможенных пошлин с февраля 2019г. на 25% на экспортные товары на 250 млрд. долл., а Китай в ответ объявил о повышении пошлин на американские товары на 150 млрд. долл., т.е. практически на весь американский импорт в КНР» [12].
Министерство торговли США ведет множество списков юридических лиц, с которыми не только американские, но и зарубежные компании не могут иметь дело… Их число выросло с 51 в 2016г. до 159 в марте 2020г. Китайские юридические лица составляют 2/3 от этого прироста.
Крупнейший мировой производитель телекоммуникационного оборудования китайская компания «Хуавей» (Huawei) оказалась в центре этого конфликта. «Хуавей» сконцентрировала в своих руках более трети патентов на технологию 5G. 16 мая 2019г. президент США Дональд Трамп ввел своим указом режим чрезвычайного положения, который позволил внести в список «национальных угроз» компанию «Хуавей» и все её дочерние предприятия. Одновременно администрация США обратилась к своим союзникам с призывом отказаться от приобретения технологии «Хуавей» для создания сетей 5G. Возникла реальная угроза разделения стандартов между ведущими участниками процесса создания IT платформ на базе сети 5G. Если такой процесс примет структурный характер, телекоммуникационные стандарты 5G разделят мировое цифровое информационное пространство на соперничающие группировки. Полем борьбы наверняка станут крупные рынки большинства стран Южной и Юго-Восточной Азии, а возможно и других континентов. Соперничество развернется между Китаем и США за то, чья модель 5G распространится на возможно большее киберпространство.
Вместе с тем обе стороны не прерывают попытки найти приемлемые рамки взаимовыгодного сотрудничества. Глава МИД КНР Ван И акцентировал стремление Китая к нормализации американо-китайских отношений. «Чрезвычайно важно понять, что ради общих интересов двух стран и всех народов мира сотрудничество должно возобладать…Рассчитываем на встречные шаги Вашингтона в пользу снятия необоснованных ограничений на американо-китайское сотрудничество без создания новых искусственных преград» [11].
Необходимость для ведущих экономических держав продолжать плодотворный торговый обмен определяется существующими интенсивными связями. По данным Главного таможенного управления КНР объем внешнеторгового оборота страны за два первых месяца 2021г. в годовом исчислении выросла на 32,2%. В том числе с США — на 69,6%; со странами ЕС — на 39,8%; с Японией — на 27,4%. Тогда как с Россией — на 8,5%.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РОССИЙСКОГО ВЫБОРА
В предшествующем столетии в двух мировых войнах побеждала коалиция государств, чей совокупный экономический потенциал превышал потенциал коалиции противника. Но одной военной победы оказалось недостаточно. «Слава, купленная кровью» не обеспечивает навечно положение мирового лидера, если она не подкреплена ежедневным преуспеванием на мирных полях экономической деятельности. Что подтвердилось на исходе Холодной войны крахом социалистической системы европейских государств. Сегодня очевидно, что возможности каждого из полюсов экономического и геополитического влияния на мировой арене будет определяться успехами их экономического развития.
Выделение в современном мире многочисленной группы стран развивающихся рынков носит неслучайный характер. С одной стороны, они осуществляют догоняющее развитие, стремятся достичь технико-экономических показателей наиболее развитых государств, с другой стороны общественное устройство и культурный цивилизационный опыт развития создает сложности для достижения этих целей. Примеры исторического развития стран Южной и Центральной Америки на протяжении двухсот лет независимости от исторических империй-колонизаторов демонстрируют всю сложность данного процесса. Страны, возникшие в результате распада континентальных или морских империй — Британской, Российской, Турецкой, Испанской — демонстрируют склонность сохранения тех общественных институтов и традиций, которые были характерны для прежних центров господства.
Эти страны, как и Россия, прошли исторические этапы освободительной народной кровавой революции, реставрации в форме диктатуры, современный период авторитарных режимов с легитимизацией в ходе плебисцитарного голосования о доверии вождю. Это не мешает всем этим странам, как и России, принадлежать к европейской культурной и религиозной цивилизационной традиции.
Самоидентификация нашей страны в качестве участника группы BRICS — явление не временное и не случайное. Постсоветская экономика делает Россию страной развивающегося рынка. Ей свойственны те же противоречивые черты, которые характерны для среднеразвитых государств. Несовершенный рынок с отраслевыми картелями, многочисленные государственные сырьевые концерны, теснейшие связи с административным аппаратом, прежде всего с силовыми вооруженными структурами государства, коррупция — все что именуется кратко «клановый капитализм» (CronyCapitalism), — и работает в почти неизменном виде на протяжении десятилетий.
По объему ВВП Россия сохраняет 11 место в мире. Номинальный размер ВВП России практически стагнирует на протяжении более десяти лет. В 2007г. данный показатель впервые достиг уровня 1,4 трлн. долл.; в 2020г. он оценивается в 1,5 трлн. долл. В 2013г. размер российской экономики составлял 13,6% американской экономики, достигнyв 2,3 трлн. долл., а в 2020 г. доля отечественной экономики в сравнении с американской составляла около 7,0%. В результате данного развития событий доля России в мировом ВВП в 2020г. сократится ниже уровня предшествовавшего года (1,94%) и оценивается в 1,75%. По данным прогноза МВФ эта доля к 2025г. снизится до 1,67% [4].
За трехлетний период, предшествовавший пандемии COVID-19, по данным МВФ среднегодовые темпы роста ВВП России составляли около 2,0%. Этот показатель оказался ниже, чем у большинства постсоветских стран. Россия по среднегодовому приросту ВВП сравнялась с Беларусью и обогнала только экономику Азербайджана. По прогнозу ЕАБР в период 2021-23гг. темпы роста ВВП России составят менее 3,0% в год, что превышает показатель Беларуси, но уступает остальным странам — членам ЕАЭС.
Кризисный период пандемии COVID-19 в 2020-2021гг. усугубил негативные тенденции в экономике России. Кризисный спад в эти годы в странах развивающихся рынков составлял -2,1%, тогда как сокращение ВВП России в 2020г. превысило -3,0%. В течение 2021г. согласно прогнозу МВФ в данной группе стран началось восстановление экономического роста. Реальный прирост ВВП должен составить 6,7%. Тогда как в экономике России данный показатель оценивается в 3,8%. По прогнозу ЕАБР в период 2021-2023гг. темпы роста ВВП России составят менее 3,0% в год, что превышает показатель Беларуси, но уступает остальным странам — членам ЕАЭС [5];[6].
Назад в СССР?
Прочитав это, большое число россиян скажет: «Вот и ладно, вернемся к закрытой экономике. Жили так в СССР, и теперь проживем!» Проживем, конечно, вопрос только как? Надо быть готовыми к возвращению советского образа жизни во всем его объёме. От застоя в технологиях до жизни без мобильной связи и интернета, от очередей в продовольственных магазинах до закрытия частных поездок за границу. Любой честный инженер подтвердит, что при инвестициях в промышленное производство он предпочтет электроэнергетические турбины «Сименса» или «Пратт энд Уитни», станочный парк лучше пополнить поставками оборудования из Японии или Германии. Кстати, так было и в советское время. В аграрном секторе, успехи которого в последние годы нас так радуют, нам также важно сотрудничать с развитыми экономиками. Ведь посевное зерно, молодняк животных для ферм и птицефабрик, оплодотворенную икру лососевых рыб для рыбных ферм мы сегодня покупаем на мировых рынках.
На протяжении последних ста пятидесяти лет истории нашей страны технологическая модернизация всегда осуществлялась с использованием импорта технологических решений и соответствующего оборудования. Источником ресурсов для этого служил экспорт зерна и минеральных ресурсов. В периоды рыночного развития отечественной экономики большое значение имели прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в основной капитал российских предприятий. Наибольший приток этих иностранных капиталовложений в ХХI веке был зафиксирован в 2008 и 2013 годах: 65 и 60 млрд. долл. соответственно. В 2020 г. по данным отчетности Банка России объем ПИИ составил 1,4 млрд. долл. Это примерно в 20 раз меньше, чем годом ранее (28.9 млрд. долл.), и является наименьшим показателем с 1994г. (0,634 млрд. долл.) [7].
Последствия замедления экономического роста не сводимы к снижению общего уровня доходов и благосостояния населения. Оно свидетельствует о недостаточности нормы накопления (доли инвестиций в основной капитал в ВВП) в нашей стране. На протяжении более чем десяти лет данный показатель не превышал 22-24%. Привлекательность российской экономики для инвестиций остается низкой. Нехватка капиталовложений ведет к замедлению модернизации структуры экономики России. А ведь ответ на вопрос, сможет ли наше общество пользоваться достижениями современных технологических инноваций, непосредственно зависит от инвестиционного климата в России.
После окончания Второй мировой войны технологические и экономические инновации в сфере обработки и передачи информации начали происходить быстро нарастающими темпами. Этот процесс вызвал многочисленные и глубокие общественные сдвиги. IT компании, начав своё существование в качестве технологических стартапов, провели перестройку системы информационного финансового и технологического обмена снизу, с микроуровня. Глобализация второй половины ХХ и первых десятилетий ХХI веков характеризуется становлением общемировых сетевых структур, т.е. киберпространства. Во многом именно приспособление человеческого общества к развитию информационных технологий сформировало тот мир, в котором мы живём. Потенциал каждого из полюсов экономического и политического влияния на мировой арене уже определяется их возможностью структурировать и использовать информационные потоки и IТ платформы в киберпространстве.
СМЕНА ТЕНДЕНЦИЙ
Финансовый и экономический кризис 2007-2009 годов стал самым ярким событием , обозначившим смену доминирующих тенденций развития стран европейской цивилизации. С одной стороны, он продемонстрировал, неспособность правящей элиты наиболее развитых западных государств предотвратить распад рынка производных финансовых инструментов по ипотечным кредитам [8]. Такой авторитетный экономический эксперт как Лоуренс Саммерс оценил этот экономический обвал как «Великую рецессию» и начало «вековой стагнации», т.е. долгосрочного разрыва выпуска продукции при состоянии неполной занятости. С одной стороны, он продемонстрировал, неспособность правящей элиты наиболее развитых западных государств предотвратить распад рынка производных финансовых инструментов по ипотечным кредитам [8]. С другой стороны, на фоне кризиса и замедления развития высветился обширный перечень социальных и экономических проблем. Прошедшее десятилетие не привело к их урегулированию.
К числу основных вызовов можно отнести:
усиление социального неравенства (revenues inequality);
новая экономическая реальность и стагнация экономического роста (new economic reality&economic growth stagnation);
возрастной дисбаланс и старение населения (age population imbalance);
кризис пенсионного обеспечения (retirement pension reform);
миграционный кризис (migration crisis);
экологический кризис (ecological disaster);
инфекционная пандемия (infectious pandemic).
Нет сомнений, что данный перечень актуален для России не в меньшей степени, чем для стран Запада.
Конкурирующие цивилизации и разобщенные нации
Традиционный и привычный для нас международный экономический и политический порядок был создан державами–победителями во Второй мировой войне. Он был зафиксирован в уставах ООН и других международных организаций. Важным фактом послевоенного политического процесса в мире являлось возвращение в центр внимания в качестве основополагающих принципов жизни таких идеалов Эпохи Просвещения, как свобода личности, права человека, равенство всех людей перед законом. Возрождалась вера в прогресс. Но эти тенденции вновь подвергаются пересмотру в наши дни.
После победы в двух Мировых войнах политики из элиты стран западной демократии были твердо убеждены в том, что они и их политические преемники навсегда утвердились у власти, располагают властью в государствах сегодня и будут располагать ею в будущем. Это убеждение превратилась в самоуверенность и подлинную эйфорию после распада СССР и социалистического блока стран в Восточной и Центральной Европе. Запас доверия населения, действительно, был огромен. Его хватило на 70 послевоенных лет. Но он оказался не вечен. Череда социальных и экономических кризисов в первом десятилетии нового ХХI столетия продемонстрировала ее лимиты.
У народов Европы сегодня нет полной гарантии мира и безопасности, несмотря на все беспрецедентные попытки перестроить международную жизнь на базе согласования позиций в рамках межгосударственных организаций, которые были предприняты после окончания Второй мировой войны. Многие ведущие страны мира считают для себя возможным прибегать к односторонним действиям силового характера. Сами страны — основатели, члены Совета безопасности ООН явно начали тяготиться существующими правилами игры. Они не желают далее опираться на коллективные согласованные решения, прибегать к компромиссам.
Формирование «Новой реальности»
За последние три десятилетия основы мирового порядка подверглись интенсивному размыванию. Мы фактически наблюдаем слом системы международных отношений. На наших глазах происходит формирование «Новой реальности», нового мирового порядка. Вновь появляется уверенность в том, что Европейская цивилизация вступает в эпоху «Постмодерна».
Сразу нескольких ведущих стран, принадлежащих к Европейской цивилизации, возвращаются к политике полной свободы рук на международной арене, к методам, которые были характерны для внешней политики столетней давности. Данная тенденция выглядит не так трагично, как в начале ХХ века. Мир не стоит на грани большой войны.
Россия постоянно декларирует суверенное право не выполнять подписанные ее же руководителями международные соглашения. Начиная с момента отказа от исполнения Будапештского договора с Украиной и присоединения Крыма и до сегодняшних угроз порвать с Советом Европы и с ратифицированной российской властью Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а следовательно, порвать с ЕСПЧ, руководство нашей страны открыто требует «особых правил поведения» для себя, по крайней мере, на постсоветском пространстве.
Страны объединенной Европы достаточно осторожно реагируют на вызовы со стороны Российской Федерации. Они предпочитают не афишировать себя в качестве стороны противостояния. Сохранение стабильного положения как в экономике, так и в политике является для них главной задачей. Но ради поддержания такой благополучной ситуации Европе необходим союз с США, это и есть главный приоритет.
США распространяют на всю Ойкумену представление о своей исключительности и праве на односторонние действия без согласования даже с официальными союзниками. По убеждению американских политиков, глобальный мировой порядок после распада СССР должен быть перестроен исключительно по их чертежам. Все американские администрации последних десятилетий осуществляют этот мессианский проект, хотя, конечно, конкретные методы его продвижения сильно видоизменяются в зависимости от партийной принадлежности президентов США.
Администрация Дональда Трампа часто действовала вопреки интересам своих европейских союзников. Этим президентом был разрушен грандиозный замысел его предшественника пересоздать американизированный экономический порядок. Трамп в 2017 г. издал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership) и заблокировал переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Администрации Джозефа Байдена предстоит кропотливая работа по разбору доставшихся ей обломков и завалов. В одном эти разные политики едины: главная для США проблема — взаимоотношения с Китаем. Отношения с Россией в своеобразной табели о рангах американской внешней политики отошли на второй план. Считается достаточным зафиксировать низкий и даже враждебный их уровень. Это также не вызывает дискуссий.
Количественные изменения в мировом порядке по мере накопления переходят в новое качество. Самое широкое распространение получили заявления политиков о рождении теории и практики «антиглобализма». Мы являемся свидетелями вовсе не отказа от глобальных устремлений, а резкого обострения соперничества на международных и национальных рынках и односторонних действий государств для нанесения поражения конкурентам. В этом международном инструментарии на первый план выходит механизм односторонних санкций.
САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Идеология и опыт санкционной политики складывается на наших глазах. Накопление практики происходит как по линии многосторонних санкций, решения о которых принимаются коллективно (но достаточно ограниченным кругом международных акторов), так и путем односторонних решений правительств отдельных стран.
Механизм политических и экономических санкций многослоен. То, что задумывалось в качестве чрезвычайного инструментария преодоления кризисных ситуаций, приобрело системный характер. Политика международных экономических санкций после Второй мировой войны была сформирована в рамках ООН. Они были призваны заменить непосредственное применение вооруженной силы. Санкции носили коллективный и демонстрационный характер. Отказавшись от первоначально зафиксированных принципов коллективных решений по введению различных торговых и инвестиционных ограничений в рамках процедур ООН, ведущие страны мира решительно двинулись в сторону договоренностей в узком кругу союзников о наказании «соперников, нарушителей, «стран изгоев». Все эти термины из «Стратегии национальной безопасности США» присваиваются иностранным государствам в ходе решения президентской администрации или в законодательных актах Конгресса США.
Однако, накопление обширного инструментария происходит как бы из нескольких источников. Во-первых, исторически первыми экономическими действиями государств по «наказанию» потенциальных зарубежных противников выступали протекционистские меры по ограничению внешней торговли (повышенные тарифы или количественное квотирование экспорта или импорта). Во-вторых, государства (законодательная и исполнительная власти) принимают решения о секторальных и персональных санкциях против юридических и физических лиц. В-третьих, в последние годы активно используются вторичные санкции для компаний, вступающих в сделки с первичными объектами наказаний. В-четвертых, судебные власти на базе национальных законов принимают решения о штрафах и запретах на деятельность иностранного бизнеса. При проведении сделок в долларах с нарушением американского законодательства наказания и штрафы для банков и компаний исчисляются миллиардами долларов. В-пятых, российский опыт показывает возможность объявлять общественные организации и некоммерческие организации, благотворительные фонды и негосударственные учебные институты, отдельных активистов «иностранными агентами» или «нежелательными организациями». Таким образом, полузапрет или полный запрет на их деятельность производится путем административного давления. Это касается как национальных отечественных организаций и своих граждан, так и иностранных.
В настоящее время применение одного вида санкций, как правило, дополняется приведением в действие всего набора инструментов. Выбор объектов, конкретных видов санкций, их жесткость и продолжительность является решением политическим. Режим экономических и политических санкций против РФ применяется в комплексе с поэтапным разрушением режима контроля над вооружениями. Отмена администрацией президента Трампа участия в договорах РСМД и ДОН, попытка отказаться от продления СНВ-3 являются примерами такой политики.
«Вторичные санкции являются важным принципом для властей США, хотя их союзники из стран ЕС такие вторичные санкции не применяют. Европейские, китайские, японские компании сами часто становятся жертвами данной политики США. Если иностранные для США фирмы нарушают санкционные запреты США (санкции против Ирана и Северной Кореи, например), они не раз бывают оштрафованы на миллиарды долларов. Американским компаниям и банкам могут быть запрещены контракты с этими фирмами. А следовательно, нарушителям могут быть запрещены все операции в долларах США. Крупнейший британский банк HSBC в 2012г. был оштрафован Минфином США на 1,9 млрд. долл. за финансовые транзакции с фирмами Ирана.
Практика показывает, что ввести санкции проще, чем отменить их. Вместе с тем, возможность делать те или иные исключения из жесткого правила часто закладывается изначально при принятии решения.
Таким образом, можно констатировать факт своеобразного взаимного учета санкционного опыта в действиях противостоящих государств. США в последние годы активно эксплуатируют тему «вмешательства России и Китая» в американские выборы, а руководство России и Китая, продолжая говорить о нарушениях их суверенитета со стороны Америки, пытаются использовать инструменты торговой войны.
Время и бремя санкций
По всей вероятности, руководство российской внешней политики недооценило сложности, с которыми предстоит столкнуться в условиях санкций. Не были учтены все последствия санкций для развития экономики России. При том, что краткосрочные трудности выглядят преодолимыми, в долгосрочном плане вызовы носят серьезный характер. К их числу относятся запреты на поставки в РФ и для российских компаний:
высокотехнологических материалов и оборудования для современного машиностроения (например, авиационного и судостроения);
оборудования и элементов информационных технологий и соответствующего knowhow;
оборудования для добычи нефти и газа на шельфе и сланцевой нефти;
ограничения на получение международного финансирования компаниями и банками РФ на срок свыше тридцати дней;
индивидуальные санкции против физических лиц, ограничения на сотрудничество с рядом российских фирм или в рамках конкретных проектов.
Наиболее очевидным негативным последствием введения санкций со стороны США и их союзников для экономики России на данный момент стала обстановка неопределенности и непредсказуемости для ведения бизнеса. Сама перспектива эскалации санкций разрушает бизнес-климат в нашей стране. В сложившихся условиях долгосрочные иностранные инвестиции сворачиваются, научно-технический прогресс в российской экономике тормозится. Следовательно, экономический рост (рост ВВП) замедляется и переходит в стагнацию.
Эти ожидания уже давно учли рыночные игроки на фондовом рынке, что привело в к существенному спаду в капитализации, т.е. стоимости акций российских компаний на рынках ценных бумаг. Широкий индекс РТС Московской биржи пережил максимальный подъем накануне кризиса 2008г. и не восстановился до сих пор до уровня тринадцатилетней давности. За период 2020-2021гг. валютный курс рубля сократился примерно на четверть.
Администрации президента Байдена было необходимо определиться со второй стадией санкций. Можно было ожидать продолжения применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (СAATSA Act). Именно в его рамках составлялись «кремлевские списки» и вводились уже сегодня действующие секторальные санкции против российских банков и нефтяных компаний. Выбор был сделан в пользу введения указом президента США запрета для американских инвесторов приобретать новые выпуски облигаций суверенного долга Российской Федерации.
Можно достаточно четко сформулировать те пределы, до которых экономические санкции пока не распространялись. Коротко эти границы могут быть обозначены как «модель полномасштабных санкций против Ирана».
В число наиболее жестких санкционных мер входят: полное отключение российских банков от системы международных межбанковских платежей через корреспондентские счета американских (долларовые счета) и европейских (счета в евро) банков. Это означало бы фактический запрет для всех вообще нероссийских компаний приобретать российские нефть и газ с использованием конвертируемых валют. Такие меры, несомненно, могли бы нанести нашей стране максимальный ущерб. Объем так называемых нефтегазовых доходов федерального бюджета России, который составляет в настоящее время около 35% всех поступлений федерального бюджета России, может быть почти полностью «обнулен». Соответственно, упадут возможности расходования бюджетных средств.
Эти запреты на импорт российского сырья и отключение от платежей неизбежно могут применяться «в одном флаконе». Экспорт российской нефти — это треть объёма мирового рынка, поставки газа — это 40% потребления Западной и Центральной Европы. Однако, западноевропейская экономика уже неплохо подготовлена к переходу на поставки СПГ через портовые терминалы, идет интенсивное развитие альтернативных «зеленых» источников электроэнергии.
Вместе с тем, руководители стран Европы и Америки неизбежно должны принимать в расчет следующие обстоятельства:
Во-первых, применение жёсткого сценария санкций может быть эффективно только при полной поддержке всех союзников. Однако споры вокруг данного сюжета не утихают, пример борьбы вокруг проекта «Северный поток-2» тому наглядная иллюстрация. Требуя остановить строительство газопровода, США добились раскола среди стран ЕС и НАТО, а не их сплочения.
Во-вторых, бессмысленно использовать сегодня весь «боекомплект» санкций. Ведь именно сохранение угрозы их расширения создает ту атмосферу неопределенности для российского бизнеса, о которой речь шла выше. Полномасштабное введение запрета на расчеты в долларах и евро для российских контрагентов будет равнозначно потере всяких возможностей дальнейшего ужесточения санкций, а следовательно, руки у руководства России будут развязаны для любых активных мероприятий на территории ближайших соседей, по принципу «хуже не будет». Можно подумать и о военных операциях любого масштаба, от Харькова и Киева до Одессы. Готовы ли члены НАТО к ядерной войне, чтобы это остановить? Надеюсь, это останется вопросом риторическим.
Очевидно, что ни все вместе, ни в отдельности жесткие санкции не могут быть введены до момента нового военного наступления сил сепаратистов на Востоке Украины. Вместе с тем, мало сомнений в том, что при возобновлении крупномасштабных боевых действий данные решения будут приняты.
Вопрос эффективности
Открытым остается вопрос эффективности политики санкций. Ответ на него, оценка данного явления зависит от определения исходной цели применения санкций. Само вводимое ограничение зачастую реальной целью не является или составляет только часть из набора решаемых задач. Санкции подают сигнал, принимающее их правительство / законодатель адресует его другим иностранным правительствам, общественности внутри своей страны и за рубежом, СМИ, формирующим общественное мнение, политическим партиям и избирателям, предпринимателям. Какая аудитория является основной «фокус-группой» для воздействия, зависит от конкретной ситуации. Чаще всего расчёт строится на комбинированное воздействие.
Вводя санкции, правительство демонстрирует свою озабоченность проблемой, которая выбрана в качестве повода для них. Это также манифестация решительности. Одновременно степень провозглашаемой жесткости и строгость в практике применения сигнализируют о намерениях. Во внутренней политике применение санкций к иностранным конкурентам призвано обеспечить общественную поддержку и соответствующее голосование на выборах.
«Традиционный для практики экономических санкций принцип «ущерб-результат» (pain-gain) здесь не работает: экономические потери от санкционного противостояния налицо, а шансы на пересмотр внешнеполитического курса сторонами, несущими ущерб, близки к абсолютному нулю». [13, с.53].
Хотя целью санкций и расторжения договоров по контролю над вооружениями объявляется конкретные изменения во внешней и внутренней политике стран-соперниц, такие действия со стороны США практически ни разу не привели к решению провозглашенных ими задач. Однако, нельзя преуменьшать степень их воздействия на атмосферу в мировой политике. Режим санкций и возобновление гонки как неядерных, так и ядерных вооружений превратились в важнейшие составные части мирового порядка. Внешняя политика вновь проводится «с позиции силы». Одновременно экономической силы и силы военной.
СМЕНА ЭЛИТ
Историческими формами смены правящей элиты являются либо насильственное свержение властвующих режимов в ходе революции, либо эволюционный переход в ходе реформ. Изменения начинаются с политической победы, которая может быть одержана либо на выборах, либо путем государственного переворота. Революция может быть «цветной», бескровной/малой кровью, а может носить характер гражданской войны и политического террора.
Парламентские и президентские выборы дают возможность избирателям отказать правительству в доверии. Однако, смена правительства — это только начало пути. Говоря обобщенно, сдвиги в обществе затрагивают не только непосредственно парламент и правительство, но и гораздо более широкие общественные круги — от научной, медицинской, культурной общественности до людей из бизнеса. Революционные насильственные перевороты часто сметали всех, кто принимал ранее участие в руководстве коллективами людей и/или в экспертизе по принятию решений. Постепенные реформы позволяли старым элитам встроиться в поток изменений и найти себе место в новой реальности.
Любой процесс смены элит включает в себя, во-первых, кризис в жизни общества, ухудшение материального благосостояния; во-вторых, появление новых проблем, непривычных для населения; в-третьих, стадию разочарования в способности существующих привычных лидеров найти решение накопившихся вопросов; в-четвертых, изменение идеологического мейнстрима в обществе, появление новых лиц в политике, работе СМИ, искусстве, предлагающих обновленный набор ценностей и рецептов; наконец, в-пятых, трансформация новых убеждений в новые политические партии и массовые движения. Возглавляющие их лидеры одерживают победу в ходе политической борьбы.
Погружение современного мира в пандемию COVID19 послужило своеобразным тестом для готовности ведущих стран мира к сотрудничеству в острых кризисных условиях, при том, что события разворачиваются по неожиданному и непредсказуемому сценарию, не имевшему аналогов в последние десятилетия. Реакция людей на действия правящих элит высветили глубокое недоверие со стороны граждан многих стран к декларациям и предлагаемым решениям власти. В России это наглядно проявилось в том факте, что порядка 40% взрослого населения, согласно социологическим опросам, не намерено воспользоваться вакцинацией от коронавируса, а еще около 20% испытывает глубокие сомнения в её целесообразности. Кризисный шок пандемии COVID-19 в 2020-2021гг. стимулировал дальнейшее падение доверия граждан к правящей элите и государственным институтам.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
Важной чертой смены руководства, в любом случае, является глубокий раскол в рядах традиционной элиты. Революция относительно мирная или насильственная отличается от верхушечного государственного переворота и тем более от рядовой смены правительства именно тем, что взаимоотношения внутри элиты достигают такого накала, который исключает компромиссы и соглашения между политическими силами.
Именно такой характер приобрели события в СССР во второй половине 1980-х годов. Высшее руководство страны во главе с М.С. Горбачевым стремилось совершить глубокие реформы в экономическом и политическом строе советского общества. Но конкретные цели перестройки не были ясно определены и не был сформулирован ясный план действий. Демократическое движение и гласность в общественной жизни не были поддержаны социальными и экономическими преобразованиями. Сопротивление консервативной части элиты страны приняло характер попытки государственного переворота. Его не поддержали даже вооруженные силы страны. Политические события трансформировались в полномасштабную революцию 1991-1993 годов. Произошла смена общественной системы в целом. Однако мирный в целом характер смены власти позволил руководителям и специалистам из состава советской элиты/номенклатуры возглавить новое государственное устройство и реализовать свои интересы в ходе реформ. Именно это создало возможность далеко продвинуться в создании рыночной экономики, но ограничило демократические политические преобразования.
Разумеется, такой размах изменений зависел от глубины предшествующего общественного кризиса. Стагнация в экономике, застой в социальной и политической жизни, провал во внешней политике — все это породило утрату доверия советских граждан к правящим элитам. Таким образом, источником требования граждан отстранить традиционную элиту от власти является деградация сложившегося образа жизни широких кругов граждан страны.
События ХХ века демонстрируют тесную связь между военными поражениями исторических государств, прежде всего континентальных империй, и полной дискредитацией традиционных элит этих стран. Очевидными все недостатки «старого режима», консервативной элиты становились в периоды военных поражений. Безнадежная, кровавая и непонятная для людей война в Афганистане стала важным фактором падения народной поддержки советской элиты. Неспособность элиты осуществлять эффективное руководство в момент острого кризиса с помощью давно сложившихся традиционных методов является основным аргументом в пользу разгона госаппарата и экспертных сообществ.
Наиболее распространёнными претензиями в адрес традиционной элиты были обвинения в коррупции и в неспособности защищать национальные интересы своей страны. Переформатирование внутренней политики на данном этапе развития стран, принадлежащих к европейской цивилизационной общности, включая Россию, для них гораздо важнее текущих внешнеэкономических и внешнеполитических задач. От прямых столкновений между великими державами исторический процесс отклонился в сторону того, что ныне стали называть «гибридными» формами военных действий, proxyconflicts. Площадкой для такого рода столкновений становятся территории третьих стран. Однако, ошибочная оценка допустимости такого рода конфликтов приводит к тяжелым результатам. Руководство Российской Федерации очевидным образом не смогло спрогнозировать последствия силовой поддержки одной из сторон в вооруженном конфликте на Востоке Украины.
Политические кризисы в современных обществах и государствах во все большей степени определяются экономическими и демографическими факторами. Основы привычного существования среднего класса в настоящее время подвергаются эрозии. С замедлением роста экономики доходы населения стагнируют. В ходе и в результате экономических кризисов кардинально меняется структура отраслей национального хозяйства ведущих стран, а, следовательно, многие хорошо оплачиваемые рабочие места исчезают. Многие промышленные производства перенесены на территорию иностранных стран, где цена рабочей силы гораздо ниже, чем в Европе и Северной Америке. На данном социальном фоне доверие избирателей к сложившимся политическим механизмам, партиям и их лидерам, профсоюзному движению и прочим общественным институтам резко упало.
ВОЛНА НОВОГО ПОПУЛИЗМА
Механизм мобилизации широких масс населения на ранних этапах истории Европы был отработан на примерах религиозных массовых движений. Националистические и коммунистические партии довели мобилизационные процедуры до надежных политических технологий. С их помощью меньшинство убежденных экстремистов уверенно контролировало поступки значительного количества «нормальных людей», составлявших абсолютное большинство.
Политическая технология мобилизации населения также стремительно эволюционировала с развитием электронных СМИ во второй половине ХХ века. Сегодня информационные технологии гораздо более персонально ориентированы и обращены к конкретным стратам населения/избирателей, а не к массам и классам. Вместе с тем эволюции подвергается не только форма, но и содержание, контент, «мэсседж», с которым политические лидеры обращаются к своим потенциальным избирателям. Демонстрация жесткости и решительности всегда высоко ценилась в политической жизни. Разочарование широких слоев европейского и североамериканского гражданского общества в традиционно сложившихся элитах и институтах государства породило спрос на соответствующий типаж политика-популиста. Титул «железной леди» носит исключительно позитивный характер, не говоря об ожиданиях «твердой руки», которые предъявляются ко всем политикам, женщинам и мужчинам. Спрос на эти качества особенно возрос в ходе нарастания волны правого и левого популизма, национализма и ксенофобии. Спрос породил предложение. На первый план выдвинулись политики-популисты.
«Непременной характеристикой популизма является разделение всех в мире на добродетельных людей, с одной стороны и на коррумпированные элиты и угрожающих хорошим людям чужаков, с другой. Популисты не доверяют институтам, особенно тем, которые подавляют «волю народа», таким как суды, независимые СМИ, бюрократия и налоговые и денежные власти. Популисты отвергают всякое доверие к мнению экспертов. Они с подозрением относятся к свободному рынку и свободной торговле. Популизм может приводить к совершенно безответственной политике, в наихудшем варианте развития событий он может разрушить существование независимых институтов, подорвать гражданский мир, распространить в обществе ксенофобию и привести к установлению диктатуры» [14].
Данные пессимистические выводы британский публицист Мартин Вольф сделал четыре года назад, наблюдая современные события, и на основе исторического опыта. Речь идет не о периодическом изменении представительства различных политических сил в правительстве, а о вероятности ломки самих институтов власти современного общества.
Корни развития политического популизма в России весьма схожи с причинами его формирования в США и странах ЕС. Только в феврале 1917 и в августе 1991 годов пришедшей к власти в ходе революции частью элиты ставилась задача развития в России демократической формы государственного устройства. Все остальные популистские проекты в российской и советской истории откровенно ставили задачу укрепления диктаторской / самодержавной власти и военной мобилизации. И не так уж важно, во имя ли «мировой революции» или выхода к проливам и Константинополю.
В последнее время США и Великобритания, а затем и многие страны ЕС столкнулись с всплеском волны политического популизма. Именно на её пике к власти в США пришёл Дональд Трамп, а в Соединенном Королевстве на референдуме победили сторонники выхода страны из состава ЕС. Люди ищут понятные для себя и простые ответы на новые нешаблонные вопросы. Отсюда происходит огромная популярность всевозможных теорий заговоров, типа движения QAnnon. И наилучшим объяснением этих неожиданных событий, производящих впечатление подлинного политического землетрясения, для политиков оказалось утверждение, что это российская пропаганда и российские хакеры соблазнили коварно англосаксонских избирателей.
Характеризуя этот «новый старый» мировой порядок, Анн-Мари Слотер писала в «Файненшл Таймс»: /Дональд Трамп и Владимир Путин/ «оба эти человека делают упор на эксплуатацию того глубокого чувства гнева, обиды и тоски по прошлому, которое представляется хорошо организованным, предсказуемым и патриархальным временем…С данной точки зрения те, кто поддерживает Путина в России и те, кто поддерживает Трампа в США, являются идеологическими союзниками. Они работают совместно во имя того, чтобы повсюду в Европе на выборах люди голосовали за партии с аналогичным мировоззрением, и поддерживают тех лидеров, которые придерживаются тех же ценностей и методов. Они отвергают свободу прессы и верховенство закона, предпочитают ручную прессу и лояльные им суды. Для них важны символические действия, а не содержательная их сторона. Они правят во имя уважения традиций, национализма и этнической чистоты» [15].
Все перечисленные выше черты антиглобалистской идеологии присущи сегодня достаточно широкому кругу право- и лево-популистских движений и партий. Такого рода идеологическая близость вовсе не гарантирует их «мирного сосуществования». Любые националистические движения потенциально конфликтуют друг с другом. Идейная близость не делает популистов из разных стран союзниками, скорее, обостряет соперничество между ними, однако внутри каждой из стран стимулирует рост веры в своего собственного «сильного лидера.»
Поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США не перечеркнуло популярности его идеологических установок среди половины американских избирателей. Популистские националистические политические движения набирают силу и в Западной Европе. В случае прихода к власти их разворот к тесному союзу с США, как альтернативе «власти Брюсселя», «диктату ФРГ в ЕС» станет очевидным. При всей мифологической природе такого рода противопоставлений они популярны у значительной части избирателей. Достаточно проследить эволюцию внешней и внутренней политики Венгрии и Польши, чтобы увидеть, как это может быть сделано.
ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ
Пытаясь анализировать современные пути развития нашей страны, мы видим в качестве центральной проблемы — снижение доверия сограждан по отношению к правящим элитам. С одной стороны, произошла тотальная утрата доверия к широко распространенным в недавнем прошлом социалистическим ценностям, с другой стороны, терпит неудачу стремление сформировать убедительный набор тезисов, которые могут претендовать на роль нового базового исповедания веры в целях восстановления доверия. Популистские лозунги и заведомо неисполнимые обещания не могут указать выход из этой ситуации.
Колебания уровня доверия населения/граждан к правящей элите своих государств носят долгосрочный, а не конъюнктурный характер. Это проблема структурная. Стремление к смене modus vivendi страны накапливается постепенно. Переход его количества в новое качество, в идейный мейнстрим проявляется в том, что данное стремление овладевает существенной частью самой элиты.
Традиционные политики западных государств до последнего времени предпочитали игнорировать эти вызовы. Российские элиты продолжают идти по этому же пути. Политики всячески преуменьшают значение кризисных факторов. Население не получает никакого ответа на множество конкретных вопросов своей повседневной жизни.
Поэтому россияне могут также дружно и решительно откликнуться на призывы политиков-популистов, как они сделали это в 1917г. и на рубеже 1980-1990-х годов, а также в 1993-м, и как это уже произошло недавно в ряде зарубежных стран. Популисты готовы любые кризисные явления «развести руками». Давать невыполнимые в принципе обещания — их профессия. Характер будущего развития нашей страны не предопределен и будет зависеть от решения именно вопроса доверия к элитам российских граждан.
Contemporary Russia is a Cristian European civilization essential part in its Eastern European history version. In the same time the Russian Impair memory affects so much on the national self-conscience. We can see very special Impair nationalism as a mass ideological and political movement. The Soviet Union in now day estimates was a natural inheritance power for the Historical Impair. So far, the Russian Federation foreign and domestic policy, internal institutes, local customs are proceeding this modus operandi. Modern Russian state met the new postcrisis economic and political challenges of the twenty first century. The medium class base Consumer society transformed into the Information access society. The European culture oriented countries political structure are turning into populist mass parties systems. The multipolar international order has replaced the traditional Cold War blocs confrontation.
Примечание
* (См. например освещение данного вопроса в книге Алейды Ассман. Распалась связь времен? Взлёт и падение темпорального режима Модерна. Новое литературное обозрение. М., 2017) [1].
Библиография
Алейда Ассман. Распалась связь времен? Взлёт и падение темпорального режима Модерна. Новое литературное обозрение. М., 2017. ISBN 978-5-4448-0499-5
World GDP Ranking 2021 — Statistics Times.com https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php Дата доступа 16.04.2021
China’s economy springs back from pandemic hit with record growth. Financial Times, 16 April 2021. https://www.ft.com/content/e45496ec-82ff-4586-a062-20124739fcc1 Дата доступа 18.04.2021
Алексей Бачеров. Россия снижает свою долю мирового рынка. Финансовая информация. 29.10.2020. Finversia.ru (https://www.finversia.ru/obsor/blogs/aleksei-bacherov-rossiya-snizhaet-svoyu-dolyu-mirovogo-rynka-83834) Дата доступа 10.04.2021
IMF. World Economic Outlook (April 2021) (https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO) Дата доступа 10.04.2021
Анастасия Башкатова. Россия платит и за конфронтацию с Западом, и за дружбу с соседями. Экономика Евразийского союза могла бы расти вдвое быстрее. «Независимая газета» (https://www.ng.ru/economics/2021-04-04/1_8119_russia.html) Дата доступа 05.04.2021
Прямые иностранные инвестиции в России рухнули до уровней 90-х годов «ProFinance», 20.01.2021
https://www.profinance.ru/news/2021/01/20/c0rm-pryamye-inostrannye-investitsii-v-rossiyu-rukhnuli-do-urovnej-90-kh-godov.html Дата доступа 05.04.2021
Summers L. Reflections on the New Secular Stagnation Hypothesis / Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures/ ed. By C. Teulings, R.L. Baldwin: CEPR Press. A VoxEU.org eBook. 30.10.2014. https://voxeu.org/article/larry-summers-secular-stagnation Дата доступа 15.04.2021
National Security Strategy of the United States of America. https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/2017_national_security_strategy-final-20171218.pdf Дата доступа 19.04.2021
“The Economist”, 27th Jan 2018 (https://www.economist.com/weeklyedition/2018-01-27) Дата до-
ступа 18.04.2021
Константин Ремчуков. Китай в марте: противостоит США, наращивает экспорт и инвестирует в Африку. Мониторинг ситуации в КНР. Март-2021. «Независимая газета» 01.04.2021 (https://www.ng.ru/monitoring/2021-04-01/8_8118_monitoring.html) Дата доступа 05.04.2021
Островский А.В. Китай становится экономической сверхдержавой/М.: 2020, с.370. ISBN 978-5-6045103-1-5
Афонцев С.А. Ловушка санкционного режима. Политика санкций: цели, стратегии, инструменты: хрестоматия. Издание 2-е, / [сост. И.Н. Тимофеев, В.А. Морозов, Ю.С. Тимофеева]; РСМД. — М.: НП РСМД, 2020. — 452с. ISBN — 978-5-6044164-6-4
Martin Wolf. The economic origins of the populist surge. Financial Times, June 27, 2017 (https://www.ft.com/content/5557f806-5a75-11e7-9bc8-8055f264aa8b) Дата доступа 16.04.2021
Anne-Marie Slaughter, Financial Times, July 22 2018
(https://www.ft.com/content/a5762736-8c01-11e8-affd-da9960227309) Дата доступа 10.04.2021
© Текст: Сергей Дубинин

Выступление и ответы на вопросы С.В.Лаврова в ходе встречи с ветеранским сообществом, поисковиками, волонтерами, студентами волгоградских вузов, представителями центра народной дипломатии, Волгоград, 30 августа 2021 года
Большое спасибо, уважаемый Виктор Федорович,
Уважаемый Андрей Иванович,
Дорогие друзья.
Большое спасибо за приглашение. Визит приурочен к церемонии передачи из Министерства обороны Российской Федерации одиннадцати боевых знамен сюда, в этот Мемориал, на вечное хранение. Знамена, под которыми сталинградцы, Красная Армия воевала с захватчиком, спасала мирных жителей, они теперь здесь и по праву принадлежат данному Мемориалу. Такого рода встречи абсолютно необходимы для того, чтобы мы эффективно работали на международной арене.
Наша внешняя политика, определенная Президентом России В.В.Путиным в Концепции внешней политики Российской Федерации, заключается в необходимости максимально использовать внешние условия для того, чтобы помогать развитию страны, укреплению её безопасности, её социально-экономическому росту и повышению уровня и качества жизни наших граждан. В этом её главный смысл. Второе теснейшим образом связанное с этим условие – это наши традиции, тысячелетняя история, духовно-нравственные ценности и верность заветам и подвигам наших предков. Мы обязаны передавать всё это богатство нашей страны молодому поколению.
Сегодня собрались здесь сразу после встречи в администрации Губернатора Волгоградской области, где мы провели очень интересную беседу с нашими ветеранами. Еще раз хотел бы сказать: низкий поклон всем тем, кто до сих пор несет живую память о тех событиях, кто вместе со всем нашим народом выстоял в самой тяжелой, свирепой войне за всю историю человечества и кто сейчас передает молодежи свои знания и, главное, свою любовь к нашей стране. Это самая прочная опора для нашей работы заграницей. Когда ты видишь лица тех, чье благополучие и должно быть целью всех наших усилий, то потом, уверяю вас, на международных площадках действовать получается гораздо более убедительно и эффективно.
Буквально пару недель назад был в Ростове-на-Дону, где тоже посетил Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны – Самбекские высоты. Там, как и здесь, активно действует поисковое движение. Ребята ищут останки павших в Великой Отечественной войне, стараются определить, кому они принадлежали. Очень впечатляющие захоронения. Там есть аллея памяти. Я знаю, что у вас здесь на Россошинском кладбище тоже недавно захоронили останки около тысячи воинов. Это движение гарантирует и символизирует связь времен. Огромная благодарность волонтёрам, поисковикам и тем, кто занимается мемориальной, архивной работой. Недавно (выступая перед активом «Единой России»), Президент Российской Федерации В.В.Путин особо подчеркнул необходимость всяческого поощрения этих усилий. На эту работу будут выделяться дополнительные гранты. В ходе этого разговора возникла идея учредить день поисковика. Движение обрело общероссийский охват. Будет правильно специально подчеркнуть наше глубокое уважение всем тем, кто по зову сердца занимается этой абсолютно необходимой для нашей страны работой.
Хочу еще отметить во вступительном слове, что когда мы добиваемся создания благоприятных условий для нашего развития на внешней арене, далеко не всем это нравится. В нас в свое время (в 1990-е гг.) видели такую послушную страну, которая открылась Западу, во многих случаях беспрецедентно открылась. Это всё было принято за слабость. Осознание того, что России не подобает занимать такое подчиненное, третьестепенное место в глобальном масштабе, пришло не сразу. За последние 20 лет мы обрели самостоятельность, вернули себе свое собственное достоинство. Без него ни в обычной человеческой жизни не получится ничего путного, тем более ничего не сделаешь на международной арене. Мы создали прекрасную армию и, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы и интересы наших граждан гораздо более эффективно, проводим глубокие экономические реформы (да, не без ошибок, не без торможений. Последние полтора года пандемия вмешалась, но тем не менее, на лицо поступательное движение). Далеко не всем это нравится. Потому что наши западные коллеги привыкли уже 500 лет руководить всем миром. И вдруг появилась новая тенденция по утверждению не однополярного, а многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи. С этим приходит и политическое влияние. Достаточно упомянуть таких наших по-настоящему стратегических партнеров, как Китайская Народная Республика (КНР), Индия. Отношения у нас выстраиваются добрые и взаимовыгодные с подавляющим большинством стран мира.
Западные коллеги пытаются затормозить наше движение вперед. Выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад уже пытался встраивать ограничители в свои отношения с нами в надежде притормозить нас. Поэтому у нас нет никаких иллюзий. После волны этих рестрикций, которыми нас обложили в 2014 г., мы сделали вывод, что в стратегических отраслях (касающихся военно-промышленного комплекса и гражданского развития нашей экономики) полагаться нужно на свои собственные силы. Будем оставаться открытыми к взаимовыгодным кооперационным связям, инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас свои собственные ресурсы. Западные коллеги доказали свою ненадежность и готовность ради геополитических выигрышей грубо нарушать международное право, прерогативы Совета Безопасности ООН, а ведь только он имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения. Это контекст, в котором мы работаем.
У нас огромное количество партнеров: Китай, Индия. Страны Африки пару лет назад впервые практически в полном составе на высшем уровне приехали в г. Сочи на первый в истории саммит Россия-Африка. У нас разветвленные отношения и с Латинской Америкой. И наше ближайшее окружение – это страны Содружества Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), объединение БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика). Это примерно три четверти населения планеты. С этими партнерами у нас устойчивые, дружественные, взаимовыгодные, равноправные отношения. В объединениях, в которых Россия участвует в качестве государства-члена, никогда не навязываем «палочную» дисциплину. ОДКБ, СНГ, ШОС, ЕАЭС работают только на основе консенсуса. По сравнению с тем же Североатлантическим альянсом, Европейским союзом у нас свобода мнения и прямое право на участие в выработке решений.
В западноцентричных объединениях всё выглядит по-другому. Если взять Евросоюз, там существует русофобское агрессивное меньшинство. Это прежде всего страны Балтики: Польша, ряд других стран. Они навязывают всем остальным такую солидарность, которая постоянно формируется в антироссийском ключе. Примерно такая же «палочная» дисциплина существует в НАТО. Это печально. Мы никогда не будем поддаваться на ультиматумы, угрозы. Будем всегда действовать исходя из коренных интересов нашего народа.
Это касается и предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации, на результаты которых западные коллеги тоже хотят повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы всё это проходили и в предыдущих избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется более обостренно. Ответ у нас на все эти попытки один – руководствуемся исключительно волей нашего народа. Наши граждане достаточно зрелые люди, чтобы самим оценить работу руководства, определить, кого они хотят видеть в будущем составе Государственной Думы Российской Федерации и какими они видят пути дальнейшего развития страны. При всем этом мы никогда не скатываемся в наших международных делах ни к самоизоляции, ни к конфронтации. Готовы на принципах равноправия и взаимного уважения, на принципах поиска баланса интересов развивать отношения с западными коллегами: и с США, и с Европейским союзом, и с НАТО, но только на основе взаимного уважения и равноправия. Представители этих стран, структур нам заявляют, что они готовы нормализовать связи с Россией, но сначала Россия должна изменить свое поведение – так с нами нельзя разговаривать. В принципе, ни с кем нельзя так разговаривать, если человек правильно воспитан своими родителями, в школе и университете (если он там учился). С Российской Федерацией просто глупо пытаться говорить таким языком. Наша добрая воля всем известна. Хотите разговаривать на равных – милости просим. В любой момент наши двери открыты.
В заключение хочу подчеркнуть значение народной дипломатии (волонтёрское движение, движение поисковиков). Сегодня я встречался с учениками созданной здесь Школы международных отношений и дипломатии. Пригласил ребят приехать в Москву, прийти в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Хотим поддерживать их интерес к международной политике и дипломатии. В любом случае это будет полезно. Это расширяет кругозор. Кто-то из них, наверное, по итогам посещения этой школы может выбрать профессию дипломата. Думаю, что это будет на пользу нашей внешнеполитической деятельности, потому что, когда с молодых лет ребята задумываются о том, в каком мире мы живем и насколько наша страна может играть роль в недопущении новых войн, как это сделали наши великие ветераны, мы всегда это будем поощрять.
Движения народной дипломатии самые разные: есть научная дипломатия, молодежная, поисковики-волонтеры. Мы с Губернатором А.И.Бочаровым обсуждали необходимость не только поддерживать поисковые волонтерские движения, особенно связанные с увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны, с сохранением истории, передачей исторических фактов следующим поколениям. Это важно делать и в международном масштабе. Постараемся, как мы и договорились, по нашим каналам помочь вам найти партнеров за рубежом, разделяющих такие же убеждения, занимающихся такой же работой. Встречал таких ребят и в ряде европейских стран. У нас многое может получиться вместе, особенно когда народная дипломатия, отражающая интересы самых разных уголков нашей страны, действует в унисон с официальной государственной дипломатией.
Сегодня мы посетили еще один элемент нашей общей коллективной силы – восстановленный храм Александра Невского, который будет освящен в самое ближайшее время. С Русской православной церковью (РПЦ) мы теснейшим образом сотрудничаем заграницей. Русская церковь имеет свои приходы во многих странах. Она испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего США, которые задались целью разрушить единство мирового православия. Крайне вредную роль в этом играет Константинопольский Патриарх Варфоломей, который попытался расколоть (у него пока не сильно это получилось) каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Такие попытки сейчас наблюдаются и в отношении Белоруссии, и в отношении стран Средиземноморья, в частности Сирии, Ливана, и на Балканах, где Сербская православная церковь тоже подвергается мощным атакам. Когда Русская православная церковь «несет» свои ценности заграницей, она способствует достижению целей нашей внешней политики, отстаиванию традиционных духовно-нравственных ценностей, подвергаемых сейчас серьезным атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран. Это работа по отстаиванию нашей исторической памяти, корней и генетического кода.
Как вы видите из короткого обзора, классическая дипломатия в этом мире уже не может решать задачи так же эффективно, как когда мы объединяем усилия с народной дипломатией. Рассчитываю, что в сегодняшнем разговоре сможем поискать дополнительные формы такого сотрудничества.
Вопрос: Главной вехой в борьбе за мир является побратимство городов. Хотел попросить Вас, чтобы 2024 г. (год столетия побратимства Волгограда с Ковентри) был объявлен годом городов-побратимов в России. Потом можно провести съезд сторонников мира. Вы проходили мимо «Колокола Мира», который является точной копией «Колокола Мира» в Хиросиме. В год городов-побратимов этот колокол вынесут на центральную площадь, соберут съезд людей, которые борются за мир, и этот колокол будет звучать на весь мир.
Мы находимся на пороге выборов в сентябре новой законодательной власти. Мы все гордимся тем, что Вы возглавляете список лидеров Единой России. Этот список даёт нам уверенность в том, что победа будет за вами, за нами.
С.В.Лавров: Спасибо большое! Мы с Губернатором Волгоградской области А.И.Бочаровым уже говорили про 2024 г. Активно эту инициативу поддерживаем.
Вопрос: Весной в рамках «Вахты памяти» на территории Волгоградской области работала делегация французских исследователей (более 15 антропологов, историков, студентов из этой страны) работала на полях сражений Сталинградской битвы. В течение двух недель было «поднято» более 200 защитников Сталинграда. Также волонтёры приняли участие в захоронении на Мамаевом кургане 37 защитников Сталинграда, найденных ранее. В этих же мероприятиях приняли участие ветераны антигитлеровской коалиции из США, Франции и защитник Сталинграда А.П.Куропаткин.
Нужны ли такие проекты с зарубежными коллегами, волонтёрами? Эффективны ли они? Нужно ли нам продолжать работать, в т.ч. за рубежом в этом направлении?
С.В.Лавров: Считаю, что обязательно нужно продолжать работу на этом направлении. Мы об этом говорили с Губернатором Волгоградской области А.И.Бочаровым. Волгоград как один из центров поисковой работы вполне может выступить с такой инициативой. Она будет гарантировано поддержана государством. Будем помогать вам искать партнёров. У вас уже есть коллеги из стран бывшей антигитлеровской коалиции. То, что Вы сами не сможете сделать, обязательно поможем. Данное движение нужно всячески развивать. Это историческая память, которая сейчас подвергается различным испытаниям.
Вопрос: С Вашей легкой руки город-герой Волгоград получил статус центра общественной дипломатии, известен этим во всем мире. В рамках движения породненных городов проходит много мероприятий и встреч, растет их статус, реализуются различные проекты, которые рождаются на ежегодном Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке».
В настоящий момент в регионе при поддержке фонда президентских грантов на федеральном уровне реализуется проект «Посольство будущего», направленный на обучение детей основам межкультурной коммуникации и дипломатии. Также стартовал международный проект «Цифровая скатерть «Волгоград – Ковентри» – 80 лет взаимной поддержки». Наша задача – вовлечь в общение как можно больше жителей Ковентри и Волгограда. Хотим через рисунки, картины, музыку рассказать друг другу и всему миру о наших городах и о том, как мы сотрудничаем уже 77 лет.
Администрация Волгоградской области и города Волгограда всегда оказывают серьезную поддержку в организации и реализации наших проектов. Уже сделаны программы с Израилем и Великобританией, в процессе подготовки – с Хиросимой в честь 50-летия побратимских связей. Ожидаем результатов по проекту «Мода на мир» совместно с Италией и Великобританией. Их очень много, они уникальны и были рождены на площадке различных международных форумов.
Как Вы считаете, в каких направлениях общественная дипломатия могла бы помочь в работе большой государственной дипломатии и дать наибольший синергетический эффект?
С.В.Лавров: Спасибо за то, что Вы делаете, и за интерес к международным связям. Получается, мы одновременно пришли к тому, что поисковая работа обязательно должна иметь международное измерение. Проекты, о которых Вы упомянули, тоже связаны с сохранением исторической памяти и идут в том же направлении. Попрошу наших коллег-поисковиков и Ваше движение передать нам фактическую информацию. Посмотрим, чем можно помочь, если у вас есть сложности (желательно их тоже упомянуть).
Народная дипломатия может помочь государственной самим фактом своего существования. Всегда полезно, когда люди, работающие на государственных должностях, в том числе во внешней политике, ощущают «нерв» своей страны. Не использовать искреннее желание таких людей, как Вы, для того чтобы развивать контакты с дружественно настроенными по отношению к нам людьми за границей было бы неправильно. В современных условиях значение этой работы многократно возрастает. Западные коллеги решили обидеться на Россию: то за Украину, то за Крым, то кто-то кого-то отравил (но никто никаких фактов не предъявляет), то еще за что-нибудь – постоянно что-то есть. Отношения заморожены.
С Европейским Союзом была самая разветвленная архитектура структурированных государственных отношений. Ежегодно проводили два саммита; встречи всего Правительства России с Европейской Комиссией; четыре общих пространства, по каждому из которых была одобрена «дорожная карта», мы двигались к созданию этих общих пространств; 20 секторальных диалогов (от энергетики до прав человека); отдельные контакты по облегчению визового режима и в итоге по переходу к безвизовым поездкам. Всё это было в одночасье зарублено. Например, безвизовый диалог был обрублен в 2013 г. Тогда еще на Украине и в Крыму не происходило никаких событий, которые впоследствии Запад решил «свалить» на Россию. Я уже говорил, что нас хотят сдерживать всеми правдами и неправдами, подпитывая русофобские настроения в Прибалтике и в некоторых других странах бывшего СССР. Украина – это образчик того, как западные коллеги хотят использовать наших соседей для того чтобы нам было неуютно. В условиях, когда межгосударственные отношения находятся в замороженном (если не в похороненном) состоянии, общественная дипломатия, контакты между людьми, культурные, гуманитарные и научные связи приобретают особое значение. Великобритания – еще один пример –было много гуманитарных мероприятий, ежегодные культурные встречи, фестивали, гастроли.
Чем больше вы со своими единомышленниками за рубежом будете дружить и совместно реализовывать проекты, тем лучше будет России на международной арене, тем больше избирателей в соответствующих странах (когда им в очередной раз правительство будет предлагать русофобскую повестку дня) на подобную идею будут иметь собственную точку зрения.
Буду ждать информацию по поисковикам и о ваших международных контактах.
Вопрос: Для многих, в том числе и для меня, Вы являетесь тем человеком, на которого стоит равняться. Именно благодаря Вам я понимаю, кем бы хотела стать в будущем. Профессия дипломата очень интересна, но в то же время и сложна. Скажите, собираетесь ли Вы написать автобиографическую книгу, которая помогла бы начинающим дипломатам?
С.В.Лавров: Нет, не собираюсь. Если не написать всего – будет неинтересно. Насчёт тех книг, изданий, которые могут помочь лучше понять профессию. Стараюсь свои выступления на международных форумах и других площадках составлять таким образом, чтобы они отражали мое мировосприятие. То, что можно перенять из опыта, накопленного мной на этом посту, в этих изданиях можно подчерпнуть. Но если вам не хватает информации, можем дополнительные материалы подослать. Автобиографией заниматься не собираюсь и мемуарных произведений писать не планирую, а статьи публикуются. Они дают не стопроцентную картину опыта, но позволяют многое понять.
Вопрос: В своих интервью Вы часто говорили, что увлекаетесь футболом, рафтингом и также пишете стихи. Недавно была издана книга Ваших лучших стихов «Последний компромисс с Богом». Вы – создатель текста гимна МГИМО, который я бы хотел спеть уже будучи студентом этого вуза. Всегда интересовало (просто сам пишу стихи), где Вы черпаете свое вдохновение для произведений, будучи одновременно с этим погруженным и вовлеченным в дела государственной важности? Вы помните свое первое произведение? В каком возрасте Вы его написали? Не могли бы Вы его нам прочитать?
С.В.Лавров: Нет, прочитать я сейчас не смогу, просто не вспомню, и стесняюсь немного. Написал в 16 лет. Насчет гимна МГИМО – Вы поступаете или как?
Вопрос: Я перехожу сейчас в 9 класс, поэтому еще нет. Но я готовлюсь пойти именно туда.
С.В.Лавров: Начинайте слова учить. Насчет того, где черпать вдохновение, знаете, А.А.Вознесенский, царствие ему небесное, однажды написал такие строки: «Стихи не пишутся – случаются, как чувства или же закат. Душа – слепая соучастница. Не написал – случилось так». Примерно так.
Вопрос (музыкальный): Хотела бы задать Вам вопрос в форме песни. Звучит песня «Отмените войну» (музыка Т.Ветровой, слова А.Майер, исполняет В.Щелянова).
С.В.Лавров: Тронут до слез таким исполнением. Видно, что кроме колоссального таланта певицы и актрисы Викторию переполняют чувства. Такое нельзя сыграть. Это можно только прочувствовать и откровенно показать.
Ответ на вопрос, когда мы отменим войну, сложный. Если бы все зависело от нас, это было бы быстро.
Сегодня говорили о подвиге ветеранов, о Великой Победе в Великой Отечественной, Второй мировой войне.
Организация Объединенных Наций была создана для того, с чего начинается ее Устав: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны…». По определению имелась в виду мировая война. Надо признать, что страны антигитлеровской коалиции в подавляющем большинстве избежали разрушительных войн. Глобальной, мировой войны, предотвратить которую и должна была ООН, не произошло. Но большое количество региональных, внутренних конфликтов приносит не менее тяжелые результаты для тех людей, на чьей земле все это разворачивается.
Самое опасное сейчас – это то, что наши коллеги из западных стран провозгласили своей целью распространение демократии по всему миру в том виде, как они ее понимают. Ради этого был разрушен Ирак. В мае 2003 г. тогдашний Президент США Дж.Буш на борту авианосца в Персидском заливе провозгласил «победу» демократии в Ираке. До сих пор Ирак не может восстановить свою территориальную целостность, а количество тех, кто погиб в «демократизации» этой страны, исчисляется сотнями тысяч. После того, как американцы захватили Ирак, появились новые террористические отряды. В частности «Исламское государство» (ИГИЛ).
После войны в Афганистане в начале 1990-х годов, когда талибы в первый раз пришли к власти, появилась «Аль-Каида». После Ирака появилось «Исламское государство». После того, как разбомбили Ливию, террористы хлынули и в Черную Африку. Появились «отпочкования» от ИГИЛ – «Исламское государство» в таком-то районе. В Ливии до того, как туда пришли американцы, люди пользовались огромными социальными благами. Это была богатая нефтью страна (нефть осталась, только сейчас там все разрушили) с бесплатным образованием, медициной, бензином и многим другим. М.Каддафи, которого американцы позволили зверски убить, и показали это в прямом эфире, наверное, в определенной степени был диктатором. Да, при нем были какие-то репрессии, какое-то количество людей сидело в тюрьмах. Но это не идет ни в какое сравнение с теми сотнями тысяч ливийцев, которые погибли из-за «демократизации», начатой нашими западными коллегами.
Это же было и в Ираке – жесткий, авторитарный, где-то деспотический режим. Но если берем за главную ценность человеческую жизнь (а во всемирных декларациях прав человека именно право на жизнь провозглашено главным), то сравнение отнюдь не в пользу этих «демократизаторов».
То, что сейчас наблюдаем в Афганистане, – двадцать лет они занимались тем же самым, с упорством, достойным лучшего применения, устанавливали свои порядки. Не надо идти в «чужой монастырь со своим уставом». Есть еще поговорка и про «калашный ряд». Это вредно. Сейчас это самая главная угроза для возникновения вооруженных конфликтов.
Мы никогда не занимаемся подобным. Решения, которые в последние годы принимал Президент Российской Федерации В.В.Путин по поводу использования вооруженной силы за рубежом, носили международно-правовой характер.
В 2008 г., когда не очень адекватный лидер Грузии М.Саакашвили отдал приказ направить войска и начать обстреливать Южную Осетию, где находились в том числе российские миротворцы (нападение на миротворцев означает нападение на страну), он получил ответ. Ценой огромного напряжения наших Вооруженных сил в то время удалось войти в Южную Осетию через Рокский тоннель, который хотели взорвать.
Когда разрушился Ирак и Ливия, то же самое хотели сделать с Сирией. Реальные террористы из ИГИЛ и его ответвлений стояли у ворот сирийской столицы. Речь шла о неделях, прежде чем террористы захватили бы власть в стране. Запад взирал на это достаточно спокойно, исходя из своей логики, что Президент Б.Асад не демократ, а САР «нуждается в демократии». Для того чтобы свергнуть неугодного президента, они использовали откровенных террористов. И многое другое происходило. Законное правительство попросило нас не допустить развала Сирии, мы пошли, вмешались и защитили государственность, христианство в стране (Сирия – колыбель христианства). Страна была под угрозой исчезновения всех граждан, исповедующих христианскую религию. Создали условия для того, чтобы был политический процесс урегулирования, который «ни шатко ни валко» (не по нашей вине), но все-таки продолжается.
У нас никогда нет агрессивных замыслов. Недавно на границе с Украиной проводились плановые учения. При их планировании мы вынуждены были принимать во внимание, что прямо через линию соприкосновения России и НАТО к тому времени уже были организованы крупнейшие в истории альянса учения «Defender Europe». Помните, какой шум начался? Якобы Россия готовится завоевать Украину. Объяснили, что это учения, которые мы проводим на своей территории. А вот что делают американцы, канадцы, англичане и другие не граничащие с нами страны на территории наших соседей, когда десятки тысяч единиц техники, военных, персонала «сгрудились» на наших границах, явно репетировали боевые действия с Российской Федерацией? Нас обязательно обвинят в том, что именно мы привели к тому, что НАТО вынуждена так перегруппировываться, перевооружаться, передвигать свою инфраструктуру в Прибалтику и другие страны, находящиеся на наших границах. Все это делается под лозунгом защиты Украины от российской агрессии.
Но когда в феврале 2014 г. на Украине состоялся государственный переворот вопреки договоренностям, которые гарантировали западные страны и ЕС, эти гаранты развели руками в ответ на наши требования, чтобы они заставили Киев, путчистов, пришедших к власти, соблюдать договоренности, и опять стали ссылаться на демократию. А то, что режим с первых же дней стал провозглашать своей целью изгнание русских, русского языка и культуры, да и самих жителей, об этом они не сильно заботились. Когда мы откликнулись на решение, свободное волеизъявление жителей Крыма, которые не хотели оставаться в таком государстве, где русских уничтожают во всех смыслах, Запад опять стал нас во всем обвинять.
Потакания нынешней украинской власти и попытки представить, что все беды Украины только от того, что Россия «не выполняет» Минские договоренности (хотя там Россия ни разу не упомянута, а десять раз упомянут Киев, который должен напрямую договариваться с Донецком и Луганском), никуда не ушли. Точно так же, как лидеры «Правого сектора» в феврале 2014 г. публично требовали изгнать русских из Крыма, пару недель назад Президент Украины В.А.Зеленский в одном из своих интервью прямо сказал, что он советует русским сделать для себя вывод и определиться. Если они считают, что они русские и не могут без всего русского, то пусть убираются в Российскую Федерацию. Как такое можно допускать в современном мире, в либеральных обществах, куда он стучится, пытаясь проникнуть в Евросоюз?
К сожалению, есть много желающих оставить без внимания песню, которую ты спела, вопросы, которые в ней прозвучали. Российская Федерация совершенно точно не из их числа. Будем делать все, чтобы эти риторические вопросы перестали быть таковыми. Потому что пока они звучат примерно так: «Ну, когда же вы сделаете то, чего никогда не сделаете?». Я считаю, что это надо менять. Эта песня может стать началом международного детского движения. Смотрел на тебя и считаю, что ты вполне можешь быть лицом такого движения. Ты будешь гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем Г.Тунберг в борьбе за климат.
***
С.В.Лавров: Андрей Иванович (Бочаров),
Друзья,
Спасибо вам за эту встречу. Мне важно было «пропитаться» вашими настроениями, помыслами, чаяниями. Уверен, что о многих вещах, о которых сегодня говорили, продолжим не просто разговаривать, но и будем предметно ими заниматься.
Помог ли Китай США уйти из Афганистана
Талибы установили контроль над большой частью Афганистана за две недели. Это стало неожиданностью для всех, в том числе для американских властей. Что привело к быстрому падению Кабула? Аналитики приводят различные версии. Афганский политолог Идрис Рахмани связывает падение Кабула, за которым последовал быстрый уход США, с новой игрой регионального масштаба.
Одним из ключевых факторов победы «Талибана» (запрещено в РФ) в Афганистане стала крупная сделка между Китаем и Ираном, подписанная сроком на 25 лет, полагает аналитик. В рамках соглашения Тегеран будет продавать нефть Пекину по выгодным ценам, в то время как Пекин будет поставлять оружие на иранский рынок.
В связи с этим китайская сторона крайне заинтересована в строительстве трубопроводов через территорию Афганистана, отмечает Рахмани.
«Учитывая, что ВМС США будут контролировать международные воды на протяжении многих лет, лучший выбор для Китая – это прокладывать трубопроводы по суше. Как только было подписано соглашение с Ираном, афганский вопрос стал для китайцев приоритетным», – пишет он.
Ссылаясь на различные данные, Рахмани уточняет, что после заключения договора с Тегераном китайцы обещали платить талибам «за каждый метр» территории Афганистана, который может быть использован в интересах Пекина. По его мнению, значительный приток денег является одной из главных причин падения афганских уездов и провинций.
Он подчеркивает, что Китай будет закупать иранскую нефть по рекордно низким ценам: в три раза ниже, чем стоимость российской нефти. Даже с учетом трат на новое афганское правительство Пекин получает многочисленные экономические выгоды. Поражение США в Афганистане и продажа оружия Ирану – «стране, которая может бросить вызов присутствию США на Ближнем Востоке» – укрепит позиции Китая в регионе.
«Ожидается, что в скором времени новому правительству талибов в Афганистане удастся улучшить экономическое положение страны, особенно если оно не утонет в коррупции и роскоши, как правительства, поддерживаемые США», – считает Рахмани.
Аналитик отмечает, что другие региональные игроки не останутся в стороне и попытаются снизить влияние Китая. Поскольку китайско-иранская сделка не в интересах России, от нее следует ожидать «серьезных шагов». По мнению политолога, Москва может оказать поддержку антиталибскому сопротивлению.
Индия существенно отстает от Китая на рынке энергоресурсов, она также не заинтересована в усилении роли Китая и на афганском направлении, вероятно, будет сотрудничать с Россией.
Роль Пакистана в новой региональной игре пока неясна. Но если китайцы проведут трубопровод через Бадахшан, Исламабад окажется в числе проигравших. Как полагает Рахмани, в этом случае Пакистан может задействовать «Исламское государство» (запрещено в РФ), чтобы заблокировать трубопровод, и другие игроки могут к нему присоединиться.
Он также не исключает возвращения США, которые «не будут сидеть сложа руки».
«В любом случае рано или поздно они придут к талибам и китайцам, чтобы свести счеты. Особенно, когда с ними хотят сотрудничать такие страны, как Пакистан, Индия и Россия. Особенно, когда к власти снова придут республиканцы», – подчеркнул эксперт.
Политика недели: Средневековье по соседству
Талибы так и не сформировали правительство, не договорились с Панджшером и не определились с новым управлением страной. Внешние игроки перекрыли им доступ к займам, но мировые требования к Афганистану постепенно снижаются, сводясь к базовой потребности стран региона в безопасности.
Завершение эвакуации
После прихода к власти «Талибана» (запрещено в РФ) прошло более двух недель, однако вопрос эвакуации иностранных граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными представительствами и военнослужащими, оставался центральным всю прошедшую неделю. По данным УВКБ ООН, в ближайшие четыре месяца страну могут покинуть 500 тысяч человек. Среди причин массовой миграции называют политическую неопределенность, проблемы с безопасностью и безработицу.
В СМИ появляется отрывочная информация о новых порядках талибов. В провинции Баглан талибы убили исполнителя народной музыки Фавада Андараби, в Кабуле были избиты журналисты. В провинциях Кандагар и Газни на радио и телевидении запретили музыку и женские голоса. Женщинам в некоторых районах и городах запрещают выходить без сопровождения мужчин, им не позволяется работать вне дома. Девочкам ограничено право на образование. Высокопоставленный представитель «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станикзай, выступая по афганскому телевидению, призвал талибов не создавать людям проблем, не входить в дома и не вмешиваться в частную жизнь, что означает – создают, заходят и вмешиваются.
На прошедшей неделе стало известно, что в руках талибов оказались списки людей, которые сотрудничали с американцами и военнослужащими стран НАТО, и базы данных афганского правительства, одно из объяснений – списки передали для беспрепятственного пропуска людей в аэропорт. Утечки вызвали панические настроения среди афганцев.
Ближе к концу недели многие страны Запада заявили о завершении спецопераций по эвакуации. 26 августа об этом сообщила Канада, силами ее армии из Кабула было вывезено приблизительно 3.7 тысячи канадских и афганских граждан, всего же в Канаде готовы принять 20 тысяч афганских беженцев. 25 августа — Германия. Великобритания заявила о завершении вывоза своих подданных и помогавших им афганцев 28 августа: Лондон эвакуировал около 15 тысяч гражданских лиц и одну тысячу военнослужащих. Однако по оценкам министерства обороны Великобритании, в Афганистане останутся еще от 800 до 1.1 тысячи афганцев, помогавших британцам, и более 100 подданных королевы, причем некоторые из них, по словам министра обороны, остаются в Афганистане «по собственному желанию». Глава МИД Великобритании Доминик Рааб пригрозил талибам, что если те не позволят афганцам, не желающим жить под их властью, покинуть страну после 31 августа, — то Великобритания введет против «Талибана» санкции и даже готова в этом вопросе сотрудничать с Россией и Китаем. Соединенное Королевство, по словам Рааба, оставляет за собой право применить ограничительные меры против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН. Посольство Великобритании теперь будет работать в Катаре, там открыто «временное представительство».
В ночь на 28 августа о завершении эвакуации заявили МИД и Министерство вооруженных сил Франции, на авиабазу в Абу-Даби (ОАЭ) были вывезены 2834 человека, из них 142 француза, 117 европейцев, остальные – граждане Афганистана. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж при посредничестве Катара обсуждает с «Талибаном» гуманитарные операции и вывоз афганцев, которым может угрожать опасность.
27 августа о завершении эвакуации заявила Испания. В ходе операции Мадрид вывез в общей сложности около 1,9 тыс. человек.
США намерены завершить эвакуацию до 31 августа, они уже вывезли из Кабула более 117 тысяч человек, из которых только 5.4 тысячи – граждане США, остальные афганцы.
Японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве заявили, что силы самообороны смогли эвакуировать только одного японца. Японские дипломаты и военные, которые прибыли в Кабул для эвакуации своих граждан, тоже покинули Афганистан. Ранее заявлялось, что правительство Японии намерено эвакуировать около 500 человек, среди которых и местные жители, работавшие в японских представительствах. Почему удалось вывезти лишь одного, не объясняется.
Россия эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ, государств-членов ОДКБ и Украины. Еще около тысячи афганцев получили разрешения на въезд в Россию: речь идет об афганцах, имеющих российский паспорт или вид на жительство в РФ, студентах, обучающихся в российских вузах, и лицах, имеющих рабочую визу.
Теракт в кабульском аэропорту
Главное трагическое событие прошедшей недели — теракт в кабульском аэропорту в четверг, 26 августа. Сначала СМИ сообщали, что прозвучало шесть взрывов, позже эти данные уточнялись, министерство обороны Турции заявило о двух, потом Пентагон уточнил, что был всего один самоподрыв террориста-смертника возле пункта досмотра. Точное число погибших неизвестно, источники называют цифры от 180 до 200 человек, среди них – 13 американских военнослужащих. Сообщается, что более 140 человек получили ранения, в том числе 18 американцев.
Теракт осудили НАТО, ООН, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия, Испания, Россия, Китай, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Индия и другие страны.
Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГ, запрещено в РФ), и это обстоятельство обострило конфликт между «Талибаном» и ИГ и вызвало политический кризис в Штатах.
Президент США Джо Байден обещал наказать виновных и заявил о готовности нанести удары по ИГ. «Мы не простим, мы не забудем, — сказал он. – Мы выследим вас и заставим заплатить».
28 августа ударом американского беспилотника в провинции Нангархар был убит боевик ИГИЛ, который, по данным Пентагона, принимал участие в планировании теракта в аэропорту.
Интересно, что в понедельник, за три дня до теракта, директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с лидером талибов муллой Абдул Гани Барадаром. Журналисты, узнавшие о встрече, предположили, что обсуждались вопросы эвакуации американских граждан. Накануне теракта появлялись сообщения о готовящейся атаке, однако ее все равно не смогли предупредить.
Поэтому, когда в ночь на 29 августа посольство США в Кабуле распространило заявление, в котором призвало американцев покинуть аэропорт из-за угрозы нового теракта, — к этому предупреждению отнеслись серьезно. Эвакуация была приостановлена, и днем 29 августа беспилотник ВС США ударил по автомобилю в одном из районов Кабула. В Пентагоне пояснили, что в нем находился смертник-игиловец, который планировал новый теракт в аэропорту. От удара беспилотника был частично разрушен жилой дом, погибло шесть человек, в том числе – по данным афганских журналистов, — четверо детей.
Этот удар вызвал критику Вашингтона в российских СМИ, однако аналитики, опрошенные «Афганистаном.Ру», считают, что в этой ситуации вообще нет хороших решений. Гибель мирных жителей вызывает сочувствие, однако Пентагон не мог допустить, чтобы новый теракт был совершен, и действовал в рамках своих возможностей. Вероятно, если бы страны региона позволили США разместить на своей территории военную базу, ситуация поспешного бегства не была бы столь унизительной для Америки. Но аналитики считают, что регион сделал все, чтобы США ушли из Афганистана с максимальным позором.
Взрыв в аэропорту унес больше жизней американских военнослужащих, чем за все время присутствия в Афганистане с момента подписания дохинского соглашения в феврале 2020 года. Теракт, в котором многие увидели унижение Америки, заставил республиканцев заговорить об импичменте Байдена. Сенатор Марши Блэкберн заявила: «Пришло время привлечь к ответственности тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли – все должны уйти в отставку или быть подвергнуты импичменту и отстранены от должности». Республиканцы во всем винили Байдена, писали о его «окровавленных руках» и о подрыве усилий американских военных.
В ответ Байден огрызнулся, заявив, что ответственность за гибель военнослужащих несет и предыдущий президент США Дональд Трамп. «Я несу ответственность за все, что произошло. Но вот в чем дело – бывший президент США заключил сделку с «Талибаном» о том, что все американские войска покинут Афганистан к 1 мая. Взамен ему пообещали, что «Талибан» не будет атаковать войска американцев», — сказал Байден.
Некоторые республиканцы даже потребовали от Байдена признать Амруллу Салеха и Ахмада Масуда законными представителями правительства Афганистана. «Мы просим администрацию Байдена признать, что Конституция Афганистана остается в силе, а захват власти афганскими талибами является незаконным», — заявили сенаторы Грэм и Вальц.
Теракт в Кабульском аэропорту продемонстрировал, что ИГИЛ в Афганистане не только не побежден, но способен планировать и осуществлять громкие теракты практически под носом у «Талибана». По словам кабульцев, с которыми поговорил «Афганистан.Ру», после теракта в нескольких районах города завязалась перестрелка между талибами и игиловцами. Инсайдеры не исключают, что цель ИГ – подогреть недовольство непуштунского населения талибами, что упростит вербовку и усилит позиции группировки на севере. В пользу этой версии говорит и интервью местного лидера ИГ, который неожиданно заявил, что талибы не смогут ввести шариат на территории Афганистана, а у «Исламского государства» это получится.
При этом «Талибан» осудил удар США в Нангархаре. Представители движения с неудовольствием заявили, что американцы развернули масштабную пропаганду относительно деятельности ИГИЛ в Афганистане. Означает ли это заявление, что талибы начинают сотрудничество с ИГИЛ – или, наоборот, они недовольны преувеличением роли «Исламского государства» в Афганистане, пока неясно.
Слухи о правительстве и новые назначения талибов
Спустя две недели после прихода «Талибана» к власти в Афганистане нет правительства, кризис продолжается. Бывший первый вице-президент Амрулла Салех, который находится в Панджшере, объявил себя президентом – при том, что Ашраф Гани официально так и не сложил с себя полномочия. В Афганистан прибыли глава катарского офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар и духовный лидер «Талибана» мулла Хайбатулла Ахундзада – как сообщалось, оба обсуждали с другими лидерами движения новое правительство и принципы будущего управления Афганистаном. Местные журналисты, избегая неприятностей, уже везде пишут новое название страны — Исламский Эмират Афганистан, хотя официально эмират еще не провозглашен, и никаких законов, подтверждающих это название, пока не принято.
На прошедшей неделе издание Foreign Policy сообщило, что талибы намерены сформировать Совет, в который войдет 12 человек, в том числе Абдулла Абдулла, Хамид Карзай, Гульбеддин Хекматияр и другие политики.
Это сообщение вызвало резонанс, эксперты даже стали рассуждать о возможном составе и будущей политике новой администрации. Однако вскоре представители талибов дали понять местным СМИ, что эта информация не соответствует действительности: решение о том, как будет устроено управление страной, еще не принято.
Высокопоставленный представитель «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станикзай пояснил в конце недели, что продолжаются консультации по формированию инклюзивного правительства «с различными этническими группами, политическими партиями и внутри Исламского Эмирата». Станикзай подчеркнул, что правительство должно быть признано как внутри Афганистана, так и за его пределами: «Исламский Эмират Афганистан намерен сформировать исламское правительство, в которое войдут представители всех слоев общества». Это заявление должно было бы успокоить и внешних игроков, и самих афганцев, — однако в СМИ появились сообщения, что талибами уже назначены министры информации и культуры, высшего образования, обороны, внутренних дел, финансов, глава ведомства по вопросам госслужбы, глава разведки, все начальники полиций в 34 провинциях и некоторые губернаторы.
Правда, Станикзай пояснил, что все назначения временны, многие должности отданы чиновникам, которые занимали эти кресла и до прихода талибов. Другой представитель «Талибана», Забиула Муджахид, заявил, что кабинет может быть сформирован в течение двух недель.
При этом талибы продолжают заявлять, что править Афганистаном будет духовный лидер движения. Опрошенные инсайдеры полагают, что сейчас внутри «Талибана» идет сложный торг между радикальным и умеренным крыльями. Радикалам формирование совета представляется отходом от принципов движения, в то время как международное сообщество пока ясно дает понять, что управление страной, каким оно было в девяностые годы, — неприемлемо. Тем не менее, если судить по проведенным назначениям, речь идет о монополизации власти: все новые министры, о которых становится известно, – талибы и пуштуны, как подчеркивают инсайдеры.
Позицию умеренных кругов талибов усиливает паралич финансовой системы: экономическая ситуация ухудшается, денег нет, долго так продолжаться не может. А значит, необходимо идти на уступки внешним игрокам, чтобы не оказаться в международной изоляции.
Все задаются вопросом, как назначенцы талибов смогут управлять страной, хватит ли у них профессиональных навыков. Так, на прошедшей неделе талибы назначили нового главу Центробанка, им стал Мохаммад Идрис. Ранее он возглавлял экономическую комиссию талибов, источники в рядах движения говорят, что Идрис имеет опыт в ведении финансовых дел, но многие эксперты сомневаются в его профессионализме. Амрулла Салех вообще очень резко отреагировал на это назначение, назвав Идриса «отмывателем денег» и человеком, который содействовал сделкам «Талибана» и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).
При этом должность главы Центробанка является едва ли не ключевой сегодня. Предыдущий глава ЦБ бежал из страны и теперь рассказывает журналистам, какие экономические проблемы ждут Афганистан, среди которых — ослабление национальной валюты, рост инфляции и введение контроля за движением капитала. При этом 75% основных государственных расходов Афганистана до сих пор покрывались за счет внешних грантов, а с этим начинаются проблемы: Всемирный банк приостановил финансовую помощь Афганистану, Международный валютный фонд закрыл талибам доступ к своим ресурсам (Афганистану предполагалось выделить 455 млн. долларов), США заморозили на своих счетах афганские государственные резервы (несколько миллиардов долларов), Евросоюз остановил экономическую помощь Афганистану в размере 1 млрд. евро.
Афганцы испытывают дефицит наличных, в стране закрылись банки, курс афгани упал до рекордно низкого уровня, цены на продукты значительно выросли. Талибы запретили вывозить доллары из страны и заявили, что нарушители будут наказаны. В воскресенье, 29 августа, Центральный банк Афганистана ограничил возможность снятия денег со счетов, теперь это 20 000 афгани в неделю с невалютных счетов и $200 (или их эквивалент) – с валютных.
Панджшер и жесткая позиция Таджикистана
Разговоры об инклюзивном правительстве подвисают и по той причине, что провинция Панджшер, где находятся Амрулла Салех и Ахмад Масуд, — пока не перешла под контроль талибов. С Масудом всю неделю велись переговоры, на время которых стороны договорились отказаться от вооруженного столкновения. Масуд даже предложил сделать Панджшер зоной безопасности для тех афганцев, которые пока не могут уехать из страны, но хотели бы укрыться от талибов.
Переговоры пока ни к чему не привели. Масуд проясняет свою позицию в различных интервью, обращается к Западу и Москве за поддержкой. Так, в понедельник, 23 августа, Масуд заявил, что надеется договориться с талибами, но готов к борьбе в случае их провала. «Мы хотим, чтобы талибы осознали, что единственный путь вперед – это диалог, – сказал он Reuters. – Мы не хотим, чтобы началась война». Масуд призвал к созданию инклюзивного правительства, где будут представлены различные этнические группы, и добавил, что «тоталитарный режим» не должен признаваться международным сообществом. При этом для сопротивления талибам Масуду нужна будет международная поддержка, и он об этом прямо заявляет. Сейчас численность его сил, по данным источников, составляет более 6 тысяч человек.
В среду, 25 августа, Масуд заявил, что Россия может помочь в создании инклюзивного правительства, и сказал, что надеется на «политическое вмешательство России». «Это в их интересах, потому что если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии», — заявил Масуд.
26 августа прошли переговоры, на которых присутствовали и чиновники бывшей администрации, и бывшие депутаты не только из Панджшера, но и из других провинций. Сообщалось, что талибы, чья делегация к этому времени уже дважды побывала в Панджшере, прекратила блокировать въезды в ущелье, поставки продовольствия и воды продолжаются в прежнем режиме.
Пропагандисты обеих сторон, как могли, всю неделю оказывали друг на друга давление. Талибы распространяли кадры вхождения своих сил в Панджшер, близкие к Масуду источники выкладывали фотографии нового вооружения.
По мнению инсайдеров, главная причина, почему талибы пока отказываются от военного вторжения в Панджшер, — опасение оказаться в международной изоляции. Всю неделю эксперты рассуждали о том, сколько дней продержится Панджшерское ущелье, если талибы начнут войну. Сами талибы заявляли, что это вопрос нескольких дней. Инсайдеры не согласны.
Один из них сказал: «Талибы нигде не встречали сопротивления, не считая Герата, там им противостояло малочисленное ополчение. Они брали территории не войной. В Панджшере им точно будет оказано сопротивление. Военное превосходство на стороне талибов, но одним днем точно не обойтись. Будет кровавые бои, которые талибам сегодня не нужны, это отвратит от них внешних спонсоров».
Однако в успешном исходе переговоров инсайдеры тоже сомневаются. «Все выглядит как затишье перед боем», — считает один из них. И эта пауза, к слову, выгодна и Масуду – чем дольше затягивается формирование временной администрации, тем хуже социально-экономическая ситуация в стране, а значит, тем больше причин у талибов пойти на уступки.
Ситуация в Панджшере серьезно отзывается в Душанбе, который занял жесткую позицию. Как Панджшер остается единственной неподконтрольной провинцией, так и Душанбе – единственный сосед Афганистана по региону, отказывающийся от контактов с «Талибаном». На прошедшей неделе президент Таджикистана Эмомали Рахмон сделал резкое заявление, встав на сторону афганских таджиков.
На встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши, который прибыл в Душанбе с официальным визитом, Рахмон заявил, что «приход к власти движения «Талибан» еще больше осложнил геополитический процесс в регионе. Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата», — заявил президент Таджикистана. Он призвал к формированию инклюзивного правительства при участии всех национальных меньшинств и заявил, что таджиков в Афганистане более 46% населения. Рахмон жестко подтвердил, что Таджикистан никогда не признает правительство, навязанное силой, и призвал международное сообщество принять меры для стабилизации ситуации в Афганистане путем переговоров – иначе в стране может начаться «затяжная гражданская война».
Позиция Душанбе была донесена и в ООН: постоянный представитель Таджикистана в ООН Джонибек Хикмат встретился с заместителем генерального секретаря. Это тем более интересно, что такие жесткие заявления противоречат позиции Москвы, однако инсайдеры, с которыми поговорил «Афганистан.Ру», уверены, что Рахмон не мог не согласовать свое выступление с Кремлем.
Замир Кабулов формулирует новую политику Москвы
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов на прошедшей неделе дал обширное интервью, в котором обозначил принципы будущей российской политики в отношении Афганистана. «Приход к власти талибов – это реалии жизни, — сказал Кабулов, — и нам придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане».
Кабулов полагает, что военные НАТО и США не вернутся в Афганистан: «Мне представляется сомнительным, что они вернутся: пришло осознание, что война не только проиграна, а что ее выиграть нельзя. Любая попытка повторить ошибку обойдется им еще дороже». При этом российский дипломат не удержался от критики американской стратегии в Афганистане: «У них очень слабая аналитика. Американское экономическое доминирование в мире не требовало привлечения на работу толковых людей. С точки зрения профессионализма они работают слабо и из рук вон плохо».
Однако в Москве понимают, что без западных и американских денег Афганистан снова будет представлять опасность для региона: «Нам надо готовиться к тому, чтобы совместно с региональными государствами и с США и странами Запада заняться всерьез экономическим и социальным обустройством Афганистана», — говорит Кабулов, не заявляя никаких требований по политическому управлению: «Политическое обустройство – это дело и право самих афганцев». Кабулов не отрицает возможность формирования в Афганистане нового инклюзивного правительства, полагая, что «талибы сделали выводы из истории»: «Пока рано делать окончательные выводы, но есть обнадеживающие сигналы, — сказал он. — В руководстве талибов идет серьезный мыслительный процесс, они хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. И если события будут развиваться по этому сценарию – есть шанс довольно хороший для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок». Кабулов не исключил, что инклюзивное правительство, созданное талибами, не будет отвечать ожиданиям внешних игроков: «Талибы победили в этой войне, у них есть определенное право на доминирование. Но осторожность и осмотрительность талибского руководства говорит о том, что они постараются хотя бы создать видимость того, что новое руководство будет инклюзивным. И нужно внимательно следить, как они будут это делать».
Интересно, что эти слова звучат гораздо осторожнее, чем прежняя мидовская риторика, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров называл талибов «вменяемыми людьми».
По словам Кабулова, «если Запад, в первую очередь, и мировое сообщество вздумают изолировать талибов и давить на них – это радикализирует уже само движение. Им как новой власти нужно решать социально-экономические проблемы необустроенного народа, и этот горючий материал радикализма не только будет расти, но и вспыхивать и переливаться за пределы Афганистана».
Кабулов уверен, что сами талибы не пойдут в Центральную Азию: «Урок двадцатилетней давности они выучили хорошо, — сказал он. – Они были таковыми в те времена, когда их идеологом был покойный Усама бен Ладен. Сегодня талибы выступают как национальное – пусть и религиозное – военно-политическое движение, они не собираются представлять опасность для своих соседей». Кабулов полагает, что бен Ладен остался «в душе и сердце» талибов как брат по оружию, и «это право любого человека – поностальгировать», — но это не означает, по мнению российского дипломата, что «Талибан» пойдет по пути, начертанном бен Ладеном, и доказательство тому – его непримиримая борьба с ИГИЛ, которые воюют за установление всемирного халифата.
Однако страны ОДКБ должны внимательно следить за происходящим. По мнению Кабулова, главная проблема сегодня – это «возможность повторного использования афганской территории международными террористическими группировками». Но после совместных с Россией военных учений, которые были проведены по северному периметру Афганистана, страны Центральной Азии, как считает Кабулов, чувствуют себя более уверенно: «Они увидели, что будут действовать совместно».
Страны региона снижают требования
Необходимость внешнего финансирования режима талибов, о котором говорил Замир Кабулов, понимается и другими странами региона. На прошедшей неделе продолжались интенсивные консультации внешних игроков, подробности переговоров остались за кадром, но все пресс-службы неизменно повторяли: стороны договаривались о координации подходов по афганской проблематике.
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши совершил официальные визиты в Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Иран. Судя по релизам, в Узбекистане экономические вопросы были не главными, приоритет ставился на региональную безопасность, достижение национального согласия и поддержку инклюзивного правительства. В Туркмении был сделан акцент на активизацию внешнеполитического сотрудничества и реализации проекта ТАПИ. В Иране, судя по релизам, обсуждалось инклюзивное правительство.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Пакистана Имран Ханом «важность налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения». Хан подчеркнул, что инклюзивное политическое урегулирование было бы лучшим вариантом для Афганистана. Путин также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, стороны обозначили свой круг интересов: борьба с угрозами терроризма и наркотрафика.
На прошедшей неделе заметно усилилась роль Турции в установлении нового регионального порядка. На прошедшей неделе талибы обратились к Анкаре за помощью в управлении кабульским аэропортом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что они провели первые переговоры с талибами в Кабуле, которые продолжались 3,5 часа. Главный вопрос – кто будет обеспечивать безопасность аэропорта. Талибы считают, что смогут это сделать без привлечения иностранных военных, и по-прежнему настаивают, чтобы турки вывели свой контингент до 31 августа. Анкара еще не приняла решения, поскольку не уверена в безопасности своих гражданских управленцев. Статус аэропорта будет обсуждаться и в понедельник, 30 августа, между Турцией, Катаром и странами G7. Кроме интенсивных контактов с талибами, Анкара ведет активные переговоры с афганскими системными политиками, а также с Таджикистаном и Узбекистаном.
Заметим, что список требований внешних игроков к талибам постепенно сокращается. Страны региона больше не заявляют, что Афганистан должен быть «демократическим», «соблюдающим права человека» и так далее. Требования создать инклюзивное правительство превращается в пожелание, а главные интересы стран региона свелись к базовым требованиям безопасности и борьбе с терроризмом.
Но Запад, выводящий войска из Афганистана, не так быстро снижает планку требований, поскольку у него остался рычаг влияния на талибов – деньги. Лидеры G7 выпустили заявление, в котором сказано: «Мы будем судить афганские стороны по их действиям, а не по словам. «Талибан» будет нести ответственность за свои действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в частности прав женщин, девочек и меньшинств, а также по достижению всеобъемлющего политического урегулирования в Афганистане».
В понедельник планируется проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН. Предполагается, что Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности, которая бы позволила продолжить гуманитарные операции и защитить людей, желающих покинуть Афганистан. Президент Франции Макрон сформулировал три условия, при соблюдении которых «Талибан» может претендовать на обсуждение будущего: это соблюдение гуманитарного права, т.е. отсутствие препятствий для получения афганцами убежища, строгое соблюдение красных линий в отношении всех террористических групп и соблюдение прав человека, «особенно в том, что касается достоинства женщин».
Теперь, когда эвакуация из Кабула практически завершена, страны Запада могут попытаться поставить «Талибану» жесткие условия. Но до сих пор они в этой игре ни разу не выигрывали.
Грузооборот китайских портов продолжил рост в июне
Несмотря на перебои, вызванные карантинными мероприятиями, грузооборот в портах Китая в июле продолжал стабильно увеличиваться.
«Жэньминь жибао», со ссылкой на Министерство транспорта КНР, передаёт, что в прошлом месяце текущего года грузооборот в портах Китая составил около 1,27 млрд тонн, что на 11,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным ведомства, с января по июль 2021 года грузооборот в портах Китая составил более 8,91 млрд тонн, а объем контейнерных перевозок достиг 161,89 млн стандартных контейнеров.

На юге Синьцзяна тестируют отправку фруктов по железной дороге
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) запущен «специальный поезд холодовой цепи» для свежих фруктов, благодаря стало возможным доставлять фрукты и бахчевые культуры из СУАР в другие регионы Китая. Первым рейсом 640 тонн фруктов в 32 контейнерах были оправлены из Кашгара на юге Синьцзяна в провинцию Шаньси.
Природно-климатические условия в Кашгаре весьма благоприятны для выращивания сладких слив высокого качества. Местные сливы популярны в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других крупных городах. Раньше доставка осуществлялась автотранспортом, но с ростом выращивания слив, автодоаставка не справляется, а железнодорожные перевозки могут эффективно решить вопрос доставки и снизить логистические издержки.
По плану первый поезд должен прибыть в пункт назначения через три дня. Как сообщает вичат-аккаунт Синьцзянских железных дорог, отдел железнодорожных грузовых перевозок продолжит изучение распределения, производственных мощностей и продаж на рынке свежих фруктов, чтобы обеспечив подготовку достаточного количества персонала и техники, наладить качественную работу поездов холодовой цепи.
Выход на штатный режим работы ожидается во второй половине сентября. В перспективе железнодорожным транспортом можно будет доставлять на китайский рынок и другие местные товары Южного Синьцзяна - красные финики, грецкие орехи, молоко и хлеб-наан и т.д. В свою, очередь, это будет способствовать разведению фруктовых садов и развитию местных сельских районов. Рассматриваются ли варианты экспортных поставок продукции из региона, пока не сообщается.

Китай потребует информационных отчётов от иностранных судов, входящих в его территориальные воды
Китай потребует информационных отчетов от иностранных судов, находящихся в его территориальных водах. Как передаёт ЭКД со ссылкой на распоряжение Управления по морской безопасности КНР, о своих названиях, позывных, местоположении и порте назначения должны будут сообщать экипажи подлодок, судов, перевозящих радиоактивные грузы, сырую нефть, химикаты, СПГ и другие опасные вещества. Также при заходе в территориальные воды Китая суда будут обязаны докладывать о названии опасного груза и собственной грузоподъемности. От процедуры передачи подобных сообщений каждые два часа будут освобождены экипажи судов с установленной на борту системой автоматической идентификации.
Сообщается, что новые требования направлены на повышение безопасности судоходства в территориальных водах КНР. При этом Пекин считает своей большую часть акватории Южно-Китайского моря в пределах так называемой девятипунктирной линии, с чем не согласны практически все соседние страны. Кроме того военные корабли нерегиональных держав, прежде всего США, периодически проходят через эти воды, якобы с целью защиты принципа свободы судоходства.
Ситуация в Южно-китайском море остаётся непростой, но нынешние меры в отношении гражданских судов нельзя назвать чем-то экстраординарным.
Гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов рассказал ChinaLogist, что это общепринятая практика. Подобные меры уже ввели сначала США, а затем ЕС и Россия. Нарушителей китайские власти смогут штрафовать, ставить на полный бан по номеру IMO.
Причём, если название и флаг можно сменить, то номер IMO выдаётся с постройки. К примеру, если большой танкер пойдет на сознательное нарушение - это арест и конфискация танкера - потеря груза, стоимости танкера и штрафы, причём страховые компании не станут возмещать эти убытки. «Нормальный судовладелец на такое не пойдёт» - подчеркнул Алексей Безбородов.
Заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта
27 августа в формате видеоконференции состоялось 25-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Российскую сторону возглавил статс-секретарь – заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, китайскую – заместитель министра транспорта КНР Дай Дунчан.
Российская делегация обсудила с китайскими коллегами вопрос необходимости нормализации перевозок железнодорожным
и автомобильным транспортом через пункты пропуска на российско-китайской границе.
Кроме того, отмечена совместная работа по строительству пограничных мостовых переходов Благовещенск-Хэйхэ и Нижнеленинское-Тунцзяни.
Достигнута договоренность о продолжении работы по развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также о рассмотрении возможности организации экспериментальной беспилотной грузовой автомобильной перевозки по мостовому переходу через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.
Дополнительно освещены вопросы в области цифрового взаимодействия и формирования открытой экосистемы транспортно-логистических информационных сервисов. Российская сторона предложила применять их на международном транспортном маршруте «Европа – Западный Китай»,
Также российские представители обратили внимание китайских коллег на важность и необходимость перехода к полноформатному безбумажному документообороту при перевозке товаров между государствами-членами ЕАЭС и КНР.
"Будут эпохальные изменения": что ждет Европу после потери хозяина
Владимир Корнилов
Слова "поражение", "провал", "разгром", "катастрофа", "фиаско" — это наиболее распространенные определения, которые встречаются сейчас в заголовках западных газет при описании событий в Афганистане. Причем зачастую вы можете встретить их в разных сочетаниях вместе. Вроде такого: "Разгром в Афганистане становится катастрофой" или "Провал лидерства США привел к разгрому в Афганистане". Даже самые лояльные Джо Байдену СМИ в Америке, слегка ретушируя негативный фон, чаще всего не могут избежать жесткой критики в адрес президента США. В лучшем для Байдена случае ответственность пытаются распределить между всеми президентами, имевшими отношение к афганской авантюре, — от Буша-младшего до нынешнего.
Европейские СМИ и политики тоже гневно винят Америку. Вот с коллективной ответственностью у них сложнее. Большинство аналитиков из Старого Света, рассуждая о причинах разгрома и возможных последствиях, делают упор исключительно на кризисе взаимоотношений между Европой и Америкой. И лишь немногие признают, что это поражение Запада в целом.
Как-то многими уже забылось, что вторжение в Афганистан было коллективной операцией НАТО. Поэтому голоса ряда западных политиков, которые напоминают об этом, встречают некую досаду и даже возражения со стороны евроатлантистов. Громче всех критика в адрес Североатлантического альянса прозвучала из уст президента Чехии Милоша Земана. В интервью онлайн-газете Parlamentni Listy он, особо не выбирая дипломатических выражений, прямо сказал: "Покинув Афганистан, американцы потеряли престиж мирового лидера, а оправдание самого существования НАТО теперь вызывает сомнения". "НАТО проиграла драматически", — несколько раз подчеркнул Земан, добавив, что затраты на содержание альянса — "пустая трата денег".
Многочисленные американские фактчекеры, получавшие Пулитцеровские премии за критику республиканцев и лично Трампа, тут же бросились дезавуировать слова чешского президента, объяснив их просто: "Земан, который является главой государства, но не главой правительства, известен своим дружественным подходом к России". С точки зрения американских экспертов, больше пояснять ничего не надо.
Правда, их подвел еще один европейский политик, которого пока что в "друзья Путина" не зачисляют, — лидер христианских демократов Германии и потенциальный канцлер Армин Лашет заявил: "Это самое большое поражение НАТО со времени его основания. Нас ждут эпохальные изменения".
Атлантисты (что американские, что европейские) встретили эти ремарки в штыки. Особо цинично ответили эксперты пресловутого центра Atlantic Council*. К примеру, французский дипломат Жерар Аро — в недавнем прошлом посол Франции в США и в ООН — заявил: "Европейцы ноют по поводу того, что Вашингтон не консультировался с ними, но на самом деле Соединенные Штаты никогда не консультировались со своими союзниками при принятии важных решений. Альянс всегда был неравноправным партнерством. Большинство европейских стран принимают это как премию по страхованию безопасности, к которой они глубоко привязаны… Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства по договору НАТО, но не будут ничего делать сверх того".
Вот тут у французского дипломата, как и у большинства убежденных сторонников евроатлантизма, явно проявляется амнезия. Напомним, операция в Афганистане является как раз единственным случаем применения той самой пятой статьи Устава НАТО, на которую так надеются союзники США по альянсу. Единственным за всю 70-летнюю историю организации! Причем это не Америка пришла на защиту союзников, а наоборот — те выполнили свои обязательства по защите США после нападения 11 сентября 2001 года. Вот этот факт как-то не любят вспоминать сами натовцы. Еще бы, ведь тогда получается, что это не Америка является "зонтиком безопасности" для своих вассалов. Напротив, это они обязаны защищать суверена, верой и правдой служить интересам США, посылая своих сынов на смерть, а вот их мнения и интересы учитываться не должны.
Еще один эксперт Atlantic Council*, американо-итальянский журналист Дэйв Китинг, также подчеркивает: "Внезапный вывод войск вызывает вопросы об обязательстве Америки защищать своих союзников и о том, действительно ли НАТО является альянсом или просто военным протекторатом, в котором отдает приказы исключительно Вашингтон".
Вообще, стоит отметить, что исторические термины эпохи империй очень часто используются сейчас западными аналитиками, пытающимися обрисовать отношения между США и их союзниками. Некоторые вспоминают книгу известного американского "предсказателя будущего", основателя частной разведывательной компании Stratfor Джорджа Фридмана "Следующее десятилетие". Той самой книги, в которой автор прямо предлагал закрепить за США статус империи и жаловался на то, что Америка не перенимает опыта "успешных" империй вроде Римской или Британской. Это "пророчество" сейчас все чаще вспоминают в связи с тем, что нынешний год является завершающим в том десятилетии, которое Фридман пытался описать. И, как сейчас видно, явно провалился как минимум по отношению к афганскому кризису.
На отношение США к своим союзникам как к "бесправным провинциям" указал и словацкий аналитик Эдуард Хмеляр, заявивший: "США уже давно ведут себя как империя. Как у любой империи, у них есть свои глобальные интересы, но нет глобальной ответственности. Кроме того, у США есть свои слуги". Американского посла словак прямо называет "наместником империи" и соглашается с чешским президентом Земаном в том, что бюджет НАТО — это черная дыра, в которую совершенно бесполезно засасываются солидные европейские бюджеты.
Оценка Хмеляра уничижительна для НАТО: "Провал в Афганистане — это глубочайший кризис Североатлантического альянса в его истории. Даже Советы уходили из этой страны с достоинством, с поднятыми боевыми знаменами, а мы бежали, как испуганные паршивые псы". В этой связи словак предлагает отказаться от застарелых подходов периода холодной войны и выстраивать новую глобальную архитектуру мировой безопасности, прекратив бессмысленные "имперские войны".
Хмеляр особо и не скрывает, что имеет в виду участие в этой новой системе и России, — эту идею Москва предлагала в свое время неоднократно. Но, конечно же, эту идею не разделяет львиная доля западных аналитиков, которые и не держат в секрете, что для них не так страшно возрождение джихадизма и мирового терроризма, сколько усиление на фоне афганского кризиса России и Китая, которым, дескать, безразлично, будут ли нарушаться права человека в Афганистане или нет. Как будто США беспокоились о равноправии женщин или иных групп населения, когда создавали, поддерживали и вооружали афганских моджахедов в годы присутствия в том регионе советских войск.
Как бы ни критиковали Америку и лично Байдена европейские СМИ, они все равно причитают: "Нам необходим мировой жандарм" в лице США. "Иначе начнется хаос", — пугает свою публику колумнист британской The Times Даниэль Финкельштейн. Он явно страшится того, что, в случае если Европа позвонит 999 (телефон британской экстренной помощи), Америка не поднимет трубку.
Этим же пугает европейцев еще один американский горе-предсказатель — Брет Стивенс, на протяжении многих лет призывавший Америку бомбить все и вся (хоть в Афганистане, хоть в Сирии, хоть в России), за что также получил Пулитцеровскую премию. На этот раз он заявляет: "Критики американской внешней политики постоянно выступают с нападками на идею о том, что Соединенные Штаты должны играть роль мирового полицейского, и подсчитывают издержки от такой роли. Скоро они узнают, насколько сильно могут увеличиться эти издержки, если полицейский уйдет со своей работы". Мол, трепещите, вассалы, если ваш сюзерен на минутку забудет о вас и вам какое-то время не придется гибнуть за его интересы.
Самих же американцев успокаивают: не все так плохо, европейцы в своем большинстве все еще поддерживают НАТО и Америку. Правда, в подтверждение приводят результаты социологических опросов, которые состоялись задолго до трагических событий в Кабульском аэропорту (Земан же как раз в упомянутом выше интервью предупредил, что эти цифры изменятся в ближайшее время).
Французский дипломат Аро, характеризуя нынешнюю ситуацию, также прибегает к имперской терминологии: "Империя устала, и легионы возвращаются домой". Только и всего. Он явно забыл, чем завершают "уставшие" империи, — достаточно вспомнить опыт того же Рима, понадеявшегося на верность своих лимитрофов, которые на самом деле ненавидели своего хозяина.
При этом, по словам Аро, "усталость империи" как раз и приводит к ситуации, когда "европейцам нечего ожидать от Соединенных Штатов на Украине, в Сирии, Ливии и Сахеле, помимо дипломатической поддержки". Француз признает: "Европа в огне, но пожарный из США не придет на помощь". Так что звонить 999 действительно смысла нет. Безопасность вассалов уставшую империю не волнует.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Американцы на прощание убили кого могли
Петр Акопов
Американцы полностью ушли из Афганистана — их последний оплот, кабульский аэропорт, переходит под контроль "Талибана"*, новой власти страны. Казалось бы, после двадцати лет оккупации все должны быть довольны — афганцы тем, что избавились от оккупантов, а американцы тем, что наконец-то закончили совершенно ненужную им войну. Но Штаты даже уйти не смогли по-человечески: последние дни ознаменовались новыми жертвами среди многострадального афганского народа. Уходя, американцы умыли руки в крови афганцев.
В прошлый четверг произошел теракт около аэропорта — погибли 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность возложили на группировку "Исламское государство — Вилаят Хорасан"*, которая воюет и с талибами, и с американцами. Варвары, террористы — вот только теперь выясняется, что большая часть афганцев погибла не от взрыва бомбы, а от рук американских солдат. Которые после взрыва открыли огонь по толпе афганцев, опасаясь того, что в ней находятся сообщники смертника. То есть американцы, и так находившиеся на взводе все дни эвакуации, после взрыва просто обезумели и принялись расстреливать напуганных и раненых людей — причем среди них было ведь и много афганцев, сотрудничавших с оккупантами и надеявшихся вместе с ними бежать из Афганистана. И получивших вместо этого американскую пулю.
Но и это было не последним преступлением янки — они пообещали отомстить "ИГ-Хорасан"* и начали наносить удары с беспилотников по тем, кого считали причастными к теракту у аэропорта. Один из таких ударов в воскресенье убил в Кабуле 12 человек — семь из которых дети от двух до десяти лет. Американцы заявляют, что целились в автомобиль с террористом, перевозившим взрывчатку, и гибель мирной семьи могла стать следствием взрыва. Но афганцам все равно, что говорят американцы, для них они просто убийцы.
Но теперь-то все закончилось? Ведь американцы ушли из Афганистана — и теперь уже не будут убивать афганцев? Да, ушли — но оставляют за собой право наносить удары по тем, кого считают террористами — вроде того же "ИГ-Хорасан"*, а значит, наверняка будут еще и новые сопутствующие жертвы среди мирных жителей. Весь многолетний опыт американских ударов с беспилотников от Йемена и Сомали до Афганистана и Ирака говорит о том, что сотни убитых мирных жителей никого в Штатах не останавливают и не волнуют. Лес рубят — щепки летят? Но когда ради убийства одного (причем предполагаемого) террориста убивают еще и дюжину мирных жителей, то о каком высокоточном оружии может идти речь? И о какой борьбе с терроризмом, если сам борец ничем не лучше террориста?
США ушли из Афганистана. Но куда они ушли? Сама форма их ухода, превратившегося в паническое бегство, заставила многих говорить о наступлении нового мира, в котором никто — ни союзники, ни вассалы — уже не может полагаться на помощь американцев. Мира, в котором сами расколотые внутри себя Штаты лишились своего главного актива — имиджа всемогущей сверхдержавы.
На самом деле, несостоятельность мира по-американски (или атлантического проекта глобализации, если быть точнее) стала ясна уже очень давно, еще в конце нулевых — начале десятых годов, после мирового финансового кризиса и провала американских планов перестройки Большого Ближнего Востока (начавшихся с оккупации Афганистана и Ирака).
До этого момента немалая часть американских элит и часть национальных элит разных стран мира верили в реальность претензий Америки на мировое господство — но последние десять лет все свидетельствовало о закате американского могущества. По-прежнему сохраняющая огромную мощь и остающаяся самой влиятельной державой мира Америка все больше превращалась в раненого и утратившего уверенность в себе зверя. Достаточно сильного, но обреченного. Это понимали и в ключевых мировых столицах, и в самих США — вот только у тех в Америке, кто хотел провести перестройку ее курса, не хватает пока что сил на это. Попытка Трампа была жестко подавлена глобалистской частью американской элиты — что, впрочем, лишь усилило внутренний раскол и проблемы США.
При этом изменения глобальной стратегии Штатов все равно происходят: Америка не может удерживать прежние позиции, да и Китай с Россией последовательно расширяют свое влияние и возможности. Америка уходит с Большого Ближнего Востока — вслед за Афганистаном придет время и Ирака (в котором все еще остаются тысячи американских военных и чевэкашников). Но уходить можно по-разному — в Афганистане мы увидели самый невыгодный для имиджа США вариант.
Поспешная эвакуация стала следствием неадекватности американского руководства — нет, речь вовсе не о заторможенности Байдена. Речь о неадекватности представлений Америки об окружающем ее мире — в данном случае об Афганистане. По американским представлениям, они должны были спокойно эвакуироваться до конца августа — пока афганская армия будет сдерживать наступление талибов. Но та почти без боев сдала исламистам большинство территории — и к середине августа американцы оказались в подконтрольной новой власти стране.
Им ничто не угрожало: талибы заинтересованы в выводе войск и соблюдали соглашение. Но сами американцы, пораженные скоростью падения коллаборационистского режима, запаниковали — а вместе с ними и десятки тысяч работавших на них афганцев. Началась эпопея с цепляющимися за шасси взлетающих самолетов людьми — и недоумением всего мира, наблюдавшего за эвакуацией по-американски.
То есть после двадцати лет оккупации страны, потраченный триллион и работы тысяч аналитиков спецслужбы и политическое руководство США не смогли даже верно оценить ситуацию, спрогнозировав, сколько продержится режим Гани, не смогли дать адекватную оценку ни правительственной армии, ни силам талибов, ни — самое главное — настроениям в афганском обществе. Это и было настоящим провалом: все увидели неадекватность американцев, их неспособность объективно оценивать реальность.
Именно такой вывод сделали во всем мире — и как раз это понимание глобального сообщества будет иметь огромные последствия для Штатов. Не просто репутационные, а совершенно конкретные геополитические. Мощь у США все еще есть — они могут организовать эвакуацию более чем ста двадцати тысяч человек за две недели, но мозгов, способных не допустить создания такой ситуации, уже нет. И поговорка "Сила есть — ума не надо" тут точно не годится. Потому что наступил момент, когда безумная сила способна только создавать проблемы — и в первую очередь себе самой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр нефти Кувейта: Новая волна COVID-19 может заставить ОПЕК+ отказаться от роста добычи
На предстоящей 1 сентября встрече страны-участники сделки ОПЕК+ могут пересмотреть нынешние условия соглашения и отказаться от уже согласованного увеличения добычи в течение следующих нескольких месяцев на 400 тыс. б/с, сообщил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в интервью Reuters. По мнению министра, рынки замедляются, COVID-19 «начал свою четвертую волну в некоторых областях», поэтому следует проявить осторожность и пересмотреть условия. «Может быть приостановлено увеличение на 400 тыс. б/с», — сказал Аль-Фарес.
Экономика стран Восточной Азии, в частности, КНР, отметил он, по-прежнему страдает от COVID-19, поэтому нужно быть осторожными.
Администрация президента США Джо Байдена, напоминает в этой связи ТАСС, наоборот, призывала ОПЕК+ повысить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен, которое она рассматривает в качестве угрозы восстановлению мировой экономики.
Цветные металлы дорожают на проседающем долларе США
В пятницу, 27 августа, стоимость алюминия на LME обновила максимум мая 2011 г., выйдя на уровень $2697 за т, а финишировал металл на отметке $2649,50 за т, на 1,1% выше итогового значения четверга. По наблюдениям экспертов, нарушения поставок алюминия и активный спрос нижележащих отраслей продолжают поддерживать «бычьи» настроения в секторе алюминия.
В результате сокращения подачи электроэнергии в различные китайские провинции, где производится алюминий в последние несколько месяцев снизилось производство металла в таких регионах, как Внутренняя Монголия, Гуанси, Гуйчжоу и Юньнань. «Существуют риски того, что и провинцию Циньхай ждет такая же ситуация – так как местная электросеть выпустила предостережение заводам из-за возможных недопоставок электричества. Совокупная производственная мощность провинции составляет около 2,8 млн т, и она на 100% зависит от внешних поставок электроэнергии», – отмечает старший аналитик ING Вэнью Яо. Кроме того, в пятницу была обнародована информация о лимитах на ежегодный и ежемесячный выпуск алюминия для пяти заводов в Синьцзяне.
После выхода на самый низкий показатель в январе запасы алюминия на LME выросли на 31,175 тыс. т, до 1,22 млн т.
Другие цветные металлы также продемонстрировали позитивную динамику, воспользовавшись ослаблением доллара США.
Трехмесячный контракт на медь подорожал на торгах на 1,2%, до $9410 за т. С начала недели цена металла выросла на 1,5%.
Форвардная цена на никель выросла на 1,3%, до $19011 за т, с $18772 за т в четверг.
Олово с поставкой через 3 месяца подорожало на $250, до $33600 за т. С начала недели стоимость металла увеличилась на 4,4%.
Тем временем курс доллара к основным валютам снизился до минимума за 2 недели после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла на онлайн-симпозиуме от том, что центробанк может начать сворачивать поддерживающие меры, если американская экономика продолжит восстанавливаться.
«Рынок озабочен тем, что г-н Пауэлл слишком осторожен, если принимать во внимание всплеск инфляции. Однако его подход умеренный. Постепенное уменьшение поддержки к концу года выглядит неплохо, если экономика будет продолжать расти», – говорит аналитик Fastmarkets Борис Миканикрезай.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:26 моск.вр. 30.08.2021 г.:
на LME: торгов нет;
на ShFE (поставка сентябрь 2021 г.): алюминий – $3318.5 за т, медь – $10841 за т, свинец – $2344 за т, никель – $22963 за т, олово – $38187 за т, цинк – $3493 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2021 г.): алюминий – $3315 за т, медь – $10810 за т, свинец – $2354 за т, никель – $22523 за т, олово – $37392 за т, цинк – $3490.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2021 г.): медь – $9516 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2021 г.): медь – $9590 за т.

На рыбную отрасль стоит смотреть глазами инвестора
В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) активизировалось обсуждение второго этапа инвестквот и его приоритетов. Круглый стол, организованный в начале августа Минвостокразвития для подготовки к отраслевой сессии на ВЭФ, показал, что единой позиции у бизнес-сообщества в этом вопросе нет. Модерировал дискуссию бывший заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, возглавивший наблюдательный совет и управляющую компанию «Корпорации Рыба.РФ». В интервью Fishnews он рассказал, каких ошибок государству стоит избегать на следующем этапе инвестквот, почему рыбакам пора менять отношение к рыбной бирже и какие проекты в рыбной отрасли попадают в сферу интереса новой инвестиционной группы.
— Александр Викторович, круглый стол по инвестквотам вызвал большой интерес у участников отрасли. Как модератор этого мероприятия, вы можете оценить его результаты?
— В целом обсуждение отчетливо показало, какие проблемы существуют в рыбной отрасли. Из ключевых выводов, которые прозвучали на круглом столе, в первую очередь нужно отметить то, что механизм инвестиционных квот отраслью принят.
Мне кажется, на круглом столе удалось собрать достаточно представительную группу — присутствовали и ассоциации, и крупнейшие рыбопромышленные компании. И тот факт, что 76% участников мероприятия назвали этот механизм эффективным для развития отрасли, — достаточно серьезный результат. Особенно если вспомнить 2015 год, когда накануне президиума Госсовета развернулось настоящее сражение между государством и бизнесом за сохранение «исторического принципа».
Мы видим, что в отрасли за последние шесть лет произошла серьезная эволюция. Не могу не отметить этого, потому что тогда, в 2015 году, в рамках подготовки к Госсовету мы отмечали, что очень важно запустить в рыбной промышленности нормальные экономические процессы, которые будут способствовать росту прозрачности и конкуренции. На мой взгляд, это удалось, хотя и не во всем, что на круглом столе так же прозвучало.
Конечно, ключевая проблема, которая беспокоит значительную часть рыбаков, — это уровень развития рыболовного судостроения. К сожалению, здесь я могу сказать, что идеи, которые мы в министерстве вынашивали еще в 2015-2016 годах, не были реализованы. Почему к сожалению? Потому что они были направлены на определенную защиту рыбодобывающих компаний. Все понимали, что верфи не готовы, что нельзя перекладывать ответственность на рыбаков и что нужно выработать меры господдержки и меры защиты инвесторов. Но в полной мере этого не произошло.
Частично мы можем наблюдать реализацию этих инициатив на примере механизма субсидирования строительства краболовов. Если вспомнить, он тоже обосновывался невозможностью конкурировать по ценам российским верфям с азиатскими при строительстве таких судов. Но это относится только к краболовам.
— Им хотели и больше времени отвести на постройку.
— Да, вы правы. А в отношении основной массы инвестквот таких механизмов нет. Как нет и механизма страхования ответственности верфей. Сегодня ситуация еще не стала критической, и на круглом столе об этом говорили, но она может стать таковой, если не предпринимать никаких действий. На будущее, особенно если иметь в виду планируемое продолжение программы инвестквот, это один из важнейших вопросов, который должен быть решен.
— А насколько целесообразно в таком случае переходить ко второму этапу инвестквот, если с первым еще много проблем и он далеко не закончен? Зачем торопить новый виток распределения ресурсов?
— На мой взгляд, обсуждать такие вопросы и принимать решения можно уже сейчас, но исходя из того, что распределение будет не сразу, а позже. Чтобы у отрасли была возможность заранее подготовиться. Думаю, если дать рыбакам два или три года на подготовку, то времени хватит.
Еще один важный вывод по итогам круглого стола — это вопросы рыбной логистики, обострившиеся из-за запрета на поставку российской рыбопродукции в Китай. Напомню, что в 2015 году, когда механизм инвестквот обсуждался, мы изначально предлагали применять его не только в отношении новых судов и заводов, но и логистических мощностей. Проблема-то и тогда стояла достаточно остро.
Сейчас из-за того, что логистическая инфраструктура не готова к массовым поставкам рыбы на внутренний рынок или экспорту в обход Китая, отрасль оказалась в западне, хотя за шесть лет ее можно было бы предотвратить. Мне кажется очень важным, что эта тема тоже поднята накануне ВЭФ.
Всех участников круглого стола, что было видно по обсуждению, волновал и вопрос: «Что же дальше?». Очевидно, что продолжение программы инвестквот неизбежно, но в каких параметрах и на чем будет сделан акцент важно обсуждать открыто.
— И в итоге основные разногласия свелись к выбору: суда или заводы для второй волны инвестквот и в какой пропорции. На ваш взгляд, чьи аргументы выглядели убедительнее?
— Думаю, все увидели, что подавляющее большинство участников круглого стола выступало за развитие берега. Но важно подчеркнуть, что пока серьезного экономического анализа эффективности судовой переработки или береговой переработки ни одна сторона не представила. На уровне отдельных компаний такие цифры, вероятно, есть, но они не дают объективной картины.
Лично мне хотелось бы увидеть независимый обстоятельный анализ, такой взгляд извне, со стороны. Вот почему так важно было узнать позицию банков. Все-таки именно они рискуют деньгами, кредитуя рыбную отрасль. А мы прекрасно знаем, что объем кредитования после внедрения механизма инвестквот вырос на порядок. В то же время прямой заинтересованности в типе объектов инвестиций у банков, в отличие от рыбаков, нет. Они действительно нейтральная сторона.
Так вот банки указали, что считают более высокорискованными вложения в судостроение. Но опять-таки серьезного анализа не прозвучало, и я очень надеюсь, что на сессии ВЭФ мы услышим более глубокие и проработанные аргументы от каждой из сторон.
— Какие еще темы круглого стола могут получить развитие на площадке ВЭФ?
— Уже в самом конце обсуждения мы затронули тематику рыбной биржи. Еще в период моей работы в Минвостокразвития, этому проекту уделялось много внимания с точки зрения его выстраивания и будущего регулирования. На мой взгляд, появление биржевого механизма в отрасли неизбежно. Но остаются вопросы, сколько на это потребуется времени, как он будет выглядеть и насколько рыбаки поддержат это новшество, а не будут ему противостоять.
Мне кажется, сейчас крайне важно консолидировать мнение максимального количества участников отрасли и всем вместе включаться в работу по созданию рыбной биржи. Это крайне важный проект с точки зрения как повышения доходов государства от реализации водных биоресурсов, так и увеличения прозрачности товарных потоков. Но самое главное, после того как нам наглядно показали зависимость целой отрасли, по сути, от одного рынка, именно рыбная биржа может стать тем инструментом, который позволит России как глобальному поставщику рыбной продукции диктовать свои условия.
— Судя по мини-опросу среди участников круглого стола, большинство хотели бы посмотреть на биржу в экспериментальном режиме, причем на добровольной основе.
— Безусловно, это должен быть эксперимент, начинать который нужно постепенно и с отдельных видов водных биоресурсов. С ходу внедрить механизм обязательной биржевой торговли в отношении всей рыбопродукции было бы огромной ошибкой, которая приведет к его полной дискредитации.
Отдельные попытки аукционной торговли незначительными объемами водных биоресурсов, которые время от времени предпринимались, считать полноценным экспериментом, на мой взгляд, нельзя. Ведь рыбная биржа — это не просто система торгов или цифровая платформа. Ее отличие от других сырьевых бирж, прежде всего, в наличии инфраструктуры. Это подтверждает опыт развития Пусана, где удалось объединить и логистику, и современный сервис. Пока аналогичное сочетание не появится, к примеру, на территории Дальнего Востока, запускать рыбную биржу нет смысла.
В идеале рыбная биржа должна выступать в роли «одного окна» для экспортеров и обеспечивать пакет услуг «под ключ», чтобы рыбаки могли навсегда забыть, что такое таможня, Россельхознадзор, поиск рынков сбыта, транзакционные издержки, кассовые разрывы и т.д. В этом главная ценность — сделать экспорт рыбной продукции максимально комфортным для производителя и дать ему возможность сократить затраты.
Понятно, что на это потребуется время. В моем представлении, даже об эксперименте с биржей раньше 2024 года говорить бессмысленно. Но готовиться к этому нужно, и мы это будем делать.
— Заявление участника круглого стола Аркадия Пинчевского о создании инвестиционной группы «Корпорация Рыба.РФ» вызвало большой резонанс в отрасли. Вы возглавили наблюдательный совет и управляющую компанию этой структуры. Давайте сразу уточним, «Рыба.РФ» – это еще один претендент на ресурсы, которые будут распределяться в предстоящих кампаниях инвестквот и крабовых аукционов ?
— Абсолютно точно могу сказать, что нет. «Рыба.РФ» — это не претендент на квоты в каком бы то ни было виде, и это не рыбодобывающая или перерабатывающая компания. Такой она не задумывалась и не планировалась. Это не участник отрасли в классическом, скажем так, представлении.
У корпорации «Рыба.РФ» совершенно другая миссия. Это инвестиционная группа, которая пока объединяет двух партнеров — ГК «Антей» и Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК). В будущем, возможно, другие участники отрасли тоже захотят к нам присоединиться.
Как инвестиционная компания «Рыба.РФ» будет управлять активами и реализовывать различные инвестиционные проекты, в том числе, возможно, и в рамках инвестквот. Ее преимущество в том, что мы собираем сильную команду специалистов, которые прекрасно знают, какие существуют меры господдержки, как работают налоговые льготы, как получить длинное и дешевое финансирование инвестпроектов. Наша задача — такие проекты собирать, запускать в реализацию, привлекая по максимуму господдержку, и получать доход от их дальнейшей деятельности.
Причем проекты, которые планируют «Антей» и СЗРК, для рыбной отрасли достаточно масштабны и значимы. Они касаются не только интересов этих двух компаний и могут быть привлекательными для широкого круга инвесторов. Поэтому в рамках «Рыбы. РФ» двери открыты для тех, кто готов работать вместе с нами, кто настроен на инвестиции и хочет, чтобы эти инвестиции были максимально эффективными.
— Я правильно понимаю, что речь идет не только о рыбаках, но и о структурах из других отраслей, о тех же банках?
— Да, это так. После объявления о создании корпорации было достаточно много звонков и встреч, в том числе с теми, кто не имеет прямого отношения к рыбной отрасли. Это, например, финансовые организации, которые заинтересованы в том, чтобы для реализации проектов привлекалось именно их финансирование. Надеюсь, что после ВЭФ и Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, где мы тоже собираемся участвовать, у нас появятся новые партнеры.
— Какие приоритеты вы видите для инвестиций? И как они связаны с рыбой?
— Сейчас в работе у корпорации «Рыба.РФ» несколько проектов. Прежде всего, это создание сети современных рыбных портов на территории Российской Федерации, которые позволят осуществлять перевалку и последующую поставку рыбной продукции в центральную часть страны и далее в ЕС. Пока речь идет о четырех точках — это Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Корсаков на Сахалине и порт на мысе Назимова во Владивостоке. Это основной проект корпорации на ближайшие три-четыре года.
Второй проект — это как раз рыбная биржа, о чем я уже говорил. Мне кажется, такой механизм может решить проблему, с которой сталкивается отрасль, когда ценой на российскую рыбу управляют извне. Причем управляют просто безжалостно, пытаясь максимально уронить стоимость приобретаемого сырья и за счет этого сохранить рентабельность своей продукции. Рыбакам нужно привыкать к тому, что без их активного участия, в том числе в создании рыбной биржи, ситуацию переломить не получится.
— По сути второе инвестиционное направление становится логичным продолжением первого? Ведь современные рыбные порты подразумевают создание инфраструктуры.
— Так и есть. Новые рыбные терминалы в морских портах, конечно, имеет смысл проектировать с учетом развития в будущем биржевой торговли.
— А как вы планируете выстраивать взаимодействие с органами власти? Мы же видим, что с каждым годом давление на рыбную отрасль со стороны контролирующих ведомств только усиливается.
— Всегда важен вопрос «кто», а потом «что». Я уже сказал, что мы планируем собрать в корпорации действительно сильную команду — это специалисты из финансовых организаций, государственных органов, которые очень хорошо знают, что такое система контроля и надзора.
Но, наверное, ключевая история все-таки в другом. На текущем этапе государство делает основную ставку на частные инвестиции для обеспечения экономического роста. Корпорация будет представлять интересы инвесторов, а значит к их позиции как тех, кто вкладывает деньги, будут прислушиваться. И на уровне федерального правительства, и на уровне Минвостокразвития, ключевым партнером всегда был именно частный инвестор. Поэтому отношения с контролирующими органами мы будем выстраивать именно с позиции инвестора. Мы не будем работать с ними, как рыбаки.
— При таких амбициозных планах понадобятся серьезные экономические расчеты. Но в разных источниках оценки положения дел в отрасли зачастую сильно расходятся. На какие цифры вы будете опираться?
— Самое правильное — полагаться на собственные оценки, поэтому в составе нашей команды обязательно будут хорошие аналитики с опытом работы и внутри отрасли, и в инвестиционной сфере. Мы будем оценивать как экономическую ситуацию в отрасли, так и эффективность инвестиций.
Я уже упомянул, что мы хотим получить объективную аналитику, то есть увидеть рыбную отрасль глазами инвестора. Не исключаю даже, что эту аналитику мы сделаем открытой для всех. Раз уж мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции, которые идут в отрасль, давали как можно большую отдачу и для инвестора, и для государства.
Анна ЛИМ, Fishnews
Российские военные установили несколько рекордов
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Команда российских военнослужащих с триумфом преодолела "Тропу разведчика", самый сложный этап международного конкурса "Отличники войсковой разведки". 41 минута и 4 секунды - рекорд армейских соревнований, в которых, помимо России, в этом году участвуют команды из Китая, Индии, Беларуси, Узбекистана и Южной Осетии.
"Тропа разведчика" включает 22 элемента, все они связаны с преодолением препятствий. Это заборы разной высоты и даже фасады двухэтажных зданий, ров с водой, проволочные заграждения, участок канализации и многое другое. Самые высокие шестиметровые стены команды брали при помощи шеста, так называемой "кошки" или веревки с противовесом.
Помимо этого бойцы на ходу уничтожали условного противника бросками ножа из разных положений, оговоренных условиями этапа, имитировали подрыв железнодорожного полотна, а "зараженные" участки проходили в противогазах. Вслед за российскими военнослужащими пришли участники из Узбекистана, третий результат у команды Китая.
Российскую армию на конкурсе представляет команда из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), получившая это право по итогам прохождения сухопутной мили.
"Тропа разведчика" стала не единственным этапом, где были побиты рекорды прошлых лет. Так предшествовавший ей "Конкурс разведчиков-специалистов", в котором ведущую роль играли БМП, завершился сразу четырьмя рекордами. Два из них поставили иностранные команды. Представители Китая побили прежний рекорд по надеванию противогаза, потратив на это всего 2,2 секунды. А разведчики из Узбекистана удивили судей при выполнении норматива со сложным названием "скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку", преодолев дистанцию за 1 минуту 24 секунды.
Но главным героем этапа стал механик-водитель Российской армии, преодолев на БМП участок пересеченной местности за 11 минут 52 секунды. Он побил свой собственный рекорд, установленный в прошлом году, улучшив время на 27 секунд. Еще одно рекордное время российские разведчики показали при наложении кровоостанавливающего жгута и эвакуации раненого. Сейчас команда России лидирует на международном конкурсе разведчиков. Время для борьбы еще есть: соревнования на новосибирском полигоне Кольцово завершатся только 4 сентября.
Риски быстрого перехода на "зеленую" энергетику до конца не оценены
Текст: Сергей Тихонов
Форсирование планов превратить Землю в цветущий сад без дыма труб электростанций и запаха бензина может обернуться совсем другой, пугающей стороной. Райские кущи окажутся доступны лишь ограниченной части населения планеты, расслоение общества кратно увеличится, а некоторые территории превратятся в гигантские свалки. Такого сценария можно избежать, если подходить к экологической повестке не с политической или пропагандистской позиции, а с точки зрения науки и экономики.
По данным Всемирного банка, сейчас в условиях крайней нищеты (до 1,9 доллара в день) живут около 700 миллионов человек из 7,6 миллиарда. По более ранней статистике от 2018 года, то есть до пандемии и экономического кризиса, просто за чертой бедности (до 5,5 доллара в день) находилось половина населения Земли. При этом около одного миллиарда человек до сих пор не имеет постоянного доступа к электричеству.
По оценкам OilPrice, энергопереход - отказ от нефти, газа и угля в пользу зеленых технологий производства энергии - обойдется миру в 40 триллионов долларов до 2050 года. Это половина годового мирового ВВП или совокупный доход бюджета России более чем за 100 лет, если брать за основу 2018 год - 309 миллиардов долларов. Показательно, что суммарный объем ВВП стран Евросоюза, основных сторонников скорейшего энергоперехода, составил всего 15,5 триллиона долларов. Чтобы оплатить энергопереход, ЕС нужно не есть, не пить, не потреблять, а только производить в течение почти трех лет.
В Международном энергетическом агентстве (МЭА) предполагают, что на частный капитал придется более 70% инвестиций в развитие чистой энергетики. Стимулировать частные вложения будут соответствующей нормативно-правовой базой, то есть льготами, а также политическими стимулами. Остальные средства поступят из бюджета. Но, как в старом анекдоте, прежде, чем взять деньги из тумбочки, их нужно туда положить.
Эти 40 триллионов долларов не могут взяться из пустоты. А это означает, что их изымут из реального сектора экономики. Никакие льготы не работают по принципу "доброе правительство снизило налоги или выделило субсидии", нагрузка просто перекладывается на других участников рынка. Именно так сейчас работает развитие "зеленой энергетики" в Европе, благодаря чему цена солнечной и ветровой генерации может конкурировать с традиционными источниками энергии.
Впрочем, денег все равно не хватает, поэтому Евросоюз активно повышает налог на выбросы CO2, увеличивая, таким образом, себестоимость генерации на газе и угле. Растет ли в результате экономическая привлекательность возобновляемых источников энергии (ВИЭ)? Несомненно, да. Дорожает ли из-за этого электроэнергия, топливо, а вслед за ними все остальные товары? Тоже, да.
Но это богатая Европа, хотя уже и там есть признаки недовольства такой политикой. В менее развитых, а тем более бедных странах подобная практика может привести к серьезному падению уровня жизни (ниже критического) и даже ограничениям доступа к элементарным бытовым благам.
Тем более, если говорить о том миллиарде людей, которые и сейчас не имеет постоянного доступа к электроэнергии. По иронии судьбы, многие из них проживают в странах, которые должны будут стать главными поставщиками сырья для "зеленой" энергии, но это совсем не изменит жизнь этих людей к лучшему.
А что с экологией?
Энергопереход потребует резкого увеличения добычи железа, меди, алюминия, никеля, лития, кобальта, платины и серебра, а также редкоземельных металлов, объясняет руководитель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM Максим Канищев. По его мнению, рост их производства может привести к разрушению почв и горных пород. Например, литий - один из самых важных для возобновляемой энергетики металлов - в более половины случаев добывается в местности, где у населения уже сейчас есть проблемы с водоснабжением (Боливия, Аргентина, Австралия, Чили - прим. "РГ"). Если добыча будет еще более интенсивной, нагрузка на водоемы увеличится, подчеркнул Канищев.
Яркий пример - пустыня Атакама в Чили, площадь которой растет, а оазисы внутри нее исчезают. Там добывается литий, при его извлечении из недр выкачивают огромные объемы воды, что иссушает почву и лишает местных животных пищи. По аналогичному сценарию развивается ситуация в Боливии, Китае, Австралии и других регионах, где добывают этот металл.
Еще один важный для аккумуляторов элемент - кобальт. С ним проблема, скорее, не экологического, а социально-экологического характера. Более 60% мировой добычи кобальта приходится на Демократическую республику Конго. Добывается он без всяких соблюдений норм безопасности, хотя металл и его соединения токсичны. Делается это с применением подневольного труда заключенных, а часто и детей. Этика и экономика плохо взаимодействуют, но в идее энергоперехода изначально заложены не экономические принципы, поэтому не обращать внимания на это не получается.
Единственный плюс во всей этой истории в том, что технологии все же развиваются. Например, никель научились производить углеродо-нейтральным способом. Для России это особенно актуально, поскольку мы - мировые лидеры в производстве никеля. Но любые улавливающие и очищающие технологии - дорогое удовольствие - они увеличивают себестоимость конечного продукта. К тому же, о чем крайне редко говорят, они очень плохо справляются с ростом производства. А спрос на никель растет. И наш Норильск, к сожалению, периодически попадает в рейтинг самых грязных мест на планете.
Проблемы роста
Можно наглядно представить масштаб роста спроса на литий или кобальт на примере рынка автомобилей. Сейчас в мире - 1,3 миллиарда машин. Электромобилей среди них только 11,2 миллиона штук. Прогнозируется, что к 2050 году в мире будет около 2,5 миллиарда автомобилей. Предположим, что весь прирост дадут электрокары. На один аккумулятор для обычного электромобиля понадобятся минимум 10 килограммов лития (для Tesla в 1,5-2 раза больше) и 11 килограммов кобальта. Получается, что в среднем в течение 20 лет, чтобы обеспечить 1,2 миллиарда электрокаров аккумуляторами, ежегодная добыча этих металлов должна увеличиться на 600 и 660 тысяч тонн соответственно.
Сейчас добыча лития не превышает 100 тысяч тонн в год, а кобальта - 140 тысяч тонн. Ресурсная база есть: 80 миллионов тонн лития, кобальта - 25 миллионов тонн, и она, по-видимому, будет расти, но едва ли получится быстро нарастить производство этих металлов. А тем более сделать их добычу безопасной для экологии. И приведенные цифры не учитывают рост спроса на литий и кобальт для мобильной техники и, а также для солнечных и ветровых электростанций.
Заменить литий-ионные аккумуляторы можно водородом. По этому пути пошла Россия. Но пока мы только в начале пути. Технологии производства водорода еще очень дороги, методов его транспортировки в промышленных масштабах не существует, а вопрос безопасности его хранения не решен.
Куда выбрасывать?
Не меньше проблем с утилизацией отходов деятельности ВИЭ. Совокупный вред для экологии пока не рассчитан. Методика оценки воздействия на окружающую среду от утилизации компонентов для ВИЭ и аккумуляторов для электромобилей пока только формируется, поясняет старший консультант группы по оказанию услуг в области устойчивого развития "Делойт" в СНГ Матвей Астапкович.
Он уточнил, что сейчас ученые активно разрабатывают способы утилизации компонентов ВИЭ, уже построенных в разных частях мира. Наиболее вредными для окружающей среды он назвал отходы лопастей от ветровых турбин и использованные литий-ионные батареи.
Но ими вред не ограничивается. С точки зрения Максима Канищева, солнечные панели создают в 300 раз больше токсичных отходов на единицу энергии, чем, например, атомные электростанции. Если в течение следующих 25 лет солнечные и атомные электростанции будут производить одинаковое количество энергии, а отходы будут складываться на двух футбольных полях, ядерные отходы достигнут высоты Пизанской башни (52 метра), а солнечные - высоты двух Эверестов (16 километров), отмечает эксперт.
Превью
Что расскажут об экологии на Восточном экономическом форуме
Одной из главных тем на ВЭФ станет обсуждение развития низкоуглеродной и безуглеродной экономик, а также место в будущем мире горючих топлив - нефти и газа. Прошлый год наглядно показал, насколько еще хрупок энергобаланс в мире. Сначала проверку на прочность прошла нефтегазовая отрасль. Пандемия привела к рекордному снижению спроса на углеводороды и падению цен на них, на фоне чего бурно развивалась возобновляемая энергетика - ветровая и солнечная. Но уже морозная зима 2020-2021 года развеяла иллюзии сторонников скорейшего энергоперехода. В большинстве стран мира возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не справились с обеспечением населения и промышленности электричеством, а цены на традиционные энергоресурсы начали расти. Сейчас спрос на них подбирается к максимальным докоронакризисным значениям.
Это не отменяет того, что климатическая повестка будет играть все большую роль в мировой экономике. Внутреннюю торговлю углеродными единицами уже запустили основные торговые партнеры нашей страны в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) - Китай, Япония, Южная Корея. А в Европе с 2026 года водится пограничный углеродный налог на товары с большим углеродным следом.
Среди сессий ВЭФ запланирован диалог "Россия и Европа", в ходе которого отечественные компании обсудят с генеральный директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Тадзио Шиллингом и другими западными партнерами, насколько цифровые зеленые технологии смогут стать преимуществом для развития Дальнего Востока и Арктики.
Другое мероприятие соберет экспертов в области чистой энергии. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев и глава Якутии Айсен Найденов обсудят с представителями бизнеса возможности использования безуглеродных источников энергии для обеспечения потребностей людей, живущих на Дальнем Востоке и развиваемых в регионе крупных экономических проектов.
Также запланировано обсуждение субсидий и льгот, которые государство предоставит компаниям для реализации "зеленых" инициатив. Оно пройдет в ходе сессии "Климатические изменения - снова про деньги?", в котором примут участие ректор РЭУ имени Плеханова Иван Лобанов, заместители руководителей Минэнерго, ВЭБ.РФ, представители крупнейших компаний.
Для стабильного развития экономики, в том числе в этом регионе, важно заранее учитывать климатические изменения, которые могут произойти в средне- и долгосрочной перспективе, уверен директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.
"Реагировать на вызовы - это самый дорогой вариант, - считает он. - Профилактика значительно эффективнее и дешевле лечения. Наиболее рациональный подход - прогнозный, необходимо как можно точнее понимать, что может происходить с климатом, постепенно адаптироваться к этим изменениям".
Все решения экономического характера должны приниматься с учетом новой реальности, изменения климата и интересов экологии, согласен глава Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов. По его мнению, это касается и управленческих решений властей и изменения мышления бизнеса.
Использовать ВЭФ, как площадку для отстаивания интересов России, предлагает глава комитета Общественной палаты по экологии Елена Шаройкина. "На наших территориях 20 процентов лесов планеты, которые поглощают углекислый газ, и это важное конкурентное преимущество, которое сегодня, к сожалению, мы не используем в диалоге с ЕС, - объясняет она. - Состояние окружающей среды становится важным социальным фактором во многих регионах, и, если по изменению экологической ситуации не будут приняты кардинальные шаги, это может привести к социальной напряженности.
Подготовили: Алексей Дуэль, Сергей Тихонов
Вывоз угля из Кузбасса на восток увеличат до 68 миллионов тонн в год
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Объемы вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении в 2024 году вырастут с 53 миллионов до 68 миллионов тонн. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Вопросы обеспечения вывоза черного золота в контексте перспективы освоения отраслевых рынков и развития угольной промышленности обсудили в Кемеровской области. Участники совещания, включая руководителей представленных в регионе угольных компаний, рассмотрели, как выполняются поручения президента России Владимира Путина по наращиванию объемов вывоза угля из Кузбасса. В частности, в рамках достигнутого весной 2020 года соглашения между правительством региона и ОАО "РЖД".
Как отметил заместитель гендиректора железнодорожного ведомства Алексей Шило, доля отгрузки каменного угля по железной дороге занимает в добывающем регионе более 60 процентов, Кузбасс обеспечивает более 67 процентов общероссийского угольного экспорта.
В 2021-м железнодорожники, как уточнил Шило, по итогам первого полугодия выполнили целевые показатели отгрузки на сто процентов, в июле из-за чрезвычайной ситуации в Забайкалье отстали на 700 тысяч тонн, но уже в августе вышли на плановые темпы, которые позволяют восполнить отставание. Кроме того, уже в этом году будут реализованы все проекты, предусмотренные первым этапом развития перспективного для Кузбасса Восточного полигона. Там задействовано более 14 тысяч разных специалистов и свыше 2,5 тысяч единиц строительной техники.
- Мы очень хорошо понимаем, что сейчас возможности вывоза угля из Кузбасса и с территории Дальнего Востока в значительной мере определяют развитие угольной отрасли, - подчеркнул Андрей Белоусов. - И сегодня мы определили четкие планы до конца 2024 года по развитию Восточного полигона, который является в этом смысле ключевым. В рамках наших планов мы отфиксировали в тоннах объемы вывоза угля из Кузбасса. Если сейчас по соглашению из региона вывозится 53 миллиона тонн в год, то в 2024 году эта цифра должна вырасти до 68 миллионов тонн. По другим направлениям тоже установлены совершенно конкретные параметры расширения провозных мощностей - за счет инвестиционной программы, прежде всего, РЖД. И мы сегодня подробно обсудили те меры, в том числе, дополнительные, которые нужно реализовать, чтобы увеличить вывоз угля. Меры эти связаны с развитием технологий перевозок - повышением веса поезда, ускорением движения и так далее.
Совещание прошло на территории одного из крупных угольных разрезов. И если в 2020-м аналогичное мероприятие состоялось на шахте, где Андрей Белоусов спустился в забой, то на сей раз он познакомился с предприятием, добывающем уголь открытым способом. Первый зампред правительства РФ побывал в диспетчерской, откуда осуществляется контроль за работой всех машин, экскаваторов и буровых установок. А затем посетил медпункт, где открытчики проходят обязательный контроль самочувствия перед выходом на смену. На встрече с горняками также зашла речь о перспективах развития углепрома. К слову, девять кузбасских горняков - проходчики, электрослесари, машинисты горновыемочных машин - в честь профессионального праздника удостоились звания "Заслуженный шахтер Российской Федерации", четверых наградили медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, а еще одиннадцать человек - областными медалями "300-летие образования Кузбасса".
- Не верю, что дни угольной отрасли сочтены. В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70 процентов тепловой энергетики - это твердое топливо, а в Китае - 60 процентов. Это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придется конкурировать с австралийскими углями и не только. Руководство Кемеровской области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится, - подытожил Андрей Белоусов.
Когда примут решения по постройке скоростных железных дорог
Текст: Евгений Гайва
Решение по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород правительство должно принять в следующем году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Решение будет зависеть от возможностей финансирования строительства, например, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Решение будет принято в 2022 году, в зависимости от состояния ФНБ", - приводит РИА Новости слова вице-премьера.
ВСМ предполагает движение поездов со скоростью до 400 км в час. Это в разы быстрее по сравнению с существующими железными дорогами. Ускорение дает возможность повысить оборот грузов и мобильность людей. За счет строительства и эксплуатации ВСМ в экономике создаются новые рабочие места. Но для достижения таких скоростей необходима не просто модернизация существующих путей, а строительство новой инфраструктуры. В результате подобные проекты требуют финансирования в несколько триллионов рублей. ВСМ распространены за рубежом, прежде всего в Европе и Китае.
Возможность строительства ВСМ Москва - Нижний Новгород рассматривается несколько лет. В январе 2019 года было одобрено строительство первого участка от Московской до Владимирской области. Проект также предполагал продление магистрали через Казань до Екатеринбурга. Но в 2020 году было объявлено о приостановке проекта из-за сомнений в его рентабельности. В августе 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России предложил вновь вернуться к идее строительства ВСМ. По словам Никитина, этот проект даст дополнительный ресурс для развития региона.
Рассматриваются и другие направления строительства ВСМ. Например, от Москвы в южные регионы. Сейчас идет проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург через Великий Новгород. Предположительно движение по новой магистрали могут запустить после 2026 года. Расстояние в 680 километров поезда будут проходить чуть больше чем за два часа. По текущим оценкам, строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется примерно в 2 трлн рублей.
ПОРОХОВАЯ БОЧКА: ИНЕРЦИОННЫЙ ОБРАЗ КАВКАЗА?
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
ИНТЕРВЬЮ ПОРТАЛУ «КАВКАЗ СЕГОДНЯ»
Стоит ли воспринимать Кавказ как единое целое? Есть ли польза в том, что географические границы меняются реже, чем политические? Почему образ Кавказа как пороховой бочки – инерционный? Об этом рассказал наш главный редактор Фёдор Лукьянов в интервью порталу «Кавказ сегодня». Смотрите полную версию беседы по ссылке, читайте краткую версию у нас на сайте.
Где посмотреть
Посмотреть можно здесь
Стоит ли воспринимать Кавказ как единое целое, учитывая, что он разделён между несколькими государствами? Это вопрос. Но, с другой стороны, здесь всё взаимосвязано, и до тех пор, пока география не изменится, всё будет строиться вокруг необходимости взаимодействия, невзирая на то, какая ориентация у разных государств и какие отношения складываются у них, допустим, с Россией.
Политические границы меняются и будут меняться. Не было века, когда границы не менялись бы кардинально, перечерчивалась вся карта. Почему мы решили, что в XXI веке будет иначе? Непонятно. География – взаимосвязь регионов и народов – меняется гораздо медленнее.
С точки зрения информационного влияния, я не уверен, можно ли говорить о том, что российский Кавказ находится в какой-то особой ситуации по сравнению с остальной частью России. То, что мы все живём в информационной парадигме, которую задают глобальные державы (Соединённые Штаты, прежде всего) – это факт. Нравится нам это или нет, но пока даже те страны, которые никоим образом не следуют американской линии и критикуют их политику, всё равно, волей-неволей, идут в этом фарватере.
Если посмотреть на нашу информационную повестку, то очевидно, что мы можем высказывать ровно противоположные взгляды, мнения, но сам характер этой повестки определяется тем, что идёт от Запада. Схожая ситуация и в Китае, хотя там очень жёсткий информационный контроль. Поэтому не думаю, что можно говорить об информационном влиянии на регион: южные республики Кавказа и даже Турция не обладают такими ресурсами, чтобы проводить самостоятельную линию.
Российский Кавказ – органическая, интегральная часть России, разумеется, со своей спецификой. Дополнительная уязвимость, связанная с бурной историей, прежде всего новейшей, это, конечно, есть, но скорее на уровне ощущения.
Кавказ имеет не больше и не меньше проблем, чем все другие регионы.
Всегда есть силы, которые работают инерционно: поддерживается канал, который при необходимости может быть использован – это рутинная работа. Но разжигать рознь можно там, где тлеют угли. В этом плане Кавказ – сложный регион, очень многообразное сообщество народов. И здесь нужна другая, но тоже постоянная и рутинная работа, которая, в случае чего, позволит погасить вспыхнувшие угли.
Образ Кавказа как пороховой бочки существует. Но есть подозрение, что этот образ тоже инерционный. И создание другого образа Кавказского региона было бы важно.

ПОЧЕМУ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ЧАЩЕ ПОСЕЩАЮТ КИТАЙ, ЧЕМ АМЕРИКУ
НЕЙЛ ТОМАС
Аналитик по Китаю группы «Евразия» (Вашингтон).
ЕСЛИ БЫ ДИПЛОМАТИЯ ЛИДЕРОВ БЫЛА ОЛИМПИЙСКИМ ВИДОМ СПОРТА, ПЕКИН ОПЕРЕДИЛ БЫ ВАШИНГТОН И ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
Инвестиции в дипломатию помогают Си Цзиньпину убедить других лидеров в необходимости посетить Китай, поддержать позицию Пекина по глобальным вопросам и участвовать в инициативах КНР, включая «Пояс и путь». Пекин опережает Вашингтон в этом аспекте дипломатического влияния.
В апреле 2021 г. премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга стал первым иностранным лидером, встретившимся с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Визит Суги ознаменовал возвращение к практике приездов лидеров в Вашингтон после пандемии COVID-19. Суга рассказал журналистам, что он и его команда были настолько взволнованы встречей с американскими коллегами, что «даже не притронулись к гамбургерам».
В период пандемии сформировалась новая динамика «стратегического соперничества» между США и Китаем. Вашингтон и Пекин ищут и обхаживают сторонников, чтобы противодействовать попыткам друг друга сформулировать экономические, политические и территориальные нормы. Так, в ходе визита в Соединённые Штаты Суга неожиданно прямо высказался против китайской политики «силы и принуждения» в Индо-Тихоокеанском регионе.
Несмотря на приезд Суги, США значительно отстают от Китая по привлечению иностранных лидеров. Об этом свидетельствуют данные о визитах глав иностранных государств и правительств в обе страны в 1990–2019 годах. Статистику визитов мировых лидеров в Америку ведёт Госдепартамент, а данные по Китаю можно отследить с помощью МИД КНР и официального издания «Жэньминь жибао». Данные включают визиты на многосторонние встречи – Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке или саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, которые часто подразумевают двусторонние контакты и отражают вовлечённость Вашингтона и Пекина в мировые дела.
Эти визиты имеют значение, поскольку отлично демонстрируют дипломатические приоритеты. Зарубежные поездки национальных лидеров требуют серьёзной подготовки. Кроме того, нужно выделить самый дефицитный политический ресурс – внимание. Личные контакты помогают главам Соединённых Штатов и КНР укрепить доверие и углубить сотрудничество с коллегами. Тот факт, что больше лидеров посещает Китай, а не США, позволяет предположить, что Пекин опережает Вашингтон в этом аспекте дипломатического влияния.
Пекин – очень востребованное направление в мировой политике. В 2019 г., до начала пандемии COVID-19 и прекращения международного сообщения, 79 иностранных лидеров посетили Китай и только 27 – США.
Каждый год с 2013-го больше мировых лидеров посещали Китай, а не Соединённые Штаты – это кардинальное изменение ситуации по сравнению с американским доминированием сразу после окончания холодной войны.
В период президентства Джорджа Буша – старшего и Билла Клинтона, когда США остались единственной супердержавой, в среднем было 65,8 и 60,5 визита мировых лидеров ежегодно. При Буше-младшем количество визитов подскочило до 71,8, когда Вашингтон начал «глобальную войну против терроризма». Это более чем в три раза больше, чем встреч с председателем КНР Цзян Цзэминем на стыке веков. Однако после вступления Китая в ВТО в 2001 г. его экономика стала расти, и количество визитов иностранных лидеров увеличилось вдвое при следующем председателе КНР Ху Цзиньтао.
Визиты в США упали в период администрации Барака Обамы на фоне финансового кризиса, «вечных войн» в Ираке и Афганистане и внутриамериканских противоречий, которые негативно сказались на привлекательности Америки. В это время Си Цзиньпин, ставший председателем КНР в 2013 г., начал продвигать активную внешнюю политику, заряженную экономической дипломатией Пекина. В среднем ежегодно Китай посещали 87 иностранных лидеров.
Лидерство Китая резко возросло при Дональде Трампе, чья философия «Америка прежде всего» игнорировала дипломатию и отталкивала союзников. С 2017 по 2019 г. Трамп получил лишь треть визитов иностранных лидеров в сравнении с показателями Си Цзиньпина – 82 визита в Соединённые Штаты и 272 в Китай. Америка никогда не была столь непопулярной.
Откуда приезжают лидеры? Анализируя данные по регионам, мы видим кардинальные изменения в мировой дипломатии за последние тридцать лет. В 1990-е гг. руководители из всех регионов посещали США гораздо чаще, чем Китай. Соединённые Штаты оставались более привлекательным направлением и в 2000-е гг., хотя лидеры стран Азии и Океании – регионов, интегрированных в экономическую орбиту Китая, стали ездить в Пекин чаще.
Потом произошёл всплеск визитов в Китай. В 2010-е гг. Китай в три раза больше посещали лидеры стран Азии и Океании, в два раза больше – африканские лидеры и почти в два раза – лидеры стран Восточной Европы. Даже главы Северной и Южной Америки, которая считается задним двором дипломатии Соединённых Штатов, стали отдавать предпочтение Китаю. Только ближневосточные и западноевропейские лидеры по-прежнему чаще посещали Вашингтон.
Стоит отметить, что за последние десять лет лидеры многих стран-союзников и партнёров США посещали Китай чаще, чем Соединённые Штаты. В частности, это касается руководителей Южной Кореи, Германии, Филиппин, Таиланда, Сингапура и Новой Зеландии. Президенты Франции посещали обе страны равное количество раз. А Япония – единственная страна Азии, премьеры которой посещали США чаще, чем Китай. Руководители Великобритании, Италии и Австралии также отдавали приоритет Соединённым Штатам, но преимущество было незначительным.
Увеличение количества визитов в Китай – одновременно симптом и одна из причин его растущей мощи. Необходимость налаживать торговые связи с Китаем, где государство контролирует многие сектора экономики, безусловно, требует дополнительных дипломатических усилий. Тем не менее китайская экономика была на 30 процентов меньше американской в 2019 г., но КНР привлекла почти вдвое больше мировых лидеров. Значит, разрыв нельзя объяснить исключительно бизнесом.
В Пекине понимают, что внимание и усилия играют важную роль в дипломатии, а визиты высшего уровня приносят больше двусторонних соглашений, инвестиций и помощи.
Самый влиятельный китайский дипломат – это председатель КНР, и каждый визит руководителя другого государства даёт Си Цзиньпину уникальную возможность для реализации внешнеполитических целей.
Это также одна из причин, почему Си увеличил бюджет, расширил консульское присутствие и укрепляет политический вес Министерства иностранных дел. Инвестиции в дипломатию помогают Си Цзиньпину убедить других лидеров в необходимости посетить Китай, поддержать позицию Пекина по глобальным вопросам и участвовать в инициативах КНР, включая «Пояс и путь» – масштабный проект развития стратегической инфраструктуры.
Си Цзиньпин также уделяет особое внимание проведению крупных международных мероприятий. Регулярные встречи в рамках инициативы «Пояс и путь», Международная выставка импортных товаров и форум «Китай – Африка» собирают десятки мировых лидеров. Прежде всего речь идёт о развивающихся странах, которые хотят повторить подъём Китая, а Пекин, в свою очередь, сможет рассчитывать на их поддержку в международных институтах, где каждой стране принадлежит один голос, как в Генассамблее ООН.
Деятельность в странах развивающегося мира – ключевой элемент реакции Пекина на попытки Джо Байдена строить экономические блоки, цепочки поставок и другие многосторонние объединения в целях противодействия влиянию Китая. Если Байден хочет выполнить обещание и вернуть США верховенство в мире, ему придётся поддерживать и расширять начавшееся возрождение американской дипломатии. Главы Японии, Южной Кореи, Германии, Израиля, Украины, Иордании и Афганистана уже встретились с Байденом в Белом доме, но никто не бывал в Пекине с начала пандемии. Усилиям Байдена поможет и приглашение лидеров стран Африки, Азии и Южной Америки в Вашингтон.
The Interpreter
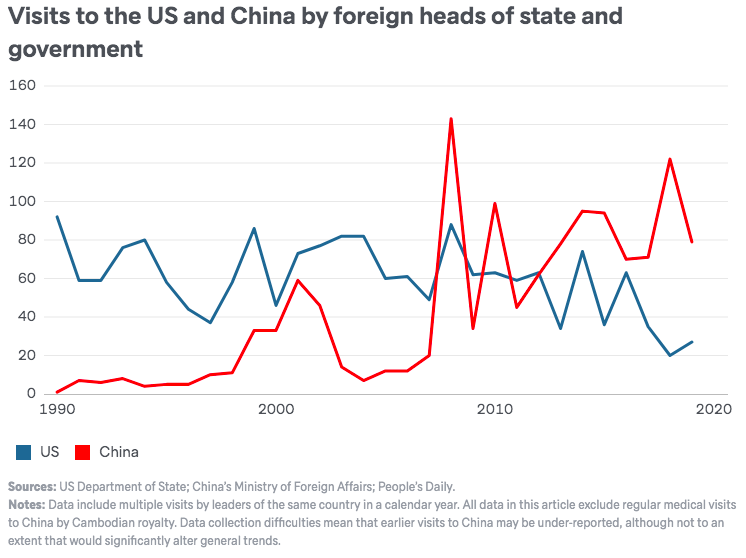
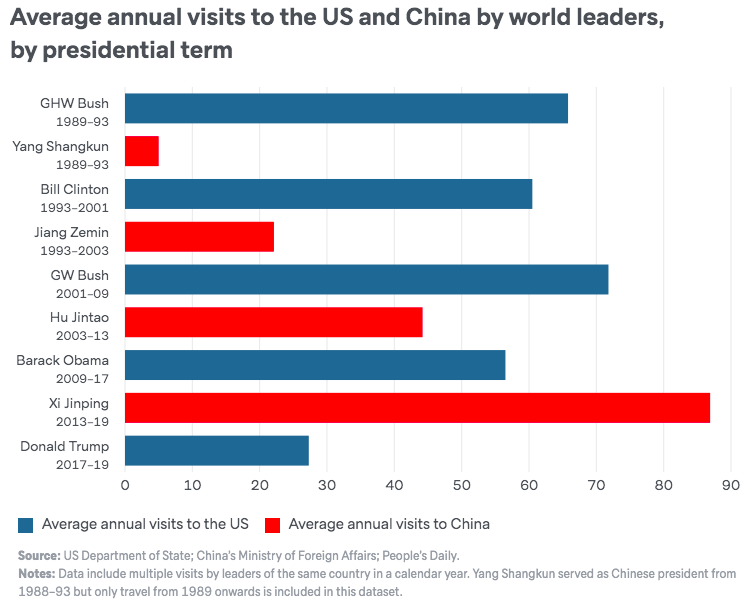
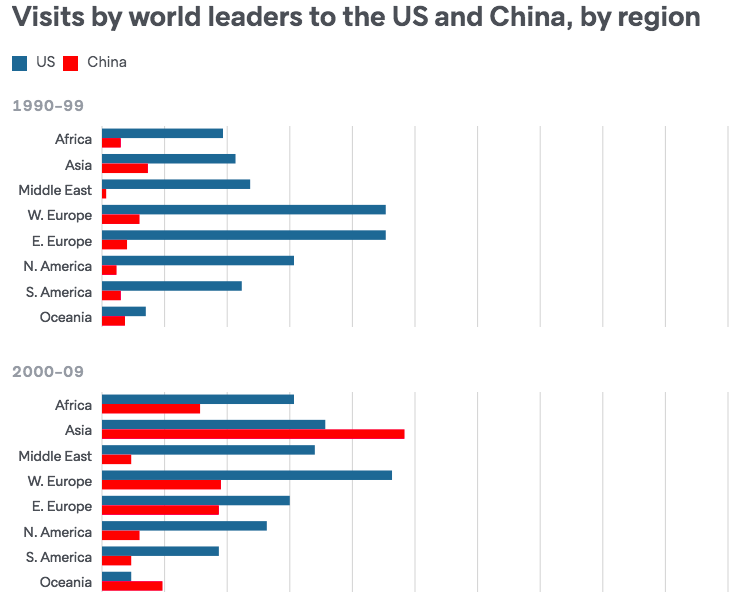
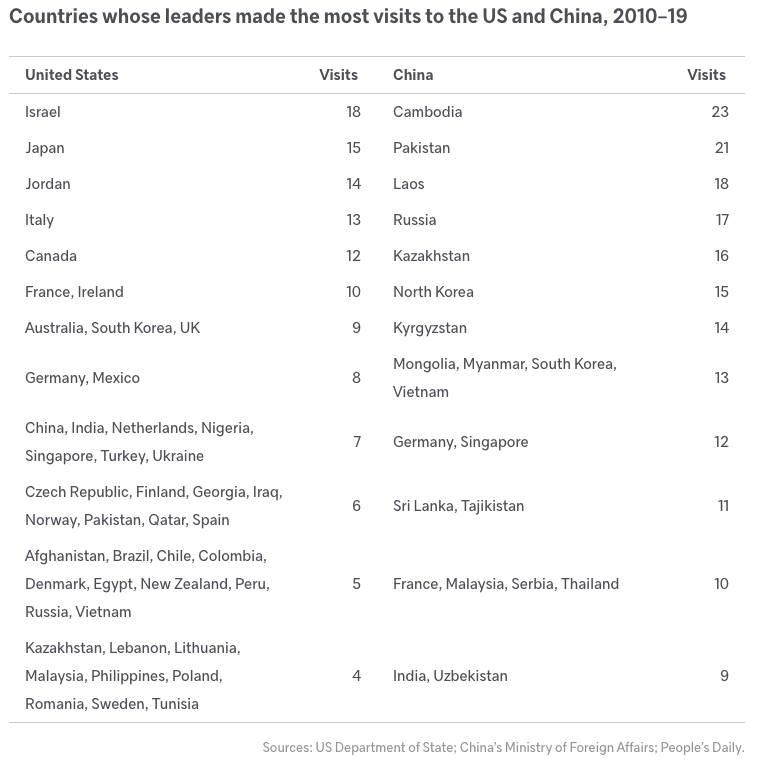
Для России принципиально важно обеспечить безопасность южных рубежей
Москва будет координировать свои действия прежде всего с союзниками и стратегическими партнёрами в рамках ОДКБ и ШОС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Риме 27 августа в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л. Ди Майо высказал позицию России по ряду актуальных международных проблем. Публикуем выдержки из его выступления и ответов на вопросы.
О ситуации в Афганистане
По понятным причинам Афганистан занял значительное место в наших дискуссиях. Присоединяемся к осуждению террористических актов и к соболезнованиям в адрес семей погибших. Видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они без дальнейших задержек сформировали инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны.
Наши западные коллеги всегда хотят объединять усилия и искать совместные ответы, когда говорим о последствиях нынешней ситуации в более широком плане (о потоках мигрантов, беженцев). Но всё-таки надо извлекать уроки после Ирака, Ливии, а теперь и Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны. Надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод закрепить в сознании политиков, рассматривающих дальнейшие действия на чужих просторах.
Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии. Этот вопрос уже обсуждался на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Очный саммит ОДКБ состоится в середине сентября. На день позже состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Нет сомнений, что риски, проецирующиеся из Афганистана, в том числе спровоцированные потоки нелегальных мигрантов, будут в центре внимания дискуссии наших лидеров, равно как и вопросы оказания содействия афганцам обеспечить в своей стране стабильность и нормальное функционирование гражданских институтов.
Об отношениях с «Талибаном»*
Напомню, мы многие годы разговариваем со всеми сторонами конфликта, в том числе в рамках московского формата. В нём участвуют все страны региона, которые могут влиять на ситуацию, а также США, Китай, Индия, Пакистан.
Поддерживали диалог с талибами в рамках расширенной тройки (Россия, США, Китай, Пакистан). Он продолжался до последнего времени в столице Катара (Доха). Наблюдалась тенденция по затягиванию договорённостей. Если за столом переговоров ничего не достигается, есть риск возобновления боевых действий, что и произошло.
Были готовы поддержать соглашения, заключённые между США и талибами. К сожалению, выполнить их не удалось и не только по причине позиции талибов. <…>
Будем координировать наши действия прежде всего с союзниками и стратегическими партнёрами в рамках ОДКБ и ШОС. Будем готовы сотрудничать со всеми другими странами, которые в духе доброй воли могут поспособствовать нормализации обстановки в Афганистане с упором на обеспечение безопасности. Всё остальное будет вторичным в наших приоритетах.
Об Украине
Обсуждали и ситуацию на Украине. У нас одинаковая позиция относительно необходимости полного выполнения минского «Комплекса мер». Показали на конкретных примерах, как последние усовершенствования украинского законодательства, по сути, запрещают киевским руководителям и другим переговорщикам выполнять то, что от них требуют минские договорённости. Ситуация непростая. Надеюсь, что все наши европейские коллеги, искренне заинтересованные в нормализации обстановки на Украине, смогут оказать влияние в этом вопросе на киевское руководство. <…>
На днях в Киеве состоялось мероприятие под названием «Крымская платформа». В этой связи – итальянские коллеги участвовали в этом мероприятии – мы высказали наши оценки этой бессмысленной затеи, которая лишь нагнетает ненужную напряжённость там, где необходимо признать существующие реалии. А реалии заключаются в том, что Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации в соответствии со свободным волеизъявлением проживающих там граждан.
Радикальное движение «Талибан» запрещено в РФ.

Большое интервью Дмитрия Рогозина «Газете.Ru»
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о гонке вооружений в космосе, перспективах ядерной войны, полете на Луну и конкуренции с США, а также о деле Ивана Сафронова, борьбе с коррупцией и вероятности найти инопланетную жизнь.
***
— Сейчас многие говорят об угрозе милитаризации космоса. С вашей точки зрения, она уже началась, неизбежно ли это?
— То, что сейчас принято обобщать как «космос», в принципе появилось из военного космоса. Изначально все существующие на сегодняшний день ракетно-космические комплексы создавались как средства доставки ядерного оружия. Даже так называемая «легендарная семерка» — прообраз «Союза-2» — это ракета, которая создавалась в ОКБ-1 под руководством С.П. Королева как боевая ракета. Правда, позже военные сочли это неподходящим, потому что требуется определенное время на подготовку ракеты к старту, и сделали выбор в сторону ракеты нового класса.
То же самое — ракета «Протон-М», тоже была ракета УР-200, УР-500, — это тоже были боевые ракеты.
Поэтому как правило военные разработки связаны с обеспечением безопасности страны — а для СССР это была крайне важная тема. Когда у США уже существовали средства доставки атомных бомб, в СССР тоже акцент был сделан на создание атомного оружия и средства его доставки. Более того, даже был такой приоритет в сторону ракетного вооружения, что он даже нанес ущерб развитию Военно-воздушных сил Советского Союза.
Поэтому милитаризация космоса, хотя это словосочетание и звучит угрожающе, — это все военные разработки: и размещение орбитальной группировки специальной связи, высокодетальных систем наблюдения за потенциальными передвижениями противника, навигация и многое другое. Эти разработки шли и идут до сих пор.
Другое дело, против чего мы выступаем и что мы называем настоящей милитаризацией космоса, — это размещение на постоянной основе оружия в космосе. Одно дело — межконтинентальные баллистические ракеты (а они есть и у нас, и у США, и у Китая, и у других стран), которые, по сути, находится в космосе считанные минуты, и будем надеяться, что они никогда не будут использованы. Другое — размещение на постоянной основе оружия космического базирования. Мы категорически против этого.
— А вооруженный конфликт в космосе, по вашему мнению, возможен?
— Мы реалисты и прекрасно понимаем, что войны совершенствуются. Раньше любой конфликт начинался на границе. При появлении ракетного вооружения границы перестали иметь такое значение, особенно когда появились ракеты с глобальной дальностью. Соответственно, они могли наносить удары по всем объектам, даже на стратегической глубине территории противника.
Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай Бог, начнется, начнется именно в космосе.
Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт. Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние — все это создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника.
Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, — с этого начинается война в космосе.
Но при этом надо понимать, что боевое воздействие на космический аппарат, тем более относящийся к военной группировке, — это повод к войне.
Именно поэтому на очень многих аппаратах стоят системы идентификации, которые позволяют точно выявить, было ли при повреждении данного аппарата некое направленное рукотворное воздействие, либо это было воздействие другого характера, например, метеорит, внутренняя поломка. Это надо очень четко отслеживать, потому что, если США, Россия или Китай поймут, что на его космический аппарат напали, — это по сути нападение на страну.
— Россия готова к войне в космосе?
— Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве.
— А ядерные вооружения, по вашему мнению, могут быть размещены в космосе?
— Я считаю, что это было бы преступление. Именно поэтому (некоторые меня за это критикуют) я стал возражать господину Илону Маску, когда он предложил терраформирование Марса за счет ядерного оружия. Я как раз сказал, что до терраформирования Марса дело не дойдет, зато до вывода ядерного вооружения в космос дойдет. Именно поэтому я считаю эту идею чрезвычайно опасной.
Что может быть? Ядерное оружие может быть выведено в космос не под предлогом нападения на противника, а под каким-то очень красивым предлогом, как раз, например, терраформирования Марса, или в рамках астероидно-кометной безопасности. Конечно, мы понимаем, что для этого не нужно выводить ядерное оружие. Если понадобится, его можно вывести за считанные минуты.
Но постоянное его базирование и атака с его помощью из космоса, по сути, сокращает скорость реакции возможной страны-жертвы на такую атаку, а, значит, увеличивает риск глобального поражения этой страны. Поэтому я считаю, что нужно сделать максимум, чтобы те международные соглашения, которые уже существуют на сей счет, работали, и ни под каким предлогом не разрывались.
— Скажем, Россия не будет выводить в космос ядерное оружие. А если это сделают Штаты? Как Россия отреагирует? Может разместить в ответ свое оружие?
— Значит, это будет преступление.
— Как Россия отреагирует? Может разместить в ответ свое оружие?
— Мы найдем адекватный ответ. Каким он может быть — это вопрос к Минобороны и Военно-космическим войскам. Они совершенно точно найдут ответ.
— Может ли гонка вооружений с США перейти в космос?
— Именно поэтому люди, причастные к космической деятельности, всегда говорят, что космос должен быть вне политики. Хотя все понимают, что это не так. Космос — это вершина политики. Космическая деятельность — это, по сути, витрина технологий, которые есть в стране. Если у США есть технологии, они обязательно их покажут. Мы, безусловно, тоже никогда не скрывали существование самых разных технологий космической деятельности в нашей стране — как доставшихся от советской космонавтики, так и новейших разработок. Но при этом хочу сказать, что мы стараемся оберегать космическую деятельность от такого рода происшествий.
— Вы как-то говорили, что гонки вооружений не может быть, потому что Роскосмосу дают меньше денег, чем NASA.
— Я имел в виду немного другое. Раньше, когда было соревнование двух глобальных общественно-политических систем — мира социализма и капитализма — космос как раз становился витриной для соревнований. Один побежал 100 м — другой побежал за ним. Один прыгнул в высоту — другой тоже постарается прыгнуть за ним. Сейчас мы понимаем, что этого делать совершенно не нужно.
Я же сказал, что сейчас у нас имеется ограниченное финансирование. Раньше советскому космосу никто не ставил каких-то границ финансирования — сколько тебе нужно, столько и бери. К примеру, «Буран» стоил 19 млрд советских рублей — это когда доллар был 60 копеек. То есть это триллионы рублей, переводя на нынешние деньги. Над этим проектом работал миллион человек в нашей стране.
Сейчас мы просто не видим смысла бегать за американцами.
У нас есть приоритетные направления, где мы мировые лидеры. Прежде всего, это ракетное двигателестроение. Второе — это направление по разработке ядерной энергетики в космосе. Где-то мы вторые в рамках трех космических держав.
Всего же у нас есть три направления — военный космос, космос прагматичный, то есть для страны, и научный космос.
Вот по научному космосу мы делаем многие вещи, которые считаем чрезвычайно важными. Первое — это создание новой российской орбитальной служебной станции, а орбитальная станция — это, прежде, всего наука. И мы на тех параметрах, которые предложены на орбите, по техническим характеристикам станции получим принципиально новые результаты в рамках космических экспериментов.
Второе — мы впервые за четыре с половиной десятилетия возобновляем лунную программу, готовимся запустить «Луну-25». Мы идем на второе пусковое окно, потому что так долго не запускали эти аппараты. Это новое поколение разработчиков, молодые инженеры. Они, безусловно, хотят получить максимум уверенности, что у них это получится успешно. Поэтому четыре-пять месяцев роли не играют. И мы соглашаемся с тем, что идем на второе пусковое окно.
Но дальше идут «Луна-26», «Луна-27», «Луна-28», то есть это тоже важнейшее направление, но оно нам интересно именно с точки зрения автоматических аппаратов. Возвращаться туда экипажем, как это делали американцы и опять пытаются сделать, мы не видим ни малейшего смысла.
Программу по Луне мы выполняем так, как считаем нужным. А когда у нас появится научное обоснование отправки туда экипажа, мы его отправим. Но не потому, что это сделали американцы.
Третье направление по науке — это обсерватории. Уникальные материалы мы получаем и обрабатываем для академии наук. Надеемся, что после вмешательства президента мы получим ресурсы на сохранение этой программы.
Мы двигаемся дальше без оглядки на кого-то. Гонка нам не нужна, она бессмысленна, потому что у нас есть своя национальная космическая программа.
Если вдруг США понадобится наша помощь, мы единственная страна в мире, которая может им ее оказать. И это NASA уже много раз говорили, что они что-то рано начали хлопать форточкой. Не плюйте в колодец, обязательно придется попить русской водички. Равно как и мы, если мы пойдем в дальний космос, мы будем также рассчитывать на поддержку американцев. Это правило жизни.
— Как бы вы в целом охарактеризовали российско-американские отношения в космосе?
— Это не те отношения, которые были при СССР. Тогда отношений не было вообще, а когда они появились, они санкционировались не космическими агентствами, а политическим руководством двух стран. Тогда это были шок, радость.
В 1990-х годах, когда появилась идея МКС, взаимодействие стало постоянным, я бы даже сказал рутинным. И оно наработано. Уже появились люди, которые знают друг друга, ездят друг к другу домой специалисты — наши и американские, у нас есть космонавты, которые теперь уже, будучи свободными людьми, ездят проводить обучение в США, во Франции. Произошла уже определенная диффузия. Но надо иметь в виду, что NASA — это федеральное космическое агентство США. То есть это часть его правительства, и они будут проводить линию их президента.
А мы Госкорпорация, и мы будем проводить линию нашего президента. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что мы обеспечиваем государственную национальную программу освоения космоса, а минусы в том, что, хотя мы и занимаемся космосом, не можем находиться в безвоздушном пространстве. То есть на нас эти ветры отношений, конечно, воздействуют. Но глава NASA Билл Нельсон и я делаем все возможное, чтобы оберегать наше взаимодействие от проблем.
Вот как у нас это было с модулем «Наука». Ну никакого воздействия стыковка модуля и некоторые проблемы, которые возникли после нее, не имели на пуск корабля Starliner. Мы знали изначально, что они не полетят в этот день, потому что там была плохая погода. Когда у них стала развиваться нештатная ситуация с их внутренней системой, когда они сняли корабль, сначала отвезли его в технический корпус, а потом вообще отправили на завод-изготовитель. А потом американцы говорили, что во всем виновата «Наука». Но это неправда.
Так иногда бывает. Наши предприятия тоже так делали. Была такая история еще в советское время. Одно предприятие до конца не довело по наземным испытаниям агрегат, который должен был полететь на ракете, думая, что ракета не взлетит, она была только в начале испытаний. А ракета взлетела, полетела, и, когда пришло время включать агрегат, он не включился. То есть те, кто отвечал за верхний этаж, надеялись, что нижний этаж сгорит. Такая забавная история. Но такого быть не должно. Мы свои проблемы не должны путать с проблемами партнеров.
— Вы увязали выход России из проекта МКС с санкциями США против российских космических предприятий. Если санкции остаются, какова судьба российского сегмента МКС?
— Я спрашивал много раз коллег из NASA: «Вы вообще со своим правительством как-то обсуждаете этот вопрос, или вы вообще никак не контактируете?» Почему министерство финансов вводит против нас санкции в отношении двух предприятий, одно из которых включает центр управления полетами в Королеве, а второе — делает ракеты, на которых выводятся международные экипажи, в том числе с американцами, на МКС.
Я говорю: «Вы вообще мозги-то как, включаете? Вы зачем вводите санкции против тех, кто вам же помогает работать над совместными проектами?»
Поэтому я сказал, что, если санкции сохранятся, физически вы сами перечеркиваете это сотрудничество, не я. Я никаких ультиматумов не ставил.
Дело в том, что мы уже приступили к разработке российской орбитальной служебной станции, поэтому, возможно, будущая орбитальная пилотируемая космонавтика нашей страны будет иметь скорее национальный, чем международный характер, что позволит нам делать больше, чем мы можем делать сейчас.
— США периодически обвиняют Россию в создании противоспутниковых аппаратов. Насколько это обоснованно?
— Да, я читаю эти сообщения, это обычная пропаганда. Они сами создают противоспутниковое оружие, сами его испытывают. У нас достаточно мощная система мониторинга околоземного пространства. Если они думают, что мы чего-то не видим, они ошибаются. Они нас обвиняют в работе наших спутников-инспекторов, а сами этих инспекторов создавали раньше всех остальных. Мы понимаем, что это элемент информационной кампании, поэтому улыбаемся и ничего не говорим.
— Вы упоминали Илона Маска. На ваш взгляд, он может заняться военными космическими проектами?
— Так он давно этим занимается. SpaceX — подрядчик Пентагона. Я всегда об этом говорил. Здесь ничего такого нет. Они за счет тех сумм, которые получают от Пентагона, компенсируют цену своей ракеты Falcon 9.
Второе — новые разработки, которые он реализует, связаны с Пентагоном.
Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, — межконтинентальная быстрая доставка людей. Идея действительно очень красивая, фантастическая, будем надеяться, что однажды она станет реалистичной, но на сегодняшний день, чтобы посадить людей в ракету, чтобы она перелетела с одного континента на другой, придется пойти на колоссальные риски. Это риски, подобные первому испытанию военного или гражданского самолета. Поэтому обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты.
— Не мешает ли такая тесная связь военных и космической отрасли развитию ориентированного на космос российского бизнеса?
— Нет, никак не мешает. Потому что созданный за деньги государства научно-технический задел в итоге сначала переходит в гражданскую государственную космонавтику, а потом уже и в частную. Компания Space X так же формировалась. Ей передавались задельные вещи, фактически государство было донором, предоставило специалистов лучших из NASA и так далее. У нас — то же самое. У нас все частные компании в основном состоят из специалистов, перешедших из государственных организаций.
Другое дело, что у нас нет в этой области большого венчурного капитала, это главный тормоз для развития российского космического бизнеса. А так — то же самое.
Мы готовы оперативно давать лицензию на космическую деятельность любой частной компании, готовы снабжать их специалистами, подсказывать им некоторые вещи. Конечно, мы будем заставлять эти частные компании уважать стандарты безопасности, которые, что называется, кровью написаны.
Но в остальном мы тоже заинтересованы в развитии частных компаний.
— Если говорить об угрозах из дальнего космоса, российская техника готова, например, к возможному падению метеорита на Землю?
— Если смотреть на эту проблему, ее надо видеть в двух плоскостях. Первая — обнаружение крупных и малых тел, которые могут угрожать безопасности. И российская, и американская система мониторинга космического пространства видят все, кроме опасных сближений со стороны Солнца. Чтобы закрыть эту нишу, надо размещать телескопы не на Земле, а на той же самой Луне.
Вторая тема. Хорошо, мы узнали — что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет.
И именно это мы предлагаем NASA: давайте не будем заниматься тем, чем мы сегодня занимаемся, непонятными вещами, перепалками и так далее, а займемся именно этим. И тогда мы приобретем колоссальное значение для орбитальной станции, тогда будет понятно, зачем мы работаем по Луне, потому что нужно перекрыть брешь со стороны Солнца.
Эта программа будет очень дорогостоящая, поэтому она точно должна быть международной. Это будет система, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу, и путем воздействия на него обеспечить либо его разрушение до мелких частиц, которые сгорят, когда будут входить в атмосферу Земли, либо пытаться воздействовать на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо Земли. Как это сделать, мы понимаем на уровне теории.
Я считаю, что это важнейший проект. Но сам Роскосмос не потянет такие вещи. Это должен быть международный глобальный проект. Я в свое время в 2010 году написал Дмитрию Анатольевичу Медведеву небольшой доклад, где описал свои переговоры с коллегами и в НАТО, и в нейтральных странах о том, что только такой проект астероидно-кометной безопасности может быть единственным выходом из полемики вокруг противоракетной обороны.
То есть противоракетная оборона — это не то, что мы обеспечиваем оборону друг против друга, а что это должна быть оборона Земли, организованная совместными усилиями. Тогда меня президент поддержал, но дальнейшие переговоры с партнерами не продолжились, потому что им нужно совсем другое.
Западные элиты думают узколобо, в направлении сопротивления России, вместо того, чтобы совместно сесть за круглый стол и подумать, как спасти нашу планету. Потому что на эти технологии уйдет колоссальное количество денег. Если мы просто увидим угрозу и не сможем спасти человечество, мы себе этого не простим.
— А в существование инопланетной цивилизации верите?
— У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить.
Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной.
Эта жизнь не обязательно должна быть в лице гуманоидов, это могут быть клетки, вирусы, растения, а могут быть и живые разумные существа. Этот вопрос будоражит наши умы, и, думаю, будет будоражить, пока мы не найдем этой разумной жизни. Все миссии, которые мы сегодня готовим, например, миссия на Марс совместно с Европейским космическим агентством преследует цель найти признаки жизни, которые когда-либо были на Марсе. То есть мы ищем жизнь, а, значит, мы в это верим.
— Немного о вашей деятельности на посту главы Роскосмоса. Не могу не спросить про задержанного в прошлом году экс-журналиста и вашего советника Ивана Сафронова. У вас есть какие-либо сведения о ходе его дела?
— Нет, следствие закрыто.
— Проводил ли Роскосмос свое отдельное расследование?
— Ему вменяют госизмену, а такого рода факты могут установить и доказать в суде только органы, обладающие соответствующими компетенциями.
Мы исходим из того, что идет следствие, работают адвокаты, до момента вынесения решения суда господин Сафронов остается в своей должности, в которой он был, когда его задержали. Никакого изменения в нашей линии нет.
Я считаю, мы ведем себя достойно в этом вопросе. Суд все решит.
— Если его все же обвинят, позиция Роскосмоса изменится?
— Будем исходить из уважения к закону и к решению судебных органов. Каждый может думать по-своему, но государственная корпорация — это некий квазиорган исполнительной власти. Когда будет решение суда, мы поступим сообразно ему, независимо от каких-либо симпатий и антипатий.
— Вы говорили, что собираетесь очистить Роскосмос от коррупции и казнокрадства. Удается?
— Только этим и занимаюсь. Постоянно. Наше управление безопасности проводит плановые проверки, мы создали пронизывающую всю отрасль систему аудита, если были нарушения прошлых лет или нынешних, это немедленно докладывается нам, мы формируем необходимые документы и передаем сразу готовые.
Уже год у нас действует система прохождения полиграфа при назначении на любую значимую должность. Кандидатам задаются два вопроса — первый касается его экономической добропорядочности, второй — его добропорядочности как гражданина.
Эта история была введена по моему решению, она позволяет отсеивать людей, которые странно отвечают на поставленные вопросы. Поэтому гигантскую работу за последние годы провела эта система, в основном очистив людей, которые использовали бюджетные средства и свое властное положение для самообогащения или продвижения родственников.
Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов. Мне докладывают, если такое имеет место.
— Как вы считаете, сколько еще у вас уйдет времени, чтобы полностью искоренить коррупцию в организации?
— Это постоянный процесс. Когда я еще занимался политической деятельностью... Многие же говорят, что политика — дело грязное. Я говорил по-другому, что политика — это профессия, где должны быть высочайшие стандарты этики.
Когда есть высочайшее количество соблазнов, власть, возможность распоряжаться миллиардами, сотнями миллиардов бюджетных средств, возможность продвижения кого-то, нужно быть настолько высоко этичным, чтобы воспрепятствовать своему сиюминутному желанию закрыть глаза на что-то. Нужен не только самоконтроль, но и другой контроль.
Мне очень легко живется. У меня все железобетонно по декларациям, у меня огромное количество контролирующих органов, которые наблюдают за мной в телескоп. Поэтому мне очень легко живется. А для моих подчиненных я должен обеспечить этот контроль.
Власти Китая ограничивают политику льгот на электроэнергию для производителей электролитического алюминия
Государственная комиссия по развитию и реформе27 августа выпустила «Уведомление об улучшении многоуровневой политики ценообразования на электроэнергию для производства электролитического алюминия», где требуется, чтобы в производстве электролитического алюминия продолжалось внедрение многоуровневой политики ценообразования на электроэнергию.
Предлагается стимулировать предприятия-проиводители к использованию возобновляемых источников энергии и сокращению потребления ископаемого топлива.
Подчеркивается, что компании, производящие электролитический алюминий, которые должны осуществлять поэтапное повышение цен на электроэнергию, должны оплачивать увеличенную плату за электроэнергию полностью и вовремя.
Строго запрещается вводить льготные цены на электроэнергию для электролитической алюминиевой промышленности и организовывать специальные сделки на рынке электроэнергии электролитических алюминиевых предприятий, те, которые были реализованы и организованы, должны быть немедленно отменены.
Напомним, недавно Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговые пошлины на алюминиевую посуду из Китая. Повлияют ли меры озвученные в Уведомлении ГКРР КНР на это решение, пока не известно.
Российский Красный Крест открывает первый в своей истории учебный центр для детей мигрантов
Российский Красный Крест совместно с Автономной некоммерческой организацией «Такие же дети» открывает учебный центр для детей беженцев и мигрантов. Проект даст возможность обучаться русскому языку и основным предметам школьной и дошкольной программ детям из стран Ближнего Востока, Африки, СНГ и Афганистана.
Мигранты и беженцы часто сталкиваются с трудностями в устройстве детей в школы и детские сады из-за языкового барьера, который испытывают дети после недавнего переезда или временного отсутствия документов. В рамках миграционного проекта Российского Красного Креста и благодаря взаимодействию с Интеграционным центром «Такие же дети» по расширению доступа к образованию состоится открытие первого в истории РКК учебного центра для детей мигрантов и беженцев.
«Иностранцам в России крайне важно своевременно пройти процесс интеграции и адаптации в новой культурной среде, выучить русский язык и стать неотъемлемой частью общества, – отметил Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. – Уверены, что учебный центр РКК принесет пользу детям, ведь доступ к образованию должен иметь каждый ребенок вне зависимости от гражданства и каких-либо других обстоятельств».
Российский Красный Крест предоставил помещение и оборудовал его для учебного процесса. Координаторы и волонтеры Интеграционного центра «Такие же дети» будут обучать детей русскому языку как иностранному, математике, литературе, а также проводить мероприятия, способствующие интеграции детей в культурную среду. Среди учащихся будут сформированы группы школьного и дошкольного возраста, уже утверждено посменное расписание занятий.
Торжественное открытие учебного центра для детей мигрантов и беженцев состоится 1 сентября в здании Центрального Аппарата Российского Красного Креста. На мероприятии пройдет праздничная линейка, прозвенит «первый звонок» и начнутся занятия для ребят, у которых пока нет доступа к обучению в государственных общеобразовательных школах.
Учебный центр РКК для детей беженцев и мигрантов оснащен и оборудован при финансовой поддержке Итальянского Красного Креста и Общества Красного Креста Китая.

Экспатрианты в Шанхае в скором времени будут обязаны платить социальные взносы
Павел Мартынов
Иностранным рабочим и предприятиям, нанимающим иностранных граждан в Шанхае, важно знать об изменении правил в отношении социального страхования иностранцев. Специальное положение о взносах на социальное страхование персонала, которое было успешно реализовано и применялось в Шанхае, истекает 15 августа 2021 года. В этой статье мы рассматриваем данный вопрос более подробно.
Указ «Меры для иностранцев, работающих в Китае, и их участие в социальном страховании персонала» был издан в 2011 году центральным правительством и предусматривал, что иностранные работники в Китае должны платить социальное страхование в соответствии с этим постановлением. Тем не менее, некоторые регионы в Китае имеют право вносить коррективы в политику на местном уровне.
В 2009 году шанхайское муниципальное бюро кадров и социального обеспечения издало постановление № 38 [2009], действие которого было продлено постановлением № 301 [2016] в 2016 году. Вышеупомянутый документ имеет некоторые противоречия с постановлением, изданным центральным правительством. В настоящее время подтверждено, что срок действия такого правила истекает после 15 августа 2021 года без каких-либо продлений.
До истечения срока действия центральное постановление и шанхайское постановление имели два главных различия:
Внесение социальных взносов является обязательным в соответствии с общенациональным законодательством, в то время как такие взносы не являются обязательными в соответствии с местной политикой Шанхая.
В соответствии с местной политикой экспатрианты не обязаны вносить взносы по всем категориям страхования в Шанхае:
|
|
Центральное постановление |
Шанхайское постановление |
|
Базовое пенсионное страхование |
Да |
Да |
|
Базовое медицинское страхование |
Да |
Да |
|
Страхование от травм |
Да |
Да |
|
Страхование по безработице |
Да |
Нет |
|
Страхование материнства |
Да |
Нет |
(В приведенной выше таблице, страхование материнства и базовое медицинское страхование были объединены с конца 2019 года.)
Таким образом, после 15 августа 2021 года в Шанхае внесение взносов в социальный фонд становится обязательным. Базой для расчета взносов на социальное обеспечение является средняя заработная плата сотрудников за предыдущий год, а общий коэффициент взносов составляет 37,66% от этой базы. Из этого соотношения доля компании составляет около 27,16%, а доля физического лица - 10,50%.
Кроме того, власти установили нижний и верхний пределы базовой заработной платы, из которой рассчитывается отчисление на социальное страхование. Таким образом, нижний предел установлен на уровне 5 975 юаней, а верхний предел установлен на уровне 31 014 юаней.
В таблице ниже представлены два примера, показывающих, с какими дополнительными расходами компании и частные лица сталкиваются в настоящее время в соответствии с обновленными правилами. Здесь мы используем предположение, что до этого момента компания и физическое лицо не платили взносы на социальное страхование в Шанхае.
Случай 1. Ежемесячная валовая зарплата составляет 20 000 юаней.
Случай 2. Ежемесячная валовая зарплата составляет 40 000 юаней (превышает 31 014 юаней).
|
Категория |
Случай 1 (юани) |
Случай 2 (юани) |
|
Валовая зарплата |
20,000 |
40,000 |
|
Основа для расчета отчислений на социальное страхование |
20,000 |
31,014 |
|
Социальное страхование (физическое лицо) |
2,100 |
3,257 |
|
Социальное страхование (компания) |
5,460 |
8,467 |
|
Общая стоимость |
7,560 |
11,724 |
Предполагая, что заработная плата иностранного гражданина превышает 31 014 юаней в месяц (или 372 168 юаней в год), что является верхним пределом, взносы на социальное обеспечение рассчитываются на основе суммы верхнего предела, а не фактической заработной платы.
Однако стандарты правоприменения на практике варьируются от места к месту. В Шанхае действует правило «информировать - применять», что означает, что иностранные сотрудники, которые сообщают или жалуются в местное бюро социального страхования, могут требовать от работодателя выплаты социального страхования начиная с 2011 года. В других регионах работодатели должны активно оплачивать социальные выплаты иностранных сотрудников.
Материал подготовлен компанией PHC Advisory Tax & Accounting (Китай).
Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
Министры сельского хозяйства Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) приняли план действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран группы, сообщает министерство сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии.
"На встрече министров был принят "План действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран БРИКС". План действий на 2021-2024 годы предусматривает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства между странами БРИКС и фокусируется на темах продовольственной безопасности, благосостояния фермеров, сохранения агробиоразнообразия, устойчивости систем продовольственного и сельскохозяйственного производства, продвижения цифровых сельскохозяйственных решений и так далее, которые являются неотъемлемой частью устойчивого развития сельского хозяйства", - отметило министерство.
В ходе встречи министры также "ввели в действие Платформу сельскохозяйственных исследований БРИКС, подготовленную и созданную в Индии для укрепления сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований и инноваций между государствами-членами БРИКС".
Отмечается, что эта платформа будет способствовать сотрудничеству в области сельскохозяйственных исследований, распространения знаний, передачи технологий, обучения и наращивания потенциала и призвана помочь в решении проблем мирового голода, бедности и неравенства путем содействия устойчивому развитию сельского хозяйства посредством стратегического сотрудничества в сельском хозяйстве и смежном секторе.
Ведомство также напомнило, что БРИКС объединяет крупнейшие развивающиеся экономики мира, в которых проживает 41% населения мира, на их долю приходится 24% мирового ВВП и более 16% доли в мировой торговле.
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных производств региона и поздравили их с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабмина.
"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных предприятий региона, поздравили их с профессиональным праздником и вручили награды. Торжественная церемония проходила на смотровой площадке угольного разреза", - говорится в сообщении.
Белоусов, чье поздравление приводится на сайте, отметил, что Кузбасс остаётся угольной столицей России, пожелал региону удачи и успеха. Он заявил, что правительство сделает всё для обеспечения процветания региона, который является промышленным сердцем страны. Также председатель правительства ознакомился с оснащением диспетчерской угледобывающего предприятия и побывал в медпункте, где все работники проверяют здоровье перед сменой.
Отмечается, что девять угольщиков были удостоены звания "Заслуженный шахтер РФ", четверо работников отмечены медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, а еще 11 человек награждены областными юбилейными медалями "300-летие образования Кузбасса". Кроме того, Белоусов и Цивилёв обсудили с шахтерами перспективы развития угольной промышленности.
"В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70% тепловой энергетики – это твёрдое топливо. В Китае – 60%. А это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придётся конкурировать с австралийскими углями, и не только. Руководство области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится", - выразил уверенность Белоусов.
Цивилёв поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Кузбасса и отметил, что такое отношение президента - это дань уважения региону и людям, которые в нём работают.
Китай тормозит свою экономику, чтобы выжить
Дмитрий Косырев
Если кто-то думает, что в США настолько огорчены афганской катастрофой, что забыли о сдерживании Китая, — то напрасно. Наоборот, доминирующая геополитическая идея (по крайней мере, в политических кругах) там выглядит так: мы провалились в Афганистане, нельзя дать Китаю этот провал как-то использовать.
Посмотрим на довольно типичный в этом плане комментарий с республиканского фланга: а что, если Китай вот прямо сейчас, пока мы в хаосе, нападет на Тайвань? Нет, это вряд ли — такие операции готовятся долго. А вот если он вторгнется в сам Афганистан? Но это ему не очень нужно, потому что главный спонсор движения "Талибан"* — Пакистан, а для Пакистана поддержка Китая важнее всего прочего в этом мире, поэтому достаточно в случае необходимости просто позвонить из Пекина в Исламабад. Хорошо, но что тогда Китай будет делать? Да ничего, ему достаточно сидеть тихо — и не мешать остальному миру наслаждаться картиной американского бегства.
Последний вывод вполне точен и очевиден, но что все-таки сейчас делает не воображаемый, а настоящий Китай, отлично видящий неожиданную беду своего "сдерживателя"? Ответ такой: идет в мягких тапочках, чтобы никто не услышал, по лабиринтам мировой экономики, старается использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих, прежде всего экономических, позиций — и дома, и в мире.
Это американцы, может быть, приписывают Китаю и еще кому угодно желания, которые в подобной ситуации возникли бы именно у США. Но Пекину свойственно смотреть на ситуацию иначе.
Исходная точка для принятия решений известна всем и каждому: в 2020 году Китай первым вышел из локдаунов и прочих убивающих экономику мер. Он первым начал восстанавливать экономику и оказался единственной крупной державой с положительным ростом. Поэтому его задача на сегодня — не спугнуть счастье или не дать спугнуть его другим.
В результате Пекин систематически… тормозит рост экономики. Дело в том, что в первой половине года данный показатель составил 12,7 процента. А это не просто мировая сенсация, но еще и пугающая цифра. Настораживает она не только глобальных конкурентов Китая — с ними-то все понятно. Но куда страшнее властям самой страны, потому что перегрев экономики — штука очень опасная.
Он может вызвать, кроме перенапряжения инфраструктуры (вдруг, как костяшки домино, повалятся электросети), каскад долгов в отраслях, где сейчас люди весело делают быстрые деньги. И это прежде всего недвижимость и новое строительство, а также банки и прочие финансы.
Банки-то Китай чистит уже не первый год, а вот по части недвижимости сейчас приняты самые разные меры — включая ограничения на сбор капиталов для очередных мегапроектов. Потому что именно здесь риск банкротств больше всего. Эта политика сопровождается пропагандистскими заявлениями типа "дома строят для того, чтобы там жить, а не для спекуляций", но в целом суть происходящего ясна.
Власти также внимательно отслеживают поведение местных властей: они ведь тоже бывают заемщиками, и тогда под угрозой бюджеты целых провинций. Сдерживается производство стали и многое другое.
Но есть сферы, где ограничения, наоборот, снимаются и снимаются. Это прежде всего прямые (то есть в производство и прочие предприятия) иностранные инвестиции. Прошлый ковидный год был таким, что весь объем инвестиций в мире упал на 40 процентов, но в Китае они выросли на 4,5 процента. А уже сделанные вложения, вопреки мировым тенденциям, приносили прибыль. Для компаний страны, которая сдерживает Китай — США, — прибыльным были только 56 процентов инвестиций, а вот для японцев, например, все 86.
Пекин сейчас вводит новые послабления в этой сфере — опять сокращает список отраслей, где иностранцев не ждут. И улучшает общий деловой климат. Но и в этой сфере проводит четкую линию: поощряется то, что не относится к разряду быстрых спекуляций, грозящих перегревом.
Формулировки нынешней — относительно новой — экономической политики Китая выглядят так: предотвращение рисков и стабилизация, поощрение предприятий, способных генерировать долгосрочный рост, а не рывки. Но особенно будут поддерживаться малые и средние предприятия, несущие прогресс в новых технологиях или новой энергетике, причем такие, что дадут стабильную занятость, в частности в провинциях. Остальных — и особенно теневой финансовый сектор, пытающийся оседлать провинциальный бизнес и местные правительства, — будут ограничивать и давить инструкциями.
Может показаться, что речь о чисто внутренней политике, никак не касающейся того, что творится за пределами Китая. Но это абсолютно не так. Ровно наоборот: власти страны наводят порядок в крепости, которая даже не обязательно будет подвергаться штурмам извне. Скорее в этой крепости боятся бедствий за ее пределами, которые потом как-то перехлестнутся и через стены.И прежде всего речь о США. Посмотрим на аналитический материал, сообщающий, что подорванная афганским позором администрация президента Байдена решила завинтить гайки, удвоив усилия по "ковидизации экономики". А именно — что пандемия у них теперь навсегда (вместе с мерами якобы борьбы с ней). Этот "мобилизационный режим" предполагает среди прочего нескончаемый водопад пустых денег, раздающихся в виде компенсации. Но такие деньги мало того что грозят "финансовым Афганистаном", причем очень быстрым. Они еще и подрывают экономику с неожиданного угла. Соотечественники, живущие на Манхэттене, то есть когда-то в чуть не самой благополучной части мира, витрине процветания, рассказывают: по всему опустевшему городу — тысячи рабочих мест, объявлений и призывов, но никто туда не идет, так как сидя дома получишь больше. И город медленно разваливается и тормозит, вдобавок полиция исчезла с улиц, а вот банды — наоборот.
Внешнему миру такая ситуация грозит прежде всего развалом финансов, но также хаосом по части заказов и поставок. Так что Китай, если хочет удержать прошлогоднюю экономическую победу над глобальным конкурентом, просто вынужден выстраивать сейчас здоровую и самодостаточную экономическую систему, в которой, впрочем, может найтись место и зарубежному бизнесу, в том числе и тому, который побежит из США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

Письмо председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В
Председателю Правительства Российской Федерации
Мишустину М.В.
Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 предписывает Правительству РФ представить предложения по приведению Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в соответствие с целями и целевыми показателями, установленными Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474, а также предложения по корректировке национальных проектов на рассмотрение Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глобальный серьезный экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, действительно может потребовать корректировки ряда целей, установленных в абсолютных величинах, например, увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Однако Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук (далее - Профсоюз) полагает, что в тех случаях, когда речь идет об относительных величинах, нет причин для внесения серьезных корректировок в цели и целевые показатели, установленные Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, а также в цели и целевые показатели национальных проектов.
В первую очередь это относится к национальным проектам в областях, являющихся ключевыми для обеспечения развития России в XXI веке, – таких как наука. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, в частности, устанавливал в качестве первой цели в области науки «обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития». В национальном проекте по науке она была конкретизирована тремя целевыми показателями - в 2024 году Россия должна занять:
- 5 место в мире по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных;
- 5 место по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития;
- 4 место в мире по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным времени Организации экономического сотрудничества и развития).
По оценке Росстата, падение ВВП России во втором квартале 2020 года составило 8,5 % по сравнению со вторым кварталом 2019 года. В то время как экономики ряда азиатских стран (Китай, Япония, Южная Корея) пострадали несколько меньше, в большинстве стран-конкурентов прогнозируется более существенный экономический спад, чем в России: 9,4 % в Индии, 9,6 % в США, 11,7 % в Германии, 12 % в Канаде, 17,3 % в Италии, 19 % во Франции, 21,4 % в Великобритании, 22,1 % в Испании. Поэтому нет оснований считать, что экономические условия в нашей стране ухудшились по сравнению с другими ведущими странами – скорее, верно обратное. Кроме того, в отличие от многих других стран, Россия даже с учетом вызванных пандемией затрат имеет низкий уровень государственного долга и высокий объем золотовалютных резервов. Соответственно, пандемия COVID-19 не может быть основанием для внесения корректив в Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в части науки, а также для серьезной корректировки целевых показателей для первой цели национального проекта «Наука».
Возможность невыполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 связана только с тем, что при подготовке национального проекта по науке правительство Д.А. Медведева запланировало выделить заведомо недостаточные финансовые ресурсы на его выполнение, на что Профсоюз обращал внимание еще в 2018 году. По оценкам Профсоюза, впоследствии подтвержденным решениями Общих собраний Российской академии наук в 2019 и 2020 годах, выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 требует увеличения бюджетного финансирования фундаментальных исследований до 0,3 % ВВП уже в ближайшие годы.
Таким образом, Профсоюз считает, что при обеспечении адекватного уровня финансирования цели национального проекта по науке достижимы, а ссылки на экономическую ситуацию не могут служить поводом для их пересмотра. Тем не менее, незначительные коррективы в целевые показатели национального проекта внести имеет смысл. Если государство в силу вышеуказанных причин имеет возможности для резкого увеличения финансирования фундаментальной науки, то у бизнеса в текущей ситуации возможности более скромные, поэтому целесообразно отнести достижение целевого показателя по числу патентов с 2024 года на более поздний срок.
При этом целевые показатели на 2030 год, по мнению Профсоюза, должны формироваться исходя из предположения о достижении – с учетом возможности указанных выше возможных корректив – целевых показателей национального проекта «Наука» в 2024 году. Формально Россия в последние годы входила в десятку стран-лидеров по некоторым показателям, к примеру, по объему финансирования исследований и разработок в расчете по паритету покупательной способности. Установление показателя «10 (или 9) место в мире» по этому параметру обеспечило бы легкость формального выполнения поставленных Президентом РФ задач, но в корне противоречило бы духу нового и прежних Указов Президента РФ о национальных целях развития: стагнация или подвижки в пределах одного места в рейтинге за 10 лет не имеют ничего общего с обеспечением устойчивого развития нашей страны.
Поэтому Профсоюз предлагает Правительству РФ задать следующие целевые показатели на 2030 год:
- 5 место в мире по объему финансирования исследований и разработок в расчете по паритету покупательной способности;
- 5 место в мире по удельному весу в общем числе статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных;
- 6 место в мире по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение;
- 4 место в мире по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным времени Организации экономического сотрудничества и развития).
При условии стабильного роста объема бюджетных расходов на фундаментальные научные исследования и стимулирования расходов бизнеса на исследования и разработки это позволит обеспечить научно-технологический задел для вхождения в число наиболее экономически развитых стран мира в 2030 году и обеспечения соответствующего уровня здоровья и благополучия граждан России.
Председатель Профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин
Источник: Всероссийский Профсоюз работников РАН
Пожар в борделе
Афганистан-2021 как пример коллективной безответственности
Кирилл Зайцев
Один из несомненных плюсов парламентского устройства государства — разделение ответственности. Вина за громкие провалы разделяется между десятками министров, сотнями парламентариев, тысячами пропагандистов и миллионами избирателей, в результате чего получается, что виноваты все по чуть-чуть, а значит, не виноват вообще никто. Это приводит к выводу о том, что любые проблемы, в которые впутывают страну её лучшие люди, имеют характер стихийных действий, которые нельзя ни предугадать, ни предотвратить. Когда по прошествии многих лет ищущим исторические параллели понадобится пример этой коллективной безответственности, им нужно будет просто посмотреть на Вашингтон конца августа 2021 года.
Немедленных действий требовал политический, пропагандистский и идеологический провал американской политики, вызванный безвольным падением Кабула и крахом подготовленных и накачанных американскими деньгами моджахедских военных и политических структур. Но во всём Вашингтоне не нашлось ни одного человека, кто мог бы совершить эти действия. Более того, не нашлось даже тех, кто вышел бы к публике и ясно изложил позицию Соединённых Штатов по поводу недавней победы "Талибана"*. По счастливому совпадению, в момент, ключевой для американской внешней политики последнего десятка лет, в Вашингтоне не оказалось ни президента, ни вице-президента. Так уж принято в любой демократии, и в США в особенности, что тот, кто первым выйдет к публике после крупного провала власти, будет считаться виноватым в этом провале. Попытки объясниться, опора на ещё не достоверные сведения, свежесть плохих впечатлений у публики и возникающая в процессе ассоциация конкретного лица с конкретной катастрофой — вот что вынудило Байдена и Харрис прятаться от прессы половину недели после кабульского фиаско. В самый важный момент своего президентства, во время события, благодаря которому Джо, возможно, войдёт в историю, Байден сидел в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд. Камала Харрис, в своё время активно критиковавшая Трампа за бездействие в отношении талибов*, исчезла в неизвестном направлении. Если не считать формально важных, но никому не нужных глав палат парламента, самым влиятельным американским чиновником, отданным на растерзание прессе, оказался Тони Блинкен. Мистер госсекретарь не был готов к валу вопросов, посыпавшихся на него, так что главным выводом, который извлекла публика из выступления Блинкена, была сентенция о том, что афганцы сами виноваты в своём поражении, надо было, мол, лучше сражаться. Поначалу этот бред казался результатом неумения госсекретаря работать с прессой — в волнении ляпнуть какую-нибудь нелепость может каждый — но позже оказалось, что обвинение во всём своих союзников и протеже стало осознанной пиар-стратегией Белого дома. Это выяснилось после обращения Байдена к нации, всё же состоявшемся спустя два дня после входа талибов в Кабул. В этом обращении президент США изобразил из себя крыловскую лису, заявив, что не больно-то и хотелось американцам демократизировать Афганистан, строить там всё по западному образцу и превращать консервативное и религиозное общество в типичную либеральную демократию, — главной целью США была борьба с терроризмом, и эта цель достигнута, в связи с чем миссию можно считать оконченной. Падение же афганской администрации президент объяснил так же, как госсекретарь, — отсутствием воли к победе. Односторонний формат обращения исключал любые контакты с аудиторией, которая тем не менее продолжала задаваться вопросами. Почему "плановый уход" после "выполнения всех задач" больше напоминал паническое бегство? Кто ответит за триллионы долларов, бессмысленно закопанные в афганских песках? И что, наконец, делать с теми афганцами, которые работали с американской администрацией, став коллаборационистами в глазах талибов? На последний вопрос ответ дали американские пилоты, взлетая из аэропорта Кабула с местными жителями, цеплявшимися за шасси и крылья, падавшими с огромной высоты и разбивавшимися о родную землю. Страшные кадры из Кабула в очередной раз показали (словно от этого будет какой-то толк), как на Западе принято обращаться с союзниками, пережившими свою полезность. Кабульский аэропорт, где вместо афганских помощников американцы грузили служебных собак, а немцы — бочки пива, стал самым опасным местом города, занятого талибами. Подобно тому, как в Сайгоне морпехи расстреливали южновьетнамских коллаборационистов, пытавшихся ворваться в посольство и успеть на последний вертолёт, в Кабуле морпехи стреляли в толпу, штурмовавшую аэропорт. Всё это безумие, запечатлённое на десятки камер и тут же оказавшееся в Сети, натолкнуло западные СМИ на одну-единственную мысль: "Нужно принять беженцев — если и не всех, то хотя бы женщин и представителей ЛГБТ" — такое мнение часто встречалось в прессе первую неделю после захвата Кабула. Довольно быстро, впрочем, стало ясно, что никаких беженцев Штаты принимать не собираются — эту почётную обязанность предполагается делегировать американским соседям по Атлантике, поскольку у тех уже есть опыт подобных действий.
Когда американцы 20 лет назад входили в Афганистан, они делали это в составе коалиции стран, желавших обозначить свою причастность к войне с терроризмом и верность североамериканскому сюзерену. Когда американцы бежали из Кабула, оказалось, что бежали они сами по себе. Европейские страны, участвовавшие в войне, остались, мягко говоря, удивлены и весьма обескуражены резким уходом американцев. Немцы, которые попутно с эвакуацией пива грозились вернуться в случае новой террористической опасности, не так интересны, как британцы. На Альбионе вспомнили жертвы, которые Британия понесла за 20 лет войны и задали Байдену вопрос: ради чего всё это было нужно? В попытках получить ответ Борис Джонсон 36 часов не мог дозвониться до Байдена, упорно не желавшего брать трубку. Главам государств было, что обсудить, помимо глобальных вопросов: например, выработать единый порядок эвакуации солдат, дипломатов и местных помощников через пресловутый аэропорт. Злые языки поговаривали, что, пока британцы вывозили всех, кто попросит, американцы брали за билеты тысячи и десятки тысяч долларов. Пока Борис безуспешно пытался связаться с президентом США, британский истеблишмент недовольно ворчал. Бывший премьер Тони Блэр назвал бегство из Афганистана "имбецильным", а Джонсон, если верить слухам, в личном разговоре назвал Байдена "сонным Джо" — прозвищем авторства Трампа. Консерватор Дэвид Дэвис, бывший министр по брекситу, написал в Conservative Home статью, где признал, что у затеи Буша-младшего изначально не было ни единого шанса на успех. Афганские военные тренировались и снабжались снаряжением и техникой, афганская власть накачивалась миллиардами долларов, евро и фунтов, афганские общественные структуры наполнялись компетентными кадрами — и всё впустую. Отсутствие чёткой стратегии, ясного плана и осознанной идеи, управлявшей всей военной кампанией, стало причиной быстрого и безвольного падения марионеточного режима и спешного бегства западных военных и дипломатов. Дэвис выразил общее мнение британской политической элиты — это мнение позже нашло подтверждение в гневном заседании Парламента, где Палата общин выступила с осуждением действий Джо Байдена.
Британские депутаты были не единственными, кто назначил Байдена виноватым в афганском коллапсе. К кампании критики американского президента внезапно подключились те, кто ещё недавно служил "карманным Агитпропом" "сонного Джо", жадно ловя каждое слово и щедро осыпая похвалами любое его действие. Если поначалу публикации в СМИ напоминали стандартные вопросы в условиях стихийного бедствия: "Как нам быть?" и "Какие уроки нужно извлечь?", то довольно скоро вопрос остался один: "Кто виноват в кабульском провале?", при этом всё больше хищных журналистских глаз поглядывали в сторону Байдена, который, намазанный автозагаром, стал очень напоминать Трампа. Прессу прорвало после нескладного и истеричного интервью, данного каналу ABC. В этом интервью Байден временами чуть ли не переходил на крик, обвинял интервьюера в предвзятости, а на упоминание падающих с самолёта людей отметил, что это случилось 4 или 5 дней назад, а значит, релевантности более не имеет. Вскоре после этого интервью Daily Mail написала о проблемах со здоровьем у американского президента — доселе запретная тема в западном медиамейнстриме, убеждавшем читателей, что 78-летний президент бодр и полон сил. Ресурс Politico, в своё время собранный из лучших кадров The Washington Post, описал хаос и сумбур, с которым в президентской администрации принимаются решения. Они, как и многие другие медиа, отметили, что компетентные чиновники Пентагона и Госдепартамента предлагали Байдену разумные шаги по смягчению ситуации, как, например, отправка дополнительных сил для охраны ряда объектов в Кабуле или внятный протокол эвакуации посольства и военных, но Байден отказался от этих шагов. The New York Times пишет о мирной и демократичной демонстрации в Кабуле, которую жестоко и подло разогнали талибы, при этом между строк читается недовольство президентской администрацией. Financial Times с невероятной журналистской проницательностью заметила удивительное: даже после громадного провала американской политики и на пике недовольства прессы Байденом его всё равно критикуют куда меньше, чем Трампа критиковали в ежедневном режиме, просто так. И это при том, что в эпоху Трампа ничего хотя бы приблизительно позорного и унизительного Америка не переживала. В этот момент особое мнение высказал телеведущий Fox News Такер Карлсон. Обычно высказывающийся строго в рамках умеренного республиканского нарратива этот выходец из рядов вашингтонской элиты понимает: что-то здесь не так. Слишком наигранными, чересчур единодушными и излишне яростными выглядят атаки СМИ на дедушку Джо, при том, что Афганистан — далеко не первый провал его администрации за 7 месяцев у власти. Инфляция, ковид, миграционный кризис, бездействие властей на множестве важных направлений — всё это ничуть не задевало медиамейнстрим, но вот неизбежный, пусть и намного более резкий, чем ожидалось, вывод войск из Афганистана задел журналистов. "Эти же люди избрали Байдена, а сейчас критикуют его. Здесь есть что-то ещё, это очевидно" — говорит Карлсон. При всём этом стоит заметить, что мадам вице-президент объектом критики почти не выступает, более того, инициатива безумной республиканки Марджори Грин из Палаты представителей об объявлении импичмента Байдену получила слишком много внимания прессы — в случае отстранения президента высший пост занимает вице-президент. Да, рейтинги Харрис низки, и она умудрилась провалить абсолютно все поручения, которые давал ей начальник, но — когда большие СМИ волновали такие мелочи? Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем начало процесса лепки из неумелой и непопулярной маккиавелистки непонятного происхождения фигуры всенародной любимицы и мастерицы на все руки.
В попытках сгладить негатив команда Байдена вбросила в информационное пространство целый пикап. Припаркованный возле здания библиотеки Конгресса, управляемый карикатурно уродливым водителем-трампистом и якобы набитый взрывчаткой автомобиль должен был взорваться не физически, но информационно, воскресить в памяти публики воспоминания о 6 января, добавить Байдену стремительно убывающих очков легитимности и напомнить Вашингтону о недремлющей угрозе трампизма. Результат не оправдал вложений: медиа осветили эту тему, но вскоре снова вернулись к критике Байдена. На фоне этой критики неожиданно много внимания получил некто Дональд Трамп, чьё имя навевает у американской прессы какие-то смутные воспоминания о давно минувших эпохах. Трамп призвал США вернуться в Афганистан, а не то свято место быстро займут Россия и Китай. С частного лица спросу никакого — Трамп может призывать ввести войска хоть на Марс, но стоит отметить, что бывший президент, который с начала афганского кризиса неустанно критикует президента нынешнего, лукавит. Если бы Дональд сумел переломить волю Вашингтона и избраться вопреки желанию истеблишмента, на месте Байдена в точно такой же ситуации оказался бы он сам. Вывод войск был неизбежен, им манил избирателя ещё Обама, затем покидать Афганистан готовился Трамп, а в итоге совершил это Байден. Совершил резко, без анестезии, ничуть не озаботившись сохранностью выстраивавшихся 20 лет структур, оставив после себя грандиозный идеологический провал американской империи, подъём исламского фундаментализма, новый виток войны, выжженную землю и шлейф летящих из самолёта афганцев, поверивших в то, что заграница им поможет.
* организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо по итогам переговоров, Рим, 27 августа 2021 года
Уважаемые дамы и господа,
Мы завершили переговоры в Риме. С утра состоялась встреча с Председателем Совета министров М.Драги. Только что прошли подробные консультации с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо.
Италия – одна из ведущих стран, с которой поддерживаем насыщенное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Ситуация с пандемией несколько притормозила соответствующие проекты. В прошлом году товарооборот снизился. Но за первую половину нынешнего года рост возобновился и составил 30%. Важную роль в этих усилиях играет Российско-Итальянский Совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, который с итальянской стороны возглавляет Л.Ди Майо, а с нашей стороны – Министр промышленности и торговли Д.В.Мантуров.
Обсудили предстоящие контакты на различных уровнях. Выразили удовлетворение тем, что в Екатеринбурге на международной выставке «ИННОПРОМ» в июле с.г. Италия первой из европейских государств выступила в качестве страны-партнера, а Министр экономического развития Италии Д.Джорджетти возглавил соответствующую делегацию.
Дали высокую оценку и той работе, которую проводит итало-российская торговая палата и Российско-Итальянский Комитет предпринимателей. Отметили позитивные результаты участия делегации итальянского бизнеса в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся в начале июня с.г., и где было подписано несколько важных коммерческих соглашений.
Ценим и стремимся развивать гуманитарные, культурные связи, образовательные обмены. Хотим стимулировать контакты между молодежью, изучение языков наших стран. Рассмотрели, как в этом году идёт объявленный «перекрёстный» Год музеев. Есть целый ряд совместных проектов, включая мероприятия, которые будут организованы в Италии по случаю 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского. Подтвердили поддержку деятельности Форума-диалога гражданских обществ.
Мой коллега упомянул важность сложения усилий в борьбе с пандемией. 13 апреля был подписан Меморандум о взаимопонимании в области научного сотрудничества и обмена материалами и знаниями между Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Л.Спалланцани. Эта договорённость заложила основы для системного сотрудничества на длительную перспективу. Уверен, что это будет обоюдополезным.
Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут снимать и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Правительство России приняло решение о возобновлении с 28 июня с.г. регулярного авиасообщения с Италией. Это предоставляет итальянским гражданам возможность въезжать в нашу страну в таком же порядке, как и прежде.
По международной повестке дня рассмотрели перспективы нашего сотрудничества на антитеррористическом и антикриминальном треках. У нас созданы неплохие заделы в виде двусторонних механизмов. Есть и налаженные каналы взаимодействия по этим темам в рамках ООН.
В свете председательства Италии в «Группе двадцати» подробно говорили о функционировании этого объединения, которое более адекватно, чем «узкие» составы, отражает современные многополярные реалии.
По понятным причинам Афганистан занял значительное место в наших дискуссиях. Присоединяемся к осуждению террористических актов и к соболезнованиям в адрес семей погибших. Видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они без дальнейших задержек сформировали инклюзивное переходное Правительство с участием всех основных политических сил этой страны.
Наши западные коллеги всегда хотят объединять усилия и искать совместные ответы, когда говорим о последствиях нынешней ситуации в более широком плане (о потоках мигрантов, беженцев). Но всё-таки надо извлекать уроки после Ирака, Ливии, а теперь и Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны. Надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод закрепить в сознание политиков, рассматривающих дальнейшие действия на чужих просторах.
Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии. Этот вопрос уже обсуждался на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Очный саммит ОДКБ состоится в середине сентября. На день позже состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Нет сомнений, что риски, проецирующиеся из Афганистана, в том числе спровоцированные потоки нелегальных мигрантов, будут в центре внимания дискуссии наших лидеров, равно как и вопросы оказания содействия афганцам обеспечить в своей стране стабильность и нормальное функционирование гражданских институтов.
Говорили мы о ситуации в Европе. Поделились оценками действий руководителей Евросоюза, которые сохраняют свой деструктивный, антироссийский настрой под воздействием определённой русофобской группы стран-членов ЕС.
Обсуждали и ситуацию на Украине. У нас одинаковая позиция о необходимости полного выполнения минского «Комплекса мер». Показали на конкретных примерах, как последние усовершенствования украинского законодательства по сути запрещают киевским руководителям и другим переговорщикам выполнять то, что от них требуют Минские договорённости. Ситуация непростая. Надеюсь, что все наши европейские коллеги, искренне заинтересованные в нормализации обстановки на Украине, смогут оказать влияние в этом вопросе на киевское руководство.
Обменялись мнениями по ситуации в Ливии и в целом в Средиземноморье, на севере Африки. Там немало процессов, которые трудно назвать позитивными. По ливийскому урегулированию у нас общая позиция. Выступили за постепенный и синхронизированный вывод из этой страны всех иностранных сил. В качестве приоритетной поддерживаем задачу оказания содействия проведению всеобщих выборов.
Коллега затронул вопрос о А.Навальном. В очередной раз посоветовал ему и предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе ознакомится со стенограммой заседания Бундестага, когда германское Правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с «отравлением» этого человека. Не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя важные выводы о том, что подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Нам бы тоже очень хотелось в этом разобраться.
На днях в Киеве состоялось мероприятие под названием «Крымская платформа». В этой связи – итальянские коллеги участвовали в этом мероприятии – мы высказали наши оценки этой бессмысленной затеи, которая лишь нагнетает ненужную напряжённость там, где необходимо признать существующие реалии. А реалии заключаются в том, что Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации в соответствии со свободным волеизъявлением проживающих там граждан.
Поговорили подробно, конкретно, продуктивно. Пригласил Л.Ди Майо с очередным визитом в Российскую Федерацию. Надеюсь, что продолжим наш диалог, в т.ч. по тем вопросам, которые недавно по телефону обсуждали Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Итальянской Республики М.Драги.
Вопрос (адресован Л.Ди Майо, перевод с итальянского): Какая сейчас ситуация в Афганистане? В настоящий момент видим, что Великобритания, Германия и Франция завершают операции по выводу войск. Когда взлетят последние итальянские самолеты? Может стоит вовлекать Россию? Она же продолжает вести переговоры с талибами.
С.В.Лавров (добавляет после Л.Ди Майо): Напомню, мы многие годы разговариваем со всеми сторонами конфликта, в том числе в рамках Московского формата. В нем участвуют все страны региона, которые могут влиять на ситуацию, а также США, Китай, Индия, Пакистан.
Поддерживали диалог с талибами в рамках «расширенной тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан). Он продолжался до последнего времени в столице Катара (Доха). Наблюдалась тенденция по затягиванию договоренностей. Если за столом переговоров ничего не достигается, есть риск возобновления боевых действий, что и произошло.
Были готовы поддержать соглашения, заключенные между США и талибами. К сожалению, выполнить их не удалось и не только по причине позиции талибов.
Вопрос (адресован Л.Ди Майо, перевод с итальянского): Каким образом проходит подготовка к «двадцатке»? Какой вклад может внести Россия?
С.В.Лавров (добавляет после Л.Ди Майо): Обсуждали подготовку к «двадцатке» сегодня с Премьер-министром М.Драги и с Л.Ди Майо. Хотим понять, какую роль видят наши итальянские друзья в «двадцатке». Какая «добавленная стоимость» им представляется в результате задействования этого механизма. Нам обещали концептуальную «бумагу», где это будет объяснено.
Л.Ди Майо упомянул, что надо выполнять пять принципов, которые были им ранее оглашены. Борьба с терроризмом там занимает пятое место, а первые четыре совсем не про это. У нас будут несколько иные приоритеты. Для нас главное – обеспечить безопасность наших союзников на южных рубежах Российской Федерации, которые имеют прямые, открытые границы с Афганистаном.
Коллега подчеркнул необходимость инклюзивного формата – это важная вещь. Я уже упомянул пять центральноазиатских стран, не входящих в «двадцатку». Пакистан и Иран тоже не входят, а без них такая дискуссия не будет полноценной. Наши коллеги обещали подумать, как сделать форматы, которые могут быть полезными.
В ближайшее время будем заниматься афганскими делами и последствиями произошедшего в рамках ОДКБ и ШОС. Будем готовы рассмотреть конкретные предложения итальянской стороны о том, какую роль могла бы сыграть «двадцатка».
Вопрос: В последнее время много говорится о ситуации в Афганистане. В мировом сообществе сложился некий консенсус о необходимости тесного сотрудничества, чтобы Афганистан вновь не стал «рассадником» мирового терроризма. В ходе переговоров удалось выработать совместный подход? Как Россия планирует реагировать на новые угрозы, возникающие буквально каждый день (как в случае с накануне произошедшим терактом)?
С.В.Лавров: Только что подробно говорил, какие у нас приоритеты по Афганистану и этой новой ситуации. Будем координировать наши действия прежде всего с союзниками и стратегическими партнерами в рамках ОДКБ и ШОС. Будем готовы сотрудничать со всеми другими странами, которые в духе доброй воли могут поспособствовать нормализации обстановки в Афганистане с упором на обеспечение безопасности. Всё остальное будет вторичным в наших приоритетах.
Вопрос: Получается, что граждане Сан-Марино, в большинстве привитые российской вакциной «Спутник V», могут спокойно и свободно въезжать на территорию Италии. При этом для российских граждан, привитых той же отечественной вакциной такая возможность закрыта. Не видите Вы в этом политику двойных стандартов? Обсуждалось ли, при каких условиях возможно возобновление туристического сообщения между Россией и Италией?
С.В.Лавров: Я спросил у Л.Ди Майо, чем обусловлена такая привилегированная позиция для граждан Сан-Марино по сравнению с российскими. Хотя и те, и другие привиты одной вакциной.
Рассчитываем, что, как только будет «утрясен» вопрос о взаимном признании вакцин, туристические потоки возобновятся. С 28 июня с.г. восстановлены прямые рейсы в Италию. Прилетающие этими рейсами в Россию итальянцы совершенно свободно могут «присутствовать» на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания.
Подавляющее большинство стран Евросоюза ожидает «отмашки» из Европейского агентства по лекарственным средствам. Но известно, что окончательное решение принимает государственный регулятор. Как это сделала Венгрия – на национальном уровне зарегистрировала «Спутник V». Есть договоренность о взаимном признании вакцин, которыми пользуются в России и Венгрии. Окончательное решение принимает национальное правительство. В Евросоюзе делались заявления, не вполне конструктивные по отношению к российским и китайским вакцинам.
Вопрос: Накануне Вашего визита выступило итальянское информационное агентство «Аджи»: «Российский министр намерен просить у итальянского коллеги Л.Ди Майо конструктивного подхода в вопросе санкций». Есть ли доля правды в такой формулировке? Обсуждалась сегодня тема антироссийских санкций?
С.В.Лавров: Неправда. Этой темы мы не касались. Есть много свидетелей (наша и итальянская делегации). Тут не должно быть ничего удивительного. Многократно говорили, что санкционную тематику не собираемся обсуждать со странами, которые санкциями пользуется как инструментом в отсутствие иных методов продвижения внешней политики. Никогда не будем выпрашивать у кого-то послаблений.
Я приехал в Венгрию, Австрию и Италию по одной простой причине – меня пригласили. Ценим возможность для конкретного, честного, взаимовыгодного и взаимоуважительного диалога.
Отмечается рост экспорта продукции в КНР из Чувашии
Экспорт товаров из Чувашии в Китай с начала 2021 года увеличился на 9,8%, составив $9,6 млн.
"Сегодня в структуре торговли Чувашии со странами дальнего зарубежья Китай занимает первое место по объему экспорта. В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" с начала 2021 года объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тыс. тонн, на $9,6 млн. Это на 9,8% больше, чем за тот же период прошлого года ($8,7 млн)", - передаёт ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза республики.
За текущий год в 83 раза выросли поставки в Китай сухого печенья, в 1,3 раза - вафель. Регион также экспортирует в Китай изделия из сахара, шоколад и мясо птицы. Кроме того первые поставки своей продукции в КНР осуществил "Чебоксарский ликеро-водочный завод".
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























