Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Консенсус после вашингтонского
Как кризис повлиял на развитие
Резюме: Американская версия капитализма если и не потеряла репутацию, то, по крайней мере, больше не является доминирующей. Запад, и в особенности США, впредь не будет рассматриваться как единственный центр инновационной социально-политической мысли. А когда дело касается международных организаций, голоса и идеи Соединенных Штатов и Европы доминируют все меньше.
Авторы являются редакторами книги «Новые идеи развития после финансового кризиса» (Johns Hopkins University Press, 2011), на основе которой написано это эссе. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Начавшийся в США глобальный кризис на этот раз не только потряс мировую экономику, но и отрицательно сказался на мировой политике. В свое время Великая депрессия 1929–1933 гг. положила начало переходу от жесткого монетаризма и политики невмешательства государства к кейнсианскому регулированию спроса. Более того, в глазах многих людей капиталистическая система лишилась легитимности, были заложены основы для роста радикальных и антилиберальных движений по всему миру.
В наши дни столь явного отторжения капитализма не наблюдается даже в развивающемся мире. В начале 2009 г., в самый разгар глобальной финансовой паники, Китай и Россия, две бывшие некапиталистические державы, ясно дали понять отечественным и зарубежным инвесторам, что не намерены отказываться от капиталистической модели. Ни один из лидеров крупных развивающихся стран не отступил от приверженности принципам свободной торговли и глобальной капиталистической системы. Напротив, именно развитые западные демократии подчеркивали, как опасно чрезмерно полагаться на рыночную глобализацию, и призывали к большему регулированию мировой финансовой системы.
Почему нынешний кризис вызвал гораздо менее экстремальную реакцию в развивающихся странах по сравнению с временами Великой депрессии? Во-первых, в развивающемся мире обвиняют в кризисе Соединенные Штаты. Многие в этих странах готовы согласиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, что «этот кризис вызвали белые люди с голубыми глазами». Если мировой финансовой кризис и стал проверкой на прочность какой-либо модели развития, то именно рыночной, неолиберальной модели, которая отводит государству скромную роль в экономике, но делает акцент на дерегулировании, частной собственности и низких налогах. Немногие развивающиеся страны могут считаться полностью принявшими эту концепцию.
На самом деле до кризиса в течение многих лет они дистанцировались от данного подхода. Финансовый кризис конца 1990-х гг. в Восточной Азии и Латинской Америке дискредитировал целый ряд идей, ассоциирующихся с так называемым «вашингтонским консенсусом», в особенности те из них, которые касаются прямой зависимости от иностранного капитала. К 2008 г. многие страны с развивающейся экономикой прикрыли двери перед иностранными финансовыми рынками, накопив значительные валютные резервы и создав систему регулирования своего банковского сектора. Подобная политика обеспечила защиту от глобальной экономической волатильности. Это подтвердил впечатляющий подъем соответствующих стран после недавнего кризиса: развивающиеся экономики демонстрировали лучшие показатели роста, чем страны развитого капитализма.
Таким образом, американская версия капитализма если и не потеряла репутацию, то по крайней мере больше не является доминирующей. В ближайшие 10 лет страны с развивающимся рынком и низким доходом, скорее всего, продолжат вносить изменения в свой подход к экономической политике. Они будут жертвовать гибкостью и продуктивностью, ассоциирующимися с моделью свободного рынка, ради внутренней политики противостояния конкурентному давлению и глобальным экономическим потрясениям. Их станет заботить не столько свободный поток капитала, сколько минимизация социальной нестабильности посредством программ социальной защиты и более активная поддержка национальной промышленности. И еще меньше, чем раньше, они будут склонны полагаться на опыт развитых стран, считая – вполне справедливо, – что не только экономическая, но и интеллектуальная мощь начинает распределяться более равномерно.
Фетиш иностранных финансов
Одна из главных особенностей старого, докризисного экономического консенсуса воплощалась в тезисе о том, что развитые страны могут рассчитывать на значительную выгоду от увеличения притока иностранного капитала. Экономист Арвинд Субраманиан назвал это «фетишем иностранных финансов». Идея о том, что беспрепятственное движение капитала по всему миру, как и свободное обращение товаров и услуг, делает рынки более эффективными, в целом воспринималась в политических кругах как должное. В 1990-х гг. США и такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд, подталкивали заемщиков из развивающихся стран открывать свои рынки капиталов для иностранных банков и отказываться контролировать курс валют.
В то время как выгоды от свободной торговли подтверждались документально, преимущества полномасштабной мобильности капитала не столь очевидны. Причины кроются в фундаментальных различиях между финансовым сектором и «реальной» экономикой. Свободные рынки капитала действительно добиваются эффективного распределения капитала. Но крупные взаимосвязанные финансовые институты в отличие от крупных производственных фирм сталкиваются с рисками, которые способны оказывать огромное негативное воздействие на остальную экономику.
Одним из парадоксальных следствий финансового кризиса 2008–2009 гг., возможно, станет то, что американцы и британцы наконец осознают простую истину, известную в Восточной Азии уже более 10 лет. А именно, что открытый рынок капитала в сочетании с нерегулируемым финансовым сектором – это бомба замедленного действия. По завершении финансового кризиса в Азии многие американские политики и экономисты стали вновь акцентировать внимание на быстротечной либерализации и продвигать идею «последовательности», т.е. либерализации только после того, как будет создана мощная система регулирования с адекватным надзором за банками. Но они не задумывались о том, способны ли некоторые развивающиеся страны быстро ввести в действие такую систему или как будет выглядеть оптимальный режим регулирования. Они упустили из виду взаимосвязь между их новой идеей и их собственным случаем, а также забыли предупредить об огромном нерегулируемом теневом финансовом секторе, грозящем избыточной задолженностью, который возник в Соединенных Штатах.
Первым очевидным следствием кризиса, таким образом, стало падение фетиша иностранных финансов. Такие страны, как Исландия, Ирландия и государства Восточной Европы, с большим энтузиазмом принявшие на себя бремя данного фетишизма, пострадали особенно сильно, и их ожидает очень трудный период восстановления. Как и для Уолл-стрит, уверенный рост, который демонстрировали эти страны с 2002 по 2007 г., отчасти оказался иллюзорным. Он свидетельствовал о доступности кредитов и высокой доле заемных средств, а не о наличии прочного фундамента.
Забота о социальной защите
Второе следствие финансового кризиса 2008–2009 гг. – новая привязанность развивающихся стран к преимуществам разумной социальной политики. До кризиса те, от кого зависит принятие политических решений, были склонны приуменьшать значение социального обеспечения и программ социальной защиты, отдавая предпочтение стратегиям, нацеленным на экономическую эффективность.
Американский президент Рональд Рейган и британский премьер-министр Маргарет Тэтчер пришли к власти в конце 1970-х и начале 1980-х гг. на волне критики современного социального государства. Многие их критические замечания вполне обоснованы: государственный бюрократический аппарат во многих странах был раздутым и неэффективным, а в менталитете населения закрепился расчет на получение положенной социальной помощи. Вашингтонский консенсус не обязательно отвергал применение социальной политики, но его сосредоточенность на эффективности и бюджетной дисциплине часто вела к сокращению социальных расходов.
Однако кризис выявил нестабильность, свойственную капиталистическим системам – даже таким развитым и передовым, как в США. Капитализм – динамичный процесс, невинными жертвами которого регулярно становятся люди, теряющие работу или лишающиеся источника дохода. В период кризиса и после него граждане ожидали, что их правительства обеспечат им определенный уровень стабильности на фоне общей экономической неопределенности. Политические деятели в развивающихся странах вряд ли забудут этот урок; консолидация и легитимность их хрупких демократических систем будет зависеть от способности обеспечить более высокий уровень социальной защиты.
Рассмотрим реакцию континентальной Европы в сравнении с Соединенными Штатами. До сих пор с учетом кризиса в еврозоне Западная Европа переживала менее болезненное восстановление благодаря более развитой системе действующих автоматически антициклических социальных расходов, включая страхование на случай безработицы. Восстановление экономики без создания новых рабочих мест в США, напротив, делает американскую модель еще менее привлекательной для тех, кто принимает стратегические решения в развивающемся мире. Особенно для тех, кто подвержен политическому давлению и вынужден уделять внимание нуждам среднего класса.
Яркий пример нового акцентирования социальной политики можно обнаружить в Китае. Реагируя на быстрое старение населения, китайское руководство борется за создание современной пенсионной системы, что знаменует собой переход от традиционной тактики, сосредоточенной только на создании новых рабочих мест, к поддержанию социальной и политической стабильности. В Латинской Америке те же проблемы решаются иначе. С началом нового столетия регион полевел, устав от либеральных реформ 1990-х гг., и новые правительства увеличили социальные расходы, чтобы сократить бедность и неравенство. Многие страны, последовав успешному примеру Бразилии и Мексики, ввели схемы перевода денежных средств, предназначенных для бедных семей (при этом получатели помощи должны отправлять детей в школу или выполнять другие условия). В Бразилии и Мексике этот подход впервые за многие годы способствовал заметному сокращению неравенства доходов и помог защитить беднейшие семьи от недавнего кризиса.
Разумеется, вопрос в том, смогут ли подобные программы, адресованные бедным (и потому не требующие значительных бюджетных затрат), с легкостью привлечь долгосрочную поддержку растущего в регионе среднего класса. А также как эти и другие развивающиеся экономики, в том числе Китай, справятся с финансовыми затратами на более универсальные программы социального обеспечения, включая здравоохранение и пенсии. Преуспеют ли они в решении проблем, связанных с недофинансированием универсальных социальных программ, – проблем, которые сейчас стоят перед Европой и Соединенными Штатами из-за старения населения.
Видимая рука
Третьим следствием кризиса стало начало нового раунда дискуссий об индустриальной политике – стратегии страны по развитию определенных секторов промышленности, традиционно получающих такие виды поддержки, как дешевые кредиты, прямые субсидии или государственное управление банками развития. Подобная политика была признана опасной и несостоятельной в 1980-е и 1990-е гг. из-за поддержки неэффективных отраслей промышленности путем огромных бюджетных затрат. Но кризис и адекватная реакция на него некоторых стран могут укрепить уверенность о том, что компетентные технократы в развивающихся странах способны эффективно управлять участием государства в производственном секторе. Бразилия, например, использовала финансируемый правительством банк развития, чтобы быстро направить кредиты в определенные сектора в рамках первоначальной антикризисной программы, а Китай сделал то же самое с помощью государственных банков.
Однако эта новая индустриальная политика не связана с выявлением победителей или осуществлением крупных секторных сдвигов в производстве. Ее задача – координация решения проблем и устранения барьеров, которые мешают притоку частных инвестиций в новые отрасли и технологии, трудностей, с которыми рыночные силы не могут справиться в одиночку. Например, для развития инновационного производства по пошиву одежды в Западной Африке правительства могли бы обеспечить постоянные поставки текстиля или субсидировать строительство портов, чтобы избежать затруднений с экспортом. Тем самым, взяв на себя часть первоначальных финансовых и других рисков и более системно развивая государственную инфраструктуру, правительства помогут частным инвесторам справиться с высокими затратами при налаживании производства и внедрении инноваций во вновь возникающих секторах.
На протяжении последних 30 лет базирующиеся в Вашингтоне институты развития придерживались точки зрения, согласно которой некомпетентность правительства и коррупция представляют для роста гораздо большую угрозу, чем крах рынка. Изменится ли эта точка зрения сейчас, когда капитализм американского стиля рухнул со своего пьедестала? Возобладает ли идея о том, что государство способно принять на себя более активную роль? Для каждой в отдельности развивающейся страны ответ зависит от оценки возможностей государства и общего уровня управления. Самая строгая критика промышленной политики всегда касалась политических, а не экономических аспектов, поскольку подчеркивалось, что принятие экономических решений в развивающихся странах не может быть защищено от политического давления. Критики заявляли, что политики будут придерживаться протекционистских мер даже после того, как они выполнят свою первоначальную задачу по обеспечению резкого рывка национальной промышленности. Такие виды индустриальной политики, как сокращение зависимости от импорта и продвижение новых отраслей, хотя и критиковались позже в Вашингтоне, действительно способствовали достижению впечатляющего уровня экономического роста в 1950-е и 1960-е гг. в Восточной Азии и Латинской Америке. Проблема, однако, заключалась в том, что правительства в странах Латинской Америки были политически неспособны расширить этот протекционизм, поэтому их промышленность не смогла стать конкурентоспособной на мировом уровне.
Поэтому технократы в развивающемся мире должны учитывать политические аспекты своего намерения проводить промышленную политику. Существует ли достаточно компетентная и независимая от политического давления бюрократия? Хватит ли средств, чтобы поддерживать такой курс? Хватит ли сил для принятия жестких решений, например, чтобы отказаться от утративших свою эффективность политических решений? Большинство успешных примеров промышленной политики приходится на Восточную Азию, где традиционно существует мощная технократическая бюрократия. Странам, у которых отсутствует такое наследие, следует быть более осторожными.
Заставить бюрократию работать
Правительствам, вознамерившимся продвигать индустриальное развитие и обеспечивать социальную защиту населения, придется реформировать госсектор. Дело в том, что четвертым следствием финансового кризиса 2008–2009 гг. стало болезненное напоминание о том, что произойдет, если этого не сделать. В США регулирующие органы не получали достаточного финансирования, не могли привлечь высококвалифицированных сотрудников и сталкивались с политическим противодействием. И это неудивительно: доктрина Рейгана и Тэтчер подразумевала, что рынки являются приемлемой заменой эффективного правительства. Кризис продемонстрировал, что нерегулируемые или плохо регулируемые рынки могут обойтись очень дорого.
Правительства как развивающегося, так и развитого мира с восхищением наблюдали за удивительной способностью Китая оправиться от кризиса, в основе которой лежит жестко управляемый, выстроенный сверху вниз механизм принятия решений. Он позволяет избежать задержек, характерных для сложного демократического процесса. Следствием явилось то, что политические лидеры развивающегося мира сейчас связывают эффективность и возможности с автократическими политическими системами. При этом существует множество некомпетентных автократических режимов, на фоне которых Китай выделяется тем, что представляет собой бюрократию, которая, по крайней мере на высшем уровне, способна осуществлять управление и координацию продуманной политикой. Среди стран с низким уровнем доходов это делает КНР исключением.
Создание и поддержание эффективного госсектора – одна из самых сложных проблем мирового развития. Такие институты, как Всемирный банк и британский Департамент международного развития, осуществляли программы по укреплению госсектора, продвижению ответственного госуправления и борьбе с коррупцией на протяжении последних 15 лет, но не добились особых успехов. Тот факт, что даже финансовые регуляторы в Соединенных Штатах и Великобритании не смогли использовать свои полномочия, чтобы идти в ногу с быстро меняющимися рынками, лишний раз доказал: эффективный госсектор остается актуальным вызовом даже для наиболее развитых стран.
Почему в укреплении госсектора в развивающихся странах удалось добиться лишь незначительного прогресса? Первая проблема – бюрократия часто служит правительствам, которые, в отличие от идеального, обезличенного государственного аппарата представляют собой коалиции взяточников, действующих в личных интересах. Зарубежные доноры обычно не обладают необходимыми рычагами, чтобы заставить их измениться. В некоторых случаях исключением служат такие механизмы, как процесс вступления в Евросоюз. Вторая проблема состоит в том, что эффективные институты должны развиваться естественным путем, отражая политические, социальные и культурные реалии страны. Развитие обезличенной бюрократии на Западе было продуктом длительного и болезненного процесса, при этом внешние факторы (такие как необходимость военной мобилизации) сыграли значительную роль в создании сильных государственных институтов (например, знаменитой прусской бюрократии). Такие институты, как верховенство закона, редко становятся работоспособны, если просто копируют зарубежный опыт, общество должно вникнуть в их суть. Наконец, реформа госаппарата должна происходить параллельно с процессом построения нации. Если у общества нет четкого осознания национальной идентичности и общих государственных интересов, каждый отдельный человек будет демонстрировать большую принадлежность своей этнической группе, племени или приверженность своим покровителям.
Движение к многополярности
Спустя много лет историки вполне смогут назвать нынешний финансовый кризис окончанием американского экономического доминирования в мировой политике. Но тенденция движения к многополярному миру возникла гораздо раньше, а крах западных финансовых рынков и их неторопливое восстановление лишь ускорили процесс. Даже до кризиса международные институты, созданные после Второй мировой войны для разрешения проблем в сфере экономики и безопасности, находились на пределе своих возможностей и нуждались в реформировании. МВФ и Всемирный банк страдали от недостатков структуры управления, которая отражала устаревшие экономические реалии. Начиная с 1990-х гг. и далее в наступившем столетии, институты Бреттон-Вудской системы оказались вынуждены предоставить больше прав голоса странам с развивающейся экономикой, таким как Бразилия и Китай. В то же время «Большая семерка» – элитная группа, состоящая из шести наиболее экономически значимых западных демократий и Японии, оставалась неформальным мировым лидером, когда дело касалось глобальной экономической координации, несмотря на появление других центров силы.
Финансовый кризис в конце концов привел к тому, что G7 утратила роль основного координатора глобальной экономической политики и к ее замене «Большой двадцаткой». В ноябре 2008 г. главы государств G20 собрались в Вашингтоне, чтобы выработать глобальную программу стимулирования экономики – встреча с тех пор переросла в официальный международный институт. Поскольку G20, в отличие от G7, включает развивающиеся страны, такие как Бразилия, Китай и Индия, подобное расширение экономической координации представляет собой запоздалое признание новой группы глобальных экономических игроков.
Кризис также вдохнул новую жизнь в МВФ и Всемирный банк, подтвердил их легитимность. До кризиса создавалось впечатление, что МВФ быстрыми темпами превращается в отжившую структуру. Рынки частного капитала обеспечивали страны финансовыми средствами на выгодных условиях, не обставляя их требованиями, которыми часто сопровождались кредиты МВФ. Фонд с трудом финансировал собственную деятельность и находился в процессе сокращения персонала.
Ситуация изменилась в 2009 г., когда лидеры «двадцатки» договорились обеспечить институты Бреттон-Вудской системы дополнительными средствами в размере 1 трлн долларов, чтобы помочь странам пережить будущий финансовый дефицит. Бразилия и Китай вошли в число доноров специальных фондов, которые в итоге помогли поддержать Грецию, Венгрию, Исландию, Ирландию, Латвию, Пакистан и Украину.
Попросив развивающиеся рынки взять на себя более ответственную роль в международной экономической политике, западные демократии косвенно признали, что сами они уже не в состоянии справиться с мировыми экономическими проблемами в одиночку. Но то, что назвали «подъемом остальных» (в отличие от «упадка Запада». – Ред.), касается не только экономической и политической мощи. Подразумевается также глобальная конкуренция идей и моделей. Запад, и в особенности США, больше не рассматривается как единственный центр инновационной социально-политической мысли. Схемы оказания денежной помощи на определенных условиях, например, впервые были разработаны и введены в Латинской Америке. За последние 30 лет Запад внес скромный вклад в инновационное мышление в промышленной политике. Чтобы увидеть успешные модели на практике, стоит обратиться к примеру развивающихся стран, а не развитого мира. А когда дело касается международных организаций, голоса и идеи Соединенных Штатов и Европы доминируют все меньше. При этом страны с развивающейся экономикой, ставшие крупными донорами международных финансовых институтов, приобретают более значительный вес.
Все это говорит о конкретных изменениях в программе развития. Традиционно эта программа разрабатывалась развитым миром и затем вводилась (или, в действительности, часто навязывалась) в развивающемся мире. США, Европа и Япония по-прежнему останутся бесспорными источниками экономических ресурсов и идей, но развивающиеся экономики выходят на эту арену и станут крупными игроками. Бразилия, Китай, Индия и ЮАР будут одновременно донорами и реципиентами ресурсов для развития и способов их наилучшего использования. Значительная доля бедного населения планеты живет на территории этих стран, однако им удалось добиться уважения на мировой арене в экономической, политической и интеллектуальной областях. На самом деле развитие никогда не являлось чем-то, что богатые даруют бедным, скорее, бедные достигают этого самостоятельно. Видимо, западные державы, наконец, осознали эту истину в свете финансового кризиса, который для них отнюдь не окончен.
Фрэнсис Фукуяма – ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете.
Нэнси Бердсолл – президент Центра глобального развития.

Азия как единый организм
Арабское пробуждение – залог интеграции от Красного моря до Желтого
Резюме: Революции в западной части огромного азиатского континента способствуют ее сближению с Востоком Азии. В XX веке человечество было вынуждено приспосабливаться к доминированию Америки в мировой экономике. Сегодня американцам приходится мириться с тем, что глобальному хозяйству становятся присущи азиатские черты.
Во всем виноваты греки, предложившие нелепое понятие «Азия». Тысячелетия существования этой евроцентричной концепции многие неевропейские народы, населявшие огромный евразийский континент, пребывали в блаженном неведении, что на них навесили общий ярлык «азиатов». Ведь, если не считать попытку монголов объединить азиатские просторы, у населявших их людей всегда было мало общего. Арабы и китайцы, индусы и японцы, малайцы и персы, русские и турки – все эти и другие нации обладали самобытной культурой, богатой историей, у каждой свой язык, свое религиозное наследие и собственные политические традиции. Их экономические связи держались лишь на тонкой паутине Шелкового пути и его морского аналога.
Но сегодня все меняется. «Азия» перестает быть греческим мифом и становится реальностью. Богатство и сила все больше сближают жителей этой части света. Деятельность их компаний и влияние в целом выходят далеко за пределы континента. В XX веке человечество было вынуждено приспосабливаться к доминированию Америки в мировой экономике. Сегодня американцам приходится мириться с тем, что глобальному хозяйству становятся присущи азиатские черты.
Медленное освобождение Азии
В последние десятилетия прошлого столетия пережитки колониального наследия в большинстве стран Азии подчас окрашивали политику в черно-белые тона приязни либо ненависти, что мешало строить нормальные отношения с Западом. Колониализм унизил национальные армии, растоптал самоуважение, подавлял ценности и политические традиции самых разных азиатских обществ – от Турции до Китая.
В Передней Азии турки, арабы и персы в угоду европейским хищникам шаг за шагом расставались со своим суверенитетом, территорией и национальным достоинством. В Индии англичане, опрокинув владычество мусульман, ввели единоличное правление и втянули некогда изолированный субконтинент в европейские распри. Страны Южной Азии, которые долгое время обеспечивали около 20% мирового ВВП, оказались под пятой британского меркантилизма и покорились Лондону.
Ост-Индию и Индокитай также поработил европейский империализм. В Восточной Азии только Таиланд и Япония восприняли ключевые элементы западной культуры, одновременно проявив достаточную жизнеспособность, чтобы держаться на почтительном расстоянии от Запада. Японии к тому же хватило энергии и самодисциплины, чтобы вскоре навязать колониальное правление Корее и отчасти Китаю. Русско-японская и Вторая мировая войны показали, что национальные боевые традиции в сочетании с современной технологией позволяют Японии реально выступать в значительно более крупном военно-экономическом весе.
Россия поглотила Среднюю Азию и «вгрызлась» с севера в Китай, тогда как западные державы начали «отщипывать» кусочки южных и восточных китайских территорий. Иностранные державы поделили Поднебесную на сферы влияния, частично аннексировав ее территорию и подчинив остатки своей экстерриториальной юрисдикции. Европа и Америка сделали это, как мы тогда говорили, чтобы воспользоваться своим правом на беспрепятственный сбыт наркотиков и прививать китайцам чуждую им религиозную философию, несмотря на энергичный протест их правителей.
Колониальный порядок в Азии рухнул после Второй мировой войны. И в то время как страны континента в основном отвергли чужеземный протекторат, Япония подчинилась оккупации Соединенных Штатов, взявших ее под свою опеку и покровительство. Китай бросил открытый вызов внешним державам, изгнав со своей земли иностранцев и избавившись от их влияния. Юго-Восточная Азия восстала против европейских колонизаторов и их американских союзников. Пути Индии и Пакистана резко разошлись после того, как обе страны освободились от британского колониального владычества. Иран заявил об амбициях стать региональной державой. Турция стала активным участником евро-атлантического альянса, оплота Запада против экспансионизма советской империи.
И только в Западной Азии, где встречаются Африка, Азия и Европа, где родились такие мировые религии как иудаизм и христианство, где находятся главные святыни ислама и сосредоточены мировые энергетические ресурсы, сохранились основные элементы довоенного порядка. На закате эпохи колониализма европейские евреи захватили и колонизировали 80% территории Святой Земли, изгнав многих коренных жителей. Палестинские арабы и другие жители региона испытали страх и ужас, захваченные врасплох всплеском европейского антисемитизма и неожиданным возвратом эпохи империализма. Ни израильской, ни западной дипломатии до сих пор так и не удалось избавить регион от этого шока.
Холодная война ввергла страны Ближнего Востока в непростую зависимость от конкурирующих сверхдержав, которые рассматривали любые локальные конфликты там как опосредованные войны друг с другом. Если не считать Израиль, региональные лидеры отличались фаталистической приверженностью могущественным зарубежным покровителям и тщетными потугами приспособиться к пренебрежительному отношению европейских, советских и американских хозяев, попирающих суверенитет, независимость и культуру местных народов. Первая прореха в неоколониальном порядке образовалась в результате исламской революции в Иране в 1979 году. Тем самым был положен конец роли Тегерана как «жандарма Америки» на Ближнем Востоке. Соединенным Штатам пришлось переключиться на военный альянс с Саудовской Аравией и Египтом. Почти одновременно мирный договор между Египтом и Израилем при посредничестве США сделал сохранение автократического статус-кво в регионе главным приоритетом американской политики.
Даже при беглом прочтении Кемп-Дэвидских договоренностей бросается в глаза, что главной предпосылкой мирного урегулирования явилось недвусмысленное обещание Израиля прекратить оккупацию Западного берега Иордана и сектора Газа и облегчить палестинцам процесс самоопределения. Невыполнение обязательства способствовало тому, что мир между Израилем и Египтом оставался зыбким, не сулившим перспектив на потепление в отношениях. Палестинцы так и не избавились от чувства унижения и несправедливости. С ними стали обращаться еще хуже. Мир с Израилем утратил все шансы на легитимность в Египте и других странах. Во многом по этой же причине жители Египта, других арабских стран и мусульманский мир в целом стали питать глубокое отвращение к Израилю и Соединенным Штатам.
Готовность Америки оказать финансовую, военную и моральную поддержку диктатуре Хосни Мубарака и Хашимитской монархии в Иордании придало рамочным Кемп-Дэвидским соглашениям по крайней мере видимость прочности. Однако умение США подменять реальные усилия по умиротворению сторон политическим лавированием и уходом от конфликта, возможно, останется в прошлом вместе с режимом Мубарака. Поскольку Израиль упорно предпочитает миру с палестинцами или своими соседями дальнейшую экспансию и расширение границ, а сколько-нибудь серьезного «мирного процесса» на Ближнем Востоке не наблюдается уже более десяти лет, неясно, как Вашингтон собирается в дальнейшем сдерживать конфликт между израильтянами и палестинцами и добиваться стабильности. Нет полной ясности, сможет ли Америка вообще сохранить какое-либо влияние в этом регионе.
Мятежи арабов против своих правителей ознаменовали тот факт, что в мусульманских странах покончено с фаталистической психологией собственного бессилия и раболепной почтительности к иностранным державам, которая долгое время сковывала их. Эти революции не были направлены непосредственно против израильтян и американцев, но решение египтян и других арабских народов взять под контроль собственное будущее не сулит ни Израилю, ни Америке ничего хорошего. Через тридцать лет после иранского восстания постколониальный порядок на Ближнем Востоке наконец-то рушится.
Беспорядки в Западной Азии получили столь широкое распространение вследствие того, что за последние десять лет США дискредитировали себя как в политическом, так и в военном отношении, вольно или невольно усилив влияние Ирана в Ираке, Ливане, Газе и Сирии. Регион пришел в движение в тот момент, когда Америка уходит из Ирака, оставляя за собой разоренную страну, раздираемую противоречиями и лишенную определенной стратегической ориентации. Следствием действий американских вооруженных сил явилось то, что ряды террористов пополняются быстрее, чем их уничтожают в Афганистане и Пакистане. Это тот контекст, для некоторых – весьма зловещий, в котором усиливаются связи запада Азии с другими частями континента.
Эмансипация арабского мира
2011 г. начался с восстаний в Рабате и Каире, народного бунта и гражданской войны в Ливии и беспорядков во многих других странах арабского мира, где вышедшие на улицы манифестанты требовали реформ. Управляемые массы обнаружили, что способны, если понадобится, отозвать свое согласие быть управляемыми и тем самым осуществить смену режима. Век иностранных протекторатов в этом регионе завершен.
Ближайшими последствиями беспорядков станут растущие и нестабильные цены на углеводороды, затормозившееся экономическое восстановление Америки и еще более медленное – Европы и Японии. Ускорится смещение мирового богатства к усиливающимся державам на Востоке и Юге Азии, а также к странам – поставщикам энергоресурсов в Западной Азии. Долгосрочные последствия нынешних событий прогнозировать труднее. Наиболее вероятными представляются следующие тенденции:
Более либеральная и самоуверенная национальная политика арабских государств в сочетании с экономической самодостаточностью и большей независимостью в сфере региональной политики. Заметное сокращение возможностей внешних держав – в первую очередь, Соединенных Штатов – определять тенденции и события в Западной Азии и Северной Африке. Углубление изоляции Израиля. Возрождение Каира, Багдада и Дамаска в качестве ведущих игроков на политической авансцене арабского Востока, выступающих в этой роли наравне с Эр-Риядом. Утрата Ираном недавно приобретенных преимуществ в виде роста престижа и влияния в арабском мире – в связи со всплеском активности в арабских странах. Возможное усиление Турции благодаря новому для нее статусу регионального лидера. Ускоренное сближение между арабскими странами и государствами Востока и Юга Азии (и, возможно, Россией), чтобы избавиться от былой зависимости от США, Великобритании и Франции. Ослабление джихадистской угрозы арабским обществам в связи с тем, что более мягкие формы ислама будут играть все более заметную роль в политическом руководстве арабских стран. Возможное формирование новых моделей консультационного управления в арабском мире, которые распространятся и на неарабские страны мусульманского сообщества.
Одной из самых удивительных особенностей революций стало нарочитое избегание религиозной, классовой или внешнеполитической повестки дня. К разочарованию Ирана и «Аль-Каиды», в восстаниях почти незаметно влияние исламистских или джихадистских элементов. Полностью отсутствуют лозунги в духе панарабизма. Правда, многие протестующие инкриминировали непопулярным лидерам политику угодничества перед американцами или соглашательство с Израилем, но за редким исключением их ярость не была направлена непосредственно против Америки или Израиля.
Эти революции – дело рук тех, кто стремится сделать общество более свободным и выступает за приход к власти такого правительства, которое будет выражать волю народа, а не служить иностранной марионеткой. Повстанцы недовольны жизнью в собственной стране. Гораздо проще понять, против чего они ведут борьбу, нежели найти какую-то положительную программу. Пока рано говорить о том, будет ли их стремление к демократии полностью удовлетворено военными властями, которые в настоящее время принимают решения. Трудно предугадать, какое соотношение сил установится между приверженцами светской и исламистской политики. Мусульманское понятие «шура» – консультационное правительство – не противоречит демократии, но имеет ряд отличий. Страны, настроенные на конституционную реформу, совместимую с исламом, располагают широким выбором демократических форм правления – от турецкой модели до Палестины, управляемой движением ХАМАС.
Независимо от того, какая судьба ожидает демократию в этих странах, арабские правительства, включая те, что избежали беспорядков или пережили их, теперь будут более уважительно относиться к волеизъявлению граждан. В результате следует ожидать подъема исламских настроений в той или иной форме. Для многих мусульман легитимность правителей измеряется тем, в какой мере они олицетворяют нравственные устои, управляя «уммой» или сообществом правоверных. В новых обстоятельствах этот критерий будет иметь гораздо большее значение, чем прежде.
Повсюду в арабском мире могут быть созданы новые мусульманско-демократические партии наподобие христианско-демократических партий Европы в конце XIX – начале ХХ веков. Появление их следует приветствовать. Этот процесс еще больше отодвинет «Аль-Каиду» на обочину мусульманской цивилизации. Ей и без того уготована роль пассивного наблюдателя за развитием революций. Скорее всего, волна террора против арабских правительств ослабеет. К несчастью, политически мотивированное насилие, направленное против Израиля и Америки, грозит лишь усилиться. Оккупационные и колонизационные усилия Израиля на Западном берегу, а также жесткая осада Газы преградили палестинцам мирный путь к самоопределению, а арабов в целом лишили стимула мириться с существованием еврейского государства в мусульманском мире.
Арабская молодежь остается лояльной своим государствам, одновременно принимая активное участие в жизни виртуального пространства стран Ближнего Востока и Магриба. Местные лидеры, игнорирующие настоятельную потребность в реформе, больше не могут чувствовать себя в безопасности. Через год или два ни одна страна этого региона не будет проводить ту внутреннюю и внешнюю политику, которую проводит сегодня.
Так, если египтяне изберут эффективных лидеров, они снова будут играть ключевую роль в политике своего региона. В их силах выработать идеологию, способную завоевать популярность в арабском мире и за его пределами. Почти наверняка следует ожидать возрождения египетской дипломатии, которая отражала бы мнение и ценности рядовых граждан, а не отдельных политических деятелей. В результате ни Соединенные Штаты, ни Израиль не смогут рассчитывать на сотрудничество Египта по поддержке той политики, которая ненавистна арабской улице.
Воспрянувший Египет уравновесит влияние Ирана. Освободившись от бремени тесного сотрудничества с Госдепартаментом США, Каир, скорее всего, преуспеет в сдерживании Тегерана гораздо больше, чем в прошедшее десятилетие. Ведь Ирану удалось усилить свое влияние в Ираке, Ливане и Палестине во многом благодаря грубым просчетам американской дипломатии, вялости и апатии египетских правителей и политике вытеснения на периферию большинства арабских стран, за исключением Саудовской Аравии. Теперь Египет почти наверняка восстановит утраченные позиции грозного конкурента Ирана за лидерство в арабском и мусульманском мире, что повлечет за собой корректировку во внутриарабских отношениях.
Ирак, откуда уходят американцы, не способен играть историческую роль участника арабской коалиции по сдерживанию гегемонистских устремлений персов в Западной Азии. Необходимость оказывать противодействие Ирану с неизбежностью предполагает продолжение военного присутствия Соединенных Штатов в Персидском заливе для сохранения баланса сил. Однако недавние события стоили Вашингтону того небольшого доверия и престижа в арабском мире, которые он еще сохранял.
Неторопливое, двусмысленное и неэффективное одобрение Америкой смены режима в Тунисе и Египте нисколько не убедило людей на арабской улице в том, что американцы искренне поддерживают их требования демократизации. Им будет трудно вычеркнуть из памяти тот факт, что США десятилетиями братались с диктаторскими режимами. А запоздалые требования Америки к своим стародавним протеже немедленно отказаться от власти приводят правителей региона к мысли о том, что на Вашингтон нельзя положиться, поскольку он не хранит верности друзьям и отказывается защищать их. В итоге арабы, турки и даже израильтяне больше не верят (если когда-либо верили) в мудрость и добросовестность Соединенных Штатов. Даже запоздалое согласие американцев с требованиями Лиги арабских стран и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива создать в Ливии «зону, запрещенную для полетов военной авиации» скорее ударило по Вашингтону. Бомбежки Ливии лишь закрепили за американцами репутацию безжалостных истребителей гражданского населения мусульманских стран вместо того, чтобы убедить арабов в том, что Америка на их стороне.
Но если народные антипатии в арабских странах Персидского залива или финансовый кризис в самих США приведут к существенному сокращению американского присутствия в Ближневосточном регионе, это еще больше дестабилизирует обстановку. Оказавшись не в состоянии по-прежнему обеспечивать противовес Ирану, Ирак и страны Персидского залива окажутся перед выбором: умиротворение Тегерана или создание новой коалиции для его сдерживания. Едва ли есть основания рассчитывать на то, что нынешний Ирак не солидаризируется с Ираном. Не приходится серьезно говорить и о том, чтобы когда-либо был положен конец извечному соперничеству между персами и арабами.
Пока даже на горизонте не маячит возможность появления какой-либо иной великой державы, кроме Соединенных Штатов, которая была бы способна проецировать силу в регионе Персидского залива. Несмотря на выдающуюся способность многочисленных европейских министров обороны торговаться, Европе недостает сплоченности и последовательности, чтобы прийти на смену Америке. Россия имеет ограниченные возможности для того, чтобы откликнуться на призывы арабов: с одной стороны, сложности во взаимоотношениях с Европой, с другой – внутренние проблемы. Индия накапливает потенциал, и Дели мог бы играть заметную военно-политическую роль в этом регионе, но пока не готов к этому, поскольку поглощен стратегическим соперничеством с Китаем и Пакистаном. В долгосрочной перспективе КНР и другие страны Восточной Азии могли бы взять на себя бремя защиты своих и мировых интересов в Западной Азии. Но в скором будущем они вряд ли способны мобилизовать для этого политическую волю и военные ресурсы.
Получается, что в отсутствии США любая коалиция, созданная для обеспечения безопасности в данном регионе, будет вынуждена опираться на военную силу близлежащих стран, не имеющих превосходящей военной мощи – Турцию, Египет, Пакистан и государства Персидского залива. Но создание подобной коалиции, весьма громоздкой и поэтому не особенно эффективной, потребует больших усилий, затрат времени и денежных средств.
Пакистан мог бы быть особенно полезен для обеспечения ядерного сдерживания Ирана и Израиля, но его интересы всегда будут скорее направлены в сторону Индии, Кашмира и Афганистана, нежели Персидского залива. В зависимости от того, как будут развиваться события в оккупированной Палестине, нынешний «холодный мир» между Египтом и Израилем может вполне уступить место холодной войне. Тем самым египтяне озаботятся пробелами в собственной обороноспособности и способами ее укрепления. А Турция пока, похоже, больше настроена на умиротворение Ирана, нежели на участие в коалиции по его сдерживанию.
Как бы сильно страны Западной Азии ни сомневались в надежности Америки, на практике они не в состоянии полностью отказаться от опеки. Ирония состоит в том, что ужасающее состояние американских финансов, скорее всего, не позволит наращивать военную мощь в регионе. Неотложная необходимость для Вашингтона сокращать бюджетные расходы и отчаянные усилия арабских стран Персидского залива как можно больше снизить зависимость от Соединенных Штатов будут катализировать друг друга. В грядущее десятилетие ближневосточные государства попытаются гарантировать стабильность с помощью новых партнерств в области безопасности. Странам Восточной и Южной Азии, заинтересованным в энергетических ресурсах данного региона, придется гораздо быстрее разделить бремя защиты своих интересов на Ближнем Востоке, чем они предполагают.
Арабские государства, скорее всего, добьются (на самом деле они на это обречены) большей самодостаточности и независимости во внутренней политике, к чему так стремятся нынешние революционеры. От того, что будет представлять собой новый курс, зависят судьбы всего мира.
Интеграция Азии: запад встречается с востоком
Арабы, турки и представители других родов Западной Азии пытались ослабить зависимость от Америки задолго до того, как текущие события наглядно показали, как глубоко они презирают наше лицемерие и сколь легковесно по их мнению слово американцев. Конечно, они хорошо сознают, что не могут полностью разорвать связь с Вашингтоном. США остаются единственной военной державой, способной осуществить интервенцию в любой части земного шара. На них приходится более одной пятой общего потребления, и они являются самым крупным должником в мире. Соединенные Штаты не могут оставаться единственным источником новых идей в том, что касается глобального управления и региональной политики, но в состоянии воспрепятствовать реформам, инициируемым другими странами. Поэтому, как и вся Азия, государства Ближнего Востока связаны с Америкой узами вселенского брака. Как бы сильно некоторые из них – например, иранцы – ни желали, чтобы янки собрали «вещички» и убрались из их дома, развод невозможен. Но жители региона в большинстве своем мусульмане, и их ничуть не смущает многоженство. Поэтому они заняты налаживанием новых отношений, призванных ослабить зависимость от Вашингтона.
Китай и Индия наготове. Это не только самые быстроразвивающиеся экономики мира, но и самые быстрорастущие рынки нефти и газа. Ожидается, что в предстоящее десятилетие более половины прироста мировых потребностей в энергоносителях придется на эти две страны. Впечатляющее усиление предприимчивого Востока и Юга Азии порождает бум на западе Азии, богатом месторождениями углеводородов. Доказав способность осуществлять колоссальные инфраструктурные проекты у себя дома, китайские строительные компании берутся за крупные начинания по всей Азии от Мекки до Тегерана. Если символами присутствия Соединенных Штатов в регионе являются бомбардировщики, сухопутные войска и атомные подводные лодки со смертоносным оружием на борту, то Поднебесная все больше ассоциируется с башенными и портальными кранами, инженерами и контейнерами, доверху набитыми потребительскими товарами.
Китайцы наращивают влияние и присутствие в регионе по тем же причинам, которые когда-то побуждали это делать американцев. Они платят наличными, обеспечивают адекватное соотношение цены и качества и не навязывают деловым партнерам или принимающей стороне своих ценностей и политических предпочтений, не требуют от них помощи в реализации своих империалистических замыслов. В этом плане Америка получила серьезного соперника, который напоминает ее саму в недавнем прошлом. Но если Китаем восхищаются за его скромность и компетентность, никто на Ближнем Востоке, и тем более в других регионах Азии, не принимает КНР за политический идеал, каким многие (если не большинство) когда-то считали Соединенные Штаты.
В этом главная особенность азиатской интеграции – ею движут финансово-экономические факторы, а не политика или идеология. Торговля между странами Персидского залива, Китаем и Индией в последнее десятилетие росла на 30–40% ежегодно. За тот же период китайская экономика выросла с 10% до 40% относительно американской. Менее чем через 40 лет, к 2050 г., экономика Китая может в два раза превысить по размерам американскую, а экономика Индии с ней сравняется. Мы говорим о серьезных экономических сдвигах в Азии, которые возымеют фундаментальные геостратегические последствия.
У арабских инвесторов карманы набиты наличностью, и когда-то они очень стремились к тому, чтобы их деньги работали в Соединенных Штатах. Однако американская исламофобия, а также возобновление старинных связей мусульманских стран с Китаем и странами Центральной и Юго-Восточной Азии быстро избавляют их от прежних предпочтений. Государственные и частные арабские инвестиции в нефтехимическую промышленность Китая, а также в сферу услуг, банки, телекоммуникации и недвижимость Поднебесной растут лавинообразно. Та же тенденция наблюдается и во взаимоотношениях арабов с Индией, хотя на пути сотрудничества то и дело возникают коррупционные скандалы и внутрииндийские политические трения.
Мусульманское банковское дело, в котором нет места заемному капиталу и производным финансовым инструментам, что кажется привлекательной практикой в нынешних условиях, строится по одним и тем же принципам и в Малайзии, и в странах Персидского залива. Этот опыт также перенимается в Китае и других государствах. Туризм, духовное паломничество, обмен студентами и изучение языков – все эти сферы быстро развиваются в отношениях между КНР, Индией, Южной Кореей, арабскими странами. Знание языков заметно подхлестывают деловую активность.
Хотя Индия считает Китай своим главным стратегическим соперником в Азии, взаимная торговля выросла с 200 млн в 1989 г. до 60 млрд в 2010 году. В 2007 г. Китай опередил Соединенные Штаты, став главным торговым партнером Индии. А к 2015 г. Китай и Индия собираются увеличить ежегодный торговый оборот до 100 млрд долларов. Экономики двух стран прекрасно дополняют друг друга, что стимулирует взаимные инвестиции. Индии нет равных в сфере услуг, а Китаю – в сфере промышленного производства. Визит в Южную Азию премьер-министра Китая Вэнь Цзябао в конце прошлого года стал поводом для новых обязательств Пекина, который собирается инвестировать по 16 млрд долларов в экономику Индии и Пакистана.
Несмотря на общую заинтересованность в обеспечении безопасных морских путей и способов транспортировки сырья, перспективы военного сотрудничества сомнительны. В настоящее время граница с Индией – единственный сухопутный участок, где Китаю не удалось провести демаркацию путем мирных переговоров. В 1962 г. между двумя странами вспыхнула короткая пограничная война, и до сих пор нередки вооруженные столкновения между боевыми патрульными подразделениями. Опасения Индии в связи с растущей военной мощью КНР – не менее сильный стимул для модернизации вооруженных сил, чем враждебные отношения с Пакистаном и конфликт в Кашмире.
Обеспокоенность Индии усилением военной мощи Китая заставляет ее укреплять военные связи с Соединенными Штатами, вести диалог в сфере безопасности с не менее встревоженными соседями, такими как Вьетнам и Япония. Со времени Реставрации Мэйдзи в 1868 г. Токио привык быть «первым номером» в Азии, но в прошлом году экономика Поднебесной обогнала японскую, став второй в мире. Усиление КНР вывело Японию из психического равновесия, поставив ее перед нелегкой задачей смены места в неофициальной иерархии азиатских стран. Некоторые политики в Токио считают оборонный союз с Дели и укрепление военного сотрудничества с Сеулом (несмотря на глубокую историческую неприязнь) полезной защитой от Китая, поскольку лидерство Америки в мировой политике и экономике продолжает ослабевать. Тем не менее, многие факторы, включая растущую зависимость будущего процветания Японии от роста китайской экономики, по-прежнему вынуждают Токио искать сближения с Пекином. В настоящее время на его долю приходится 20% всего внешнеторгового оборота Японии, это главный экономический и торговый партнер. Еще больше от КНР зависит Южная Корея, четверть внешнеторгового оборота которой приходится на Поднебесную.
Всю Восточную Азию (включая японские и корейские компании, а также корпорации Китая и стран Юго-Восточной Азии) сегодня неразрывно связывает система снабжения и поставок. Индия также начинает втягиваться в эту систему и другие отношения с Восточной Азией. Трудно переоценить значение Юго-Восточной Азии как горнила азиатской экономической интеграции. Китайские общины в регионе сыграли ключевую роль в выковывании капиталистических кадров КНР, которые заимствовали многие элементы финансовой и коммерческой культуры китайской диаспоры. Всекитайский консенсус состоит в том, что «дело Китая и его народа – делать бизнес», если перефразировать саркастическое описание Америки начала XX века, предложенное Кальвином Кулиджем. Этот лозунг помог Китаю отказаться от территориальных претензий и других потенциальных конфликтов, чтобы дать возможность своим жителям зарабатывать деньги вместо того, чтобы вести войны.
Как и надеялся Дэн Сяопин, его лозунг «Быть богатым – это почетно» породил Большой Китай. Эта концепция ликвидировала пропасть между китайцами по обе стороны Тайваньского пролива. Большой Китай объединяет многочисленные политэкономии континентального Китая, Гонконга, Макао и Тайваня с их системными различиями. Его идеологию в той мере, в какой она здесь присутствует, лучше всего выражает упорядоченная меритократия и прагматичное использование промышленной политики в Сингапуре. Экономики Большого Китая, стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и, в меньшей степени, традиционно протекционистских Японии и Южной Кореи в настоящее время далеко продвинулись по пути создания гигантской зоны свободной торговли, в присоединении к которой заинтересованы Индия и страны Южной Азии.
Еще одна крупная держава Азии – Россия – пока держится в стороне от процессов интеграции. Она остается главным источником вооружений и военных технологий, экспортируемых в Индию и Китай, и начинает играть роль крупного поставщика энергоносителей в КНР, уже на протяжении долгого времени являясь таковым для Европы. Пляжи китайского острова Хайнань, Вьетнама и Индии российский средний класс облюбовал в качестве мест для зимнего отдыха. Множество россиян учатся и работают в Китае и других странах Азии.
Вместе с КНР и странами Центральной Азии Россия создала Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В сфере своего влияния ШОС стремится пресекать соперничество великих держав, мусульманский экстремизм и китайский этнический сепаратизм. Но Москву, похоже, больше интересуют отношения с Европой, чем с Азией. Поставки энергоресурсов из Центральной Азии в Китай и создание соответствующих транспортных коридоров подрывают традиционное доминирование России в этом регионе. Богатый полезными ископаемыми, но малонаселенный российский Дальний Восток втягивается в экономические орбиты Китая, Японии и Кореи. Сельское хозяйство Сибири все больше зависит от труда китайских мигрантов. Будущие отношения России со странами Азии остаются такими же непредсказуемыми и неопределенными, как и ее политическая ориентация и политический строй. То же можно сказать и о роли Москвы в Европе и на Ближнем Востоке.
Вероятно, определять облик нынешнего столетия наряду с глобализацией предстоит «азиатизации». Уже очевидны проявления единой азиатской логистики как сердца и кровеносной системы мировой торговли. Большинство финансовых аналитиков предполагают, что азиатские валюты, такие как китайский юань, со временем потеснят пока еще всесильный доллар в качестве резервной мировой валюты и платежного средства в мировой торговле. Многообразие людских и природных ресурсов Азии с ее усиливающейся интеграцией создают все предпосылки для продолжения экономического подъема на фоне быстрорастущей производительности труда на этом континенте.
Наши лучшие банкиры и экономисты утверждают, что менее чем через четыре десятилетия (в 2050 г.) ВВП Китая достигнет 70 трлн нынешних долларов США (для сравнения, на сегодня ВВП Соединенных Штатов – 14 трлн долларов, а к 2050 г. он может вырасти до 35 трлн долларов). В том же году ВВП Индии, говорят нам, должен сравняться с ВВП США или даже превзойти его. Пропорционально вырастут и другие азиатские экономики – например, экономика Индонезии. Цифры можно оспаривать, но не приходится сомневаться в том, что к середине века экономический центр тяжести мира будет находиться в Азии – где-то между Пекином и Дели. Арабы и индонезийцы, турки и японцы, индусы и американцы, европейцы, африканцы, латиноамериканцы и другие народы будут тянуться за китайцами. Усиливающиеся Китай и Индия поднимут всю Азию, а Азия уже начала поднимать всю мировую экономику.
Три столетия тому назад Европа, а затем и Америка отняли у Азии первенство в научно-техническом прогрессе и инновациях. Изобретение нуля, компаса, ракеты, бумажных денег, типографского шрифта из подвижных литер, химии, салона красоты и банковского чека – это вклад индусов, китайцев, корейцев, арабов и других мусульман в современную цивилизацию. Сегодня ряды образованных азиатов растут, множатся учреждения, в которых идеи превращаются в готовые изделия – речь идет об исследовательских институтах и венчурном капитале. Не следует удивляться, что в середине и конце XXI века Азия может вернуть себе лавры главного двигателя мирового научного прогресса.
Мы редко задумываемся, до какой степени азиатский образ жизни уже стал частью нашего быта. Прежнее поколение американцев было бы крайне удивлено восхищением наших современников такими блюдами, как суши и сашими («Рис, обернутый в морские водоросли, и сырая рыба на обед – вы шутите?»). Пирсинг, булавки на лице и свисающие украшения в индийском стиле, когда-то считавшиеся варварством и экзотикой, теперь украшают или (если вам так больше угодно) обезображивают многих американцев, молодых и старых. Кальян проник в наши городские салоны. Судоку – последний писк моды. Люди интересуются системой фэн-шуй, а дети изучают восточные боевые искусства. Что еще мы позаимствуем у Азии? Вне всякого сомнения, кое-что из того, что сейчас кажется невероятным. Но пройдет совсем немного времени, и эти вещи прочно войдут в нашу жизнь и быт, мы станем воспринимать их как нечто само собой разумеющееся и забудем о том, что они пришли к нам из Азии.
Америка в поисках врага
Любимая всеми американцами тема – поиск вероятных противников, которые могли бы заменить канувший в Лету Советский Союз. Созданная русскими империя крайне безответственно самоустранилась из гонки за мировое господство, предоставив нам пальму первенства, но при этом лишив нас привычного образа врага. Поиск врага стал навязчивой идеей американских политиков. Нужна экзистенциальная угроза, чтобы оправдать растущие военные расходы, которые превышают совокупный оборонный бюджет всех остальных стран мира вместе взятых, и нежелание идти на их сокращение – даже во имя избежания надвигающегося банкротства. Россия уже не годится, поэтому мы переключились на двух альтернативных кандидатов – один находится в Западной Азии, а другой в Восточной, ислам и Китай. Но и эти два кандидата не дотягивают до роли системного «супостата».
Мусульмане просто хотят вернуть себе достоинство в мировой политике. В странах шариата нарастает ожесточенный спор, переходящий порой в вооруженные столкновения, о том, как навести порядок в обществе. Иногда проявляется сопротивление влиянию западной культуры и попытки полностью исключить его. В иных случаях, как это видно на примере Туниса и Египта, принимаются отдельные идеалы, на которых основано современное политическое устройство стран Запада, но отвергается сама модель государственного устройства или наши обычаи и нравственные устои.
Большинство хочет, чтобы мы ушли с Ближнего Востока, надеясь самостоятельно уладить все существующие разногласия. Мало кто из них испытывает желание обратить нас в свою веру. Никто из них не способен противостоять нам. От ислама не исходит экзистенциальная угроза. Его не устраивает наше военное доминирование в соответствующих странах, но он и не является вызовом для независимости, ценностей или безопасности светской Америки.
Что касается Китая, то больше всего пугает возможность того, что он станет похожим на нас – державу, которую воодушевляет агрессивная миссионерская деятельность, подкрепляемая вооруженными силами, готовыми к броску в любую точку земного шара для навязывания своих ценностей. Слово «Китай» состоит из двух иероглифов, которые дословно означают «центральная страна». В XXI веке Китай, скорее всего, снова будет в полной мере соответствовать этому названию во многих сферах деятельности.
Поднебесная находится в центре и еще в одном смысле. Со всех сторон ее окружают могущественные в военном отношении соседи – Россия, Индия, Япония, Корея, Вьетнам и, конечно, Соединенные Штаты, наращивающие грозный военно-морской потенциал в непосредственной близости от территориальных вод КНР, ширина которых не превышает 12 морских миль. Кроме того, США держат внушительные контингенты сухопутных войск и ВВС в Афганистане и других местах. Китаю приходится отвечать на многочисленные вызовы своей национальной безопасности, лишь некоторые из которых касаются Соединенных Штатов. И все они возникают в непосредственной близости от китайских границ.
Словом, перед Китаем стоит слишком много сиюминутных военных и социально-экономических проблем, которые не дадут ему возможности подражать Америке, даже если бы у китайских лидеров появилось искушение поиграть в доминирование. Мировой ландшафт XXI века в сфере безопасности будет отражать меняющийся баланс сил и постоянную перетасовку состава коалиций «за» и «против» Китая. В этом отношении Азия все больше напоминает Европу XIX века. Наверняка появятся возможности для дистанционной корректировки баланса сил на азиатском континенте, если только Америка пожелает воспользоваться тогдашним опытом Великобритании. Англичане поддерживали тех или иных игроков на континенте там и тогда, когда и где им нужно было усилить свои позиции, чтобы остудить пыл честолюбивых соседей, но они редко осуществляли прямые интервенции – неплохая работа правительства.
Наконец, чтобы проиллюстрировать неоднозначность формирующихся на азиатском континенте военных реалий, стоит проанализировать ядерное измерение военного баланса сил. Если не считать США (которые развернули ядерные силы с трех сторон азиатского континента), в Азии уже находятся шесть из девяти ядерных стран мира. Многие подозревают, что со временем Иран станет седьмой из 10 держав ядерного клуба. Но даже без Ирана ядерная геометрия в Азии уже достаточно сложна. Китай, Россия и Америка нацеливают боеголовки друг против друга. Для Северной Кореи мишенью служат Япония и Южная Корея; если бы ей было это по зубам, она бы целилась и в Соединенные Штаты. Для Пакистана и Китая объектом также является Индия. Пока ни одна из ядерных стран Азии с ядерным оружием не направляет его против Израиля, но Израиль развивает свой ядерный арсенал с учетом всех своих соседей. Ни Индия, ни Израиль, ни Пакистан не подписывали и не ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия. Северная Корея игнорирует режим нераспространения. Это одна из причин, по которой странными и нелепыми кажутся титанические усилия США по недопущению расползания ядерных вооружений. Тигров уже выпустили из клетки. Теория ядерного сдерживания проходит последний экзамен именно в Азии. В этом контексте гротескно избыточные ядерные арсеналы, унаследованные Россией и Соединенными Штатами от эпохи холодной войны с ее взаимно гарантированным уничтожением, сегодня совершенно неадекватны и представляются напрасной тратой огромных средств.
То же самое, но с некоторыми оговорками, можно сказать и о давно развернутой в Америке истерии в связи с вероятным нанесением ядерных ударов негосударственными группами или организациями. Все государства, имеющие на вооружении атомные бомбы, вложили немалые суммы в их создание, и сделали это для того, чтобы решить конкретную проблему национальной безопасности. Ни одна из этих стран не собирается отдавать столь дорогостоящую вещь каким-то непонятным группам лиц. Опасения по поводу умышленной передачи ядерного оружия террористам представляются сильно преувеличенными, если не сказать бредовыми.
Однако сохраняется вероятность того, что ядерная держава, охваченная общественными беспорядками, с ослабленной государственной властью подвержена риску, при котором повстанцы или террористы могут организовать похищение одной-двух бомб. В этой связи на ум невольно приходят пакистанские боевики или израильские переселенцы. В предстоящие десятилетия могут возникнуть другие подобные ситуации, если только не будут искоренены источники возможных конфликтов, которые служат питательной средой для фанатизма. Поэтому бдительность нельзя терять ни на минуту. Нужно также уделять повышенное внимание разрешению цивилизационных конфликтов, покончить со случаями социального угнетения, всемерно способствовать развитию мирного процесса, торжеству справедливости и процветания и в Азии и на других континентах.
Мы ничего не выиграем, если не признаем, что Азия вернулась на мировую авансцену после двух неудачных для нее тысячелетий. На наших глазах фактически формируется «большой организм». Если провести зоологическую аналогию и сравнить его со слоном, то нам не удастся управлять им, если мы сосредоточимся на его задних конечностях, но не будем обращать внимания на хобот, голову, ноги или живот. Каждая часть этого огромного азиатского организма имеет свои проблемы и требует особого подхода, но главный вызов сегодня – рассматривать азиатский континент как единое целое и соответствующим образом строить свою стратегию. Ни современные академии и государственные структуры, ни прошлый опыт не помогут нам в этом деликатном вопросе, на который, тем не менее, необходимо найти ответ.
Чез Фримен – президент Совета по ближневосточной политике (г. Вашингтон), председатель Projects International, в течение многих лет работал на ответственных должностях в Государственном департаменте США и Пентагоне, занимался проблемами Африки, Ближнего Востока, Китая, Южной Азии и европейской безопасности.

Афганистан в ловушке неопределенности
Десять лет войны не прояснили будущее государства
Резюме: Вывод иностранных войск из Афганистана может привести не только к дестабилизации страны, но и к радикализации всего региона с непредсказуемыми последствиями. Однако самым пагубным образом на состоянии дел скажется затягивание нынешней ситуации неопределенности относительно будущего контингента НАТО.
Осенью этого года исполнится 10 лет с момента начала операции США и НАТО в Афганистане. По длительности она уже превзошла пребывание на территории этой страны «ограниченного контингента» советских войск в 1979–1989 годах (продолжалось 9 лет, 1 месяц и 19 дней). Ход и результаты почти десятилетней войны являются предметом острых дискуссий и в Соединенных Штатах, и во многих странах мира. Спустя 22 года после того, как афганскую землю покинул последний советский солдат, уход иностранных войск из Афганистана вновь стоит на повестке дня. Пока, однако, ясности нет ни по одному из основных вопросов: как и когда силы Североатлантического альянса предполагают завершить миссию в Афганистане.
Пути отступления
Безопасность инфраструктуры снабжения западного контингента под Гиндукушем превратилась в один из критериев при определении стратегических партнеров западной коалиции, борющейся с «Талибаном». Так, по экспертным оценкам, до 2009 г. через территорию Пакистана («южный транзитный коридор») в Афганистан проходило около 85% грузов НАТО.
Транзит стал для Исламабада не только крупным источником доходов, но и политическим рычагом, с помощью которого пакистанская сторона оказывала давление на Кабул, Вашингтон и Брюссель, что, естественно, стимулировало желание снизить зависимость от своенравного «стратегического союзника». Помимо этого еще в середине 2000-х гг. стало ясно, что для перелома ситуации в Афганистане необходима ликвидация тыловой инфраструктуры «Талибана» и «Аль-Каиды», находящейся за пределами страны, прежде всего в северо-западных провинциях Пакистана.
В 2008 г. западная коалиция объявила о переброске дополнительных резервов в приграничные с Пакистаном южные районы Афганистана, дабы провести там крупномасштабные операции против талибов. Результатом стало нарастание давления на сеть поставок для контингента ISAF. Так, еще в первой половине 2008 г. талибы и их союзники повысили террористическую активность на важнейших транспортных маршрутах на юге и востоке Афганистана (города Кандагар и Джелалабад), через которые происходил транзит военных грузов и ГСМ из Пакистана. Уязвимость наземного транзита показала мощная диверсия, осуществленная талибами 23 марта 2008 года. Эта акция послужила отправной точкой для переориентации американского и натовского командования на «северный коридор» – транспортную коммуникацию через территорию и воздушное пространство России и республик Центральной Азии.
4 апреля 2008 г. Североатлантическому альянсу удалось договориться с Россией о создании «северного транзитного коридора» для обеспечения операций в Афганистане. Соглашение предусматривало доставку грузов через Россию, Казахстан и Узбекистан. Однако коридор начал функционировать далеко не сразу. Белый дом надеялся сократить роль Москвы, тем более что в тот момент политические отношения двух стран резко ухудшались, достигнув нижней точки после «пятидневной войны» на Кавказе в августе 2008 года. В 2009–2010 гг. генерал Дэвид Петреус (в ту пору глава Центрального командования США, а ныне командующей афганской операцией) неоднократно посещал Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, со всеми названными государствами – членами ОДКБ были подписаны отдельные соглашения по сотрудничеству в сфере перевозок грузов.
После смены администрации в Вашингтоне президенты России и Соединенных Штатов Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали в июле 2009 г. документ о военном транзите в Афганистан – как наземном, так и воздушном. Отдельные договоренности о транзите между Россией, Германией, Францией и Испанией действовали и ранее. В конце февраля 2011 г. Государственная дума РФ ратифицировала межправительственное соглашение о воздушном транзите через территорию России военных грузов и контингента США в Афганистан, 9 марта его подписал президент.
Северный коридор считается основным и для предстоящего вывода сил коалиции. Судя по комментариям экспертов, первоначально предполагалось, что американский контингент будет покидать Афганистан в основном через территорию Узбекистана. В последнее время, правда, появились предположения о том, что рассматривается и вариант Туркменистана. Однако транспортные коммуникации, ведущие к туркменской границе, проходят через неспокойные южные и юго-западные афганские провинции. К тому же на западе и юге Афганистана транспортная инфраструктура развита много слабее, чем в северных провинциях. В пользу узбекского коридора говорит и тот факт, что в 2010 г. ускоренными темпами была достроена железнодорожная ветка, соединяющая приграничный с Узбекистаном афганский город Хайратон с центром северной провинции Балх – городом Мазари-Шариф. При этом многие специалисты полагают, что, хотя узбекское направление станет приоритетным для наземного вывода, Туркменистан будет главным авиаперевалочным пунктом.
Впрочем, какие бы маршруты ни были использованы, процесс займет не менее трех-четырех лет, а американские военные и политики дают понять, что он затянется и на еще более длительный срок. В в бывших республиках советской Средней Азии Соединенным Штатам, вероятно, по соображениям логистики понадобятся новые временные военные базы, авиабазы и другие объекты военной инфраструктуры, статус которых может впоследствии измениться на постоянный.
Нет сомнений, что во время вывода войск Вашингтон также будет стремиться иметь альтернативные транспортные коридоры, чтобы не ставить себя в зависимость от позиций отдельных государств. Не случайно еще на стадии переговоров 2008–2009 гг. об открытии «северного коридора» США настаивали на заключении отдельных двухсторонних соглашений со странами-транзитерами, игнорируя призывы к выработке единого документа. Кроме того сохраняется и «южный коридор» – через афгано-пакистанскую границу и территорию Пакистана. Этот маршрут является рискованным, но при определенных условиях Соединенные Штаты могут его использовать, чтобы обеспечить эвакуацию, например, тяжелой техники морским путем (через пакистанские порты).
География нестабильности
Благодаря «северному транзитному коридору» США и НАТО избавились от транзитной монополии Исламабада, что позволило активизировать действия в районе афгано-пакистанского пограничья. Однако повышение значимости нового маршрута спровоцировало появление новых вызовов для системы региональной безопасности – ухудшилась военно-политическая ситуация в ранее спокойных северных афганских провинциях. Силам альянса приходится воевать с талибами не на одном – южном фронте, как это было до 2009 г., а сразу на двух фронтах – теперь еще и северном.
Активность талибов на севере в основном сосредоточена в местах контактного проживания пуштунов, например, в Кундузе. На севере действует и другая антиправительственная группировка – ИПА («Хизби-е-Ислами»). Ситуация в этой части страны достаточно запутанна. Например, в октябре 2009 г. президент Афганистана Хамид Карзай сделал неожиданное заявление: у афганских властей, мол, имеются данные о том, что вооруженные боевики на север страны перебрасываются на неизвестных вертолетах. Первые сообщения об этом якобы поступили в мае 2009 года. Спустя несколько дней после выступления Карзая губернатор Кундуза Мохаммад Омар сообщил, что некоторые командиры талибов выходят на контакты с британцами через пакистанскую Межведомственную разведку (ISI).
До 2009 г. относительно спокойные северные провинции считались зоной ответственности в основном немецкого контингента. Однако рост нестабильности в этих районах и неспособность бундесвера поддерживать порядок стали поводом для переброски на север американских войск. Так, по данным средств массовой информации Афганистана, к июлю 2010 г. численность американских военных в приграничной с Таджикистаном афганской провинции Кундуз достигла пяти тысяч, американцы появились и в других провинциях на севере Афганистана. В тот же период на севере активизировались и дипломаты. Посол США в Кабуле Карл Айкенберри стал постоянным гостем северных провинций. В 2010 г. в Мазари-Шарифе открылось генеральное консульство Соединенных Штатов, что стало важной политической вехой и обозначило рост интереса Вашингтона ко всему региону к северу от афганских границ.
Сразу после Навруза Хамид Карзай огласил список городов, где функции по обеспечению безопасности в этом году будут переданы афганским национальным силам. Среди городов, контроль над которыми перейдет к афганцам, был назван и северный город Мазари-Шариф. Впрочем, события произошедшие в этом городе 1 апреля, когда толпа разгромила миссию ООН и с особой жестокостью убила иностранных сотрудников, ставит под вопрос реализацию этого плана. Трагедия показала, что в стране хозяйничают религиозные лидеры – муллы и имамы. Детонатором бунта в Мазари-Шарифе послужило заявление муллы в ходе пятничного Намаза, сообщившего о сожжении в США, как он заявил, сотен экземпляров священного Корана.
Если афганские военные и их западные партнеры не смогут в ближайшее время переломить ситуацию на севере страны, регион столкнется с новым этапом распространения нестабильности. Специалисты предупреждали о том, что радикальные силы, использующие «кундузский плацдарм», со временем переберутся в соседние государства. Такие прогнозы стали восприниматься вполне серьезно после серии нападений исламистов на представителей правоохранительных органов в соседнем Таджикистане весной 2010 года. В феврале 2011 г. на расширенном заседании Совета безопасности Таджикистана президент Эмомали Рахмон потребовал от правоохранительных органов усилить контроль над мечетями и религиозными школами, в том числе нелегальными, которые экстремисты, по его словам, все чаще используют для пропаганды своей идеологии.
Уйти, чтобы остаться?
В 2002–2010 гг. в Афганистане и вокруг него сложилась относительно устойчивая система поддержания безопасности, ключевым элементом которой является присутствие вооруженного контингента США и НАТО. Несмотря на очевидные проблемы с осуществлением миссии, она рассматривается как один из ресурсов стабильности всего Центрально-Азиатского региона. Решение о начале вывода войск в июле 2011 г., обнародованное Белым домом в конце 2009 г., создало атмосферу неопределенности. Согласно заявленному плану, процесс будет завершен в 2014 г., когда, как ожидается, национальные силы безопасности Афганистана продемонстрируют способность защищаться от своих врагов самостоятельно. Однако никто не в состоянии гарантировать, что этот уровень действительно будет достигнут.
В скорый уход Соединенных Штатов, разумеется, верят не все. Многие небезосновательно считают, что заявление президента Барака Обамы было адресовано прежде всего общественному мнению, которое начало уставать от афганской войны и в котором становится все больше сторонников ухода из Афганистана. Поводом усомниться в серьезности заявления властей США стало и сенсационное признание президента Афганистана Хамида Карзая в начале февраля 2011 года. Спустя две недели после своего первого официального визита в Москву Карзай сообщил, что Кабул и Вашингтон ведут переговоры о возможном размещении постоянных американских военных баз на территории Афганистана. Ожидается, что механизм размещения баз будет зафиксирован в разрабатываемом межгосударственном соглашении о стратегическом сотрудничестве.
Президент, правда, утверждал, что решение вопроса об американских базах зависит от воли афганских парламентариев и Всенародного съезда (Лойя-Джирги), но дал понять: от продолжения афганско-американского стратегического сотрудничества зависит «экономическое процветание» Афганистана. Спустя несколько дней министр обороны Абдул Рахим Вардак поддержал идею военных баз на постоянной основе, поскольку они «могут стать гарантом стабильности в регионе». Генерал Вардак напомнил, что американские базы «принесли стабильность» во многие страны, прежде всего в Южную Корею, ФРГ, Японию.
Тема военных баз может стать причиной напряженности между Москвой и Вашингтоном, что скажется на сотрудничестве по транзиту грузов. В конце февраля 2011 г. постоянный представитель Российской Федерации в НАТО Дмитрий Рогозин поставил под вопрос возможность наземного транзита военных грузов США через российскую территорию. Это заявление стало неожиданным, потому что ранее неоднократно говорилось о надежности российско-американских договоренностей по транзитному соглашению. Вероятно, слова Рогозина стали ответным сигналом на сообщения о возможном создании постоянных американских баз. И спустя несколько дней окружение специального представителя президента Соединенных Штатов по Афганистану и Пакистану предостерегло от преждевременных выводов относительно военных баз на территории Исламской Республики Афганистан. Впрочем, почти одновременно с этим посол Айкенберри поддержал идею базирования как залог эффективного ведения боевых действий против талибов.
По имеющейся информации, речь может идти о военных базах США в трех-пяти афганских городах – Баграме, Шинданде, Кандагаре (там мощные объекты уже построены), а также Джелалабаде и Мазари-Шарифе. Впрочем, похоже, что первоначальное заявление было призвано прощупать реакцию других государств. Так, после ответа российского МИДа, где Москва ставит под сомнение необходимость размещения американских военных баз в Афганистане на постоянной основе, Карзай несколько смягчил позицию: «Афганистан – не остров, поэтому мы обязаны в таких случаях учитывать мнение наших соседей».
Стоит отметить, что негативная реакция Москвы удивила значительную часть афганской элиты. Политика перезагрузки и совпадение взглядов России и Америки по многим аспектам урегулирования, поддержка кандидатуры Хамида Карзая на президентских выборах 2009 г., проведение совместной антинаркотической операции на афганской территории, изменение курса Кремля в отношении Ирана – все эти факторы назывались в числе признаков согласия двух великих держав. Вплоть до визита Карзая в российскую столицу в январе 2011 г. у многих афганцев создавалось впечатление, что Вашингтон становится главным посредником между Москвой и Кабулом. Поэтому мало кто здесь ожидал отрицательного ответа России на идею сохранения военных баз США в Афганистане.
В середине марта 2011 г. Кабул посетила делегация Совета безопасности России во главе с Николаем Патрушевым. Одной из главных тем переговоров стало предложение российской стороны предоставить Афганистану статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). До этого Афганистан участвовал в мероприятиях ШОС лишь в качестве гостя. Неожиданная идея Москвы повысить статус Афганистана в такой авторитетной региональной организации Кабул воспринял, как попытку затормозить проект размещения на территории Афганистана постоянных американских военных баз.
В конце марта и начале апреля в российской столице произошли события, свидетельствующие о повышенном интересе к афганской проблематике. Известный дипломат Замир Кабулов назначен на пост спецпредставителя президента России по делам Афганистана. Затем прошли консультации по вопросам региональной безопасности, в которых приняли участие заместители министров иностранных дел государств – членов ШОС, стран-наблюдателей и Афганистана. По словам афганских дипломатов, вопрос будущего этой страны являлся главной темой дискуссии.
Однако сведения, поступившие из Кабула после московских консультаций, говорят о том, что попытки России добиться замораживания планов по организации американских военных баз пока не увенчались успехом. 10 апреля Хамид Карзай объявил о завершении работы над проектом соглашения о стратегическом партнерстве с Вашингтоном. Президент Афганистана вновь повторил, что теперь решение зависит от Лойя-Джирги, которая рассмотрит документ в ближайшие три месяца. Чтобы отказать американцам, нужны очень серьезные и убедительные аргументы. И обещаний Кабулу статуса наблюдателя и даже члена ШОС может оказаться недостаточно.
Уход чреват распадом
В 2008 г., в преддверии президентской избирательной кампании, Хамид Карзай начал формировать свой новый имидж, избавляясь от образа «американского ставленника». Основным элементом «ребрендинга» Карзая стали его антиамериканские заявления, вызванные в основном ростом числа жертв среди мирного населения в результате бомбардировок. Надо сказать, что острота этой проблемы только усугубляется. Время от времени афганский руководитель делал реверансы в сторону других крупных игроков. В частности, резонанс внутри страны получил призыв Хамида Карзая ускорить модернизацию афганской армии: «Если США не помогут нам с оснащением армии танками и самолетами, то мы возьмем их в другом месте». Тогда под «другим местом» многие поняли Россию. Некоторые комментаторы сделали вывод, что президент Афганистана старается ориентироваться на таких афганских лидеров, как, например, Мохаммад Дауд Хан, которому в свое время удавалось балансировать между Западом и Востоком.
Однако в отличие от периода правления Дауд Хана Восток (то есть страны Евразии), похоже, не готов к «инвестициям» в Афганистан. Афганские политики, выступающие против долгосрочного нахождения американских военных в стране, часто подчеркивают, что это не отвечает интересам региона. Примечательно, что региональные страны (кроме Ирана) на это никак не реагируют, то есть, по сути, не соглашаются с этим тезисом. В Кабуле так и не дождались согласованной позиции по афганской проблематике от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Последнее четкое высказывание на эту тему прозвучало в июле 2005 г., когда страны ШОС приняли декларацию с призывом к Вашингтону определить срок вывода своих вооруженных сил из Афганистана и напомнили, что их присутствие там связано исключительно с контртеррористической кампанией. В тот момент практически все страны – члены организации были крайне озабочены американским политическим наступлением на постсоветском пространстве, пиком которого стала череда «цветных революций», в том числе смена власти в Киргизии и восстание в узбекском Андижане. С тех пор, однако, ситуация изменилась, активность Соединенных Штатов снизилась, а угроза нестабильности, которой чреват уход НАТО из Афганистана, воспринимается в Центральной Азии как более насущная, чем риски, связанные с сохранением американского контингента. Позиция же крупных государств ШОС – членов (России, Китая) и наблюдателей (Индии) – остается нечеткой. На явный недостаток координации по этому вопросу намекнул Владимир Путин, участвовавший во встрече глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в ноябре 2010 года.
Противовесом американскому влиянию выступает Тегеран. Так, в марте 2011 г. Кабул с визитом посетил министр внутренних дел Ирана Мустафа Мохаммад Наджар, который резко выступил против возможного размещения постоянных американских военных баз на территории Афганистана: «Америка принесла в регион нестабильность и терроризм». Во время нахождения иранского гостя командование НАТО в Кабуле распространило официальное заявление, в котором обвинило «некоторые иранские силы» в причастности к поддержке талибов.
Как бы то ни было, пассивность соседей делает Соединенные Штаты ключевым игроком на афганской «шахматной доске» и заставляет местную элиту чутко и внимательно относиться к пожеланиям и оценкам Вашингтона.
Другим фактором, способствующим афгано-американскому сотрудничеству, является память афганцев о событиях 1990-х годов. После распада СССР и падения последнего промосковского режима – правительства Наджибуллы – крупные державы утратили интерес к Афганистану. Разгоревшаяся тогда гражданская война, в ходе которой был разрушен Кабул, стала во многом результатом соперничества соседних государств, прежде всего Пакистана и Ирана. Многие афганцы сегодня уверены, что уход США из Афганистана приведет к повторению тех трагических событий.
Десятилетнее пребывание сил НАТО сделало Афганистан более зависимым от иностранных доноров. В настоящее время больше половины расходов афганской армии и полиции оплачиваются Соединенными Штатами. Вряд ли Афганистан в ближайшем будущем будет в состоянии самостоятельно содержать свои правоохранительные структуры. Хотя западные партнеры Кабула обещают продолжить оказание помощи и после вывода своих войск, афганцы опасаются, что США утратят интерес к Афганистану, и это, в свою очередь, приведет к краху не только политического режима, но и экономической системы.
Поскольку планы Соединенных Штатов до конца не прояснены, политики и эксперты рассматривают разнообразные сценарии. В ноябре 2010 г. Центр изучения современного Афганистана (ЦИСА) по заказу Института востоковедения РАН смоделировал развитие ситуации, которая может возникнуть в Афганистане в случае форсированного вывода сил США и НАТО, отказа от активной поддержки Хамида Карзая, от продолжения активной борьбы с движением «Талибан» и другими радикальными вооруженными группировками. В этом случае ситуация в Афганистане может выглядеть следующим образом.
Сначала группировки талибов попытаются максимально быстро овладеть административными центрами провинций Кандагар, Гельманд, Урузган, Хост, Кунар, Нангархар. Особый интерес для боевиков будут представлять города Кандагар и Джелалабад, захват которых станет приоритетной военно-политической задачей. Предполагается, что Кандагар является целью группировки Шура-е-Кветта, Джелалабад – группировок Сиражуддина Хаккани, Гульбеддина Хекматияра и ряда структур, состоящих из боевиков-иностранцев.
Захват относительно обширных плацдармов на юге и востоке страны является непременным условием для развития дальнейшей экспансии талибов и их союзников на Кабул и в центральные провинции Афганистана. На этом этапе вероятно формирование «талибских княжеств», сепаратистских анклавов, независимых от Кабула. Оно будет сопровождаться резким ростом объемов производства наркотиков на подконтрольных радикальным исламистам территориях, поскольку талибам срочно потребуются дополнительные средства для продолжения боевых действий, установления политического доминирования. Помимо командования Шуры-е-Кветта и группы Хаккани создать собственные легальные военно-политические плацдармы на востоке (провинции Кунар, Нуристан), в непосредственной близости от Кабула (провинции Логар, Каписа), а также на севере (провинция Кундуз), скорее всего, попытается группировка Гульбеддина Хекматияра.
После создания талибских плацдармов на юге и востоке Афганистана основные усилия командиров «Талибана» сосредоточатся на борьбе за Кабул. Выход на афганский оперативный простор, очевидно, приведет к ужесточению конкуренции между лидерами радикалов на разных уровнях: в окружении муллы Мохаммада Омара, между талибами и Хекматияром, а также между Хекматияром и группой Хаккани. Кроме этого вероятно обострение соперничества между различными талибскими командирами.
Укрепление талибов в Афганистане (особенно на юге и юго-западе) спровоцирует ответную реакцию со стороны Ирана и Индии. Для Тегерана суннитский фундаментализм – враг номер один. Укрепление талибов также является прямой угрозой национальной безопасности Дели, так как разрушает баланс сил между Индией и Пакистаном. Можно предположить, что Иран предпримет дополнительные усилия, чтобы взять под контроль провинцию и город Герат, используя его в дальнейшем в качестве форпоста для противостояния талибам внутри Афганистана. Для Индии приоритетной задачей станет выстраивание союзнических отношений с новым Северным альянсом и оказание военной помощи кабульскому правительству, чтобы сковать активность талибов внутри Афганистана и предотвратить их возможный транзит в Кашмир.
В случае падения Кабула обострится внутренняя конкурентная борьба в движении радикалов, в которой, скорее всего, победят те, кто будет пользоваться прямой военно-политической поддержкой Пакистана. Если возрождение талибского Афганистана и произойдет, то станет плодом компромисса между различными группировками талибов, которые смогут обеспечить себе лидерские позиции на юго-западе страны. Взятие Кабула резко усилит центробежные тенденции в Афганистане и повысит вероятность раскола на пуштунский юг и непуштунский север. Фактический раскол приведет к началу гражданской войны. Следствием чего станет не только ликвидация всех социально-экономических и гуманитарных достижений последних девяти лет, но и разрушение афганского государства, которое вряд ли сможет быть восстановлено в обозримой исторической перспективе в своих официальных границах.
Враг без лица
Впрочем, пока западные государства демонстрируют желание продолжить оказание поддержки правительству Хамида Карзая. В 2010 г. против планов Барака Обамы о скором выводе войск выступили партнеры США по антитеррористической коалиции. В результате сам Обама во время одного из видеомостов с Хамидом Карзаем заявил о возможном переносе сроков, когда ответственность будет передана национальным силам Афганистана.
Ключевым инструментом обеспечения безопасности должна стать Афганская национальная армия (АНА). Именно от ее количественных и качественных характеристик зависит стабильность нынешнего афганского государства, успех борьбы с «Талибаном» и «Аль-Каидой» в регионе. Западные союзники Кабула приступили к воссозданию национальных силовых и правоохранительных структур Афганистана практически сразу же после свержения режима талибов в 2002 году. С тех пор новая афганская армия внешне достаточно сильно изменилась: ее численность возросла в несколько раз, а по техническому оснащению и системе подготовки она стала похожа на войска Североатлантического альянса. Тем не менее, афганские генералы и политики признают, что пока АНА по-прежнему не в состоянии самостоятельно защитить государство и народ от талибов, прежде всего из-за отсутствия тяжелого вооружения.
Кабульские власти уже несколько лет призывают западные страны оснастить национальную армию тяжелой техникой, прежде всего боевыми самолетами и танками. Однако, несмотря на призывы, западные спонсоры по-прежнему не спешат. В результате в настоящее время армия Афганистана напоминает скорее полицию, чем национальные вооруженные силы. Другими словами, Кабул зависим не только от экономического содействия Запада, но и от западного военного присутствия.
Называют разные причины, по которым Вашингтон не хочет оснастить афганскую армию самолетами и танками: от существования тайного договора с соседними странами, которые опасаются появления сильной афганской армии, до неуверенности Запада в завтрашнем дне кабульского режима. Ведь совершенно неизвестно, в чьих руках окажутся танки и самолеты, если союзное американцам правительство не устоит – возможен как переход власти к радикалам, так и череда военных переворотов по модели соседнего Пакистана. Кстати, сохранение американского военного присутствия может стать способом контроля и над состоянием дел в афганском военном истеблишменте.
На боеспособность афганских вооруженных сил влияет не только уровень их технической оснащенности. По словам ряда экспертов, военнослужащие афганской армии и полиции идеологически дезориентированы, не имеют четкого представления о своих целях и образа главного противника. В то время как ответственность за теракты в стране берут на себя в основном талибы, официальный Кабул клеймит неких виртуальных злодеев, именуемых «врагами афганского народа». Дезориентирует армию и то, что президент страны, обращаясь к духовному лидеру воюющих с АНА талибов мулле Омару, неоднократно называл его «своим братом».
События в Афганистане оказывают сильное влияние на большинство государств региона. Преждевременный вывод иностранных войск может привести не только к дестабилизации Афганистана, но и к радикализации всего региона с непредсказуемыми последствиями, что не отвечает интересам большинства государств Центральной Евразии. В свою очередь, продолжение военного присутствия НАТО на территории Афганистана снова будет обострять вопрос о размещении постоянных военных баз США, тем самым создавая дополнительную напряженность в отношениях Вашингтона с Москвой, Пекином и Тегераном. Но, пожалуй, самым пагубным образом на состоянии дел скажется затягивание нынешней ситуации неопределенности, которая повышает нервозность всех вовлеченных в процесс сил и не позволяет никому из них выработать эффективную модель поведения.
Омар Нессар – директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА), главный редактор портала «Афганистан.Ру».

ЕвроПРО как смена стратегической игры
Как России и Соединенным Штатам начать демилитаризацию отношений
Резюме: Трансформация стратегических отношений между Россией и Америкой на путях контроля над вооружениями невозможна в принципе. Наиболее реальный путь – формирование сообщества безопасности в Евро-Атлантике, в рамках которого связи между государствами Северной Америки и Европы, включая Россию, были бы демилитаризованы.
В конце 2011 г. в России должно быть принято решение о структуре системы воздушно-космической обороны. Оно, в свою очередь, будет зависеть от того, удастся ли Москве договориться с НАТО (а реально – с Соединенными Штатами) о параметрах сотрудничества в области противоракетной обороны Европейского континента, для краткости – ЕвроПРО. Этой теме будет посвящено заседание Совета Россия – НАТО на уровне министров обороны, намеченное на июнь 2011 года. Таким образом, предстоящие несколько месяцев определят характер и содержание военно-политических отношений между Россией и Западом.
Преодоление амбивалентности
Выбор, стоящий перед Москвой и ее партнерами, очевиден: либо сохранение амбивалентности, сформировавшейся после окончания холодной войны, либо переход к стратегическому сотрудничеству. К амбивалентности и в России, и на Западе успели привыкнуть. Она не является оптимальным состоянием взаимоотношений, чревата периодически возникающими кризисами, один из которых в 2008 г. привел к войне на Кавказе, но психологически комфортна, поскольку не заставляет принимать трудных решений, преодолевать наслоившиеся за десятилетия предрассудки, рисковать политическим положением сегодня ради негарантированных приобретений в неопределенном будущем.
Если России и Североатлантическому альянсу не удастся достичь договоренности о сотрудничестве в области ПРО, каждая из сторон пойдет своей дорогой. США с союзниками будут строить систему обороны Европы от баллистических ракет Ирана. Российская Федерация, в свою очередь, сделает ставку на систему для защиты преимущественно от удара со стороны Соединенных Штатов. На продвинутых этапах – третьем и четвертом – объявленной администрацией Обамы программы строительства европейской ПРО американские средства перехвата будут рассматриваться как представляющие угрозу российскому потенциалу сдерживания. Откроется перспектива новой гонки стратегических оборонительных и наступательных вооружений.
Это может серьезно скорректировать российскую внешнюю политику, цели и задачи которой пересмотрят в изоляционистском и нео-конфронтационном духе, а социально-экономический курс придется подчинить логике осажденной крепости и требованиям национальной безопасности. Эти ограничения – и сама истощающая ресурсы гонка вооружений – очевидно, не позволят России на нынешнем этапе справиться с задачей модернизации, законсервируют развитие страны, что создаст серьезную угрозу разложения и распада уже на выходе из «прохладной войны».
Европейцы, в свою очередь, не убеждены, что им грозит ракетная опасность со стороны Ирана, а платить за систему ПРО, которая к тому же может создать напряженность в отношениях с Россией, им совсем не хочется. Впрочем, заявление Москвы о намерении разместить в Калининградской области ракеты «Искандер» может изменить ситуацию. Контрмеры такого характера способны убедить Европу в необходимости американской защиты – хоть от Ирана, хоть от Москвы.
Не факт, однако, что США, разместив свою систему ПРО в Европе и консолидировав НАТО ввиду новой напряженности с Россией, окажутся в стратегическом выигрыше. Продолжающееся возвышение Китая и фундаментальные перемены на Ближнем и Среднем Востоке, которые делают неясными перспективы не только Египта, но и Саудовской Аравии; нерешенность ядерной проблемы Ирана; нестабильность и неопределенность в Афганистане и, что важнее, Пакистане… На фоне всего этого Вашингтону меньше всего нужен возврат к стратегической напряженности в отношениях с Москвой.
Если все эти соображения способны перевесить сиюминутный комфорт и отвращение к риску как таковому, Россия, Соединенные Штаты и Европа смогут, оказавшись сегодня в преддверии «трансформационного момента» в их стратегических отношениях, переступить этот порог. Об окончании холодной войны говорится беспрерывно, начиная со встречи Михаила Горбачёва и Джорджа Буша-старшего у берегов Мальты в 1989 г., но окончательно вырваться из психологического плена противостояния пока не удалось. Мало на что повлияла и декларация прошлогоднего Лиссабонского саммита Совета Россия – НАТО, в которой стороны договорились именовать друг друга стратегическими партнерами.
Не меняет ситуацию и российско-американский Договор по СНВ-3, подписанный и ратифицированный в 2010 году. Он, безусловно, важен и ценен как символ продуктивности «перезагрузки» и как продолжение военно-стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Договор, как и породивший его процесс контроля над вооружениями, являются инструментами регулирования отношений стратегической враждебности или, как минимум, соперничества. Регулируя эти отношения, Договор по СНВ их воспроизводит и укрепляет.
Дальнейшие шаги в области контроля над вооружениями – стратегическими и достратегическими, ядерными и «обычными», – безусловно, необходимы, но следует также иметь в виду, что и они не выведут отношения между Москвой и Вашингтоном, Россией и Западом в целом за рамки, очерченные в период советско-американского противостояния. Более того, чем ниже разрешенные «потолки» вооружений, тем сложнее сделать следующий шаг – особенно России, с учетом разницы экономических, научно-технических, финансовых, а также неядерных военных потенциалов сторон. Сохранение в совершенно иных условиях модели стратегических отношений, возникшей шесть десятилетий назад, представляет собой ловушку для Москвы.
Выбраться из ловушки
Существование этой ловушки косвенно признается в России. За два последних десятилетия в Москве не раз пытались найти из нее выход, дважды повторяя одни и те же маневры. В начале 1990-х гг. и в начале 2000-х гг. была популярна идея интеграции в западные структуры безопасности посредством вступления в НАТО и заключения военно-политического союза с США. Во второй половине 1990-х и в середине 2000-х господствовала идея создания геополитического противовеса Соединенным Штатам посредством формирования «центра силы» в СНГ, сближения с незападными центрами силы, прежде всего с Китаем, и установления ситуативных альянсов с оппонентами Вашингтона – от Белграда и Багдада до Тегерана и Каракаса. Эти усилия не привели ни к союзу с Америкой, ни к установлению удовлетворительного баланса в отношениях с ней.
Военно-политический союз с Вашингтоном – в том числе в форме присоединения к НАТО – в принципе нереален: Москва, очевидно, не намерена жертвовать своей стратегической независимостью. Это – глубокая убежденность подавляющего большинства российской политической элиты, которая вряд ли изменится в обозримом будущем. На пути в Североатлантический альянс есть много других препятствий, в значительной степени они связаны с позицией западных стран, но стратегическая самостоятельность России является отправным пунктом любых реалистических построений на тему военно-политического сотрудничества с Западом.
Создание противовеса влиянию Америки с помощью разнообразных геополитических комбинаций не только бесперспективно, но и ведет к результатам, обратным желаемым. Консолидация СНГ в «российский блок» не просто сопряжена с многочисленными трудностями, но практически недостижима. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать внешнюю политику крупнейших стран Содружества – Украины, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии или хотя бы задаться вопросом о том, почему ни одна страна СНГ не последовала за Россией в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Поддержка антиамериканских режимов чревата немалыми рисками из-за очевидной неспособности контролировать эти режимы. Кроме того, тесное общение с явными диктатурами сопряжено с репутационными потерями. Остается один реальный путь – блокирование с Пекином. В Китае, который привык действовать в одиночку, не испытывают, однако, нужды в союзнике – тем более претендующем на равный статус, материально не подкрепленный. Для России же отказаться от «неравного брака» с США, чтобы стремиться заключить подобный же союз с КНР, было бы абсурдом. Итак, что делать?
Начать надо с признания, что действительной потребностью России является не союз или паритет с Соединенными Штатами, а выход за пределы этой парадигмы и преодоление невыгодного положения, когда ни союз, ни баланс невозможны. Это означает установление с основными международными игроками таких отношений, которые гарантированно исключали бы применение военной силы для решения межгосударственных конфликтов и противоречий. Такое состояние обычно называется «стабильным миром», а совокупность государств, между которыми установлен стабильный мир, принято именовать сообществом безопасности. Упор делается именно на гарантированное исключение военно-силовых методов, война становится делом немыслимым, отношения между государствами демилитаризуются. Союз может и не случиться, но военный баланс однозначно утрачивает значение.
Сообщества безопасности уже более полувека существуют в рамках НАТО и Евросоюза (Атлантическое сообщество безопасности), в рамках альянсов между США, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Канадой (Тихоокеанское сообщество), в Юго-Восточной Азии между странами АСЕАН, между арабскими государствами Персидского залива, в Северной Америке (Соединенные Штаты, Канада, Мексика). Такое сообщество, по-видимому, существует между Россией и рядом стран – например, Белоруссией или Германией. Итак, появление сообщества безопасности в Евро-Атлантике с участием Северной Америки и всей Европы, включая Россию, является важнейшей политической потребностью Москвы на западном направлении.
Создание подобного сообщества посредством заключения Договора о европейской безопасности представляется привлекательным, но на деле невозможно. Теоретически, конечно, можно допустить подписание такого договора и даже его ратификацию, но договоры не создают отношений, они их в лучшем случае оформляют. История пактов о ненападении – кстати, юридически обязывающих – не внушает особого оптимизма. Трудно всерьез доказывать, что государства не исполняют свои торжественные обязательства по целому ряду документов – от Хельсинкского Заключительного акта и парижской Хартии для новой Европы до стамбульской Хартии европейской безопасности – исключительно потому, что эти документы носят политический, а не юридический характер. Наверняка есть более существенные причины.
Для того чтобы понять, как выстраивать сообщество безопасности в Евро-Атлантике, необходимо уяснить, каковы на самом деле коренные проблемы безопасности в регионе. На наш взгляд, их две.
Одна связана со стойкой озабоченностью Москвы долгосрочными целями США в отношении России. Этим, в конечном счете, объясняются беспокойство по поводу расширения НАТО на восток и страхи, связанные с «цветными революциями». Россия озабочена активностью Вашингтона на пространстве СНГ, а также планами создания американской системы противоракетной обороны.
Вторая проблема – зеркальное отражение первой, но на другом уровне. Речь идет о беспокойстве стран Центральной и Восточной Европы по поводу внешней политики «вставшей с колен» России. Это беспокойство подпитывается официальной риторикой Москвы о зонах «привилегированных интересов» и о «защите граждан Российской Федерации за рубежом»; практикой перекрытия газопроводов; угрозами размещения ракет в Калининграде; маневрами у границ Балтийских стран и, конечно, ситуацией на Кавказе.
Без снятия этих двух проблем стабильный мир в Евро-Атлантике не наступит. Москва верно определила ключевое направление – российско-польские отношения – и сумела начиная с 2009 г. сделать очень важные шаги к историческому примирению с Варшавой. На сегодняшний день инерция примирения пока не набрала достаточную силу, чтобы сделать процесс необратимым. Российско-польский опыт еще не только не стал моделью для инициирования сходных процессов на других направлениях – в частности, для нормализации отношений со странами Балтии, – но фактически еще до конца не осмыслен в Польше и России. Тем не менее, движение в сторону решения «российской проблемы» Центральной и Восточной Европы началось.
Вторая часть двуединой задачи общеевропейской безопасности затрагивает отношения между Москвой и Вашингтоном. Сотрудничество в области создания ЕвроПРО может стать началом решения «американской проблемы» России.
Противоракетный ключ
Первый шаг – и это логично – сделали американцы. В сентябре 2009 г. президент Обама объявил о реконфигурации проекта ПРО в Европе и отказе в этой связи от планов администрации Джорджа Буша-младшего по созданию позиционного района американской ПРО в Польше и Чехии. По согласованию с Вашингтоном Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул идею совместной европейской системы ПРО с участием России. Москва заинтересовалась этой инициативой, и на Лиссабонском саммите альянса в ноябре 2010 г. президент Медведев представил российское предложение о «секторальной» ПРО в Европе.
Подробности натовского и российского предложений не публиковались, но в общих чертах речь идет, по-видимому, о координации систем ПРО (в первом случае) и о создании общей системы с заранее определенными секторами ответственности (во втором). Это существенное сближение позиций, и будет печально, если оно окажется недостаточным для достижения соглашения.
Фактически и Россия, и страны Североатлантического альянса признают наличие растущей ракетной угрозы. В Соединенных Штатах прямо говорят о ее источнике – Иране; в России, напротив, предпочитают об Иране в этой связи не упоминать, главным образом из политических соображений. В Москве согласны, однако, что неопределенность развития ситуации на Ближнем и Среднем Востоке в целом повышает риски, исходящие из этого региона.
Есть принципиальное согласие на уровне экспертов, что сотрудничество в области ПРО могло бы быть нацелено на создание системы защиты от класса ракет, который отсутствует в арсеналах и стран НАТО, и России – ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км), запрещенных советско-американским Договором по РСМД 1987 года. В последние годы Россия и США предложили другим странам присоединиться к этому договору. Это предложение остается в силе.
Уже давно существует обоюдное понимание необходимости объединить информационно-аналитические средства России и стран НАТО в единую интегрированную систему контроля за пусками ракет. Еще в 2000 г. подписано российско-американское соглашение о создании центра обмена данными на этот счет, которое, однако, так и не было реализовано из-за ухудшения политических отношений между Москвой и Вашингтоном.
Если необходимость интеграции информационных систем – с непосредственной передачей данных на огневые средства – споров не вызывает, то объединение боевых систем представляется более проблематичным. Логично предположить, что ни одна из сторон не захочет передоверять свою безопасность другой, а система двух ключей легко может «заклинить» – с катастрофическими последствиями. Иными словами, «палец» на натовской кнопке должен будет остаться натовским, а на российской – российским.
Взаимодействие двух систем, распределение ответственности должно соответствовать решению общей задачи – защите Европы от ракет третьих стран. Речь, конечно, идет не о каком-то новом разделе Европы между Россией и Америкой, а о военно-технической целесообразности организации защиты европейских стран при полном уважении их государственного суверенитета. Возможность поражения одной ракеты двумя перехватчиками, стартующими с разных сторон, повышает надежность защиты. Чтобы не было споров, кому в каких случаях что сбивать, необходимы договоренности, достигнутые и зафиксированные заранее.
Сопоставление существующих и перспективных боевых потенциалов России и Соединенных Штатов в области ПРО свидетельствует о значительном отрыве американцев в этой области. Позиционный район, планировавшийся при Буше в Центральной Европе, в Москве называли третьим – в ряду аналогичных районов ПРО на Аляске и в Калифорнии. Помимо наземных, в Вооруженных силах США имеются комплексы ПРО морского базирования. Российский арсенал много скромнее. Он включает систему противоракетной обороны Москвы, основанную на принципе поражения ракет с помощью ядерных взрывов, и ограниченное число дивизионов комплексов С-300, к которым только начали присоединяться системы С-400, способные защищать объекты от ударов ракет средней дальности. В целом у России недостаточно средств ПРО для противодействия США, но их хватает, чтобы начать сотрудничество с американцами.
Россия только приступает к масштабному переоснащению Вооруженных сил, в рамках которого планируется значительно повысить возможности противоракетной обороны. Тем не менее, даже в обозримой перспективе не приходится говорить о равенстве потенциалов с Соединенными Штатами. Это означает, что, сотрудничая с США в области создания ЕвроПРО, нужно делать упор – в отличие от традиционного контроля над вооружениями – не на паритете и равенстве, а на полномасштабном и всеобъемлющем характере взаимодействия. Это означает, что концепция, архитектура и само строительство ЕвроПРО должны быть абсолютно прозрачными, открытыми и доступными для всех участников проекта – несмотря на то, что их долевой вклад на разных этапах может быть различным. Если искать ближайший аналог для такого проекта, им может стать МКС – с ее международным космическим экипажем, национальными модулями, наземными центрами управления и особенностями финансирования.
Почему мы считаем, что ЕвроПРО, подобно мирному космосу, может стать для России и Америки мостом от соперничества к сотрудничеству? Прежде всего – благодаря стратегическому характеру проекта. Не всякое сотрудничество, как свидетельствует опыт, способно создать условия для стратегического разворота. Так, участие российской армии в миротворческой операции НАТО в Боснии и Герцеговине (СФОР/ИФОР) не создало «критической массы». В то время как на Балканах действительно создавалась новая ткань отношений, в центре – в Генштабе и Пентагоне – на это взаимодействие смотрели как на нечто второстепенное. Другое дело – противоракетная оборона.
Сотрудничество в этой области влечет за собой последствия «по всей линии». Невозможно совместно обороняться от ракетного нападения с третьей стороны, в то же время бесконечно держа друг друга под ракетным прицелом и угрожая взаимным гарантированным уничтожением. Взаимодействие по линии ПРО логически ведет к трансформации ядерного сдерживания. Безъядерный мир не наступает, но ядерные отношения во все большей степени утрачивают заложенную в них с самого начала взаимную враждебность. Говоря иначе, ядерные арсеналы России и США сохраняются, но потребность в обоюдном сдерживании постепенно исчезает. Этот процесс может занять длительное время, но важен не момент осознания «отмены сдерживания», а направление движения.
Устойчивость процессу стратегической трансформации будет придавать практическое сотрудничество в определении общих угроз и принятии мер по их нейтрализации. По мере расширения и углубления взаимодействия в военной сфере начнется постепенная демилитаризация отношений между Москвой и Вашингтоном: военно-силовой компонент будет вынесен за скобки. В рамках этого процесса произойдет изменение стратегий национальной безопасности, военных доктрин, конкретных стратегических планов государств, а также предназначения вооруженных сил, их дислокации, сценариев учений, программ обучения и подготовки военнослужащих и т.п. ЕвроПРО, как локомотив, способна «потянуть» за собой целый военно-стратегический, оперативный и даже тактический «поезд».
Мы не ожидаем, что даже в результате реализации проекта ЕвроПРО Россия и Америка станут союзниками, если под «союзом» подразумевается модель НАТО или, к примеру, американо-японского договора безопасности. Москва в полной мере сохранит стратегическую самостоятельность, а Соединенные Штаты не будут обременены слишком близкими отношениями со столь негабаритным – ни младшим, ни равным – союзником, как Российская Федерация. Обе стороны сохранят достаточно возможностей для налаживания оптимальных отношений со «вторым номером» современной глобальной иерархии – Китаем. С самого начала Пекину должно быть предельно ясно: проект ЕвроПРО не направлен против КНР.
На пути к глобальной Европе
Итак, подведем итоги. Российская модернизация однозначно нуждается в технологических, инновационных, финансовых, инвестиционных и других возможностях развитых стран. Большая часть ресурсов, которые реально могут быть привлечены для этих целей, сосредоточена в государствах Европейского союза. Однако невозможно взаимодействовать с ЕС, сохраняя базовое враждебное отношение к НАТО. В случае возвращения напряженности между Россией и США не многого удастся достичь даже в контактах с Германией.
Трансформация стратегических отношений между Россией и Америкой на путях контроля над вооружениями невозможна в принципе. Снятие остаточного противостояния путем присоединения Российской Федерации к Североатлантическому альянсу маловероятно и отчасти нежелательно. Поиск противовеса Америке путем блокирования с ее оппонентами бесперспективен и крайне опасен. Наиболее реальный путь к трансформации отношений – формирование сообщества безопасности в Евро-Атлантике, в рамках которого отношения между государствами Северной Америки и Европы, включая Россию, были бы демилитаризованы. Идеал будущих отношений России и Соединенных Штатов – это сегодняшние отношения между Москвой и Берлином.
Для того чтобы возникло сообщество безопасности, необходимо установить прочное доверие между Россией и США, с одной стороны, и странами Центральной и Восточной Европы, с другой. Повышение доверия не произойдет автоматически, как функция простого временного отдаления от периода холодной войны. Требуются конкретные проекты тесного сотрудничества в стратегических областях. Именно на это указывает опыт Западной Европы и Атлантического сообщества после окончания Второй мировой войны. В качестве «головного» трансформационного проекта на американо-российском направлении мы предлагаем ЕвроПРО, общие контуры подхода к которому мы попытались изложить в этой статье.
Проект сотрудничества в области ПРО рассматривается именно как «головной» – с учетом того, что за ним последуют другие, а рядом будет реализовываться программа исторического примирения на востоке Европы. Очевидно, что сообществу безопасности в Евро-Атлантике потребуется экономическая основа. Эту роль может сыграть энергетическая интеграция – подобно тому, как 60 лет назад объединение угля и стали явилось не только основой европейского Общего рынка, но и фундаментом прочного мира между Германией и Францией.
Очевидно, что Евро-Атлантическое сообщество безопасности нуждается в соответствующем «нарративе» – идеологической, ценностной составляющей. При всем многообразии культур народов, населяющих это пространство, между ними имеется значительная общность. Эта общность коренится в самой природе европейской цивилизации, распространившейся далеко за пределы географической Европы, но являющейся лишь частью глобального мира. Важнейшей ролью «глобальной Европы» может стать как раз формирование современной модели сообществ безопасности, которая могла бы быть применима и за пределами Евро-Атлантики. Что же касается России, то она сумела бы таким образом обрести устойчивое равновесие на международной арене, необходимое ей для решения самых важных – домашних – дел.
Д.В. Тренин – директор Московского центра Карнеги.

Мирное сосуществование XXI века
Закат вульгарного мультикультурализма как возрождение культуры модерна
Резюме: Мультикультурализм появился лишь как исторический эпизод, как проявление кратковременной «обратной волны», завершающей цикл индустриальной модернизации. Эта волна была вызвана внешними по отношению к культуре импульсами, сила которых ныне слабеет. Необходима новая модель.
Критика мультикультурализма становится модной политической тенденцией в Европе, но вызывает разноречивые отклики в России. При этом само значение этого понятия не вполне прояснено, дискуссии же носят исключительно политический характер. В данной статье я излагаю свою гипотезу о том, что ослабление позиций сугубо традиционалистской идеологии, выраженной в концепции вульгарного (упрощенного, выхолощенного) мультикультурализма, обусловлено фундаментальными историческими тенденциями – приливами и отливами модернизации.
Концепция «обратной волны»
В 1990-е гг. Самьюэл Хантингтон предложил модель глобального распространения демократизации, в которой использовал образ морских приливов и отливов. Он ввел в научный оборот понятие «обратной волны» (rеverse wave) демократизации, обосновав почти неизбежные, но временные отступления ранней демократии под напором традиционных и более укорененных в жизни народов недемократических режимов. Концепция «обратной волны» хорошо объясняет не только трудный и извилистый путь демократизации, но и более широкий круг процессов, объединяемых понятием «модернизация». Эта концепция позволяет лучше понять и природу одного из парадоксов глобализации.
Речь идет об одновременном проявлении с конца XX века двух, казалось бы, взаимоисключающих тенденций. С одной стороны, рост взаимосвязи стран мира и определенная стандартизация их культур. С другой – нарастание культурной дифференциации и дезинтеграции, связанное с феноменом так называемого «этнического и религиозного возрождения». Рост традиционных групповых форм идентичности (этнической, религиозной, расовой) стал активно проявляться с конца 1960-х и усилился в 1980–1990-х годах. Эта тенденция охватила большинство стран мира, что и обусловило глобальный кризис модерна, затянувшийся почти на полвека. Глубокой эрозии подверглись в это время основополагающие ценности культуры модерна, прежде всего ценности индивидуальной свободы, рационального сознания и прав человека. Эти процессы сопровождались обострением конфликтов между этническими и религиозными группами не только в постколониальных странах с незавершенной национальной консолидацией общества, но и в давно сложившихся государствах-нациях Европы и в США.
Чаще всего отмеченный парадокс глобализации объясняют естественным сопротивлением незападных культур модернизационным переменам, процессам стандартизации и унификации человеческой деятельности. Но основным фактором, подтолкнувшим волну традиционализма, стали, вероятнее всего, внешние по отношению к культуре импульсы, а именно – совокупность радикальных перемен в экономической, интеллектуальной и политической жизни мира, произошедших в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
Экономические перемены. Начала радикально меняться глобальная экономическая стратегия, обусловившая в немалой мере и изменения в культурной политике. С конца 1960-х гг. стремление к сокращению издержек на рабочую силу, затрат на развитие социальной инфраструктуры, на обеспечение экологической безопасности и других требований индустриального и демократического общества стимулировали вывоз капитала и перенос промышленных мощностей из развитого мира в развивающийся. Эта стратегия побуждала корпорации приспосабливать как индустриальные технологии, так и управленческие идеологии к культурным особенностям соответствующих стран. Простота применения новых технологий сделала их доступными для использования в разных культурных и социальных условиях. Внедрение этих технологий не потребовало столь значительных изменений в традиционной культуре, какие произошли в предшествующие эпохи при появлении первых гидравлических и паровых машин, а затем и механизмов на дизельной и электрической тяге. Поэтому вместо прежних западных стратегий слома традиционных культур возникала политика адаптации западной экономики к традиционным культурам.
Она проводилась и в самих западных странах в связи с массовой заменой местной рабочей силы на более дешевую, рекрутируемую из среды иммигрантов. Эта новая стратегия не только уменьшила стандартизирующие функции индустриализации по отношению к традиционным культурам, но и стимулировала рост традиционализма, легитимировала его. Бизнес перестал играть роль основного защитника и проводника модернизации и идей культурного универсализма, что, в свою очередь, повлияло на развитие мирового интеллектуального климата в последней трети XX века.
Изменение общественных настроений. Господствовавшая с XIX века идея модернизации как универсального прогресса подверглась в конце 1960-х и в 1970-х гг. сокрушительной критике. В этот период (времена деколонизации) модернизацию все чаще стали называть «насильственным цивилизаторством и орудием колониализма», а также «имплицитным тоталитаризмом». Левый европейский постмодернизм в лице Ролана Барта, Мишеля Фуко, Жиля Делеза, Герберта Маркузе и ряда других философов-шестидесятников буквально бомбардировал классическую теорию модернизации упреками в антигуманизме и подавлении прав народов на культурную самобытность.
Одним из поводов для сокрушительной критики модернизации послужили проблемы (реальные и мнимые) в ряде стран «третьего мира», подвергшихся модернизации в значительной мере под давлением внешних сил. В некоторых из этих государств, прежде всего африканских, она сопровождалась разрушением традиционных институтов и жизненных укладов, повлекших рост социальной дезорганизации.
Однако в те годы еще рано было оценивать результаты индустриальной модернизации, позитивные последствия которой проявились лишь к началу нового века. Только ныне они стали заметными как раз там, где процесс оказался наиболее полным и последовательным. Например, ряд стран преодолели или существенно смягчили основное бедствие африканского континента – высокую детскую смертность. В период с 1995 по 2007 гг. Бенин, Ботсвана, Намибия, Нигер, Лесото, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Сейшелы, Сенегал и некоторые другие (всего около 25% африканских государств) сумели обеспечить сокращение детской смертности в среднем на 18%. Здесь же сложились и сравнительно стабильные демократические режимы, достигнут 15-процентный совокупный рост доходов на душу населения. В большинстве же из 24 автократических государств континента, элиты которых боролись не столько с накопившимися веками внутренними проблемами, сколько с так называемым «экспортом модернизации», с 1995 г. наблюдается отрицательная динамика экономических и социальных показателей.
Но все это стало известно лишь в начале XXI века, а в 1970-е гг. большинство западных интеллектуалов демонизировали модернизацию в «третьем мире», описывая ее исключительно как форму колониализма, и одновременно идеализировали подъем национальных движений, возвращение народов к традиционным социальным практикам и образу жизни. Эти идеи были подхвачены в странах Востока, где послужили основой для формирования разнообразных фронтов сопротивления «новым западным крестоносцам». Многие исследователи давно обращают внимание на то, что политическая философия исламского фундаментализма представляет собой коллаж из идей левого европейского постмодернизма и антиглобализма.
Таким образом, в 1960–1970-е гг. западные интеллектуалы оказали существенное влияние на изменение глобальных политических стратегий, подстегнув волну традиционализации. По отношению к модернизации это была «обратная волна», отступление от идеи органического и целенаправленного обновления общества.
От гражданской интеграции к общинному строю
Одним из важных проявлений кризиса культуры модерна стало изменение в 1970-х гг. западных концепций национальной и культурной политики. До этого на протяжении нескольких веков процесс трансформации империй и становления национальных государств сопровождался политикой поощрения культурной однородности. Георг Фридрих Гегель и Франсуа Гизо, Эдуард Тейлор и Алексис де Токвиль, Жан Жорес и Макс Вебер при всех различиях в их политических предпочтениях твердо поддерживали принцип культурной однородности национального государства.
При этом в его истолковании и способах воплощения в жизнь единства не наблюдалось. Различались представления о мере культурной однородности, для одних она выражалась в формуле французской революции: «Одна страна, один народ, один язык», а для других – только в однородности политической и правой культуры при допущении разнообразия этнического и религиозного самосознания. В последнем случае можно было говорить о переходе страны от политики культурной ассимиляции к политике интеграции разных культур в единую гражданскую общность. Со временем идея национально-гражданской интеграции вытеснила доктрину культурной ассимиляции и после Второй мировой войны стала на Западе основой национально-культурной политики.
Культурная ассимиляция в XVIII–XIX веках достигалась преимущественно за счет навязывания населению страны единого языка, насильственного подавления местных или привнесенных языков, жестких запретов на функционирование локальных культур. На совершенно иных основах утверждалась гражданская интеграция. Она базировалась на идее дополнения множества культур единой гражданской и поощрения такой дополнительной культурной однородности косвенными методами. Так, американская политика «плавильного котла» (melting pot) переплавляла культуру иммигрантских групп, используя социально-экономические рычаги, преимущественно систему льгот. Такая политика не запрещала национальные культуры в быту и вместе с тем поощряла освоение иммигрантами единых гражданских норм на основе усвоения ими английского языка, а также совокупных норм культуры так называемого «белого протестантского большинства». Эта политика показала, что гражданская культура развивается не вместо национальных культур, а вместе с ними.
С конца 1940-х гг. политика «плавильного котла» и гражданской интеграции (в различных модификациях) стала доминирующей в Соединенных Штатах и в Европе. Однако уже в 1960-х гг. под давлением постмодернизма такая политика постепенно стала все более негативно восприниматься западным общественным мнением, которое тогда не умело отличить насильственную ассимиляцию от добровольной гражданской интеграции. Кроме того, интеграция тогда была еще непоследовательной и неполной, например, в США она ограничивалась расовой сегрегацией. Эти ограничения должны были быть сняты, однако вместо совершенствования интеграционной политики ее просто отбросили. Такое часто бывало в истории.
С 1970-х гг. началось победное шествие другой концепции, «мультикультурализма», отказавшейся от идеи гражданской интеграции и направленной на поощрение группового культурного разнообразия и простого соседства общин в рамках единого государства. В 1971 г. принципы мультикультурализма были включены в Конституцию Канады, в 1973 г. ее примеру последовала Австралия, в 1975 г. – Швеция. С начала 1980-х гг. эти принципы вошли в политическую практику большинства стран Запада и стали нормой, своего рода кредо для международных организаций.
Почти четыре десятилетия наблюдения за последствиями внедрения в жизнь этой политической доктрины дают основания для вывода о том, что она, решая одни проблемы, например, обеспечивая привыкание людей к неизбежному и растущему в современном мире культурному разнообразию, порождает другие, усиливая межобщинный раскол общества и провоцируя межгрупповые конфликты. Однако значительные сложности в оценке последствий этого феномена проявляются не только в силу этой двойственности.
Мультикультурализм и его трактовки
Мультикультурализм до сих пор является одним из наиболее расплывчатых терминов политического лексикона, означающим лишь то, что в него вкладывает каждый говорящий. Защитники мультикультурализма рассматривают его как характеристику современного общества, представленного многообразием культур, и как сугубо культурологический принцип, заключающийся в том, что люди разной этничности, религии, расы должны научиться жить бок о бок друг с другом, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Такой подход, как правило, не встречает возражений среди серьезных европейских политиков. Они выступают против других сторон мультикультурализма, рассматривая его сквозь призму государственной политики.
Поскольку сторонники и противники мультикультурализма оценивают его с различных позиций, то порой дискуссии на эту тему превращаются в сплошное недоразумение, как если бы люди серьезно спорили о том, шел дождь или студент? Примерно такая коллизия возникла при обсуждении политических заявлений, сделанных в конце 2010 – начале 2011 г. лидерами трех стран – Германии, Великобритании и Франции – по поводу «провала» политики мультикультурализма.
О чем шла речь? Ни один из трех лидеров не подверг сомнению саму необходимость мирного сожительства представителей разных культур в одном государстве. Все они использовали слово «провал», оценивая мультикультурализм исключительно как особую политическую стратегию, т. е. говоря об ошибочном, неверно выбранном государственными деятелями, принципе организации взаимодействия разных этнических, расовых и религиозных общин в единой стране. По сути, три европейских политика говорили только о мультикультурной дезинтеграции.
Первой на эту тему высказалась Ангела Меркель 18 ноября 2010 года. В речи канцлера ФРГ содержалось как признание в качестве общепринятого факта сосуществования в Германии разных культур (по словам Меркель, «ислам уже стал неотъемлемой частью Германии»), так и критика вульгарного мультикультурализма, т.е. такой политической практики, которая привела к раздельному и замкнутому существованию общин в составе одного государства. Именно эту замкнутость («живут бок о бок, но не взаимодействуют») канцлер определила как «абсолютный крах» политики мультикультурализма.
Эту же мысль повторил и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, внеся важное уточнение. Выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности (5 февраля 2011 г.), он подчеркнул, что проблему мультикультурализма составляет не столько специфичность разных религиозных культур, представленных в современной Великобритании, сколько отсутствие у новых британцев единой гражданской, общей британской идентичности. В 2007 г. было проведено социологическое исследование, которые выявило: треть британских мусульман считает, что им ближе мусульмане из других стран, нежели их сограждане-англичане. Эти и другие факты дали Кэмерону основание для вывода о том, что «отсутствие у молодых людей, выходцев из мусульманских стран, других идентичностей, кроме соотнесения себя с общиной, заставляет их придерживаться извращенных интерпретаций ислама и сочувствовать террористам». В целях преодоления культурного раскола общества и установления позитивного плюрализма британский премьер предложил особую либерально-гражданскую концепцию, названную им «мускулистый либерализм». На его взгляд, интеграция произойдет, если люди, принадлежащие к разным культурным сообществам, «освободившись от государственного гнета, обретут общую цель», например, в виде общей гражданской заботы о своей стране как едином доме.
В феврале 2011 г., последним из лидеров стран ЕС, тему мультикультурализма затронул президент Франции Николя Саркози, сам являющийся живым воплощением этого феномена современной Европы. Ведь история рода Саркози – пример переплетения по крайней мере трех традиций: французской, венгерской и еврейской. Понятно, что и претензии к мультикультурализму носят с его стороны не культурологический, а сугубо политический характер. Провал этой стратегии он, как и его коллеги по Евросоюзу, связывает с нарушением принципов гражданской интеграции: «Общество, в котором общины просто сосуществуют рядом друг с другом, нам не нужно, – отметил Саркози 12 февраля 2011 года. Если кто-то приезжает во Францию, то он должен влиться в единое сообщество, являющееся национальным». Напомню, что во Франции уже более двух веков под нацией (национальным сообществом) понимается согражданство и единая гражданская идентичность.
Невольники общин: либеральная критика мультикультурализма
В политических кругах у мультикультурализма есть два вида критиков. Консервативная критика (обозреватели часто называют ее «культурным империализмом» или «новым расизмом») исходит из необходимости замены мультикультурализма монокультурализмом и настаивает на законодательно закрепленном режиме привилегий для доминирующих культурных групп (религиозных и этнических). Апологеты такой позиции (неонацисты в Германии; активисты крайне правой «Английской лиги обороны» в Великобритании или партии Марин Ле Пен во Франции) резко отрицательно оценили выступления нынешних лидеров своих стран, рассматривая их как «беззубые», «пустой пиар», «обман общества» и т.д.
Позиция Меркель, Кэмерона и Саркози ближе к либеральной критике мультикультурализма, которая исходит из того, что сохранение культурного своеобразия является безусловным правом всех граждан. Однако зачастую такое сохранение своеобразия отнюдь не добровольно, оно происходит под давлением общин и вступает в противоречие с правами других людей, с принципом равноправия и с гражданской сущностью современного общества.
Либеральная критика приводит следующие аргументы.
Во-первых, эта политика обеспечивает государственную поддержку не столько культурам, сколько общинам и группам, которые необоснованно берут на себя миссию представительства интересов всего этноса или религии.
Во-вторых, государственное спонсирование общин стимулирует развитие коммунитарной (общинной) идентичности, подавляя индивидуальную. Такая политика закрепляет безраздельную власть общины, группы над индивидом, лишенным возможности выбора.
В-третьих, мультикультурализм искусственно консервирует традиционно-общинные отношения, препятствуя индивидуальной интеграции представителей разных культур в гражданское общество. Во многих странах Европы и в США известны многочисленные случаи, когда люди, утратившие этническую или религиозную идентичность, вынуждены были возвращаться к ней только потому, что правительство спонсирует не культуру, а общины (их школы, клубы, театры, спортивные организации и др.). В России же льготы, предназначенные для «коренных малочисленных народов Севера», вызвали в 1990-е гг. стремительный рост численности таких групп за счет того, что представители иных культур, прежде всего русские, стали причислять себя (разумеется, только по документам) к коренным народам в надежде на получение социальных льгот.
В-четвертых, главным недостатком политики мультикультурализма является то, что она провоцирует сегрегацию, порождая искусственные границы между общинами и формируя своего рода гетто на добровольной основе.
Во многих странах мира возникли замкнутые моноэтнические, монорелигиозные или монорасовые кварталы и учебные заведения. В студенческих столовых возникают столы «только для черных». Появляются «азиатские» общежития или дискотеки для «цветных», вход в которые «белым» практически заказан. В 2002 г. имам небольшого французского города Рубо посчитал недопустимым въезд в этот населенный пункт Мартины Обри, известнейшей политической персоны – мэра города Лилля, бывшего министра труда, впоследствии лидера Социалистической партии и кандидата в президенты Франции. Имам назвал свой городок «мусульманской территорией», на которую распространяется «харам», т.е. запрет для посещения женщины-христианки. Это пример часто встречающейся и парадоксальной ситуации – мультикультурализм на уровне страны оборачивается жесткой сегрегацией на локальном уровне.
Такие же превращения происходят и с иными ценностями, которые в 1970-е гг. лежали в основе самой идеи мультикультурализма. Эта политика, по замыслу ее архитекторов, должна была защищать гуманизм, свободу культурного самовыражения и демократию. Оказалось же, что на практике появление замкнутых поселений и кварталов ведет к возникновению в них альтернативных управленческих институтов, блокирующих деятельность избранных органов власти на уровне города и страны. В таких условиях практически неосуществима защита прав человека. Например, молодые турчанки или пакистанки, привезенные в качестве жен для жителей турецких кварталов Берлина или пакистанских кварталов Лондона, оказываются менее свободными и защищенными, чем на родине. Там от чрезмерного произвола мужа, свекра или свекрови их могла защитить родня. В европейских же городах этих молодых женщин зачастую не спасают ни родственники, ни закон. Карикатурный мультикультурализм, из которого выхолощены ценности гуманизма, способствует возрождению таких архаических черт традиционной культуры, которые уже забыты на родине иммигрантов.
В ряде исламских стран женщины становились не только членами парламента, судьями, министрами, но и главами правительств (Беназир Бхутто в Пакистане, Тансу Чиллер в Турции). А в исламских кварталах европейских городов турецкую, арабскую или пакистанскую женщину могут убить за любое неподчинение в семье мужчине, за подозрение в супружеской неверности, за не надетый платок. Правда, и в Германии турчанка Айгёль Озкан стала министром земельного правительства Нижняя Саксония (апрель 2010 года). Однако как раз она представляет ту, пока небольшую, часть иммигрантов, которая сумела вырваться из локальной общины и индивидуально интегрироваться в немецкое гражданское сообщество.
В замкнутых же исламских кварталах Берлина, Лондона или Парижа молодежь имеет значительно меньшие возможности социализации и адаптации, чем их сверстники, живущие вне добровольных гетто. Уже поэтому невольники общин заведомо не конкурентоспособны на общем уровне страны. К началу 2000-х гг. в Берлине лишь каждый двенадцатый турецкий школьник сдавал экзамены за полный курс средней школы, тогда как из числа немецких школьников такие экзамены сдавал каждый третий выпускник. Понятно, что и безработица затрагивает молодых турок в значительно большей степени, чем немцев. В 2006 г. 47% турчанок в возрасте до 25 лет и 23% молодых турок являлись безработными и жили за счет социальных пособий. При этом сама возможность получения пособий почти без ограничений по времени не стимулирует иммигрантов к интеграции в принимающее сообщество. Более того, социологические исследования показывают, что турецкая молодежь в Германии демонстрирует меньшее стремление к интеграции, чем турки старшего поколения. Вот это и есть реальное выражение краха политики мультикультурализма, точнее – политики культурной дезинтеграции.
Концепция «культурной свободы»: контуры политики нового века
Накапливается все больше доказательств того, что мультикультурализм появился лишь как исторический эпизод, как проявление кратковременной «обратной волны», завершающей цикл индустриальной модернизации. Эта волна была вызвана внешними по отношению к культуре импульсами, сила которых ныне слабеет.
Экономика. В 1970-е гг. мировое разделение труда определялось потребностью экономики в снижении издержек на рабочую силу, при этом ее качество, квалификация работников имели тогда меньшее значение, чем обилие и дешевизна трудовых ресурсов. Индустриальная экономика сама упрощала технологии, адаптируя их к социальным и культурным стандартам, сложившимся в данной местности. Новая же постиндустриальная экономика высоких технологий значительно менее пригодна для адаптации к локальным традиционным культурам. Сама сущность «высокой технологии» исключает возможность ее упрощения, поэтому она более требовательна к качеству трудовых ресурсов, оцениваемому по универсальным и стандартизированным критериям.
Это обстоятельство уже сейчас меняет характер мирового разделения труда. В странах «глобального Севера» уменьшается спрос на рабочую силу низкой квалификации. Большинство этих государств своей миграционной политикой поощряет приток только высококвалифицированных специалистов. Изменяется и отношение к вывозу капитала. Эксперты отмечают, что ныне американские фирмы предпочитают размещать производства первой стадии (высококвалифицированный умственный труд и опытное производство) у себя дома, второй стадии (производство элементов, требующих квалифицированного ручного труда) – в регионах, отличающихся высоким качеством технической культуры и долгой традицией квалифицированного индустриального труда (например, в Шотландии). Наконец, производства третьей стадии, требующие рутинной, трудоемкой, малоквалифицированной деятельности (скажем, изготовление элементов электронных изделий и сборка) – в таких странах, как Китай (Гонконг), Филиппины, Индонезия.
Странам, сохраняющим значительные пласты традиционной культуры, присущей неурбанизированным обществам, в современном разделении труда достаются лишь трудоемкие производства, требующие рутинного и малоквалифицированного труда. По мере того как эти государства или некоторые из них будут втягиваться в развитие собственного постиндустриального производства, им придется существенно изменять сложившийся в стране культурный климат. Экономика вновь воспроизводит креативную функцию по отношению к традиционной культуре, которую она частично утратила в эпоху ее адаптации к локальным традициям.
Политика. Индустриальная фаза модернизации могла осуществляться при разных политических режимах: демократических, авторитарных и тоталитарных. На постиндустриальном этапе модернизации возрастают требования к индивидуальной активности и творчеству работника. А это, в свою очередь, требует сравнительно радикальных изменений в обществе. Экономическая модернизация рано или поздно подталкивает модернизацию социально-политическую. Не случайно переход ряда стран Азии (прежде всего, Японии и Южной Кореи) к инновационному этапу модернизации сопровождался процессом их демократизации. Аналогичные процессы происходили в Латинской Америке (например, в Бразилии), а еще раньше – в странах Южной Европы (Испания, Португалия и Греция). Да и в России политический истеблишмент все яснее осознает, что экономические успехи будут все больше зависеть от «честных выборов». А факт того, что они уже и сегодня невозможны без справедливого суда, осознан уже давно.
Культурное развитие. Волна традиционализма в немалой мере породила архаичную политику мультикультурализма, возродившую и усилившую разобщенность. Ныне этот факт признается не только большинством экспертов, но и политическими кругами. В «Белой книге по межкультурному диалогу», выпущенной Советом Европы (2009), равно негативно оценены как концепция «культурной ассимиляции», так и «мультикультурализма» в его нынешнем виде. Международные организации и практически все демократические страны перешли к новой стратегии.
Во-первых, это поощрение интеграции иммигрантских групп в принимающее сообщество с использованием системы льгот и санкций. Во-вторых, «разделение сфер культуры». В публичной сфере поощряется культурная однородность, основанная на принятии единых формальных норм, контролируемых гражданским обществом. В приватной же области, также как и в духовной жизни, гарантируется возможность культурного разнообразия. Например, место для отправления специфических культов – это храм, тогда как улица – сфера общего светского пользования. Исходя из такого подхода, Саркози заявляет: «Мы не хотим, чтобы во Франции устраивали показательные уличные молитвы, но мечети – это нормально». Предполагается, что такая компромиссная модель позволяет обеспечить соблюдение прав человека вне зависимости от его культурных особенностей при сохранении разнообразия мультикультурного общества.
Модель «разделения сфер культуры», несомненно, отражает назревшие изменения общественных настроений, хотя и остается теоретически весьма несовершенной. В реальной жизни невозможно провести демаркационную линию между приватной и публичной жизнью. Например, воспитание детей в семье, казалось бы, относится к сугубо приватной сфере. Тогда как же оценить принятые в ряде европейских стран запреты на использование физических наказаний при воспитании детей? Таким же фактическим вторжением в личную жизнь являются законы, обязывающие родителей выплачивать алименты на поддержание детей при разводах. Да и сами защитники интересов той или иной культурной группы в приватной сфере неизбежно апеллируют к публичности. Само существование этнических или религиозных общин сегодня невозможно без общественных собраний, собственных изданий, системы просвещения и другой публичности.
Несомненно, новая концепция чрезвычайно противоречива. Вместе с тем, такая противоречивость характерна для большинства принципов, на которых держится современное политическое устройство государства-нации. Так права человека могут вступать в противоречие с принципом защиты национальной безопасности. И в случае роста угроз в любой стране вводятся ограничения прав человека, начиная с личного досмотра в аэропортах и заканчивая – в крайних случаях – установлением режима чрезвычайного положения. На практике противоречия между базовыми принципами политики всегда разрешаются за счет установления системы приоритетов. Они действовали во все времена и во всех сферах общественной жизни, в том числе и в национально-культурной.
Даже в период расцвета политика мультикультурализма имела ограничения. Так, ни одна европейская страна, допустившая на свою территорию ислам, не разрешала многоженства, принятого в мусульманской традиции, вначале потому, что этот принцип был способен разрушить всю систему европейского семейно-имущественного права, созданного для моногамной семьи. Затем этот принцип отвергался как безусловно дискриминационный по отношению к женщине. Ныне, в связи с ростом критики мультикультурализма, общегражданские нормы становятся еще более приоритетными по сравнению с нормами групповыми.
В мире не прекращаются поиски новых стратегий культурной политики. Одним из наиболее перспективных направлений является модель «индивидуальной свободы и культурного выбора», базовые принципы которой изложил Амартия Сен – известный мыслитель и ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике. Главная его идея состоит в постепенном ослаблении групповых форм идентификации и переходе к индивидуальному выбору. «Культурная свобода, – объясняет Сен, – это предоставление индивидам права жить и существовать в соответствии с собственным выбором, имея реальную возможность оценить другие варианты». Амартия Сен подчеркивает, что «множество существующих в мире несправедливостей сохраняется и процветает как раз потому, что они превращают своих жертв в союзников, лишая их возможности выбрать другую жизнь, и даже препятствуют тому, чтобы они узнали о существовании этой другой жизни». Вот и этнические, религиозные и другие групповые культурные традиции по большей части не добровольны, они «аскриптивны», т.е. предписаны индивиду от рождения. Поэтому основная цель политики поощрения культурной свободы состоит в ослаблении этой предопределенности, в развитии индивидуального мультикультурализма.
Концепция «культурной свободы» была с энтузиазмом встречена многими специалистами в области изучения культурной политики. Однако она пока не стала нормой и в западных странах. Что касается возможности ее применения в российских условиях, то это представляется крайне маловероятным в обозримой перспективе. И вовсе не потому, что этому будет препятствовать российский народ. Наиболее труднопроходимым для инноваций слоем культурной почвы является тот, который принято называть «российской элитой».
Россия: возможно ли продвижение к мультикультурной интеграции?
На февральском (2011) заседании Госсовета России, обсуждавшем проблемы межнационального общения, президент Дмитрий Медведев попытался реабилитировать слово «мультикультурализм», заметив, что новомодные лозунги о его провале неприменимы к России. На мой взгляд, такая оценка – результат недоразумения, «эффекта Журдена», не знавшего, что он тоже говорит прозой. Дело в том, что российский лидер сам неоднократно критиковал те же стороны мультикультурализма, что и его европейские коллеги. Особенно часто он это делал, говоря о ситуации на Северном Кавказе, где мультикультурная дезинтеграция чрезвычайно ярко проявляется в клановости, в этническом сепаратизме и в религиозном радикализме. Все это порождает почти непреодолимые преграды для управляемости региона, формирует беспрецедентную волну терроризма, не говоря уже о проблемах модернизации этой территории. Президент России, как и европейские лидеры, неоднократно связывал проблему преодоления такой раздробленности с гражданской интеграцией, которую он определял по-разному. На декабрьском (2010) Госсовете, посвященном взрыву русского национализма, Медведев назвал интеграцию развитием «общероссийского патриотизма», а на февральском Госсовете в Уфе – задачей становления «российской нации».
Российская версия политики мультикультурализма древнее и намного сложнее по своим последствиям, чем европейская. Мультикультурализм как форма поощрения групповой, общинной идентичности был неотъемлемой частью сталинской политики создания национальных республик (союзных и автономных), а также национальных округов и областей. Однако в советское время дезинтеграционные последствия такой политики частично снималась имитационным характером всей системы автономий, за фасадом которой скрывалось единое территориально-партийное управление. Проблема обострилась в постсоветское время, когда местные элиты попытались наполнить реальным содержанием формальный и мнимый суверенитет своих республик.
Девяностые годы прошли под знаком мобилизации представителей так называемых титульных национальностей в республиках России, поднимаемых местными элитами на борьбу за суверенитет. В ряде случаев такая мобилизация приводила к открытым вооруженным столкновениям больших групп населения с федеральной властью, как это было в Чеченской Республике. В 2000-е гг. ситуация изменилась, ее фокусом стали другие проблемы, а именно: отторжение иноэтнических мигрантов принимающим сообществом, прежде всего жителями крупнейших городов России.
Эта проблема породила столкновения между разными группами населения, вроде того, что произошло в Кондопоге в 2006 году. Вместе с тем, этнополитическая ситуация в России стала напоминать проблематику стран «глобального Севера». Это, казалось бы, позволяет в большей мере использовать зарубежные концепции и практики культурной, миграционной и этнической политики. Однако в реальности возможность прямой имплементации позитивных концепций и практик весьма ограничена.
Проблема объекта политики. На Западе ксенофобия принимающих сообществ направлена в основном на иммигрантов, т.е. иностранных граждан, прибывших из-за рубежа. В России же основным объектом ксенофобии выступают внутренние мигранты, граждане Российской Федерации, жители республик Северного Кавказа. Уже одно это показывает, что применяемая на Западе политика ослабления миграционных проблем за счет ограничений въезда иностранных граждан и изменений условий предоставления им гражданства или вида на жительство не может быть использована в качестве инструмента решения межэтнической и религиозной напряженности в России.
Проблема раздробленности политического менеджмента в сфере миграционной и этнической политики. В странах Европейского союза направленность развития законодательства и политических практик в сфере регулирования миграции, защиты прав человека и обеспечения прав национальных меньшинств взаимоувязаны как институционально (входят в единый блок управления), так и идеологически (опираются на единые ценности). В России же нет не только единого идеологического основания для интеграционной политики, но разорваны и само управление, и законодательные практики. Так, миграционная политика в 2000-х гг. претерпела изменения. Этническая же («национальная») политика России застыла в том положении, в каком она сформировалась в 1990-е годы. Концепция государственной национальной политики, принятая в 1996 г., не пересматривается. В 2000–2010 гг. законодательная активность Государственной думы в сфере этнической («национальной») политики была парализована, а министерство, которое в 1990-е гг. под разными названиями отвечало за проведение такой политики, ликвидировано.
Проблема фундаментальных особенностей функционирования государственной власти. На Западе основные новации в сфере этнической и миграционной политики формируются политическими партиями и институтами гражданского общества, проходят общественное обсуждение, затем принимаются и кодифицируются законодательной властью, становясь нормой для власти исполнительной. В России же принципиально иной способ формирования политики во всех сферах жизни. Ее принципы и нормы создаются исполнительной властью и затем одобряются партиями, представленными в Федеральном собрании. При таком способе функционирования политики участие экспертного сообщества и широкой общественности в ее выработке и реализации весьма ограничено, а возможность принятия контрпродуктивных политических решений, напротив, чрезвычайно велика. Кроме того, партии, отчужденные от реального участия в выработке политики и не обремененные ответственностью за ее проведение, склонны к популизму. Не случайно практически все партии, представленные в Государственной думе, эксплуатируют этнофобии и мигрантофобии, тогда как в крупнейших странах Евросоюза такие партии либо не попадают в парламент (как в Германии и Великобритании), либо находятся там в меньшинстве, как во Франции. Россия в числе европейских лидеров и по уровню массовой мигрантофобии, хотя и не опережает такие страны ЕС, как Венгрия, Латвия, Греция и Португалия.
В странах Европейского союза основным механизмом реализации этнокультурной и миграционной политики выступает взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества. Такое взаимодействие делает участие граждан в политике непрерывным, не ограниченным только временем очередных выборов. В России же институты гражданского общества крайне слабы. Более того, наша страна, судя по материалам международных исследований, отличается от 28 стран ЕС самым низким уровнем ценности гражданской солидарности и взаимного («горизонтального») доверия. При этом подстегнуть процесс гражданской интеграции одними лишь информационными манипуляциями по развитию «общероссийского патриотизма» не удастся. Все это делает маловероятной активизацию процесса гражданской интеграции в нашей стране в ближайшие годы.
И все же я верю, что движение России от мультикультурного раскола к мультикультурной интеграции стратегически неизбежно. Наша страна вступила на путь инновационной модернизации, и это не лозунг очередного лидера, а жизненная необходимость для государства с великой историей и великой культурой. Сама же инновационная экономика настолько же неизбежно требует модернизации политико-правовой и социально-культурной, насколько вдох требует выдоха.
Э.А. Паин – доктор политических наук, профессор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, генеральный директор Центра этнополитических исследований.

Революция и демократия в исламском мире
Резюме: Падающее воздействие великих держав создает политический вакуум на Ближнем и Среднем Востоке. Часть его заполнит Индия (в Афганистане), но в основном – на всей территории – усилится Китай. С учетом роста влияния Турции и Ирана состав игроков этого огромного региона и распределение сил будет в XXI веке больше напоминать XVII, чем ХХ столетие.
События в Тунисе и Египте продемонстрировали удивительный парадокс. Революции, вызвавшие эффект домино и поставившие на грань существования всю систему сдержек и противовесов в арабском мире, приветствовали не только Иран и «Аль-Каида», но и ряд западных политиков, первыми из которых должны быть названы президент и госсекретарь Соединенных Штатов. Отказ Николя Саркози предоставить убежище бежавшему из Туниса президенту Зин эль-Абидину Бен Али, который на протяжении десятилетий был оплотом интересов Парижа в Магрибе, еще можно было списать на растерянность или неизвестные широкой публике «старые счеты». Но призывы Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которые в разгар охвативших Египет бунтов, погромов и антиправительственных выступлений требовали от египетского президента Хосни Мубарака немедленно включить Интернет, обеспечить бесперебойную работу иностранных СМИ, вступить в диалог с оппозицией и начать передачу ей власти, вышли за пределы не только разумного, но и допустимого. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что в регионе у него нет не только союзников, но даже сколь бы то ни было ясно понимаемых интересов.
Непоправимые ошибки Америки
Откровенное до бесхитростности предательство главного партнера США в арабском мире, каким до недавнего времени полагал себя Мубарак, никак не может быть оправдано с практической точки зрения. «Либеральная оппозиция» во главе с экстренно прибывшим в Египет «брать власть» Мохаммедом эль-Барадеи, влияние которого в стране равно нулю, не имеет никаких шансов. Если, конечно, не считать таковыми возможное использование экс-главы МАГАТЭ в качестве ширмы, ликвидируемой немедленно после того, как в ней отпадет надобность. Заявления «Братьев-мусульман» о том, что, придя во власть, они первым делом пересмотрят Кэмп-Дэвидский договор, и сама их история не дают оснований для оптимизма. Амбиции еще одного потенциального претендента на египетское президентство, Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы, несопоставимы с возможностями генерала Омара Сулеймана, которого Мубарак назначил вице-президентом. А переход власти к высшему военному командованию хотя бы оставляет надежду на управляемый процесс.
Ближний Восток: история проблемы
Георгий Мирский. Шииты в современном мире
Евгений Сатановский. Новый Ближний Восток
Усмотреть смысл в «выстреле в собственную ногу», произведенном американским руководством, очень трудно. Разве что начать всерьез воспринимать теорию заговора, в рамках которого Соединенные Штаты стремятся установить в мире «управляемый хаос», для чего готовы поддерживать любые протестные движения и организовывать какие угодно «цветные» революции, не важно, за или против кого они направлены. Альтернатива – полагать, что руководство США и ряда стран Европы охватила эпидемия кратковременного помешательства (кратковременного – потому что через несколько дней риторика все-таки стала меняться). Такое впечатление, что в критических ситуациях лидеры Запада следуют не голосу рассудка, государственным или личным обязательствам, но некоему инстинкту. Тому, который заставляет их во вред себе, своим странам и миропорядку в целом приветствовать любое неустроение под лозунгом «стремления к свободе и демократии», где бы оно ни происходило и кого бы из союзников ни касалось.
Какие выводы сделаны из этого всеми без исключения лидерами стран региона от Марокко до Пакистана – не стоит и говорить. Во всяком случае, израильтяне, которые до сих пор полагали, что в основе предвзятого отношения администрации Обамы к правительству Биньямина Нетаньяху лежат столкновение популистских американских теорий с торпедировавшей их ближневосточной реальностью, антиизраильское лоббирование и личная неприязнь, внезапно начали осознавать: дело гораздо хуже, это работает система.
В рамках этой системы исторически непоправимых ошибок, последовательно совершаемых президентами Соединенных Штатов, Джимми Картер в 1979 г. заставил шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви отказаться от противостояния с аятоллой Хомейни. Исламская революция в Иране, не встретив сопротивления, победила со всеми вытекающими для этой страны, региона и мира последствиями, одним из которых было введение советских войск в Афганистан.
Сменивший Картера Рональд Рейган поддержал не только фанатиков-моджахедов, но и создание «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. Можно только вспоминать генерала ХАД (аналог КГБ в Демократической республике Афганистан) Наджибуллу, который при поддержке Запада мог стать в Афганистане не худшим руководителем, чем генералы КГБ и МВД СССР Алиев и Шеварднадзе в Азербайджане и Грузии. Вместо этого шиитский политический ислам в Иране получил достойного соседа и конкурента в лице террористического суннитского «зеленого Интернационала». Джордж Буш-старший в связи с краткосрочностью пребывания на президентском посту свой вклад в дело укрепления радикального политического ислама не внес. Он лишь провел «Войну в Заливе», ослабив режим Саддама Хусейна, но не уничтожив его в тот непродолжительный исторический момент, когда это могло быть поддержано всеми региональными игроками с минимальной выгодой для экстремистских организаций.
Зато Билл Клинтон, смотревший сквозь пальцы на появление ядерного оружия у Пакистана и проворонивший «черный ядерный рынок», организованный отцом пакистанской бомбы Абдулом Кадыр Ханом, поддержал авантюру израильских левых, приведшую Ясира Арафата на палестинские территории, и операцию пакистанских спецслужб по внедрению движения «Талибан» в качестве ведущей военно-политической силы Афганистана. Именно ближневосточный курс Клинтона привел к «интифаде Аль-Акса» в Израиле и мегатеракту 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах.
Президент Джордж Буш-младший, пытаясь привести в порядок тяжелое ближневосточное наследство Клинтона, расчистил в Ираке плацдарм для деятельности не только «Аль-Каиды» и других суннитских радикалов, но и таких шиитских радикальных групп, как поддерживаемая Ираном Армия Махди. Иран, лишившийся в лице свергнутого и повешенного Саддама Хусейна опасного соседа, получил свободу рук для реализации имперских амбиций, в том числе ядерных, стремительно превращаясь в региональную сверхдержаву. Попытка иранского президента-либерала Мохаммеда Хатами наладить отношения с Вашингтоном после взятия американской армией Багдада была отвергнута, что открыло дорогу к власти иранским «неоконам» во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Афганистане не были разгромлены ни талибы, ни «Аль-Каида», их лидеры мулла Омар и Усама бен Ладен остались на свободе, зато администрация, ведомая госсекретарем Кондолизой Райс, всерьез занялась демократизацией региона.
В итоге ХАМАС стал ведущей военно-политической силой в Палестине и, развязав гражданскую войну, захватил сектор Газа. Проиранская «Хезболла» укрепила позиции в Ливане, «Братья-мусульмане» заняли около 20% мест в парламенте Египта, а успешно боровшийся с исламистами пакистанский президент Первез Мушарраф и возглавляемая им армия уступили власть коррумпированным кланам Бхутто-Зардари и Наваза Шарифа. Страна, арсеналы которой насчитывают десятки ядерных зарядов, сегодня управляется людьми, стоявшими у истоков движения «Талибан» и заговора Абдула Кадыр Хана.
Наконец, Барак Обама, «исправляя» политику своего предшественника, принял политически резонное, но стратегически провальное решение о выводе войск из Ирака и Афганистана и смирился с иранской ядерной бомбой, которая, несомненно, обрушит режим нераспространения. Попытки жесткого давления на Израиль, переходящие все «красные линии» в отношениях этой страны с Соединенными Штатами, убедили Иерусалим в том, что в лице действующей администрации он имеет «друга», который опаснее большинства его врагов. Несмотря на беспрецедентное охлаждение отношений с Израилем, заигрывания с исламским миром, стартовавшие с «исторической речи» Обамы в Каире, не принесли ожидаемых дивидендов. Ситуацию с популярностью США под руководством Барака Обамы среди мусульман лучше всего характеризует реакция египетских СМИ на эту речь: «Белая собака, черная собака – все равно собака».
Поддержка американским президентом египетской демократии в варианте, включающем в систему власти исламских радикалов, помимо прочего откроет двери для дехристианизации Египта. Копты, составляющие 10% его населения и без того во многом ограничиваемые властями, несмотря на демонстрацию лояльности к ним, являются легитимной мишенью террористов. Их будущее в новом «демократическом» Египте обещает быть не лучшим, чем у их соседей – христиан Палестины, потерявшей за годы правления Арафата и его преемника большую часть некогда многочисленного христианского населения.
Упорная поддержка коррумпированных и нелегитимных режимов Хамида Карзая в Афганистане и Асифа Али Зардари в Пакистане, неспособность повлиять на правительственные кризисы в Ираке и Ливане, утечки сотен тысяч единиц секретной информации через портал «Викиликс», несогласованность действий Госдепартамента, Пентагона и разведывательных служб, череда отставок высокопоставленных военных и беспрецедентная публичная критика, с которой они обрушились на гражданские власти… Все это заставляет говорить о системном кризисе не только в ближневосточной политике, но и в американской управленческой машине в целом.
Инициативы Обамы по созданию «безъядерной зоны на Ближнем Востоке» и продвижению к «глобальному ядерному нулю», настойчиво поддерживаемые Саудовской Аравией, направлены в равной мере против Ирана, нарушившего Договор о нераспространении (ДНЯО), и Израиля, не являющегося его участником. Проблема не только в том, что эти инициативы не имеют шансов на реализацию, но в том, что они полностью игнорируют Пакистан, хотя опасность передачи части пакистанского ядерного арсенала в распоряжение Саудовской Аравии, а возможно, и не только ее, не менее реальна, чем перспективы появления иранской ядерной бомбы. Активная позиция в поддержку ядерных инициатив Барака Обамы, занятая в конце января с.г. в Давосе принцем Турки аль-Фейсалом, наводит на размышления. Создатель саудовских спецслужб известен не только как архитектор «Аль-Каиды», его подозревают в причастности к организации терактов 11 сентября в США и «Норд-Ост» в России. На этом фоне поспешные непродуманные заявления в адрес Хосни Мубарака только подчеркнули: Америка на Ближнем и Среднем Востоке (БСВ) действует исходя из теории, а не из практики, и, не считаясь с реальностью, строит фантомную «демократию» (как когда-то СССР – фантомный «социализм»), безжалостно и бессмысленно сдавая союзников в угоду теоретическому догматизму.
Демократия с ближневосточной спецификой
Принято считать, что демократия – наилучшая и самая современная форма правления. Соответствующая цитата из Уинстона Черчилля затерта до дыр. Право народа на восстание против тирании, которое легло в основу западного политического обустройства последних веков – это святыня, покушения на которую воспринимаются в Вашингтоне и Брюсселе как ересь, сравнимая с попытками усомниться в непогрешимости папы римского. При этом расхождения между теоретической демократией и ее практическим воплощением в большей части стран современного мира не только не анализируются, но даже не осознаются «мировым сообществом», точнее политиками, политологами, политтехнологами, экспертами и журналистами, которые принадлежат к узкому кругу, не только называющему, но и полагающему себя этим сообществом.
Констатируем несколько аксиом ближневосточной политики. Знаменующий окончательную и бесповоротную победу либеральной демократии «конец истории» Фрэнсиса Фукуямы не состоялся, в отличие от «войны цивилизаций» Самьюэла Хантингтона. Во всяком случае, на Ближнем и Среднем Востоке демократий западного типа нет, и в ближайшие десятилетия не предвидится. В регионе правят монархи, авторитарные диктаторы или военные хунты. Все они апеллируют к традиционным ценностям и исламу до той поры, пока это ислам, не подвергающий сомнению легитимность верховной власти. Республиканские режимы БСВ могут до мелочей копировать западные органы власти, но эта имитация европейского парламентаризма не выдерживает проверки толерантностью. Права этно-конфессиональных меньшинств существуют до той поры, пока верховный лидер или правящая группировка намерены их использовать в собственных целях и в той мере, в которой это позволено «сверху», а права меньшинств сексуальных не существуют даже в теории. В отличие от западного сообщества, права большинства не подразумевают защиту меньшинств, но в отсутствие властного произвола дают большинству возможность притеснять и физически уничтожать их. Политический неосалафизм приветствует это, а ссылки теоретиков на терпимость ислама в корне противоречат практике, в том числе современной.
Любая демократизация и укрепление парламентаризма в регионе, откуда бы они ни инициировались и кем бы ни возглавлялись на начальном этапе, в итоге приводят исключительно к усилению политического ислама. Националистические и либеральные светские партии и движения могут использоваться исламистами только как временные попутчики. Исламизация политической жизни может быть постепенной, с использованием парламентских методов, как в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, или революционной, как в Иране рахбара Хомейни, но она неизбежна.
Период светских государств, основатели которых воспринимали ислам как историческое обоснование своих претензий на отделение от метрополий, а не как повседневную практику, обязательную для всего населения, завершается на наших глазах. Все это сопровождается большой или малой кровью. Различные группы исламистов апеллируют к ценностям разных эпох, от крайнего варварства до сравнительно умеренных периодов. Некоторые из них готовы поддерживать отношения с Западом – в той мере, в какой они им полезны, другие изначально настроены на разрыв этих отношений. В одних странах исламизация общественной и политической жизни сопровождается сохранением государственных институтов, в других – их ликвидацией. Каждая страна отличается по уровню воздействия на ситуацию племенного фактора или влияния религиозных братств и орденов. Но для всех без исключения движения, которые, взяв власть или присоединившись к ней, будут обустраивать режимы, возникающие в перспективе на Ближнем и Среднем Востоке, характерны общие черты.
Движения эти жестко противостоят укоренению на контролируемой ими территории «западных ценностей» и борются с вестернизацией, распространяя на Западе «ценности исламского мира», в том числе в замкнутых этно-конфессиональных анклавах, растущих в странах Евросоюза, США, Канаде и т.д., под лозунгами теории и практики «мультикультурализма». Наиболее известными итогами сложившейся ситуации являются «парижская интифада», датский «карикатурный скандал», борьба с рождественской символикой в британских муниципалитетах, покушения на «антиисламских» политиков и общественных деятелей и убийства некоторых из них в Голландии, общеевропейская «война минаретов», попытка построить мечеть на месте трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Несмотря на заявления таких политиков, как Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон о том, что мультикультурализм исчерпал себя, распространение радикального исламизма на Западе зашло далеко и инерция этого процесса еще не исчерпана. Усиление в среде местного населения Швейцарии, Австрии, Бельгии и других стран Европы консервативных антииммигрантских политических движений – реакция естественная, но запоздавшая. При этом антиглобалистские движения, правозащитные структуры и международные организации, включая ООН, с успехом используются исламистами для реализации их стратегических целей.
Консолидация против Израиля
Одной из главных мишеней современного политического ислама всех толков и направлений является Израиль. Борьба с сионизмом – не только единственный вопрос, объединяющий исламский мир, но и главное достижение этого мира на международной арене. Как следствие – гипертрофированное внимание мирового сообщества, включая политический истеблишмент и СМИ, к проблеме отношений израильтян и палестинцев. Утверждение в умах жителей не только исламского мира, но и Запада идеи исключительности палестинской проблемы – на деле едва ли не наименее острой в череде раздирающих регион конфликтов. Во имя создания палестинского государства многие готовы идти против экономической, политической и демографической реальности, да и просто против здравого смысла, о чем свидетельствует «парад признания» рядом латиноамериканских и европейских государств несуществующего палестинского государства в границах 1967 года.
Израиль пока выжидает и готовится к войне, дистанцируясь от происходящих в регионе событий, чтобы не провоцировать конфликт. Руководство страны осознает, что ситуация с безопасностью в случае ослабления режимов в Каире и Аммане, поддерживающих с Иерусалимом дипломатические отношения, вернется к временам, которые предшествовали Шестидневной войне. Любая эволюция власти в Египте и Иордании возможна только за счет охлаждения отношений с Израилем, поскольку на протяжении десятилетий главным требованием арабской улицы в этих странах был разрыв дипломатических и экономических отношений с еврейским государством. Этот лозунг используют все организованные оппозиционные группы, от «Братьев-мусульман» до профсоюзов и светских либералов.
Не только Амр Муса и эль-Барадеи, известные антиизраильскими настроениями, но и Омар Сулейман, тесно контактировавший на протяжении длительного времени с израильскими политиками и военными, либо другой представитель высшего генералитета будет вынужден (сразу или постепенно) пересмотреть наследие Мубарака в отношениях с Израилем. Как следствие, неизбежно ослабление или прекращение борьбы с антиизраильским террором на Синайском полуострове, поддерживаемым не только суннитскими экстремистскими группами, но и Ираном. Завершение египетской блокады Газы означает возможность доставки туда ракет среднего радиуса действия типа «Зильзаль», способных поразить не только ядерный реактор в Димоне и американский радар в Негеве, контролирующий воздушное пространство Ирана, но и Тель-Авив с Иерусалимом. Поддержка ХАМАС со стороны Сирии и Ирана усилится, а Палестинская национальная администрация (ПНА) на Западном берегу ослабеет. Все это резко повышает вероятность терактов против Израиля и военных действий последнего не только в отношении Ирана, к чему Иерусалим готовился на протяжении ряда лет, но и по всей линии границ, включая Газу и Западный берег.
Военные действия против Ливана и Сирии возможны в случае активизации на северной границе «Хезболлы». Война с Египтом вероятна, лишь если исламисты придут к власти и разорвут мирный договор с Израилем. В зависимости от того, прекратят ли США поставки вооружения и запчастей Египту, возможны любые сценарии боевых действий, включая, в случае катастрофичного для Израиля развития событий, удар по Асуанской плотине. При этом ситуация в Египте резко обострится через 3–5 лет, когда правительство Южного Судана, независимость которого обеспечил проведенный в январе 2011 г. референдум, перекроет верховья Нила, построив гидроузлы. Ввод их в действие снизит сток в Северный Судан и Египет, поставив последний на грань экологической катастрофы, усиленной катастрофой демографической. Физическое выживание населения Египта не гарантировано при превышении предельно допустимой численности жителей, составляющей 86 миллионов человек (в настоящий момент в Египте живет 80,5 миллионов).
Конфликт Израиля с арабским миром может быть спровоцирован кризисом в ПНА. Палестинское государство не состоялось. Улучшения в экономике Западного берега связаны с деятельностью премьер-министра Саляма Файяда, находящегося в глубоком конфликте с президентом Абу Мазеном. Попытка свержения президента бывшим главным силовиком ФАТХа в Газе Мухаммедом Дахланом привела к высылке последнего в Иорданию. Главный переговорщик ПНА Саиб Эрикат обвинен в коррупции. Абу Мазен полностью изолирован в палестинской элите. Агрессивные антиизраильские действия руководства ПНА на международной арене контрастируют с его полной зависимостью от Израиля в экономике и в сфере безопасности. Население Западного берега зависит от возможности получения работы в Израиле или в израильских поселениях Иудеи и Самарии. Без поддержки со стороны израильских силовых ведомств падение режима в Рамалле – вопрос нескольких месяцев.
Иран и другие
Последствия этого для Иордании могут быть самыми тяжелыми. Пока король Абдалла II сдерживает палестинских подданных, опираясь на черкесов, чеченцев и бедуинов. Смена премьер-министра и ряд других мер политического и экономического характера позволяют ему избежать сценария, реализованного его отцом в «черном сентябре» 1970 года (подавление палестинского восстания). Ситуацию в Иордании дополнительно отягощает фактор иракских беженцев (до 700 тысяч человек), а также финансовые и земельные аферы, в которых обвиняются палестинские родственники королевы Рании. В отличие от времен короля Хусейна, Иордании не грозит опасность со стороны Сирии и Саудовской Аравии, однако страна остается мишенью для радикальных суннитских исламистов. Следует отметить сдвиг в отношениях между Иорданией и Ираном.
Последний, наряду с Турцией, является ведущим военно-политическим игроком современного исламского мира, успешно соперничающим за влияние с такими его традиционными лидерами, как Египет, Саудовская Аравия и Марокко. Несмотря на экономические санкции, Иран развивает свою ядерную программу и хотя, по оценке экс-директора «Моссад» Меира Дагана, не сможет изготовить ядерную бомбу до 2015 г., накопил объем расщепляющих материалов, которого хватает для производства пяти зарядов, а к 2020 г., возможно, будет готов к ограниченной ядерной войне. При этом непосредственную опасность Исламская Республика Иран (ИРИ) представляет исключительно для своих соседей по Персидскому заливу и Израиля, который официальный Тегеран последовательно обещает уничтожить.
Предположения о возможности нанесения Ираном удара по Европейскому союзу или Соединенным Штатам представляются несостоятельными. Нанесение ракетно-бомбового удара по ядерным объектам ИРИ со стороны Израиля и США маловероятно. Америка может уничтожить промышленный потенциал Ирана, но не имеет людских ресурсов для проведения сухопутной операции, обязательной, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу. Израиль не обладает необходимым военным потенциалом, хотя поразивший иранские ядерные объекты компьютерный вирус не без основания связывают с противостоянием этих двух стран.
Борьба за власть в Иране завершается в пользу генералов Корпуса стражей исламской революции, оттесняющих на периферию аятолл. «Зеленое движение», объединившее ортодоксов и либералов, потерпело поражение. Сохраняя лозунги исламской революции, ИРИ трансформируется в государство, основой идеологии которого во все возрастающей степени становится великодержавный персидский национализм. Тегеран успешно развивает отношения с КНР, странами Африки, Латинской Америки и Восточной Европы, Индией, Пакистаном и Турцией, фактически поделив с последней сферы влияния в Ираке, правительство которого координирует свои действия не только с США, но и с ИРИ. На территории БСВ интересы Ирана простираются от афганского Герата до мавританского Нуакшота (усиление позиций Тегерана в Мавритании спровоцировало разрыв Марокко дипломатических отношений с ним). Было бы наивным полагать, что закрепление ИРИ на мавританском правобережье реки Сенегал вызвано исключительно желанием вытеснить оттуда Израиль, дипломатические отношения с которым правительство Мавритании прекратило, сближаясь с Тегераном. Скорее захолустную Мавританию можно полагать идеальным транзитным пунктом для переброски оружия, а возможно и чего-либо, связанного с иранской ядерной программой, наиболее близким к латиноамериканским партнерам Ирана – Венесуэле и Бразилии.
Тегеран избегает прямых конфликтов с противниками, предпочитая «войны по доверенности», которые ведут его сателлиты. Ирано-израильскими были Вторая ливанская война, операция «Литой свинец» в Газе, да и за конфликтом йеменских хауситских племен с Саудовской Аравией, по мнению ряда аналитиков, стоял Иран. Агрессивная позиция ИРИ в отношении малых монархий Персидского залива подкрепляется наличием в таких странах, как Бахрейн, Катар, в меньшей степени Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт шиитских общин. Единственным союзником Ирана в арабском мире по-прежнему является Сирия, которая при поддержке «Хезболлы» постепенно возвращает контроль над ситуацией в Ливане и продолжает курировать ХАМАС, политическое руководство которого дислоцировано в Дамаске. С учетом наложенных на Иран санкций, перспективы его газового экспорта в Евросоюз зависят от кооперации с Турцией, которая будет использовать эту ситуацию в своих интересах, пока они не войдут в противоречие с интересами ИРИ (что в перспективе, несомненно, произойдет).
Турецкое руководство, взяв курс на построение «новой Османской империи», опередило события, приступив к постепенной исламизации политической и общественной жизни в стране. Оттесняя армию от власти под лозунгами демократии и борьбы с коррупцией, правящая партия провела необходимые конституционные изменения парламентским путем, подавив в зародыше очередной военный путч. Экономические успехи Турции позволяют ей действовать без оглядки на Европейский союз и Соединенные Штаты. А участие в НАТО в качестве второй по мощи армии этого блока дает свободу маневра, в том числе в иракском Курдистане и в отношениях с Израилем, значительно охладившихся после инцидента с «Флотилией свободы». При этом страна расколота по национальному признаку (курдский вопрос по-прежнему актуален), светская оппозиция правящей Партии справедливости и развития сильна, а в руководстве армии продолжается брожение. Однако, какие бы факторы (или их сочетание) ни спровоцировали антиправительственные волнения, триумвират премьера, президента и министра иностранных дел сохраняет достаточный ресурс для реализации планов экономической и дипломатической экспансии в Африке, исламском мире и Восточной Европе. Турция с большим основанием, чем Иран, претендует на статус региональной сверхдержавы, имея для этого необходимый потенциал, не отягощенный, в отличие от ИРИ, внешними конфликтами.
Сирийская стабильность опирается на сотрудничество с Турцией и Ираном, при улучшении отношений с США и странами ЕС. Правящая алавитская военная элита во главе с Башаром Асадом балансирует между арабами-суннитами и арабами-христианами, подавляя курдов и используя деловую активность армян. Однако в случае резкого усиления египетских «Братьев-мусульман» в Сирии не исключены волнения, наподобие подавленных большой кровью Хафезом Асадом в 1982 г., которые способны ослабить или обрушить режим. Последний усилил свои позиции в Ливане, но обстановку в самой Сирии осложняет присутствие там иракских (до 1 млн) и в меньшей мере палестинских (до 400 тыс.) беженцев.
Ливан после падения правительства Саада Харири переживает собственный кризис, вызванный противостоянием сирийского и саудовского лобби (последнее, поставив на конфронтацию с Дамаском, проиграло). Не исключено постепенное сползание в гражданскую войну, в качестве ведущей силы в которой будет выступать «Хезболла» шейха Насраллы. Роль детонатора конфликта могут, как и в 1975–1978 гг., сыграть заключенные в лагеря палестинские беженцы (более 400 тыс.).
На Аравийском полуострове катастрофическая ситуация сложилась в Йемене, почти неизбежный распад которого после отстранения от власти президента Али Абдаллы Салеха, правящего в Сане с 1978 г. и контролирующего Южный Йемен с 1990 г., может спровоцировать необратимые процессы в Саудовской Аравии. На территории Йемена столкнулись интересы Ирана и США, Катара и Саудовской Аравии. Эта страна – не только родина многих бойцов «всемирного джихада» (корни Усамы бен Ладена – в Йемене), но настоящий «котел с неприятностями». Конфликт между президентом и племенами, категорически отвергшими попытку передать власть по наследству, напоминает схожую проблему в Египте. Однако противостояние южан-шафиитов и северян-зейдитов, усиленное недовольством отстраненной от власти и обделенной благами бывшей военной элиты юга – местная специфика.
Йемен – первая страна БСВ, которая способна развязать с соседней Саудовской Аравией «водную войну». В ближайшее время Сана рискует стать первой столицей мира с нулевым водным балансом, тем более что ряд исторических йеменских провинций был аннексирован саудовцами в начале ХХ века. Дополнительным фактором риска является нищета поголовно вооруженного населения, которое находится под постоянным воздействием местного наркотика «кат». Не стоит гадать, смогут ли 25,7 млн саудовцев, большая часть которых в жизни не брала в руки оружия, противостоять 23,5 млн йеменцев, большинство которых на протяжении всей жизни оружия из рук не выпускало. Способность саудовской элиты, правящая верхушка которой по возрасту напоминает советское Политбюро 1980-х гг., контролировать ситуацию иначе, чем через подкуп воинственных племен на южных границах и радикалов из «заблудшей секты» внутри страны, сомнительна. С учетом значения пролива Баб-эль-Мандеб воздействие потенциального конфликта между Йеменом и Королевством Саудовская Аравия или гражданской войны в Йемене на мировой рынок энергоносителей сравнимо с перекрытием Суэцкого канала. В отсутствие на президентском посту человека, способного сменить генерала Салеха, а такого человека в Йемене, в отличие от Египта, нет, страна рискует стать такой же пиратской территорией, как Сомали, тем более что сотни тысяч сомалийских беженцев и так уже живут на его территории.
Какие последствия обрушение правящего режима в Йемене вызовет в ибадитском Омане, где правящий страной с 1970 г. султан Кабус бен Саид не имеет наследников, и малых монархиях Персидского залива, предсказать трудно. Балансируя между Соединенными Штатами (военные базы в Кувейте, Катаре и на Бахрейне), Великобританией (присутствие в Омане) и Францией (анонсировавшей строительство военной базы в ОАЭ), с одной стороны, Ираном (конфликт с ОАЭ и Бахрейном), с другой, и Саудовской Аравией – с третьей, все эти страны на случай возможной войны наладили неофициальные отношения с Израилем. Израильские опреснительные установки, агрокомплексы и системы обеспечения безопасности стратегических объектов, без указания страны-производителя или с указанием зарубежных филиалов израильских фирм – столь же обычное явление на южном берегу залива, как иранские суда в местных портах, иранские счета в банках и иранцы в деловых центрах. Оман пребывает в самоизоляции, усиленной раскрытием исламистского заговора, в организации которого Маскат обвинил ОАЭ.
Кувейт не оправился от последствий иракской оккупации 1990–1991 годов. Влияние Бахрейна ограничено нелояльностью шиитского большинства населения суннитской династии. Экономический кризис ослабил ОАЭ, особенно Дубай, обрушив «пирамиду недвижимости», на которой в последние годы было основано его благополучие. Свое политическое влияние укрепляет лишь умеренно ваххабитский Катар, обладатель третьего в мире газового запаса. В качестве медиатора региональных конфликтов он успешно соперничает с такими гигантами арабского мира, как Египет и Саудовская Аравия. Главное оружие катарского эмира в борьбе за доминирование на межарабской политической арене – «Аль-Джазира», эффективность которой доказывает ее запрет в Египте, где телеканал в немалой мере способствовал «раскачиванию лодки». Но этот инструмент может оказаться бесполезным в случае перенесения беспорядков на территорию самого Катара. При этом главным фактором нестабильности в монархиях Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, могут стать иностранные рабочие, в ряде стран многократно превосходящие их граждан по численности.
Еще одним дестабилизирующим фактором для полуострова является его близость к Африканскому Рогу, на побережье которого сосредоточены самые бедные, охваченные междоусобицей и полные беженцев страны: Эритрея, Джибути и пиратское Сомали, распавшееся на анклавы, крупнейшими из которых являются Пунталенд и Сомалиленд. Исламисты из движения «Аш-Шабаб» и других радикальных группировок – единственная сила, способная объединить эту страну, подчинив или уничтожив полевых командиров, подобно тому как талибы в свое время проделали это в Афганистане. Пугающая перспектива, особенно на фоне полнейшего банкротства мирового сообщества в борьбе с пиратами, бесчинствующими на все более широкой акватории Индийского океана. Не стоит забывать и о проблеме границ, обширный передел которых неизбежен после бескровного распада Судана. Север Судана в ближайшей исторической перспективе может объединиться с Египтом, особенно в случае исламизации последнего. Не случайно лидер суданских исламистов Хасан ат-Тураби опять арестован властями.
Волнения в Тунисе и Египте грозят самым прискорбным образом сказаться на ситуации в Алжире, вялотекущая гражданская война в котором идет с 1992 года. Президент Абдулазиз Бутефлика стар, конфликт арабов с берберами так же актуален, как и десятилетия назад, а исламисты никуда не делись. Под угрозой стабильность в Марокко, на территории которого еврейские и христианские святыни являются для «Аль-Каиды» Магриба столь же легитимными объектами атаки, как и иностранные туристы. Мавритания, где число рабов, по некоторым оценкам, достигает 800 тыс., находится в полосе военных путчей и восприимчива к любым революционным призывам.
Не стоит забывать и о том, что экспрессивный Муамар Каддафи в Ливии правит с 1969 г. и легко может стать жертвой «египетского синдрома». Тем более что собственных сыновей в руководство страны он продвигает не менее настойчиво, чем Мубарак и Салех, а поддержкой на Западе и в арабском мире пользуется куда меньшей.
Единственным, хотя и слабым утешением в сложившейся ситуации может служить то, что региональное потрясение основ ничем не угрожает Ираку, Афганистану или Пакистану. Первые два давно уже не столько государства, сколько территории. Последнему же, с исламистами в Северо-Западной провинции и Пенджабе, пуштунскими талибами в зоне племен, сепаратистами Белуджистана и Синда и противостоянием правительства, армии и судебной власти, для развала достаточно и одного Афганистана. После чего его внушительные ядерные арсеналы пойдут на «свободный рынок», а мировое сообщество получит куда более значимый повод для беспокойства, чем судьба палестинского государства или правителя отдельно взятой арабской страны, даже если эта страна – Египет.
Констатируем напоследок, что падающее влияние на БСВ великих держав создает вакуум, часть которого в Афганистане заполнит Дели. На всей прочей территории, включая и Афганистан, усилится влияние Пекина. Как следствие, состав игроков и распределение сил на Ближнем и Среднем Востоке в XXI веке будет более напоминать XVII, чем ХХ столетие. Что соответствует теории циклического развития истории, хотя и несколько обидно, если рассматривать это через призму интересов Парижа, Лондона, Брюсселя или Вашингтона.
Е.Я. Сатановский – президент Института Ближнего Востока.

План "Б" в Афганистане
Почему де-факто расчленение страны является наименьшим из зол
Резюме: Не похоже, чтобы Соединенные Штаты и их союзники смогли победить талибов военными средствами. План фактического расчленения Афганистана связан с немалыми издержками и нежелательными последствиями, поэтому его принятие имеет смысл лишь в том случае, если другие альтернативы еще хуже. Но так оно и есть на самом деле.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Нынешняя политика США в Афганистане обходится в десятки миллиардов долларов, ежегодно там гибнет несколько сот солдат и офицеров союзнических войск – и все ради того, чтобы не позволить «Талибану» взять под контроль пуштунские провинции, где это движение зародилось. Пока конца-края не видно. Те, кто настаивает, что для успеха нынешней стратегии требуется больше времени, забывают сказать, как они оценивают шансы на успех в течение следующих нескольких лет, сколько еще понадобится жертв и бюджетных ассигнований и для чего все это нужно. Холодный расчет говорит о том, что пора переключаться на резервный план «Б».
Пока не похоже, чтобы Соединенные Штаты и их союзники смогли победить талибов военными средствами. Сейчас в Афганистане размещены Международные силы содействия безопасности (ISAF) под руководством США в составе 150 тыс. человек. Это на 30 тыс. человек больше, чем Советский Союз имел в этой стране в 1980-е гг., но менее половины того, что требуется в соответствии с классической доктриной борьбы с партизанами (повстанцами), чтобы иметь хоть какой-то шанс на умиротворение страны.
А если принять во внимание, что оккупировавшая Афганистан армия совершенно не знакома с местной историей, языком, обычаями, политическими предпочтениями, ценностями и внутренним устройством племенной жизни, то союзникам вряд ли удастся привлечь на свою сторону существенное число афганских пуштунов, как того требует доктрина борьбы с повстанческим движением. Соединенные Штаты не завладеют «умами людей» (по выражению Себастьяна Юнгера) на юге и востоке Афганистана. В ноябре президент Афганистана Хамид Карзай заявил в интервью The Washington Post, что не желает видеть такое количество американских солдат и офицеров, заполняющих афганские дороги и дома, и что долговременное присутствие стольких иностранных военнослужащих лишь усугубит сопротивление. «Настало время сворачивать военные операции, – сказал Карзай. – Пора сократить присутствие “солдатских сапог” в Афганистане… уменьшить вмешательство в повседневную жизнь афганцев». Подобные настроения широко распространены, хотя и совершенно несовместимы с дислокацией военнослужащих на местах, как того требует стратегия борьбы с повстанческим движением.
Качество управления, которое пытается обеспечить глубоко коррумпированное правительство Карзая, не улучшится в ближайшее время, а без всеобъемлющей правительственной реформы в Афганистане успех, по сути, невозможен. Как подчеркивает специалист по борьбе с повстанцами Дэвид Килкаллен, «результат всецело зависит от того правительства, которое вы поддерживаете». В этом контексте Декстер Филкинс отметил в The New York Times, что «Афганистан в настоящее время считается одним из основных бандитских государств мира. Из 180 стран, которые попадают в рейтинг коррупционности Transparency International, Афганистан занимает 179-е место; хуже дела обстоят только в Сомали».
В ближайшее время Афганская национальная армия не готова в одиночку противостоять «Талибану» и осуществлять серьезные боевые действия на юге и востоке Афганистана. По мнению журнала The Economist, «менее 3% новобранцев являются выходцами из неспокойного пуштунского юга, который оказывает талибам наибольшую поддержку. Вследствие безжалостного террора против “коллаборационистов” и членов их семей немногие пополнят ряды афганской армии и в будущем. В результате офицеры с севера, которые говорят только на дари (афганско-персидский язык), вынуждены пользоваться услугами переводчиков на юге страны, населенном пуштунами. Пехотинцы с севера вообще не желают идти на юг». Генерал морской пехоты США Джеймс Конвей заявил представителям прессы в августе прошлого года, что Афганская национальная армия еще в течение нескольких лет будет не готова обеспечить безопасность американским войскам в провинциях Кандагар и Гильменд. Пакистанские военные, видящие в Индии главного врага и считающие, что необходимо обеспечить стратегическую глубину, будут и дальше предоставлять убежище давнишним союзникам из «Талибана» и не примут подлинно независимый Афганистан.
Наконец, общественное мнение в Соединенных Штатах и странах-союзницах вряд ли позволит продлить интервенцию на то время, которое, в соответствии с доктриной борьбы с повстанцами, потребуется для успешного окончания миссии. Многочисленные заявления президента Барака Обамы о скором сворачивании боевых действий в Афганистане привели к ослаблению американской дипломатии во всем регионе. Администрации нужно прекратить разговоры о стратегиях выхода и нацелиться на долгосрочные боевые действия, сохранив в этой стране от 30 до 50 тыс. солдат и офицеров.
В то же время Вашингтон должен признать, что «Талибан» рано или поздно обретет контроль над пуштунским югом и востоком, и, чтобы предотвратить подобный исход, придется заплатить неприемлемо высокую цену. Конечно, администрации не следует отдавать пуштунские провинции на откуп талибам или открыто призывать к расчленению Афганистана. Скорее пора просто перестать приносить ненужные жертвы на юге и востоке и согласиться с «реальным раскладом сил» в соответствующих провинциях. В то же время ВВС США и войскам особого назначения придется остаться в стране в ближайшем будущем, чтобы поддерживать афганскую армию и правительство в Кабуле и не допустить захвата «Талибаном» также севера и запада страны.
Учитывая, что отдельные элементы нынешней афганской политики Вашингтона совершенно не работают, оптимизм по поводу способности выполнить поставленные задачи напоминает слова Белой Королевы из «Алисы в Зазеркалье»: «Ну что же, до завтрака я иногда верила в шесть невозможных вещей». Короче говоря, президенту Обаме следует объявить, что Соединенные Штаты и их зарубежные и афганские партнеры будут и дальше осуществлять всеобъемлющую контртеррористическую стратегию в пуштунском Афганистане, а также стратегию национального строительства на остальной территории – как минимум в течение следующих 7–10 лет. При этом придется пойти на вынужденный шаг и признать фактическое расчленение страны, что было бы крайне разочаровывающим итогом десятилетних инвестиций США в Афганистан, но, к несчастью, это лучший результат, который Вашингтон сможет достичь, если трезво смотреть на вещи.
Уйти, чтобы остаться
После стольких лет несостоятельной политики в отношении Афганистана не может быть легких, быстрых и дешевых способов выбраться из нынешней трясины. Даже при всех тех проблемах, к которым приведет фактическое расчленение страны, для администрации Обамы этот путь был бы наилучшей альтернативой стратегическому поражению. Твердо придерживаясь намерения долго играть роль деятельной боевой силы в Афганистане и решительно отвергая перспективу установления постоянного контроля «Талибана» над южными провинциями, Соединенные Штаты и их союзники могли бы за несколько месяцев вывести силы наземного базирования с большей части пуштунского Афганистана, включая Кандагар. Международные силы содействия безопасности могли бы прекратить боевые действия в горах, на равнинной местности и в городах на юге и востоке Афганистана (продолжая поставлять оружие, помощь и разведданные тем старейшинам местных племен, которые готовы продолжать сопротивление). Тем временем Вашингтон сосредоточил бы усилия на защите северных и западных провинций Афганистана, в которых пуштуны не являются доминирующей силой, включая Кабул.
Афганским талибам можно было бы предложить временное соглашение, по которому каждая из сторон обязалась бы не расширять контролируемую территорию, коль скоро «Талибан» прекратит оказывать поддержку мировому терроризму. Вполне возможно, что лидеры «Талибана» это предложение отвергнут. США должны дать ясно понять, что нанесут удар по любым объектам «Аль-Каиды», где бы они ни находились, а также при любой попытке «Талибана» нарушить линию размежевания, равно как и по всякому убежищу террористов вдоль границы с Пакистаном. Террористы нигде не должны чувствовать себя в безопасности и подвергаться массированным ударам по обе стороны линии Дюранда.
В этом предприятии Вашингтону следует заручиться поддержкой афганских таджиков, узбеков, хазарейцев и сотрудничающих с ним пуштунов, а также союзников по НАТО, ближайших соседей Афганистана и Совета Безопасности ООН, что было бы как нельзя кстати. Союзники могли бы продолжить ускоренное обучение афганской армии. Что касается национального строительства, то главные усилия следует направить на племенные группы, населяющие север и запад Афганистана, которые готовы принять помощь и не подвергаются систематическому давлению со стороны талибов. Наконец, может наступить момент, когда окрепшая Национальная афганская армия сумеет с помощью союзников отбить у «Талибана» юг и восток страны.
Как указывает политический аналитик Джон Чипман, «метод сдерживания может быть принят в качестве стратегии, которая ограничивается мерами, направленными на отведение угрозы, как изначально практиковалось коалиционными силами, когда они только входили в Афганистан... Эта стратегия позволит избавиться от впечатления, будто вывод боевых подразделений означает победу противника. Подобную стратегию можно было бы осуществлять на протяжении длительного времени и при этом добиваться главной цели в сфере безопасности». В этом отношении недавние сообщения прессы о том, что американские войска останутся в Афганистане до конца 2014 г., можно только приветствовать.
Подобные изменения в стратегии дали бы ясно понять всем, что Соединенные Штаты, сохраняя длительное военное присутствие в Афганистане, намерены еще долгие годы оставаться реальной силой в Южной и Центральной Азии. Это позволило бы резко снизить военные потери, а значит и внутриполитическое давление, поскольку широкая общественность в этом случае не стала бы требовать скорейшего вывода войск. Это привело бы и к резкому снижению финансовых расходов на кампанию, которые в настоящее время составляют 7 млрд долларов ежемесячно. В то же время союзники по НАТО с большей вероятностью продлили бы миссию в Афганистане на значительный срок. Предлагаемая стратегия позволила бы армии и морским пехотинцам США восстановить силы и боеспособность после нескольких лет ведения двух сухопутных войн, и для большинства соседей Афганистана такая стабилизация оказалась бы приемлемой. В то же время Исламабад не смог бы уже так беззастенчиво требовать от Вашингтона терпимого отношения к террористической угрозе из Пакистана, пользуясь тем, что Соединенные Штаты вынуждены проводить наземную операцию в южном Афганистане. И это также позволило бы администрации Обамы сосредоточить силы и ресурсы на решении других важных вопросов.
Отсутствие лучшего выбора
План фактического расчленения Афганистана связан с немалыми издержками и нежелательными последствиями, поэтому его принятие имеет смысл лишь в том случае, если другие альтернативы еще хуже, но так оно и есть на самом деле.
Например, одна из альтернатив заключается в том, чтобы продолжать контртеррористическую операцию в Афганистане вне зависимости от того, сколько еще времени она может потребовать, и, возможно, даже увеличить военное присутствие. Это лишено смысла, поскольку американские интересы в Афганистане не столь велики, чтобы оправдать подобное вложение сил и средств. На сегодняшний день в стране размещено около 100 тыс. американских военнослужащих, хотя, по данным ЦРУ, там находится всего от 50 до 100 боевиков «Аль-Каиды». Это означает, что на каждого боевика приходится от одной до двух тысяч солдат и расходуется около миллиарда долларов ежегодно, что с лихвой превышает любые разумные пределы. Выделение таких непомерных ресурсов совершенно неоправданно с точки зрения интересов в данном регионе. Изначальная военная цель Соединенных Штатов в Афганистане состояла в уничтожении «Аль-Каиды», а не в ведении военных действий против «Талибана», и эта цель по большому счету выполнена.
Еще одна альтернатива – полный вывод всех вооруженных сил в течение следующего года или двух. Но это могло бы привести к быстрому возобновлению полномасштабной гражданской войны в Афганистане, а затем, возможно, к завоеванию всей страны талибами. В вооруженный конфликт втянулись бы соседи Афганистана с последующей дестабилизацией обстановки во всем регионе и обострением отношений между Дели и Исламабадом. Пакистан с большей вероятностью превратился бы в радикальное исламское государство, создав, в свою очередь, угрозу безопасности находящемуся там ядерному арсеналу. Это ослабило бы, а, быть может, и полностью уничтожило ростки стратегического партнерства между Индией и США, поставило бы под сомнение перспективы НАТО и дало новый стимул идеологии джихада и нарастающей волне терроризма против либеральных обществ. Наши друзья и враги во всем мире расценили бы это как полный провал Вашингтона в качестве лидера международного сообщества, отсутствие у него стратегической решимости и проявление слабости. Разрушительные последствия подобного решения ощущались бы долгие годы и десятилетия.
Третья альтернатива – попытка достигнуть стабильности в Афганистане путем переговоров с «Талибаном». НАТО могла бы попытаться соблазнить лидеров афганских талибов перспективой прекращения боевых действий и вхождения в коалиционное правительство в Кабуле. Но, как сказал директор ЦРУ Леон Панетта, до тех пор, пока талибы будут думать, что они одерживают верх, с ними невозможно ни о чем договориться: «Мы не видим никаких доказательств того, что они по-настоящему заинтересованы в примирении. У них нет ни малейшего желания сложить оружие, отречься от “Аль-Каиды” и стать нормальными членами общества. Мы не видим подтверждений подобных намерений с их стороны, и что касается примирения, честно говоря, мне думается, что если они не будут убеждены в твердом намерении Соединенных Штатов одержать победу и нанести им решительное поражение, трудно рассчитывать на подлинное примирение». Несмотря на интенсивность атак с использованием беспилотных радиоуправляемых устройств, США не удается заставить «Талибан» пойти на полноценный политический компромисс. Как сказал один высокопоставленный чиновник из Министерства обороны The Washington Post в конце октября, «похоже, партизанская война не ослабевает», добавив, что не видит никаких принципиальных изменений или сдвигов в оперативной обстановке.
Но как быть с проблемами, могущими возникнуть в связи с фактическим расчленением страны? Если позволить афганским талибам контролировать юг и восток страны, не захотят ли они снова воспользоваться услугами боевиков «Аль-Каиды», и не восстановится ли ситуация, существовавшая до 11 сентября 2001 года? Совсем необязательно. В конце октября бывший в то время помощником президента по национальной безопасности Джеймс Джоунс сказал, что, по оценкам американского правительства, в Афганистане осталось не более 100 боевиков «Аль-Каиды», которые не имеют баз и «возможности готовить теракты против Соединенных Штатов или их союзников». Вероятно, афганский «Талибан» извлек урок из ситуации, когда «Аль-Каиде» дозволено беспрепятственно осуществлять свою деятельность на подконтрольной ему территории.
Но если урок не усвоен, американские силы продолжат атаковать любые цели «Аль-Каиды» по обе стороны афганско-пакистанской границы, оказывая смертоносное давление такими способами, которые не использовались до 11 сентября. Небо над пуштунским Афганистаном заполнят стервятники-истребители, мишенью которых станут не только вылазки террористов, но и новое афганское правительство талибов во всех его ипостасях. Гражданские чиновники «Талибана» (губернаторы, мэры, шефы полиции, судьи, налоговые инспекторы и т.д.) будут просыпаться каждое утро, не зная, смогут ли они выжить в течение предстоящего дня в своих кабинетах, при выполнении повседневных обязанностей или ночью в своих домах. Не останется ни одной горной пещеры, в которой они могли бы надежно укрыться и при этом выполнять свою работу. Эти меры обеспечат определенное сдерживание. И даже если большая часть тех примерно 300 боевиков «Аль-Каиды», которые в настоящее время находятся в Пакистане, переместится на несколько десятков километров севернее и пересечет границу, это ничего не изменит и не послужит предлогом для возобновления крупномасштабной сухопутной войны с целью недопущения данных маневров.
Что если афганские талибы не будут соблюдать границы, сложившиеся де-факто после расчленения Афганистана, и попытаются снова завоевать всю страну? Они могут предпринять подобную попытку, но ISAF и растущие возможности Национальной афганской армии воспрепятствуют осуществлению такого сценария. Согласие с фактическим разделом не приведет к гражданской войне, потому что такая война уже ведется в настоящее время. На самом деле раздел стабилизирует ситуацию, поскольку станет понятно, какую территорию контролирует каждая из сторон.
Но как быть с островками непуштунских народов на юге и востоке Афганистана, с проживающими там женщинами всех возрастов и пуштунскими племенами, которые не желают правления «Талибана» – неужели они будут брошены на произвол судьбы? К сожалению, обстоятельства диктуют свои условия. Но это трагическое следствие местных реалий, которые внешние силы не в состоянии изменить в разумные сроки при разумных финансовых затратах и малой кровью. Соединенные Штаты и их союзники начали войну в Афганистане не для того, чтобы защитить все слои местного населения от средневекового варварства, и они не собираются сейчас брать на себя эту задачу, на решение которой может уйти несколько десятилетий.
Не может ли такой курс привести к образованию ирредентистского Пуштунистана и подрыву стабильности Пакистана? В самом деле, успокоить Исламабад будет очень непросто, поскольку фактическое расчленение Афганистана, несомненно, спровоцирует всплеск сепаратизма по обе стороны линии Дюранда. Однако, оказывая трансграничную поддержку афганскому «Талибану», пакистанские военные усугубляют уже имеющиеся проблемы, так что на самом деле Исламабад не имеет морального права жаловаться. Возможно, четкое разделение Афганистана на две части станет своего рода шоковой терапией для пакистанской армии и поможет ей осознать, в какие опасные игры она играла на протяжении нескольких последних десятилетий.
Не приведет ли этот курс к войне «по доверенности» между Индией и Пакистаном на территории Афганистана или к общей дестабилизации обстановки в регионе? На данном этапе усиленная конкуренция между Дели и Исламабадом в Афганистане возможна независимо от политики, проводимой Соединенными Штатами. Но до тех пор, пока Вашингтон сохраняет приверженность долгосрочному военному присутствию, Индия не будет вводить в Афганистан свои сухопутные войска. Таким образом, вероятность крупномасштабного или прямого конфликта между Индией и Пакистаном существенно снизится.
Китай, Иран, Россия и соседи Афганистана в Центральной Азии также имеют свои интересы в регионе и по-своему видят перспективы. Ни одна из этих стран в настоящее время не поддерживает идею фактического раздела страны. Но никто не хочет видеть Афганистан снова под контролем «Талибана», и если нынешняя политика США окажется нежизнеспособной, они должны быть открыты для других способов предотвращения худшего сценария. Таким образом, из чисто своекорыстных интересов упомянутым странам придется серьезно отнестись к плану, который изложен в данной статье (хотя, чтобы заручиться их поддержкой, Вашингтону нужна искусная и настойчивая региональная дипломатия, которая в настоящее время отсутствует).
Умереть из-за ошибки
Независимо от взглядов на афганскую проблему, многие специалисты и официальные лица пытаются найти подходящую аналогию, чтобы доказать свою точку зрения на то, какую политику проводить в Афганистане. Однако разница между нынешней ситуацией и другими случаями, которые используются в качестве аналогии или наглядного примера, настолько велика, что сравнения не помогут делу.
В оправдание нынешней стратегии чаще всего приводится аналогия с наращиванием воинского контингента в Ираке в 2007 году. Именно этим объясняется стабилизация обстановки в Ираке, которая затем позволила Соединенным Штатам начать вывод войск и при этом избежать поражения. Однако, как указывает Джеймс Доббинс, бывший чрезвычайный посланник США в Афганистане, там будет крайне трудно переманить бывших повстанцев на свою сторону и добиться от них лояльности, как это случилось в Ираке. К 2007 г. суннитское арабское меньшинство в Ираке было основательно потрепано шиитскими ополченцами, которые составляли большинство, и, лишь потерпев решительное поражение, арабы-сунниты обратились за помощью и защитой к американским войскам. Что же касается партизанской войны, которую ведет в Афганистане «Талибан», то ее питательной средой является самая большая этническая группа, а не меньшинства, как в Ираке.
Кроме того, пуштунские мятежники в течение нескольких последних лет не терпят поражение, а побеждают в гражданской войне. В Ираке «Аль-Каида» своей неразборчивостью в средствах, неоправданной жестокостью и многочисленными злоупотреблениями к 2007 г. настроила против себя союзников из числа арабов-суннитов. В Афганистане «Аль-Каиды» в настоящее время практически нет, и она, конечно, не несет угрозы мятежным лидерам «Талибана» или пуштунскому образу жизни. Пуштунские старейшины – менее влиятельные переговорщики, чем иракские шейхи, которые доказали способность приводить за собой почти всех своих сторонников, когда решали переметнуться на сторону союзников. Короче говоря, наращивание воинского контингента в Ираке не может служить примером для Афганистана.
После почти десятилетних усилий в Афганистане столь резко поменять политику будет трудно. Президенту Обаме очень непросто объяснить, почему контртеррористическая тактика не принесла видимых дивидендов в течение приемлемого времени, и признать, что так много храбрых мужчин и женщин погибли, отстаивая территории, которые теперь отдаются врагу. Но как бы болезненно это ни было, если западные лидеры продолжат осуществление стратегии, которая оказалась неэффективной в прошлом и не принесет видимых результатов в будущем, они докажут собственную стратегическую и нравственную несостоятельность.
Спустя десятилетия историки будут гадать, почему президент Обама, несмотря на душевные муки, описанные в недавно вышедшей книге Боба Вудворда, согласился на размещение стотысячного воинского контингента в Афганистане через 10 лет после событий 11 сентября. Они будут ломать головы над тем, почему американские стратеги вели себя так, как будто участь всего цивилизованного мира зависела от умиротворения Кандагара и Марджи. Генри Киссинджер отметил, что «для остальных стран утопия – это благословенное прошлое, которое никогда не вернется; для американцев же она находится за линией горизонта». Неохотно принятое решение о фактическом расчленении Афганистана – едва ли утопический исход военных действий в этой стране, но это наименьшее из всех зол.
Роберт Блэкуилл – старший научный сотрудник в Совете по внешним связям, специалист по внешней политике и помощник Генри Киссинджера. С 2001 по 2003 гг. он служил послом США в Индии, а в 2003–2004 гг. был помощником Советника по национальной безопасности, отвечая за стратегическое планирование.

Здравый смысл и разоружение
О материи и философии ядерного оружия
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме Нельзя категорически ни доказать, ни опровергнуть тезис о том, что ядерное оружие спасло мир. Достоверно лишь то, что оно создавалось, было применено в 1945 году, а затем накапливалось не для сдерживания, а для тотального сокрушения противника в случае войны.
Статья известного российского политолога и общественного деятеля Сергея Караганова «“Глобальный ноль” и здравый смысл. О ядерном оружии в современном мире» («Россия в глобальной политике», № 3 за 2010 г.) не многих оставит равнодушными. Это и неудивительно: автор затронул одну из фундаментальных проблем новейшей истории и современности, причем копнул глубоко, свои мысли изложил ярко и зачастую парадоксально.
С некоторыми суждениями Караганова нельзя не согласиться. Остановимся, однако, на спорных моментах.
Исторические хроники
Упомянутая в статье нашумевшая публикация в газете The Wall Street Journal (2007 г.) с призывом к конечному ядерному разоружению четырех авторитетных американских деятелей (Генри Киссинджера, Сэма Нанна, Уильяма Перри и Джорджа Шульца) и движение «Глобальный ноль» – это разные вещи.
Доктор Караганов покаялся, что «по просьбе многих уважаемых друзей» подписал декларацию «Глобального нуля», как и многие российские деятели, а потом «пожалел об этом». Но многие в России и Соединенных Штатах ее не подписали, включая, кстати, и автора этих строк. Причина как раз в серьезном отношении к необходимости и возможности ядерного разоружения. Нельзя подменять сложнейший и долгий процесс «кампанейщиной» в самом советском смысле слова и назначать произвольные даты достижения безъядерного мира. Именно поэтому солидные организации, вроде «Инициативы по сокращению ядерной угрозы» (Сэм Нанн и Тед Тернер), Международной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению (Гаррет Эванс и Йорико Кавагучи), Люксембургский форум (Вячеслав Кантор) и другие не поддержали «Глобальный ноль».
Теперь по существу дела. Караганов пишет: «Самый большой рывок в распространении был совершен тогда, когда Советский Союз (Россия) и США сокращали свои вооружения наиболее быстрыми темпами, – в 1970-х – 1990-х гг.». Такое утверждение просто не соответствует действительности. По опубликованным официальным данным, общий ядерный арсенал Соединенных Штатов достиг пика в 1967–1969 гг. (31,3 тыс. боезарядов). До 1990 г. он изменялся волнообразно в диапазоне 23–27 тыс. боезарядов. А затем резко пошел вниз, сократившись до нынешних 5,1 тысяч. Динамика советского (и российского) ядерного арсенала до сих пор засекречена, но неофициальные оценки экспертов предполагают пик в 1984–1985 гг. (от 36 до 45 тыс. единиц).
Далее, никакого реального разоружения по ОСВ-1 (1972 г.), Владивостокской договоренности (1976 г.) или ОСВ-2 (1979 г.) не происходило, если не считать запрещения ядерных испытаний в трех средах (1963 г.). Наоборот, шло быстрое наращивание ядерных арсеналов. Сокращение ядерных вооружений началось только с договоров по РСМД (1987 г.) и СНВ-1 (1991 г.).
Вопреки расхожему представлению, расширение «ядерного клуба» шло самыми быстрыми темпами не после холодной войны, а как раз во время нее, если подходить к делу не формально по статье IX Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая по умолчанию узаконила «ядерную пятерку», а рассматривать вопрос под военно-техническим углом зрения. После создания ядерного оружия (ЯО) в США в течение сорока лет их примеру последовали 7 стран (СССР в 1945 г., Великобритания в 1952 г., Франция в 1960 г., КНР в 1964 г., Израиль в начале 1970-х годов, Индия в 1974 г. под видом «мирного взрыва», ЮАР в 1982 г.). А после холодной войны ЯО обрели только две страны (Пакистан в 1998 г. и КНДР в 2006 г.).
Соотношение наращивания, сокращения и распространения ЯО по времени выглядит совсем не так, как утверждает Сергей Караганов. А потому можно поставить под сомнение и базирующиеся на этой версии выводы.
Ядерное оружие и политика
Автор рассматриваемой статьи отстаивает несколько ключевых военно-политических постулатов:
Ядерное оружие спасло человечество от третьей мировой войны и явилось «цивилизатором» элит ведущих стран, побудив их видеть «главную задачу в предотвращении ядерной войны».
Распространение ЯО не зависит от действий крупных держав в области ядерного разоружения, а подстегивается стремлением претендентов «укрепить свою безопасность или обеспечить выживаемость режима, а также повысить международный престиж».
По новому Договору СНВ Россия и Соединенные Штаты ликвидируют «излишки» стратегических вооружений, но сокращение ЯО до минимальных уровней будет дестабилизирующим, усугубит отставание РФ по силам общего назначения (СОН), подорвет ее радикальную текущую военную реформу, повысит «полезность систем ПРО» и подстегнет малые ядерные страны к наращиванию их потенциалов.
Распространение ядерного оружия не остановить, придется «жить в мире со многими ядерными государствами» и координировать политику двух великих держав по сдерживанию «новых ядерных игроков».
Более того, в условиях геополитической уязвимости России, медленной экономической модернизации, коррупции, нехватки «мягкой силы» – «отказ от опоры на мощный ядерный потенциал… равносилен национальному самоубийству».
Прежде всего следует отметить, что Сергей Караганов отнюдь не одинок в своих суждениях. Доводы о спасительной роли ядерного сдерживания и автономности процесса ядерного распространения широко обсуждаются, начиная с 1970-х гг. на Западе и с конца 1980-х в России. Ныне идея неразменной ценности российского ядерного потенциала разделяется большинством политического и экспертного сообщества страны: от серьезных, в том числе либеральных, специалистов, представителей армии и ядерного комплекса – и до реакционных графоманов, почитающих Сталина, Берию и Гитлера.
Сдерживание как гарант мира
Поскольку история, в данном случае к счастью, не имеет сослагательного наклонения, нельзя категорически ни доказать, ни опровергнуть тезис о том, что ядерное оружие спасло мир. Достоверно лишь то, что оно создавалось, было применено в 1945 г., а затем накапливалось не для сдерживания, а для тотального сокрушения противника в случае войны (доктрина массированного возмездия). К такой войне готовились совершенно серьезно (перечни целей ядерных ударов, оперативные планы, широкое строительство бомбоубежищ в СССР, США и Западной Европе). Идея о роли ЯО как средства политического сдерживания вошла составным элементом в стратегию Соединенных Штатов и НАТО лишь в 1960-е гг. и была косвенно признана в военной доктрине Советского Союза только в 1970-е.
Как минимум четырежды великие державы невольно подходили к грани ядерной войны (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г. и Ближневосточный кризис 1973 г.), пережили десятки ложных тревог систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Во время Карибского кризиса, как стало известно из недавно раскрытых документов и новых исследований, эту черту почти переступили. Если бы Хрущёв промедлил с уступками еще пару дней, США нанесли бы запланированный на начало ноября (неядерный) авиаудар по позициям ракет на Кубе, стремясь упредить их снаряжение ядерными головными частями. А советские ракетчики могли быстро смонтировать завезенные боеголовки на носители и технически осуществить запуск в случае нападения США. Ударная авиация передового базирования Соединенных Штатов за океаном была загружена ядерными бомбами, причем после взлета пилоты имели санкцию на их применение. Советские подводные лодки несли на борту атомные торпеды и также получили санкцию на их применение в случае нападения американского флота, а тот осуществлял блокаду Кубы и намеревался топить подводные лодки в случае их отказа от всплытия. Стратегическое авиационное командование США перевело бомбардировщики на воздушное патрулирование для нанесения массированного удара по СССР в ответ хотя бы на один ядерный взрыв над американским городом.
Судя по всему, в те дни человечество было спасено не только и не столько благодаря осторожности Кремля и Белого дома, сколько по счастливому случаю. Конечно, сдерживание играло роль: обе стороны были в ужасе от перспективы ядерной войны. Но они плохо контролировали ход событий, а самое главное – кризис-то разразился как раз в контексте ядерного сдерживания. Ведь путем тайного размещения ракет на Кубе Москва хотела остановить растущее отставание от Соединенных Штатов в ходе их форсированного наращивания ракетных сил в 1961–1962 гг. Поэтому о «цивилизующей» роли ЯО можно говорить лишь абстрактно. Даже если сдерживание работало в прошлом, нет никаких гарантий, что оно будет эффективным и впредь. Во всяком случае, такая роль неразрывно связана с переговорами об ограничении и сокращении ядерных вооружений.
Этот процесс – как двухколесный велосипед: остановка означает падение, то есть развал всей системы ограничения вооружений, нераспространения и безопасности. Пражский Договор СНВ – это возможность нагнать упущенные годы. Но для восстановления системы нераспространения (как показала обзорная конференция по ДНЯО в мае 2010 г.) нужно двигаться дальше в сокращении ЯО, как бы ни хотелось некоторым поставить на СНВ точку.
Мотивы распространения
Несомненно, что стимулы к обретению ЯО гораздо более многообразны и противоречивы, нежели просто подражание примеру великих держав. С достаточной степенью уверенности можно полагать, что после 1970 г. за период существования ДНЯО, скажем, Израиль и ЮАР сделали свой ядерный выбор вне всякой связи с концепцией, заложенной в статью VI (обязательство о ядерном разоружении). В случае с Индией эта взаимосвязь более ощутима, решение о создании ЯО, помимо статусных и внутриполитических стимулов, было вызвано растущей ракетно-ядерной мощью Китая. А Пакистан последовал этому примеру, чтобы противостоять Индии.
Что касается ядерных программ Северной Кореи и Ирана, на первый взгляд, ядерное разоружение США, РФ и других великих держав сообразно статье VI ДНЯО едва ли оказало бы серьезное влияние. Но взаимосвязь все же имела место и сохраняется, не прямолинейная, а гораздо более сложная и тонкая.
Во-первых, речь идет об общей атмосфере восприятия международной безопасности, в которой те или иные государства определяют свое отношение к ядерному оружию. Едва ли можно считать случайным совпадением, что с 1987 по 1998 гг. интенсивные переговоры по ядерному разоружению и реальные сокращения ЯО (Договоры по РСМД, СНВ-1, СНВ-2, рамочный Договор СНВ-3, Соглашения о разграничении систем ПРО, ДВЗЯИ, односторонние сокращения тактических ядерных вооружений США и СССР/РФ) происходили одновременно с вступлением в ДНЯО порядка 40 новых стран, в том числе двух ядерных держав: Франции и КНР. В 1995 г. Договор получил бессрочное продление, в 1997 г. был принят Дополнительный протокол к гарантиям МАГАТЭ. Четыре государства отказались от военных ядерных программ и от ядерного оружия или были лишены их применением силы извне (Бразилия, Аргентина, ЮАР, Ирак). Три государства, имевшие на своей территории ЯО в результате распада СССР, вступили в ДНЯО в качестве неядерных государств (Украина, Белоруссия, Казахстан). Договор о нераспространении превратился в самый универсальный международный инструмент, его членами стали 189 государств ООН и только три остались за пределами (Израиль, Индия, Пакистан).
Скорее всего, если бы великие державы последовательно вели курс на сворачивание ядерных арсеналов и снижение роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности, то соответственно падало бы значение ядерного оружия в мире как символа статуса, могущества, престижа. Параллельно снижалась бы популярность ЯО во внутриполитической жизни многих стран (как, скажем, имеет место с PR-привлекательностью биологического и химического оружия).
Точно так же очевидно, что прямо противоположная политика великих держав и неприсоединившейся к ДНЯО тройки создавала с конца 1990-х гг. максимально питательную среду для роста привлекательности ЯО в глазах правительств и общественного мнения растущего числа стран. Нынешний упор многих российских деятелей на важность ядерного потенциала для безопасности и на пагубность его дальнейшего сокращения, естественно, работает в том же направлении.
Второй общий момент состоит в том, что закрепленная в стратегических взаимоотношениях России и США ситуация враждебного противостояния в форме ядерного сдерживания ставит жесткие ограничения для более глубокого взаимодействия великих держав. Хотя Караганов утверждает, что эти вооружения «давно уже реально не беспокоят обе стороны», его призывы к двум державам «координировать политику сдерживания новых ядерных игроков» будут и впредь натыкаться на препятствие в виде ядерного противостояния, если остановится процесс сокращения ЯО (подробнее об этом ниже).
Третье. Есть ряд направлений еще более прямой взаимосвязи ядерного разоружения и нераспространения. В первую очередь это относится к Договору о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанному в 1996 г., но так и не вступившему в силу, и Договору об оружейных ядерных материалах (ДЗПРМ), переговоры по которому в Женеве зашли в тупик.
Взаимосвязь ядерного разоружения и нераспространения существует, но она не является автоматической. Выполнение обязательств по ядерному разоружению по статье VI ДНЯО само по себе не гарантирует от ядерного распространения. Для этого требуются многочисленные дополнительные меры по укреплению и развитию ДНЯО, его норм и механизмов. Однако невыполнение обязательств ядерных держав по статье VI гарантирует дальнейшее распространение и блокирует совместные шаги по укреплению ДНЯО, оставляя возможность лишь силовых односторонних акций с обратными результатами. Об этом говорит весь опыт прошедших двадцати лет.
Излишки и минимальные потенциалы
По Караганову, пражский Договор СНВ ликвидирует «излишки» ядерных вооружений, т. е. останутся некие оптимальные потенциалы. Для сведения: по экспертным оценкам, общая мощность ядерных арсеналов мира после планируемых сокращений составит порядка двух тысяч мегатонн, из которых более 80 % придется на Россию и Соединенные Штаты – в 60 тысяч (!) раз больше суммарной мощности бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки и одномоментно убивших 140 тысяч человек. Что можно считать «излишками», а что оптимальными или минимальными уровнями – вопрос чрезвычайной сложности, над которым десятилетиями бьются армии экспертов. Но несомненно, что от потолков нового Договора до сколько-нибудь «рациональных» минимальных уровней ядерных потенциалов (если этот термин применим к данной теме) остается еще большая дистанция.
Пройти ее, конечно, невозможно, не решив множества смежных проблем: совместное развитие систем СПРН, ПВО и ПРО, регламентация высокоточных стратегических средств в обычном оснащении, ограничение сил третьих ядерных государств, консолидация тактических ядерных вооружений параллельно с возрождением режима ограничения обычных вооруженных сил, предотвращение гонки космических вооружений и др. И это прекрасно осознают ответственные сторонники ядерного разоружения. А вот его противникам нужно понять другое: ни одна из этих проблем сама собой не решится без дальнейшего продвижения в ядерном разоружении, а будет лишь нарастать. Более всего это относится к распространению ядерного оружия.
Жизнь при ядерной многополярности
Ядерное сдерживание в отношениях великих держав не предотвращает угрозу дальнейшего распространения ЯО, а скорее всего усугубляет такую опасность, хотя это вопрос дискуссионный. Но что совершенно точно – динамика взаимного ядерного сдерживания без соглашений о поэтапном разоружении препятствует эффективному сотрудничеству государств в борьбе с распространением. Это непосредственно относится к принятию санкций ООН против третьих стран; к общей позиции по укреплению ДНЯО; к возможности совместных военных операций (скажем, в рамках ИБОР); к сотрудничеству в создании системы противоракетной обороны (о чем РФ и США не раз пытались договориться за последние 15 лет).
Советскому Союзу и Соединенным Штатам потребовалось два десятка лет балансирования на грани войны и кошмар Карибского кризиса, чтобы сформировать стабильное взаимное сдерживание с обширным договорно-правовым регламентом. Дальнейшее ядерное распространение едва ли будет воспроизводить такую же модель. Ядерные силы новых стран уязвимы и будут провоцировать упреждающий удар, их системы управления и предупреждения отсутствуют или неэффективны, как и технологии предотвращения несанкционированного применения. Зачастую эти страны страдают от внутренней нестабильности, склонны к экстремизму, да и вообще неясно, удержит ли их от опасных авантюр угроза потерь среди мирного населения. Через эти режимы атомное взрывное устройство скорее всего попадет в руки террористов, и никакое сдерживание или ПРО не спасет от ядерных терактов Вашингтон, Москву, Лондон или Париж.
Реабилитация ядерного разоружения как конечной, пусть и отдаленной цели политики ведущих держав придает целенаправленность и последовательность рациональным договорам обозримого будущего, как новый Договор СНВ и последующее, более глубокое сокращение ядерных вооружений. Открывается путь к реализации ДВЗЯИ и ДЗПРМ, становится реальным подключение к процессу третьих ядерных держав и «стран-аутсайдеров» (Индии, Пакистана, Израиля). Получает мощный импульс курс на упрочение ДНЯО, на интернационализацию ядерного топливного цикла, обеспечение высоких мировых стандартов сохранности ядерных материалов.
Сергей Караганов слишком легко предлагает смириться с ракетно-ядерным Ираном. Но никогда и ни при каких обстоятельствах Тегерану не позволят создать ядерное оружие. Или он сам откажется от этого под воздействием ужесточения санкций Совбеза ООН, или великие державы помешают ему военным путем согласно статье 42 Устава ООН. А если нет – это самостоятельно сделает Израиль. Интересно, как бы реагировала Москва, если бы соседняя страна, намного превосходящая нас по населению и экономике, упрямо рвалась к ядерному оружию, заявляя при этом на высшем официальном уровне, что Россию нужно «стереть с политической карты мира»?
А КНДР будут «душить» санкциями, пока Пхеньян, наконец, не поймет, что выживание режима зависит не от сохранения нескольких атомных боеприпасов, а от отказа от них.
Россия и ядерное оружие
Роль ядерного оружия в обеспечении статуса и безопасности РФ, как представляется, весьма преувеличена. Не надо забывать, что Организация Варшавского договора и Советский Союз распались, имея в 5–7 раз больше ядерных вооружений, чем нынешняя Россия. Как раз чрезмерное упование на ядерный потенциал (и на военную мощь в целом) в конечном итоге погубили СССР, лишив его стимула к реальной политической и экономической модернизации. Но было невозможно бесконечно жить в условиях предвоенной мобилизации, когда ЯО сделало немыслимой большую войну – и советская система рухнула. Россия не должна повторить эту ошибку, чрезмерно полагаясь на ЯО как на гарантию безопасности и мирового престижа. Не хочется верить, что для российского народа ядерное оружие – это единственно возможный и достижимый атрибут статуса великой мировой державы.
Разумеется, отказ от ядерного оружия ни в коем случае не может означать «зеленый свет» для больших, региональных или локальных войн с применением обычных вооружений или систем на новых физических принципах (лазерных, пучковых, сейсмических и пр.). Иными словами, мир без ядерного оружия – это международное сообщество, организованное на иных принципах, обеспечивающих безопасность ответственных стран, независимо от их размера, экономической и военной мощи. На путь сотрудничества и разумного управления толкают и другие глобальные проблемы XXI века, о которых, кстати, пишет и доктор Караганов.
Такой мир сейчас кажется утопией. Достижение цели ядерного разоружения, полагает автор статьи, «возможно и желательно, только если изменится человек, изменится человечество. Видимо, сторонники “ядерного нуля” в возможность такого изменения верят. Я пока – нет».
Ну что ж, вера – это вопрос философии, о котором не спорят. Дело в другом. Именно потому, что человеческое сознание эволюционирует медленно, консервация современных ядерных потенциалов неминуемо приведет к тому, что ЯО попадет в руки безответственных режимов, террористов и, в конце концов, к катастрофе.
Наряду с решением грандиозных новых проблем нашего века последовательное и продуманное продвижение в ядерном разоружении и ужесточение системы нераспространения дает надежду предотвратить эту катастрофу и заодно вполне может изменить человека и человечество в лучшую сторону.

География китайской мощи
Как далеко может распространиться влияние Китая на суше и на море?
Роберт Каплан – старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и автор книги «В тени Европы: две холодные войны и тридцатилетние скитания по Румынии и за ее пределами».
Резюме Китай очень выгодно расположен на карте мира. Благодаря этому он имеет возможность широко распространить свое влияние на суше и на море: от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май – июнь) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.
В конце своей статьи «Географическая ось истории», опубликованной в 1904 г. и получившей мировую известность, сэр Халфорд Макиндер выразил особое беспокойство в отношении Китая. Объяснив, почему Евразия является силовым геостратегическим центром мира, он высказал предположение, что китайцы, если они смогут распространить влияние далеко за пределы своей страны, «способны превратиться в желтую опасность для мировой свободы. И как раз по той причине, что они соединят с ресурсами громадного континента протяженную океанскую границу – козырь, которого была лишена Россия, хозяйничавшая в этом осевом регионе прежде».
Вынося за скобки расистские настроения, обычные для начала XX века, а также истерическую реакцию, которую всегда вызывает на Западе появление могучей внешней силы, можно сказать, что Макиндер тревожился не зря. Если такой евразийский исполин, как Россия, был и до сих пор остается главным образом сухопутной державой, чья океанская граница блокирована арктическими льдами, то Китай сочетает в себе признаки державы и сухопутной, и морской. Его береговая линия протянулась на девять тысяч миль, изобилует удобными естественными гаванями и пролегает в зоне умеренного климата. (Макиндер даже предупреждал о том, что Китай когда-нибудь завоюет Россию.) Потенциальная зона влияния Китая простирается от Центральной Азии с ее богатейшими запасами полезных ископаемых и углеводородного сырья до основных морских путей, пересекающих Тихий океан. Позже в книге «Демократические идеалы и реальность» Макиндер предсказывал, что в конечном счете Китай будет править миром наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, «построив для четверти человечества новую цивилизацию, не вполне восточную и не вполне западную».
Выгодное географическое положение Поднебесной настолько очевидно, что о нем не всегда вспоминают, говоря о стремительном экономическом прогрессе этой страны и напористом национальном характере китайцев. И все же это не следует забывать, поскольку рано или поздно география обеспечит Китаю ключевую роль в геополитике, каким бы извилистым ни был его путь к статусу мировой державы. (В течение последних 30 лет годовой прирост китайского ВВП превышал 10 %, но в следующие три десятилетия едва ли можно ожидать таких же темпов.) Китай сочетает в себе элементы предельно модернизированной экономики западного образца с унаследованной от древнего Востока «гидравлической цивилизацией» (термин историка Карла Виттфогеля, используемый применительно к обществам, практикующим централизованный контроль над орошением почвы).
Благодаря управлению из единого центра китайский режим способен, например, вербовать миллионные трудовые армии на строительство крупнейших объектов инфраструктуры. Это и сообщает Китаю неуклонное поступательное развитие – подобных темпов попросту нельзя ожидать от демократических государств, которые привыкли неторопливо согласовывать интересы своих граждан. Китайские лидеры формально считаются коммунистами. Но в том, что касается заимствования западных технологий и практики, они – преемники примерно 25 императорских династий, правивших в стране на протяжении четырех тысяч лет и встраивавших западный опыт в жесткую и развитую культурную систему, которая обладает, помимо всего прочего, уникальным опытом навязывания вассальных отношений другим государствам. «Китайцы, – сказал мне в начале этого года один сингапурский чиновник, – умеют добиваться своего и пряником, и кнутом, систематически чередуя оба метода».
Внутреннее развитие Китая питает его внешнеполитические амбиции. Империи редко строятся по готовому проекту, их рост происходит органически. Становясь сильнее, государство культивирует новые потребности и, как это ни парадоксально, новые опасения, побуждающие его так или иначе расширяться. Так, даже под руководством самых бесцветных президентов конца XIX века – Резерфорда Хейза, Джеймса Гарфилда, Честера Артура, Бенджамина Гаррисона – экономика Соединенных Штатов устойчиво и ровно развивалась. По мере того как страна увеличивала объем торговли с внешним миром, у нее возникали разносторонние экономические и стратегические интересы в самых отдаленных уголках света. Иногда – как, например, в Южной Америке и в Тихоокеанском регионе, – этими интересами оправдывалось военное вмешательство. В это время американская администрация еще и потому могла сосредоточиться на внешней политике, что внутри страны положение было прочным, – последнее крупное сражение индейских войн датируется 1890 годом.
Сегодня КНР укрепляет сухопутные границы и направляет свою активность вовне. Внешнеполитические амбиции эта страна проводит в жизнь столь же агрессивно, как столетием раньше – США, но по совершенно иным причинам. Пекин не практикует миссионерский подход к внешней политике, не стремится утвердить в других странах собственную идеологию или систему правления. Нравственный прогресс в международной политике – цель, которую преследует Америка; китайцев эта перспектива не привлекает. Поведение Срединного царства по отношению к другим странам целиком продиктовано его потребностью в поставках энергоносителей, металлов и стратегического сырья, необходимых для поддержания постоянно растущего жизненного уровня гигантского населения, которое составляет примерно одну пятую населения земного шара.
Чтобы решить эту задачу, Китай построил выгодные для себя сырьевые отношения и с соседними, и с удаленными странами, – со всеми, кто обладает ресурсами, в которых он нуждается для подпитывания роста. Во внешней политике Китай не может не исходить из основополагающего национального интереса – экономического выживания, и поэтому мы вправе охарактеризовать эту страну как сверхреалистичную, сверхпрагматичную державу. Отсюда стремление упрочить присутствие в различных частях Африки, где находятся большие запасы нефти и полезных ископаемых, обезопасить транспортные пути в Индийском океане и Южно-Китайском море, связывающие побережье страны с арабо-персидским миром, который столь богат углеводородным сырьем. По существу лишенный выбора в своих действиях на международной арене, Пекин не особенно заботится о том, с какими режимами ему приходится иметь дело; в партнерах ему нужна стабильность, а не добропорядочность, как ее понимает Запад. А поскольку некоторые из этих режимов – скажем, Иран, Мьянма (известная также как Бирма) и Судан, – погружены во мрак отсталости и авторитаризма, неустанный поиск поставщиков сырья, который Китай ведет по всему свету, порождает конфликты между ним и Соединенными Штатами с их миссионерской ориентацией. Существуют трения и с такими странами, как Индия и Россия, в чьи сферы влияния Пекин пытается проникнуть.
Разумеется, он никак не угрожает существованию этих государств. Вероятность войны между Китаем и США незначительна; китайская армия представляет для Соединенных Штатов лишь косвенную опасность. Речь здесь идет главным образом о вызове географического свойства – несмотря на принципиальные разногласия по вопросам внешнего долга, структуры товарообмена или глобального потепления. Зона китайского влияния, формирующаяся в Евразии и Африке, постоянно растет, причем не в том поверхностном, чисто количественном смысле, какой придавали этому понятию в XIX веке, а в более глубоком, отвечающем эпохе глобализации. Преследуя простую цель – надежно удовлетворить свои экономические потребности, Китай сдвигает политическое равновесие в сторону Восточного полушария, и это не может не затрагивать самым серьезным образом интересы Соединенных Штатов. Пользуясь удобным положением на карте мира, Китай распространяет и расширяет свое влияние везде и всюду – от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана. Эта страна превращается в мощную континентальную державу, а политику таких государств, согласно знаменитому изречению Наполеона, нельзя отделить от их географии.
Пограничный болевой синдром
Синьцзян и Тибет – два наиболее значимых региона в пределах китайского государства, чьи жители смогли сохранить самобытность, устояв перед преимущественным положением китайской цивилизации. В известном смысле именно самобытный характер и той и другой области делает Китай похожим на империю. Кроме того, этническая напряженность в обоих регионах осложняет отношения Пекина с прилегающими к ним государствами.
«Синьцзян» означает «новое владение»; так называется китайский Туркестан, самая западная китайская провинция, в два раза превосходящая по площади Техас и отделенная от центральных районов страны пустыней Гоби. Хотя государственность Поднебесной в той или иной форме насчитывает тысячелетия, Синьцзян официально стал ее частью лишь в конце XIX века. С тех пор история этой провинции, как заметил еще в прошлом веке английский дипломат сэр Фицрой Маклин, «была исключительно неспокойной»; Синьцзян то и дело восставал и временами добивался полной независимости от Пекина. Так продолжалось вплоть до 1949 г., когда коммунистические войска Мао Цзэдуна вторглись в Синьцзян и силой присоединили провинцию. И тем не менее сравнительно недавно, в 1990 г., и в прошлом, 2009 г., ее тюркское население – уйгуры, потомки тюркских племен, правивших в VII–VIII вв. Монголией, – восставало против пекинского режима.
Уйгуров в Китае насчитывается лишь около восьми миллионов – менее одного процента от общей численности населения, однако в Синьцзяне их 45 %, почти половина. Основной этнос Китая, народность хань, населяет плодородные низменные регионы в центре страны и на побережье Тихого океана, тогда как засушливые плоскогорья на западе и юго-западе являются историческими местами обитания уйгурского и тибетского меньшинств. Подобное распределение населения остается источником постоянной напряженности, поскольку Пекин считает, что современное китайское государство должно осуществлять в горных районах жесткий и безраздельный контроль. Стремясь прочно привязать к себе обе области – вместе с запасами нефти, природного газа, медной и железной руды, которые находятся в их недрах, – Пекин на протяжении нескольких десятилетий целенаправленно переселял туда ханьцев из центральных областей. Кроме того, он усердно заигрывал с независимыми тюркскими республиками в Центральной Азии – отчасти для того, чтобы лишить мятежных синьцзянских уйгуров всякого потенциального тыла.
Налаживая связи с правительствами центральноазиатских республик, китайское руководство преследовало и другую цель – расширить зону своего влияния. Китай глубоко проник в Евразию уже сейчас, но этого все еще недостаточно для удовлетворения его потребности в природных ресурсах. Влияние Пекина в Центральной Азии символизируют два крупных трубопровода, строительство которых близится к завершению: один пролегает через Казахстан и предназначен для снабжения Синьцзяна нефтью, добываемой в Каспийском море; по другому, проходящему через Казахстан и Узбекистан, в Синьцзян будет поступать природный газ из Туркмении. Мало того: острая нужда в природных ресурсах заставляет Пекин пускаться в довольно рискованные предприятия. В истерзанном войной Афганистане он ведет разработку месторождения меди, находящегося к югу от Кабула, и давно присматривается к запасам железа, золота, урана и драгоценных камней (одни из последних в мире нетронутых залежей). Пекин рассчитывает проложить в Афганистане и в Пакистане дороги и трубопроводы, которые свяжут многообещающий центральноазиатский регион, где он утверждает свое господство, с портовыми городами на берегу Индийского океана. Так что в стратегическом плане географическое положение Китая только улучшится, если Соединенным Штатам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане.
Тибет, как и Синьцзян, играет принципиальную роль для государственного самосознания китайцев, и, подобно Синьцзяну, осложняет взаимоотношения Китая с другими государствами. Скалистое Тибетское нагорье, богатое железной и медной рудой, занимает колоссальное пространство. Именно поэтому Пекин испытывает все большую тревогу в связи с возможностью автономии Тибета, не говоря уже о полной его независимости, и с таким усердием строит шоссе и железные дороги, связывающие этот регион с другими частями страны. Если бы Тибет отделился, от Китая осталось бы лишь куцее охвостье; к тому же Индия в этом случае резко усилилась бы на субконтиненте за счет присоединения северной зоны (речь идет о спорных районах в принадлежащем Китаю Кашмире, а также об индийском штате Аруначал-Прадеш, которые по площади составляют почти 150 кв. км. – Ред.).
Индия с ее более чем миллиардным населением уже сейчас рассекает тупым клином зону китайского влияния в Азии. Это особенно хорошо видно на карте «Великого Китая», помещенной в книге Збигнева Бжезинского «Большая шахматная доска» (1997). В известной степени географическое положение Китая и Индии действительно обрекает их на соперничество: страны-соседи с гигантским населением, богатейшими и древнейшими культурами давно притязают на одни и те же территории (например, индийский штат Аруначал-Прадеш). Проблема Тибета только осложняет ситуацию. Индия предоставила убежище правительству далай-ламы, с 1957 г. находящемуся в изгнании. Даниель Твайнинг, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла, считает, что недавние инциденты на китайско-индийской границе «могут объясняться беспокойством Китая по поводу преемника далай-ламы». Ведь вполне вероятно, что следующий далай-лама окажется родом из тибетского культурного пояса, включающего северную Индию, Непал и Бутан, а значит, более склонным к проиндийской и, соответственно, антикитайской ориентации. Китаю и Индии предстоит сыграть между собой «по-крупному» не только в этих регионах, но также в Бангладеш и Шри-Ланке. Синьцзян и Тибет, как и раньше, остаются внутри официально признанных границ Китая, но, принимая во внимание натянутые отношения между китайским правительством и жителями обеих провинций, можно ожидать, что в будущем попытки Пекина распространить свое влияние за пределы ханьского этнического большинства встретят серьезное противодействие.
Ползучее влияние
Даже на тех отрезках границы, где Китаю ничто не угрожает, сама форма страны выглядит пугающе незавершенной, как если бы в этих местах были изъяты части некогда существовавшего Великого Китая. Северная граница Китая охватывает Монголию, громадную территорию, которая выглядит словно клок, выдранный из его «спины». Плотность населения Монголии – среди самых низких в мире, и близость городской китайской цивилизации представляет для нее несомненную демографическую угрозу. Завоевав некогда Внешнюю Монголию, чтобы получить доступ к более пригодным сельскохозяйственным землям, ныне Китай готов покорить ее вновь, но уже на современный лад – поставив себе на службу запасы нефти, угля, урана, а также роскошные пустующие пастбища. Поскольку неконтролируемая индустриализация и урбанизация превратила Китай в крупнейшего мирового потребителя алюминиевой, медной, свинцовой, никелевой, цинковой, оловянной и железной руды (его доля в мировом потреблении металлов за последнее десятилетие подскочила с 10 до 25 %), китайские горнорудные компании откровенно делают ставку на разработку богатых недр соседней страны. Взаимоотношения с Монголией лишний раз показывают, как широко простираются империалистические замыслы Пекина, – особенно если вспомнить, что ранее Китай уже поставил под контроль Тибет, Макао и Гонконг.
К северу от Монголии и трех северо-восточных китайских провинций лежит российский Дальний Восток – обширнейшая, в два раза превосходящая Европу по площади депрессивная область с крайне немногочисленным и постоянно убывающим населением. Русское государство окончательно включило в себя эти территории в XIX – начале XX века, когда Китай был крайне обессилен. В настоящее время он окреп, а власть российского правительства нигде так не слаба, как в этой восточной трети России. При этом совсем рядом с семимиллионным русским населением Дальнего Востока (к 2015 году его численность может сократиться до 4,5 млн), в трех приграничных провинциях Китая, проживает около 100 млн человек. По плотности они превосходят российский Дальний Восток в 62 раза. Китайские мигранты просачиваются в Россию, наводняя Читу к северу от монгольской границы, а также другие города региона. Доступ к ресурсам остается главной целью китайской внешней политики в любом регионе мира, и малонаселенный российский Дальний Восток, располагающий огромными запасами природного газа, нефти, строевого леса, алмазов и золота, не является исключением. «Москва с подозрением взирает на хлынувшие в этот регион потоки многочисленных китайских поселенцев, следом за которыми тянутся лесозаготовительные и горнорудные компании», – писал минувшим летом Дэвид Блэр, корреспондент лондонской Daily Telegraph.
Как и в случае с Монголией, никто не опасается, что китайская армия когда-нибудь завоюет или формально аннексирует российский Дальний Восток. Страх внушает другое: все более заметное ползучее демографическое и экономическое влияние Пекина в этом регионе (частью которого Китай кратковременно владел в эпоху правления династии Цин). В период холодной войны пограничные споры Китая и Советского Союза привели к тому, что в прилегающих районах Сибири были размещены мощные войсковые части, насчитывавшие сотни тысяч человек; временами напряженность на границе выливалась в прямые столкновения. В конце 1960-х периодические трения привели к разрыву отношений между КНР и СССР. Географический фактор и сейчас вполне способен стать причиной размолвки Китая и России, поскольку нынешний их союз носит чисто тактический характер. Это может быть выгодно Соединенным Штатам. В 1970-х гг. администрация президента Никсона оказалась в выигрыше в результате столкновения между Пекином и Москвой и положила начало новым отношениям с Китаем. В будущем, когда последний станет по-настоящему великой державой, Соединенные Штаты, по-видимому, могли бы заключить стратегический союз с Россией, чтобы уравновесить влияние Срединного царства.
Южные перспективы
Влияние Китая распространяется также на юго-восток. Здесь, в сравнительно слабых государствах Юго-Восточной Азии, строительство будущего Великого Китая встречает наименьшее сопротивление. Существует не так уж много серьезных географических преград, отделяющих Китай от Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Естественным центром сферы влияния, которая охватывает бассейн реки Меконг и связывает все страны Индокитая сетью наземных и водных транспортных путей, должен стать город Куньмин, находящийся в китайской провинции Юньнань.
Самая большая страна материковой части Юго-Восточной Азии – Мьянма. Если Пакистан, постоянно находящийся под угрозой распада, можно назвать азиатскими Балканами, то Мьянма скорее напоминает Бельгию начала XX века, так как над ней постоянно нависает угроза быть захваченной могущественными соседями. Подобно Монголии, российскому Дальнему Востоку и другим территориям, прилегающим к сухопутным границам Китая, Мьянма – слабое государство, весьма богатое природными ресурсами, в которых крайне нуждается Китай. Китай и Индия борются за право заняться модернизацией глубоководного порта Ситуэ на мьянманском побережье Индийского океана, причем обе страны питают надежду проложить в будущем газопровод к месторождениям на шельфе Бенгальского залива.
Если говорить о регионе в целом, то Пекин применяет здесь, в несколько обновленном виде, известный стратегический принцип «разделяй и властвуй». В прошлом он вел сепаратные переговоры с каждой страной – членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но никогда не вступал в контакты с этим блоком как единым целым. Даже недавно вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли, которое он заключил со странами АСЕАН, показывает, как искусно Китай развивает выгодные для себя связи с южными соседями. Он использует эту организацию в качестве рынка сбыта дорогостоящих китайских товаров, покупая в странах АСЕАН дешевую сельскохозяйственную продукцию. Отсюда неизменное активное сальдо торгового баланса с китайской стороны, тогда как страны АСЕАН постепенно превращаются в свалку для промышленных товаров, произведенных дешевой рабочей силой в городах Китая.
Все это происходит на фоне утраты Таиландом прежнего значения регионального лидера и естественного противовеса Китаю. Еще в недавнем прошлом весьма сильное государство, Таиланд в последнее время испытывает серьезные внутриполитические затруднения. Тайская правящая фамилия с болезненным королем во главе уже не может, как прежде, выполнять стабилизирующую функцию, а тайская армия поражена фракционными раздорами. (Китай активно развивает двустороннее военное сотрудничество и с Таиландом, и с другими странами Юго-Восточной Азии, используя то обстоятельство, что США уделяют не слишком много внимания военно-стратегическому положению этого региона, так как им приходится тратить силы главным образом на операции в Афганистане и Ираке.)
Две страны к югу от Таиланда – Малайзия и Сингапур – вовлечены в ответственный процесс перехода к демократической форме правления, между тем как их прежние лидеры, Махатхир Мохамад и Ли Куан Ю, – сильные личности, перестроившие свои государства, – сходят со сцены. В экономическом плане Малайзия все больше втягивается в сферу влияния Китая, несмотря на то, что живущие в ней этнические китайцы чувствуют постоянную угрозу со стороны мусульманского большинства. Что же касается Сингапура, населенного в основном этническими китайцами, то его правительство боится оказаться в вассальной зависимости от Поднебесной; в последние годы оно завязало тесные отношения с Тайванем и проводит с ним совместные военные учения. Ли Куан Ю открыто призвал Соединенные Штаты, как и прежде, участвовать в жизни региона, оказывая ему военную и дипломатическую поддержку. Положение Индонезии также противоречиво: с одной стороны, она нуждается в присутствии американского флота, чтобы чувствовать себя защищенной от возможной китайской угрозы, с другой – опасается, что в других странах исламского мира ее видимое союзничество с США может вызывать раздражение.
Поскольку американское влияние в Юго-Восточной Азии миновало зенит и идет на убыль, а влияние Китая постоянно растет, государства региона все чаще объединяют усилия, чтобы противостоять стратегии «разделяй и властвуй», которую стремится реализовать Пекин. Так, например, Индонезия, Малайзия и Сингапур заключили союз для борьбы с морским пиратством. Чем больше эти государства будут уверены в собственных силах, тем меньшую опасность для них будет представлять дальнейшее укрепление Китая.
Ситуация в армии
Центральная Азия, Монголия, российский Дальний Восток и Юго-Восточная Азия – естественные зоны китайского влияния. Однако политические границы этих зон в будущем едва ли изменятся. Принципиально иной выглядит ситуация на Корейском полуострове: в этом месте карта Китая предстает в особенно урезанном виде, и здесь политические границы еще вполне могут сместиться.
Наглухо отгородившийся от мира северокорейский режим неустойчив в самой своей основе, и его крушение грозит затронуть весь регион. Как бы «свисая» с Маньчжурии, Корейский полуостров занимает положение, которое позволяет полностью контролировать морские торговые пути, ведущие в северо-восточный Китай. Разумеется, никто всерьез не думает, что Китай аннексирует какую-либо часть полуострова, но нет сомнений в том, что его по-прежнему раздражает, когда другие страны слишком явно осуществляют свой суверенитет в этом регионе, особенно на севере. И хотя Пекин поддерживает сталинистский режим Северной Кореи, он явно вынашивает в отношении Корейского полуострова определенные планы на будущее – по завершении царствования Ким Чен Ира. Похоже, сразу после этого китайцы намерены отправить обратно тысячи перебежчиков из КНДР, нашедших пристанище в Китае, и создать с их помощью благоприятную политическую основу для постепенного экономического овладения регионом в бассейне реки Тумыньцзян (Туманная). Там соседствуют три страны – Китай, Северная Корея и Россия, и существуют благоприятные условия для развития морской торговли с Японией, а через нее – с Тихоокеанским регионом в целом.
Это одна из причин, по которой Пекин хотел бы создать на месте теперешней Северной Кореи государство пусть и авторитарного типа, но гораздо более модернизированное. Именно такое государство могло бы стать буфером между Китаем и динамичной южнокорейской демократией, опирающейся на средний класс. Впрочем, возможное объединение Корейского полуострова также может оказаться выгодным для КНР. После воссоединения Корея скорее всего будет националистическим образованием, в известной степени враждебным и по отношению к Китаю, и к Японии – странам, в прошлом пытавшимся ее оккупировать. Но корейская неприязнь к Японии значительно сильнее, нежели к Китаю. (Япония оккупировала полуостров с 1910 по 1945 г., и Сеул и Токио продолжают вести спор о статусе островков Токдо/Такешима.) Экономические отношения нового государства с Китаем наверняка окажутся более прочными, чем с Японией: объединенная страна будет в большей или меньшей степени находиться под контролем Сеула, а Китай уже сейчас самый крупный торговый партнер Южной Кореи. Важно, наконец, и то, что объединенная Корея, отчасти тяготеющая к Пекину и, напротив, не приемлющая Японию, не будет видеть смысла в том, чтобы и дальше сохранять на своей территории американские войска. Иными словами, нетрудно представить себе будущее Кореи в составе Великого Китая и то время, когда военное присутствие США в Северо-Восточной Азии начнет сокращаться.
Как показывает пример Корейского полуострова, на сухопутных границах китайцы вправе ожидать скорее благоприятное, чем опасное для себя развитие событий. Еще Макиндер полагал, что Китай сможет со временем стать великой сухопутной и морской державой, которая как минимум затмит Россию в Евразии. Политолог Джон Миршеймер писал в своей книге «Трагедия великодержавной политики», что «самыми опасными государствами в системе международных отношений являются континентальные державы с большими армиями». И по мере того как Китай приближается к статусу континентальной державы, возникают все основания опасаться его влияния. Однако КНР лишь отчасти отвечает определению Миршеймера: ее вооруженные силы, насчитывающие 1,6 млн человек, – крупнейшие в мире, но в ближайшие годы Пекину не под силу создать современные экспедиционные войска. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проявила себя во время землетрясения в Сычуани в 2008 г., недавних этнических беспорядков в Тибете и Синьцзяне, пекинской олимпиады 2008 г., проведение которой требовало особых мер безопасности. Однако, как заметил Абрахам Денмарк, сотрудник Центра разработки новой стратегии национальной безопасности США, это доказывает лишь способность НОАК перебрасывать войска из одной части материкового Китая в другую. Но вовсе не говорит о том, что она в состоянии перемещать тяжелое вооружение и ресурсы, необходимые для развертывания войсковых частей в ходе масштабных военных операций. Впрочем, даже если такая возможность появится, это, по-видимому, мало что изменит: маловероятно, что подразделения НОАК будут пересекать границы Китая по каким-либо иным причинам, нежели серьезный политический просчет (если, например, дело дойдет до новой войны с Индией) или необходимость заполнить внезапно возникшие пустоты на карте (если рухнет северокорейский режим). Но Китай и без того вполне способен заполнить возможные области силового вакуума вблизи любого участка своих протяженных границ с помощью такого оружия, как демографическое и экономическое давление: у него попросту нет нужды опираться при этом на экспедиционные войска.
Беспрецедентная мощь Китая на суше отчасти объясняется успехами китайских дипломатов, которые в последние годы приложили немало стараний, чтобы урегулировать многочисленные пограничные споры с республиками Центральной Азии, Россией и другими соседями (Индия в этом ряду является бросающимся в глаза исключением). Значение этой перемены трудно переоценить. Отныне границы Маньчжурии не испытывают колоссального военного давления извне, а ведь в годы холодной войны из-за этой постоянной угрозы Мао Цзэдун был вынужден расходовать львиную долю оборонного бюджета на сухопутные войска и пренебрегать военно-морскими силами. Великая Китайская стена лучше всего свидетельствует о том, что, начиная с глубокой древности и по наши дни, Китай неизменно тревожила угроза внешней агрессии на суше. Теперь он может вздохнуть свободно.
Обретение возможности стать морской державой
Благодаря сложившейся ситуации на суше Китай может в спокойной обстановке заняться укреплением своего флота. В то время как для прибрежных городов-государств или островных стран стремление наращивать военно-морскую мощь представляется чем-то самоочевидным, для держав, которые подобно Китаю на протяжении всей своей истории были замкнуты в пределах материка, это выглядит роскошью. В данном случае, однако, подобное состояние легко достижимо, поскольку береговая линия, которой природа наделила Поднебесную, не уступает по своим качествам ее внутренним областям. Китай занимает господствующее положение на тихоокеанском побережье Восточной Азии в зоне умеренного и тропического климата, а южная граница страны находится в непосредственной близости к Индийскому океану, и в будущем ее можно связать с побережьем сетью дорог и трубопроводов. В XXI веке Пекин будет проецировать вовне «жесткую силу» прежде всего с помощью своего военно-морского флота.
Нельзя не отметить, что на море Китай сталкивается с гораздо более враждебным окружением, чем на суше. Проблемной зоной для китайского флота является так называемая «первая островная гряда»: Корейский полуостров, Курильские острова, Япония (включая острова Рюкю), Тайвань, Филиппины, Индонезия и Австралия. Любое звено в этой цепи, за исключением Австралии, в будущем может стать горячей точкой. Китай уже сейчас вовлечен в споры о принадлежности различных участков дна Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, богатых энергоносителями: с Японией предметом дискуссии являются острова Дяоюйтай/Сэнкаку, с Филиппинами и Вьетнамом – острова Спратли. Подобные распри помогают Пекину подогревать националистические настроения внутри страны, но китайским военно-морским планировщикам от этого не легче: положение дел на театре потенциального противоборства представляется им крайне безрадостным.
Первая островная гряда, по мнению сотрудников Колледжа ВМФ США Джеймса Холмса и Тоши Йошихары, представляет собой нечто вроде «Великой Китайской стены, развернутой против Китая». Это эффективно организованный оборонительный рубеж, выстроенный союзниками Соединенных Штатов наподобие сторожевых вышек, позволяющих наблюдать за Китаем и, если понадобится, воспрепятствовать его проникновению в воды Тихого океана. Реакция Пекина на своеобразную блокаду временами была агрессивной. Морская мощь обычно не проявляется столь жестко, как сухопутная: как таковые корабли не могут занимать большие пространства и предназначены для проведения операций, которые, вообще говоря, сами по себе более важны, чем морские сражения, а именно для обороны торговых путей.
Казалось бы, можно было ожидать, что Китай станет не менее снисходительной державой, чем великие морские нации прошлого – Венеция, Великобритания и Соединенные Штаты, – и будет, как они, заботиться в первую очередь о сохранении мира на морях, что предполагает среди прочего и свободу торговли. Однако он не столь уверен в себе. По-прежнему сознавая свою неполную защищенность на море, Пекин задействует по отношению к Мировому океану чисто территориальный подход. Сами по себе понятия «первая островная гряда» и «вторая островная гряда» (последняя включает остров Гуам, принадлежащий США, и Северные Марианские острова) подразумевают, что в глазах китайцев эти архипелаги представляют собой не что иное, как отроги материкового Китая. Глядя на прилегающие к их стране моря сквозь призму мышления в терминах «игры с нулевой суммой», китайские адмиралы выступают наследниками агрессивной философии американского военно-морского стратега начала XX века, Альфреда Тайера Мэхэна, который отстаивал концепции «контроля над морями» и «решающего сражения». Однако в настоящее время они не располагают достаточно мощным флотом для решения своих задач, и это расхождение между обширными притязаниями и реальными возможностями привело в последние несколько лет к ряду нелепых инцидентов.
В октябре 2006 г. китайская подводная лодка вела слежение за американским авианосцем Kitty Hawk, после чего всплыла на поверхность вблизи от него, на расстоянии торпедного выстрела. В ноябре 2007 г. китайцы не разрешили Kitty Hawk и его ударной группе, искавшей укрытия от надвигавшегося шторма, войти в гонконгскую гавань Виктория. (В 2010 г. Kitty Hawk все же нанес визит в Гонконг.) В марте 2009 г. группа кораблей НОАК помешала работе американского судна дальнего гидроакустического наблюдения Impeccable, когда оно открыто проводило операции за пределами 12-мильной территориальной зоны КНР в Южно-Китайском море. Китайцы преградили путь американскому кораблю и совершали угрожающие маневры, как если бы намеревались его таранить. Все это говорит не столько о серьезной силе, сколько о недостаточной развитости китайского флота, которую пока не удалось преодолеть.
О твердом желании Китая обеспечить свои позиции на море свидетельствуют и крупные приобретения последних лет. Пекин стремится использовать не реализованные до сих пор асимметричные возможности, чтобы перекрыть американскому флоту доступ в Южно-Китайское море и в китайские прибрежные воды. Китай модернизировал свои эсминцы и намерен обзавестись одним-двумя авианосцами, но действует точечно и не склонен скупать военные суда без особого разбора. Он предпочел сосредоточить усилия на строительстве дизельных, атомных и ракетных подводных лодок нового типа. Как считают Сет Кропси, бывший помощник заместителя министра военно-морских сил США, и Рональд О'Рурк, сотрудник Исследовательской службы Конгресса США, Китай способен в течение 15 лет создать флот подводных лодок, который превзойдет американский аналог, насчитывающий в настоящее время 75 боеготовных подводных лодок. Более того, китайские военно-морские силы, по словам Кропси, намереваются ввести в действие систему наведения противокорабельных баллистических ракет, используя в ней загоризонтные радиолокаторы, космические спутники, донные гидролокационные сети и оборудование для компьютерных войн. В сочетании с формирующимся подводным флотом такая система в будущем должна помешать беспрепятственному доступу военно-морских сил США в наиболее значимые области Тихого океана.
Пытаясь установить контроль над прибрежной зоной в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море, Пекин также совершенствует группу морских тральщиков, покупает у России истребители четвертого поколения и развернул вдоль побережья около полутора тысяч российских ракет класса «земля-воздух». Даже вводя в действие систему подземных оптико-волоконных кабелей далеко на западе страны, вне пределов досягаемости морских ракет потенциального противника, китайцы исходят из агрессивной стратегии, предполагающей поражение символов американской мощи – авианосцев.
Разумеется, в обозримом будущем Китай не собирается атаковать американские авианосцы, и он по-прежнему крайне далек от того, чтобы бросить Соединенным Штатам прямой военный вызов. Однако налицо стремление нарастить на своих берегах необходимый потенциал устрашения, чтобы американцы не смели вводить свои корабли, когда и где им того захочется, в пространство между первой островной грядой и китайским побережьем. Поскольку способность влиять на поведение противника составляет самую суть любой державы, эта стратегия лишний раз доказывает, что планы строительства Великого Китая реализуются не только на суше, но и на море.
На очереди – Тайвань
Для создания Великого Китая особенно важно будущее Тайваня. Тайваньская проблема часто обсуждается в терминах нравственности: Пекин настаивает на необходимости восстановить целостность национального наследия и объединить Китай ради блага всех этнических китайцев; Вашингтон печется о сохранении образцовой демократии, какой является Тайвань. Однако подлинную проблему следует искать в другом. Как говорил американский генерал Дуглас Макартур, Тайвань – это «непотопляемый авианосец», занимающий позицию ровно посередине береговой линии Китая. Именно отсюда, по мнению военно-морских планировщиков Холмса и Йошихары, такая держава как США может «проецировать силу» в сторону китайского побережья и прилегающих к нему районов. Если Тайвань вернется в лоно материкового Китая, то китайский флот не только внезапно окажется в стратегически выгодной позиции по отношению к первой островной гряде, но и будет в состоянии свободно, в беспрецедентных масштабах, проецировать свою мощь за пределы этой гряды. Очень часто, говоря о будущем мировом порядке, употребляют слово «многополярный», – но только слияние Тайваня с материковым Китаем ознаменовало бы возникновение в Восточной Азии действительно многополярной военной ситуации.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2009 г. RAND Corporation, к 2020 г. Соединенные Штаты не смогут, как раньше, защитить Тайвань в случае нападения Китая. Китайцы, говорится в отчете, к этому времени будут в состоянии нанести США поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, даже если американцы будут иметь в своем распоряжении истребители пятого поколения F-22, две авианосных ударных группы и сохранят доступ к авиабазе Кадена на японском острове Окинава. В отчете делается акцент на боях в воздухе. Здесь же указывается, что китайцы по-прежнему будут стоять перед необходимостью высаживать на острове многотысячный пехотный десант, а их транспортные суда останутся уязвимыми для американских подлодок. Освещая ситуацию с разных сторон, отчет, однако, не может скрыть тревожной тенденции. Китай отделяют от Тайваня всего-навсего сто миль, тогда как Соединенным Штатам придется доставлять свои войска с другого конца планеты, причем действовать в условиях более ограниченного доступа к иностранным базам, чем в период холодной войны. Стратегия создания препятствий на пути перемещения американских военных кораблей в определенных морских зонах не просто преследует цель держать их подальше от китайских берегов, но и в особенности направлена на то, чтобы упрочить доминирующее положение Китая в акватории Тайваня.
Пекин делает все, чтобы взять Тайвань в тесное кольцо не только в военном, но и в экономическом и социальном плане. Примерно 30 % тайваньского экспорта приходятся на Китай. Еженедельно между Тайванем и материковым Китаем совершается 270 коммерческих авиарейсов. В последние пять лет две трети тайваньских компаний осуществили инвестиции в китайскую экономику. Ежегодно остров посещают около полумиллиона туристов с материка, а 750 тысяч тайваньцев проживают в Китае, проводя там каждый год по шесть месяцев. Углубляющаяся интеграция выглядит весьма привлекательно, но вот чем этот процесс разрешится, пока сказать трудно. Так или иначе, его исход будет иметь ключевое значение для политики великих держав в этом регионе. Если Соединенные Штаты попросту отдадут Тайвань Пекину, то Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и другие американские союзники в Тихоокеанском регионе, а также Индия и даже некоторые африканские государства начнут сомневаться в прочности обязательств, которые берет на себя Вашингтон. Это может побудить некоторые страны к сближению со Срединным царством, и тогда формирующийся Великий Китай охватит едва ли не все Восточное полушарие.
В этом заключается одна из причин, по которым Вашингтон и Тайбэй должны искать асимметричные ответы на военную угрозу со стороны Пекина. Им следует стремиться не к тому, чтобы нанести Пекину поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, а к тому, чтобы тот ясно осознал: подобная война обойдется для него недопустимо дорого. Если эта цель будет достигнута, американцам удастся сохранять функциональную независимость Тайваня до тех пор, пока Китай не станет более либеральным обществом, – тем самым они смогут сохранить и доверие союзников. В этом смысле действия администрации Обамы, заявившей в начале 2010 г. о намерении продать Тайваню вооружений на общую сумму 6,4 млрд долларов, имеют принципиальное значение для политики США в отношении Китая и, шире, всей Евразии. Кстати, нельзя сказать, что трансформация Китая изнутри – несбыточная мечта: миллионы туристов, прибывающих на Тайвань с материка, видят тамошние оживленные политические ток-шоу и крамольные заголовки в книжных магазинах, и это наверняка оказывает на них влияние. Тем не менее, хотя это звучит несколько парадоксально, демократический Китай может оказаться еще более динамичной великой державой в экономическом и, как следствие, в военном плане, чем Китай репрессивный.
Концентрируя военно-морские силы на тайваньском направлении, Пекин не забывает укреплять присутствие своего флота и в Южно-Китайском море, которое служит для него воротами в Индийский океан и обеспечивает доступ к мировым путям транспортировки энергоносителей. На этом направлении основные проблемы создают пираты, радикальные исламисты и крепнущий морской флот Индии, в том числе и вблизи труднодоступных морских зон, через которые вынуждены проходить китайские нефтяные танкеры и торговые суда. В геостратегическом плане Южно-Китайское море, как говорят многие, может стать «вторым Персидским заливом». Еще в первой половине XX века Николас Спайкмен, специалист по геополитике, заметил, что на протяжении всей истории государства желавшие утвердить свой контроль над прилегающими морями втягивались в «периферическую наземную и морскую экспансию». Греция стремилась подчинить Эгейское море, Соединенные Штаты – Карибское, и вот теперь Китай – Южно-Китайское. Спайкмен называл Карибское море «Средиземным морем Америки», чтобы подчеркнуть его значение для Соединенных Штатов. Южно-Китайское море в ближайшие десятилетия может стать «Средиземным морем Азии» и подлинным средоточием политической географии.
Высоколиквидные угрозы
Впрочем, попытки Китая проецировать силу в «Средиземное море Азии» противоречивы по самой своей сути. С одной стороны, Китай вроде бы полон решимости максимально осложнить доступ американских судов в прибрежные моря. С другой, он по-прежнему не способен защитить свои морские коммуникации, что, вообще говоря, делает любое нападение на американский военный корабль бессмысленным, поскольку в этом случае флот США может попросту отрезать Китай от поставок энергоносителей, перекрыв для китайских судов выход в Тихий и в Индийский океаны. Зачем же планировать что-то, если в действительности не собираешься осуществить намеченное? Как считает советник по вопросам обороны Жаклин Ньюмайер, Пекин хочет добиться «столь благоприятного соотношения сил», что «на деле ему и не придется прибегать к оружию для защиты своих интересов». Недаром он устраивает выставки новых видов оружия, строит портовые сооружения и оборудует станции подслушивания в Тихом и Индийском океане, предоставляет военную помощь приморским государствам, находящимся между китайской территорией и Индийским океаном. Все эти ходы делаются открыто и являются сознательной демонстрацией силы. Китайцы не столько ввязываются в непосредственную схватку с Соединенными Штатами, сколько стремятся повлиять на поведение американцев таким образом, чтобы избежать возможной конфронтации.
Вместе с тем активность Китая на море обнаруживает и более грозные аспекты. В самом центре Южно-Китайского моря, на южной оконечности острова Хайнань, китайцы строят мощную морскую базу с подземными доками, позволяющими разместить до 20 атомных и дизельных подводных лодок. Они как бы реализуют на практике доктрину Монро, утверждая свое господство над близлежащими международными водами. В настоящее время и в обозримом будущем у Китая едва ли появится намерение затеять войну с Америкой, но позже мотивации могут измениться. Лучше заранее оценить возможные варианты.
Ситуация на границах Евразии выглядит сейчас гораздо более сложной, чем в первые годы после Второй мировой войны. По мере того как американская гегемония пойдет на убыль, мощь военно-морских сил США будет уменьшаться или оставаться прежней, а экономическое и военное могущество Китая – крепнуть, расклад сил в Азии начнет все заметнее приобретать многополярный характер. Соединенные Штаты поставляют Тайваню 114 противовоздушных ракет Patriot и десятки ультрасовременных систем военной связи. Китай строит подземные доки для подлодок на острове Хайнань и запасается противокорабельными ракетными установками. Продолжают модернизацию своего флота Япония и Южная Корея. Мощные военно-морские силы создает Индия. Каждое из государств стремится сдвинуть равновесие сил в свою сторону.
Именно поэтому отказ государственного секретаря США Хиллари Клинтон от политики равновесия сил, будто бы являющейся реликтом прошлого, представляется либо актом лицемерия, либо заблуждением. В Азии продолжается гонка вооружений, и Соединенные Штаты неизбежно столкнутся с суровой реальностью, как только существенно сократят свои войска в Афганистане и Ираке. Притом что ни одно из азиатских государств не имеет побудительных причин для войны, с течением времени и по мере накапливания сухопутных и морских вооружений в регионе (даже если говорить только о Китае и Индии) риск неверной оценки соотношения сил будет возрастать. Из-за напряженности на суше грозит усилиться и напряженность на море: зоны силового вакуума, в которые сейчас проникает Китай, станут через некоторое время яблоком раздора в его отношениях с соседними странами – как минимум с Индией и Россией. Некогда пустые пространства заполнятся множеством людей, дорог, трубопроводов, кораблей и ракетных установок. Политолог из Йельского университета Пол Брэкен в 1999 г. предупреждал, что Азия становится обособленным географическим регионом и что на нее надвигается кризис «жизненного пространства». С тех пор этот процесс только усугублялся.
Так как же Соединенным Штатам сохранять стабильность в Азии, защищать в этой части света своих союзников и препятствовать возникновению Великого Китая, избегая в то же время открытого конфликта с Пекином? Перевес, который они имеют на море, рискует оказаться недостаточным. Как сказал мне в начале этого года один высокопоставленный индийский чиновник, основные союзники США в Азии (Индия, Япония, Сингапур и Южная Корея) хотят, чтобы американский флот и авиация координировали свои действия с вооруженными силами этих стран. Именно так Соединенные Штаты и в будущем останутся неизымаемой частью азиатского военного ландшафта на суше и на море, а не превратятся в абстрактную угрозу, таящуюся где-то в отдалении. Между пререканиями с американским правительством по поводу прав на размещение военных баз, которые недавно затеяла Япония, и желанием полностью удалить войска США из региона лежит дистанция огромного размера.
Один из планов, циркулирующих в Пентагоне, предполагает, что Соединенные Штаты способны «противостоять китайской стратегической мощи... без прямой военной конфронтации», опираясь на военный флот, насчитывающий 250 кораблей (а не 280, как было раньше), и на урезанный на 15 % оборонный бюджет. Этот план, составленный полковником ВМФ в отставке Пэтом Гарретом, весьма интересен, поскольку включает в евразийское уравнение такую стратегическую величину, как Океания. В самом деле, Гуам, Каролинские, Маршалловы, Северные Марианские и Соломоновы острова являются либо американскими территориями, либо республиками, имеющими военные соглашения с США, либо независимыми государствами, которые, вероятно, будут готовы заключить подобные соглашения. Значение Океании будет расти, поскольку она находится, с одной стороны, сравнительно близко к Восточной Азии, а с другой – вне той зоны, из которой Китай хотел бы вытеснить американский флот. От Гуама всего четыре часа лета до Северной Кореи и два дня плавания до Тайваня. Держать базы в Океании для Соединенных Штатов удобнее, чем, как это было и остается, сохранять воинские части в Японии, Южной Корее и на Филиппинах.
Авиабаза Андерсен на Гуаме уже сейчас играет роль господствующей высоты, с которой Соединенные Штаты могут проецировать «жесткую силу» в любом направлении. Это самая мощная стратегическая авиабаза США в мире, обеспечивающая скоростную заправку самолетов; здесь хранится сто тысяч авиаснарядов и 66 млн галлонов авиационного топлива. Взлетные полосы базы заполнены длинными рядами транспортных самолетов C-17 Globemaster и истребителями F/A-18 Hornet. Кроме того, на Гуаме размещена эскадра американских подводных лодок; здешняя военно-морская база в настоящее время расширяется. Гуам и соседние Северные Марианские острова находятся на почти равном расстоянии от Японии и Малаккского пролива. А юго-западная оконечность Океании, выглядывающая из-под Индонезийского архипелага, – группки принадлежащих Австралии островов Ашмор и Картье и близлежащий западный берег самой Австралии (от Дарвина до Перта), – держит под прицелом Индийский океан. Таким образом, согласно плану Гаррета, флот и авиация США способны использовать географические преимущества Океании, чтобы поддерживать «региональную боеготовность» (regional presense in being), локализуемую «непосредственно за горизонтом» Великого Китая (в его неофициальных границах) и той акватории, где проходят основные евразийские морские пути. (Понятие «региональная боеготовность» – отголосок известного выражения «флот в боевой готовности», fleet in being, сто лет назад его предложил английский военно-морской историк сэр Джулиан Корбетт. Подразумевались стоящие в различных портах корабли, способные при необходимости быстро объединяться в мощную армаду. Словосочетание «непосредственно за горизонтом» отражает и равновесие сил на море, которое США будут поддерживать самостоятельно, и американское участие в концерте азиатских держав).
Укрепляя присутствие американского флота и авиации в Океании, США могли бы реализовать компромиссный подход: не сопротивляться возникновению Великого Китая любой ценой и одновременно не соглашаться пассивно с возможным переходом первой островной гряды под контроль китайского флота. Такой подход заставил бы Китай заплатить высокую цену в случае любой военной авантюры против Тайваня. Кроме всего прочего, это позволило бы Соединенным Штатам постепенно сворачивать свое непосредственное присутствие в акватории первой островной гряды (так называемое наследие военных баз), но вместе с тем сохранять возможность воздушного и морского патрулирования в этом регионе.
План Гаррета предусматривает также резкое усиление активности американского военно-морского флота в Индийском океане. Впрочем, Гаррет не предлагает расширять существующие здесь военные базы; он рассчитывает опираться на уже имеющийся костяк таких баз на Андаманских островах, Коморах, Мальдивах, Маврикии, Реюньоне и Сейшелах (некоторые из них прямо или косвенно управляются Францией и Индией), а также на военные соглашения с Брунеем, Малайзией и Сингапуром. Это обеспечило бы свободу мореплавания и беспрепятственное движение потоков энергоносителей во всей Евразии. Кроме того, такой план, не настаивая более на важности существующих американских баз в Японии и Южной Корее и в то же время разнообразя сферу присутствия США в Океании, положил бы конец основным базам, представляющим собой удобную цель для поражения.
Железная хватка, которой Соединенные Штаты до сих пор держали первую островную гряду, в любом случае начинает ослабевать под давлением новых обстоятельств. Местное население стало менее терпимо к присутствию иностранных баз на своей территории. А укрепление Китая делает его одновременно и отталкивающим, и привлекательным. Подобное смешанное чувство способно осложнить двусторонние отношения Вашингтона с тихоокеанскими союзниками. Все дело лишь в том, когда это произойдет. Теперешний кризис в американо-японских отношениях – возникший из-за того, что неопытное правительство Хатоямы хочет переписать соглашения о двустороннем сотрудничестве в свою пользу и вдобавок говорит о желании углублять связи с Китаем, – мог случиться и несколькими годами раньше. (Премьер-министр Хатояма ушел в отставку в июне 2010 г. из-за кризиса, связанного с неспособностью кабинета выполнить обещание о выводе американской базы с Окинавы. – Ред.) Все еще сохраняющаяся ситуация абсолютного превосходства Соединенных Штатов в Тихом океане есть не что иное, как анахронизм, унаследованный от Второй мировой войны, отголосок того краха, который пережили в результате глобального конфликта Китай, Япония и Филиппины. Не может бесконечно сохраняться и американское присутствие на Корейском полуострове – побочный продукт другой войны, закончившейся более полувека назад.
Центральная Азия, Индийский океан, Юго-Восточная Азия, западная часть Тихого океана – таковы обширные регионы, которые рискуют оказаться под политическим, экономическим и военным контролем возникающего у нас на глазах Великого Китая. Однако вдоль границ этого громадного царства будет курсировать американский флот, дислоцированный, как можно ожидать, по большей части в Океании и тесно сотрудничающий с военно-морскими силами Индии, Японии и других демократических государств. А со временем, когда возрастет доверие Китая к внешнему миру, а его военная доктрина уже не будет опираться на сугубо территориальный подход, китайский флот и сам сможет влиться в этот широкий региональный альянс морских держав.
Пока же стоит отметить, что с исключительно военной точки зрения, как указал в 1999 г. политолог Роберт Росс, отношения между Соединенными Штатами и Китаем останутся более стабильными, чем были в свое время отношения между США и Советским Союзом. Причина этого – географические особенности Восточной Азии. В период холодной войны одного только американского подводного флота было недостаточно, чтобы устрашать Советский Союз, – для этого требовалось держать многочисленные сухопутные войска в Европе. Но размещения подобных сил вдоль пределов Евразии никогда не понадобится: как бы сильно ни сокращалось присутствие сухопутных войск у границ Великого Китая, американский флот и в будущем останется сильнее китайского.
Так или иначе, в ближайшие годы сам факт укрепления экономической и военной мощи Китая усугубит напряженность в американо-китайских отношениях. Перефразируя Миршеймера, можно сказать, что Соединенные Штаты, гегемон Западного полушария, приложат все возможные усилия, чтобы помешать Китаю сделаться гегемоном большей части полушария Восточного. И не исключено, что это станет самой потрясающей драмой нашей эпохи.

Молоко и мясо
Национальный прагматизм и имперский романтизм во внешней политике Турции
А.А. Игнатенко – д. ф. н., президент Института религии и политики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, член Совета по внешней и оборонной политике.
Резюме Внешнеполитические действия Анкары иногда напоминают поведение не очень дальновидного человека, который хочет получить от коровы и молоко, и мясо одновременно. Имперский романтизм приходит в противоречие с национальным прагматизмом, который всегда был присущ кемалистской Турции.
Палестинская проблема – удобная «отмычка» для вторжения в арабский регион внерегиональных игроков. В ответ на попытки ее использовать арабские государства реагируют региональной консолидацией. Свидетельство тому – история с «Флотилией свободы» (июнь 2010 г.), снаряженной Турцией при поддержке Ирана для прорыва израильской блокады Газы, и в целом негативная реакция арабских государств на этот шаг, угрожающий сломать тщательно выстраиваемые ими балансы сил в регионе.
Турция в поисках курса
Все комментаторы говорят о прагматизме внешней политики Турции, которая ставит во главу угла реализацию национальных интересов. Об этом свидетельствует и стремление стать членом Европейского союза, и попытки нормализовать отношения с Арменией, и даже систематическое нанесение ударов по базам Курдской рабочей партии на территории Северного Ирака. Однако было бы своего рода экспертной слепотой не замечать того факта, что за два десятилетия после формального окончания холодной войны поведение Анкары менялось.
Турецкая элита пыталась реализовать и неоимперские проекты, направленные на консолидацию вокруг Турции тех зон, которые раньше находились под властью Османской империи. «Существует наследие, оставленное Османской империей, – заявляет глава турецкого внешнеполитического ведомства Ахмет Давутоглу. – Нас называют “неоосманами”. Да, мы “новые османы”. Мы вынуждены заниматься соседними странами. И даже идем в Африку. Великие державы наблюдают за этим с растерянностью».
Турция претендует на роль глобального игрока. «Сегодня Турция, – пишет глава турецкого МИДа в журнале “Россия в глобальной политике”, – проводит поистине многомерную и всеохватную внешнюю политику, участвуя в решении насущных вопросов в разных частях земного шара – от Африки до Южной Америки, от Восточной и Южной Азии до стран Карибского бассейна».
Внешнеполитические действия Анкары иногда напоминают поведение не очень дальновидного человека, который хочет получить от коровы и молоко, и мясо одновременно. Имперский романтизм приходит в противоречие с национальным прагматизмом, который всегда был присущ кемалистской Турции. Почему я говорю о романтизме? Потому что данное направление турецкой внешней политики не обеспечено достаточными ресурсами. Это хорошо видно в таких масштабных начинаниях, как стремление стать главным «углеводородным коннектором» между Азией и Европой при отсутствии собственных углеводородов и зависимости в этом вопросе от Ирана, Азербайджана и России. Или в безрезультатной турецко-бразильско-иранской «ядерной сделке» под патронатом Анкары – Турция не располагает ядерным потенциалом, и если бы Тегеран был серьезно настроен на обогащение урана за границей, ему все равно пришлось бы иметь дело с Россией, Францией либо, на худой конец, с Аргентиной.
Политика «неоосманизма» тоже не обеспечена ресурсами. Таковым могла бы быть «ностальгия» по Османской империи в элитах тех государств, которые ранее в нее входили, или хотя бы подобное настроение «улицы», как это имеет место в отношении раннего ислама, возвращение к которому является вожделенной мечтой «фундаменталистов». Однако у арабов полностью отсутствует стремление вновь оказаться под «отеческой дланью» «новых османов». Вряд ли можно всерьез воспринимать и рассуждения об «исторической ответственности» Турции перед территориями, которые ранее входили в Османскую империю. Это не особенно отличается от того, как если бы греческие политики говорили об «исторической ответственности» Греции за дела в Индии на том основании, что Александр Македонский некогда дошел до Индостана.
От неопантюркизма к неоосманизму
Отсчет «неоосманизма» нужно вести от 1991 г. – окончания холодной войны и развала Советского Союза. До этого Турция была юго-восточным флангом НАТО, обращенным к Восточному блоку, за счет чего, к слову сказать, нарастила большой военный потенциал. Но практически сразу после распада СССР Турция задумала собственный геополитический проект, тогда – неопантюркистский. В состав гипотетического политико-экономического союза предполагалось включить не только «тюркские» страны (Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения), но и «тюркоязычные» территории в составе новых независимых государств (Татарстан, Башкортостан, северо-кавказские субъекты Российской Федерации, Крым и даже Алтай).
На межгосударственном уровне проводились саммиты тюркских государств – первый прошел в 1992 г. по инициативе президента Тургута Озала. Одновременно Анкара обращалась «через голову» государств и правительств к тюркоязычным общностям внутри различных государств – проводились международные тюркские курултаи (первый – в 1993 г.).
В целом затея закончилась неудачей. Турция переоценила свои материальные возможности. Будучи динамично развивающимся государством, она тем не менее совершенно не обладала ресурсами, необходимыми для масштабной экспансии. Но главная причина, пожалуй, заключалась в том, что неопантюркизм рассматривался и продолжает рассматриваться государствами, затронутыми благом турецкой «исторической ответственности», как вмешательство в их внутренние дела. И если Россия и Украина переживали период ослабления и вынужденно смотрели сквозь пальцы на турецкую активность в Татарстане, Башкортостане, Крыму, то Китай после 1991 г. постоянно усиливался, и ему был совсем не по душе турецкий интерес к тюркам-уйгурам и, соответственно, Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Шанхайская организация сотрудничества в некотором отношении может рассматриваться и как антитурецкий союз, заблокировавший Анкаре доступ в Центральную Азию.
Есть еще одно важное обстоятельство, серьезнейшим образом воздействующее на результаты реализации турецких неоимперских планов и проектов. У неопантюркизма в тех географических зонах, в которых он стремился воплотить свои проекты, был и есть конкурент, обладающий значительно бЧльшими ресурсами (нефтедоллары и ислам салафитского толка – ваххабизм, или «аравийский» ислам) – Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива. Турция пытается играть на том факте, что она является современным исламским государством, но не в силах всерьез противопоставить что-то «аравийскому» исламу, в результате только подстегивает формирование арабского исламского антитурецкого фронта.
Два последних десятилетия американцы, пытаясь решить «квадратуру круга» в своих сложных отношениях с мусульманским миром, предлагают исламским странам с авторитарными и тоталитарными режимами формулу «исламской демократии» – турецкий опыт. Это вызывает отторжение в арабских государствах типа Египта. Они никак не хотят под видом «демократизации» отдавать власть исламистам – тем же «Братьям-мусульманам», поскольку имеют перед глазами опыт движения ХАМАС в секторе Газа, который установил диктатуру с использованием избирательных процедур. К тому же в самой Турции в последние полтора десятилетия наметилось противоречие между тенденцией к демократизации, которую олицетворяют партии исламского толка, и кемалистской традицией светского государства, гарантом которой всегда выступала армия.
В середине 1990-х гг. предшественник нынешних турецких исламистов глава Партии благоденствия (Рефах) и кабинета министров Неджметтин Эрбакан пытался выстроить «Исламскую восьмерку» в пику «семерке» индустриально развитых стран Запада. Весьма интересен состав этой «восьмерки». В ней семь неарабских государств – Турция, Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия и Пакистан, и только одна арабская страна – Египет. В 1997 г. состоялся первый саммит этой организации, но Эрбакан быстро сошел с политической арены по требованию турецких военных, будучи кроме всего прочего заподозрен в финансовой нечистоплотности. После авантюры с «Флотилией свободы» Анкара и Тегеран реанимировали «Исламскую восьмерку», и в июле 2010 г. в Абудже (Нигерия) состоялась встреча лидеров входящих в нее государств. Комментаторы сходятся на том, что прибывший туда президент Ирана Ахмадинеджад стремился мобилизовать общественное мнение в свою поддержку. Тот факт, что иранский президент ищет ее прежде всего в неарабском мире, не может не насторожить арабов. Косвенным образом иранские представители дают понять, что силовое решение иранской проблемы, если до этого дойдет, «напрямую ударит по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту, Ираку».
На «постосманском» пространстве конкурируют два исламских «проекта».
Один можно условно назвать «арабским», точнее, «аравийским». Его олицетворяет суннизм-салафизм ваххабитского толка, сформировавшийся на Аравийском полуострове в XVIII веке в борьбе, между прочим, против Османской империи.
Другой – «неарабский» и даже «антиарабский» блок турецкого суфизма (представлен по преимуществу деятельностью секты «Нурджулар») и иранского шиизма, которые характеризуются резким антиваххабизмом. И когда министр иностранных дел Ахмат Давутоглу в приватной беседе на экономическом форуме в Стамбуле в июне 2010 г. сказал: «Скоро Иерусалим станет столицей Палестины, и мы, с помощью Аллаха, сможем молиться в мечети Аль-Акса», не исключено, что кто-то из его собеседников воспринял это как угрозу. В мечети Аль-Акса арабам не хватало только турецких суфиев и иранских шиитов… Противостояние этих двух исламских «проектов» выливается в столкновения на Кавказе, и не только там.
В качестве претензии выступать от имени ислама как такового можно рассматривать испано-турецкую инициативу «Альянс цивилизаций» (2005 г.). Цивилизации трактуются прежде всего в религиозном смысле, и Турция как соинициатор проекта брала на себя право представлять весь исламский мир. Примечательно, что особо не скрывалась генетическая связь «Альянса цивилизаций» с «Диалогом цивилизаций», который с конца 90-х гг. прошлого века продвигал тогдашний президент Ирана аятолла Сейед Мохаммад Хатами, позиционировавший свою страну в роли полномочного представителя ислама.
По-видимому, передача эстафеты с диалогом-альянсом цивилизаций была вызвана как раз тем, что шиитский Иран представляет миноритарное направление в исламе, а в Турции распространен суннитский ислам. («Альянс цивилизаций» готовит «отмычку» к арабскому региону: в докладе Группы высокого уровня израильско-палестинский конфликт представлен как ключевой вопрос современности.)
К тому моменту, когда «Флотилия свободы» двинулась в сторону Газы, сформировалась доктрина «неоосманизма», точнее, его апология для внешнего пользования. Вот как ее излагает советник турецкого кабинета министров Орхан Газигиль. Турция окружена странами Среднего Востока, Кавказа и Балкан. Во всех этих регионах, особенно после окончания холодной войны, наблюдается нестабильность. Она вызвана развалом Османской империи. Когда народы потребовали права самостоятельно определять свою судьбу, тогда и возникли проблемы, начались и продолжаются до сих пор межрелигиозные и межэтнические конфликты. На «постосманском» пространстве по-прежнему не разрешены территориальные споры. Всего этого не было во времена Османской империи, когда царила стабильность. Ни один народ, мусульманский или христианский, не потерял свою этническую или религиозную идентичность. Более того, Османская империя, хоть и была похожа на теократическое государство, но если проанализировать отношения государства и религии в ней, то она более соответствовала современной светской модели. Суть «неоосманизма» (в изложении Орхана Газигиля) заключается в «усилении внешнеполитической роли Турции в регионе во имя стабильности».
Если перевести все это на язык политического действия, то Ближнему и Среднему Востоку, Балканам, Кавказу, а также Аравии и Северной Африке ради достижения стабильности надо вернуться под власть «новых османов». Не думаю, что в арабском мире найдется хоть один политик, который примет эту программу всерьез. А поскольку и в военном отношении современная Турция не так сильна, как была в свое время Османская империя, в попытках расширить свою сферу влияния ей приходится вступать в фактический союз с Ираном.
Готовясь к 2011 году
«Отвратительной» назвал затею с «Флотилией свободы» Фетхуллах Гюлен, влиятельнейший турецкий религиозно-политический деятель, который продвигает «Нурджулар» на всем «постосманском» пространстве. Он утверждает, что прежде чем направлять «Флотилию свободы» в сектор Газа, следовало бы получить согласие израильских властей. Гюлена невозможно заподозрить в антитурецких и произраильских настроениях. Вероятно, он просто расценивает акцию как шаг в неправильном направлении, не приблизивший, а удаливший Турцию от реализации ее ближних и дальних интересов и целей в арабском регионе. Ни молока, ни мяса…
«Флотилия свободы» оказалась большой внешнеполитической ошибкой Анкары. На имперском романтизме Турции сыграл Иран, который преследует собственные и весьма далеко идущие внешнеполитические цели. Тегеран хотел бы разбить складывающийся неформальный антииранский арабо-израильский консенсус, стравив арабский мир с Израилем, что надолго отвлекло бы и евреев, и арабов от подготовки к возможному удару по Ирану. Программой-максимум, на реализацию которой, впрочем, трудно рассчитывать, было бы втянуть Турцию в военное противостояние с Израилем. Тегеран заинтересован в создании в юго-восточной части Средиземного моря очага военной напряженности, который бы отвлекал внимание мировой общественности от Персидского залива, что позволило бы выиграть время для выстраивания обороны против вероятного военного удара по иранским ядерным объектам.
Для Ирана и с логистической, и с военно-политической точки зрения важно закрепиться в Газе. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, возможно, был недалек от истины, когда сказал, что Тегеран стремится превратить Газу в иранский порт в Средиземноморье. Как бы там ни было, Ирану удалось (правда, ненадолго) переключить внимание арабских стран со своей ядерной программы, а также с освоения Ираном частей арабского мира – на Турцию.
Национальный прагматизм Турции тоже не забыт Ираном. Тегеран поддерживает Анкару (не забывая при этом о собственных интересах) в борьбе против Курдской рабочей партии, которая имеет базы и тренировочные лагеря на севере Ирака. По некоторым сведениям, Иран и Турция создали в Иракском Курдистане секретные «наступательные оперативные базы» для осуществления совместных военных действий против курдских боевиков. Кроме того, Иран обещает снабдить Турцию углеводородами для того, чтобы она могла сыграть роль межрегионального «углеводородного коннектора».
Но события в регионе заставляют думать, что есть более широкая платформа турецко-иранского сотрудничества, назовем ее «антиарабской» или, более узко, «антииракской». И Турция, и Иран готовятся к 2011 г., когда начнется твердо обещанный президентом США Бараком Обамой вывод американских войск из Ирака. При этом высока вероятность дестабилизации и дезинтеграции страны. Иран в этой ситуации наверняка будет претендовать на контроль над югом Ирака, которого он не смог добиться во время кровопролитной войны 1980–1988 гг. (Тегеран осуществил «пробную» оккупацию иракской территории в декабре 2009 – январе 2010 гг., когда демонстративно захватил нефтяное месторождение Эль-Факка.)
Анкара будет стремиться к контролю над Северным Ираком. В последнее время в Турции развернулась дискуссия об этой части соседней страны. По мнению многих ее участников, этот район является «естественным географическим продолжением Турции». Причем вопрос не в создании на иракской территории какого-то «санитарного кордона» против курдских боевиков, он и так уже есть шириной от 3 до 10 километров. Речь идет о Киркуке, нефте- и газоносном районе и предмете споров между курдами и арабами, а также проживающими там тюрками (туркоманами). После ухода американских войск почти неизбежна «битва за Киркук», если к тому времени его не передадут Иракскому Курдистану, как это обещали в свое время представители республиканской администрации Соединенных Штатов.
Но даже в этом случае велика вероятность того, что в Киркуке начнутся масштабные этнические «чистки», жертвами которых туркоманы станут при любом раскладе. Турция введет в Киркук войска для «защиты туркоманов от геноцида». И, вполне возможно, останется там столь же долго, как на Северном Кипре. Реализация этой задачи предполагает готовность сопротивляться дипломатическому (и, вполне возможно, иному) давлению США, которые станут препятствовать подобному развитию событий.
Турция уже удачно использовала антиамериканскую фронду, предложив России участвовать в «Кавказской платформе стабильности», которая декларативно исключала Соединенные Штаты из кавказской политики, вверяя ее Турции, России и государствам Южного Кавказа. Одним из результатов стало то, что Турция активно занялась «освоением» Абхазии, в достижении независимости которой большую роль сыграла Россия.
Арабские государства не поддержали, как это сделала Москва, антиамериканскую фронду Турции. Они тоже готовятся к 2011 г., имея в виду те опасности, которые грозят им со стороны нежелательных внерегиональных игроков – Турции и Ирана. По всему Аравийскому полуострову разбросаны американские, британские и французские военные базы, которые явно не предназначены для обороны от США или Израиля. Более того, поговаривают о том, чтобы расположить американскую базу на территории Израиля. После событий с «Флотилией свободы» главы пяти арабских государств (Египта, Ирака, Йемена, Катара и Ливии), а также генеральный секретарь Лиги арабских государств провели в Ливии саммит, на котором рассматривался проект нового межгосударственного объединения – Союза арабских государств. Союз предполагает более тесное, чем сейчас, военно-политическое сотрудничество и отражение агрессии против любого из членов альянса. Надо полагать, арабские государства больше не оставят Ирак без защиты.
Кстати, примечательно, что движение «Хезболла», несмотря на тесные связи с Тегераном, отказалось участвовать в дальнейших этапах акции под названием «Флотилия свободы». Логика понятна – эта группа не хочет выглядеть антиарабски, она стремится позиционировать себя не как иранский инструмент, а как организацию национального (арабского) сопротивления. Ливийцы же, также отправившие корабль «Надежда» с гуманитарным грузом для Газы, спокойно доставили его в египетский порт Эль-Ариш, преподав практический урок Турции и Ирану.
Соединенные Штаты не могли не отреагировать на турецко-иранское сближение. Госсекретарь Хиллари Клинтон призвала главу МИДа Турции Ахмета Давутоглу не вмешиваться в отношения между мировым сообществом и Ираном, на что, как сообщают СМИ, министр ответил согласием. Турция возвращается к своей роли юго-восточного фланга НАТО. В середине июля пришло сообщение о том, что Анкара временно откроет границу с Арменией для транспортировки техники, задействованной в проведении запланированных в сентябре в Армении учений натовского Евро-Атлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.
Очень символично заявление Ахмета Давутоглу в начале июля 2010 г., которое дезавуировало его прошлое высказывание в ирано-хамасовских терминах: «Иерусалим является святым городом для каждого мусульманина, и я был бы счастлив совершить там намаз. Учитывая дипломатический этикет, я посчитал, что было бы некорректно публично говорить об этом. Но сейчас настало время говорить. Время придет, Восточный Иерусалим станет частью Палестины, и мы все совершим здесь намаз. Это не фантазии, а реальное положение вещей. Восточный Иерусалим принадлежит Палестине. Согласно резолюциям ООН это территория Палестины, и передача данной территории Палестине изначально являлась условием переговорного процесса». Это точно соответствует «Арабской мирной инициативе» по решению палестинской проблемы (создание палестинского государства в границах 1967 г.), которую поддерживает американская администрация.
Турция пока отступила. Однако перемены в турецком обществе и общие сдвиги в расстановке сил на Ближнем Востоке заставляют предположить, что это лишь передышка перед началом следующего этапа изменения политического позиционирования Анкары.

Помогая другим, защищать себя
Будущее американской помощи другим странам – в обеспечении безопасности
Роберт Гейтс был министром обороны при президенте Джордже Буше и Бараке Обаме с 2006 по 2011 год, а также директором Центральной разведки при президенте Джордже Буше-старшем с 1991 по 1993 год.
Резюме В предстоящие годы наиболее серьезные угрозы Соединенным Штатам, скорее всего, будут исходить из государств, не способных обеспечить эффективное управление или контроль над собственной территорией. Американскому правительству следует оказывать помощь партнерам, чтобы они были способны сами защитить себя либо – при необходимости – сражаться рука об руку с войсками США.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май–июнь) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.
В грядущие десятилетия самые страшные угрозы безопасности США – террористические акты с применением химического или ядерного оружия – скорее всего, будут исходить от плохо управляемых государств, не способных обезопасить собственную территорию. Целенаправленная работа с раздробленными либо ослабленными странами – это во многих отношениях главная проблема безопасности в наше время.
А перед Министерством обороны и правительством возникает не менее сложная институциональная задача. Маловероятно, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут еще одну операцию, сопоставимую по масштабу с миссией в Афганистане или Ираке. Иными словами, они вряд ли прибегнут к насильственной смене режима в какой-либо стране и займутся там национальным строительством под огнем террористов. Однако, согласно выводам, сделанным в недавно опубликованном «Четырехлетнем обзоре оборонной стратегии» Пентагона, все еще сохраняется вероятность сценария, при котором от США потребуется применение хорошо знакомых им тактики и набора возможностей, хотя и в меньшем масштабе. В этом случае эффективность и убедительность мер, принимаемых Вашингтоном, будут напрямую зависеть от успешности действий, стабильности и устойчивости его местных партнеров.
На сегодняшний день стратегическая обстановка требует, чтобы американское правительство более тщательно занималось, что называется, «выстраиванием способности партнера», то есть помогало бы соответствующим странам обороняться и, если понадобится, вести боевые действия вместе с Соединенными Штатами, получая от них необходимое снаряжение, военную подготовку либо другую помощь в сфере безопасности. Это то, чем США так или иначе занимались почти три четверти века еще до вступления во Вторую мировую войну. Как раз к тому периоду относятся слова Уинстона Черчилля: «Дайте нам инструменты, и мы закончим работу» (речь идет о поставках вооружений по ленд-лизу. – Ред.). По программе ленд-лиза Соединенные Штаты отправили в Великобританию в годы войны военные грузы на сумму 31 млрд долларов (в ценах 1940-х гг.). Помощь Советскому Союзу оценивается в 11 млрд долларов, включая сотни тысяч грузовиков, тысячи танков, самолетов и артиллерийских орудий. Наращивание военной мощи и обороны основных союзников и местных партнеров было главным элементом стратегии США в период холодной войны – сначала в Западной Европе, затем в Греции, Южной Корее и в других регионах. Одним из основных положений «доктрины Никсона» (Стратегии национальной безопасности) была военно-экономическая помощь партнерам и союзникам в противостоянии повстанцам, финансируемым Советским Союзом. При этом Соединенные Штаты старались избегать прямой военной интервенции, памятуя о дорогостоящих и малоэффективных кампаниях в Корее и Вьетнаме.
Долг советника
С тех пор архитектура глобальной безопасности радикально изменилась. Сегодня обстановка стала менее предсказуемой, более сложной и во многих отношениях более опасной. И это несмотря на отсутствие враждебно настроенной сверхдержавы-соперницы. Вооруженные силы США, сохраняя высокий боевой дух и демонстрируя впечатляющую эффективность, вынуждены с напряжением сил вести две войны одновременно и отвечать на многочисленные вызовы с разных широт земного шара. Более того, в исламском мире продолжается борьба за легитимность, лояльность населения и власть между умеренными силами, выступающими за модернизацию общества, и экстремистскими организациями вроде «Аль-Каиды», движения «Талибан» и подобных им группировок. В этих условиях важнейшим элементом стратегии американской национальной безопасности является укрепление безопасности и государственных структур других стран.
Однако в большинстве своем инструменты государственной власти, военные и гражданские, были разработаны в другую эпоху и под другие угрозы. Вооруженные силы США должны были наносить сокрушительные удары по сухопутным войскам, ВМС и ВВС других стран, а не консультировать, обучать и оснащать их. Точно так же инструменты гражданской власти предназначались для управления межгосударственными связями, а не для государственного строительства в других странах.
Недавняя история отношений Соединенных Штатов с Афганистаном и Пакистаном являет собой пример тех вызовов, на которые приходится сегодня отвечать. В течение десятилетия, предшествовавшего 11 сентября 2001 г., США, по сути, бросили Афганистан на произвол судьбы. Одновременно Вашингтон свернул общие с Пакистаном программы по военному обмену и обучению – как бы из благих намерений, которые на поверку оказались близорукими и стратегически необоснованными. Сразу после террористических атак 11 сентября правительство Соединенных Штатов столкнулось с рядом препятствий в области переброски вооружений по воздуху – от выплаты компенсации пакистанцам за их поддержку (предоставление американским военным самолетам права пролета над своей территорией) до создания регулярной афганской армии. Система военной помощи, предназначенная для более предсказуемых условий холодной войны, оказалась неприспособленной для выполнения поставленной задачи. Правительству Соединенных Штатов пришлось на скорую руку буквально из ничего изыскивать ресурсы и утверждать программы, в которых ощущалась острая необходимость. Но, даже наладив потоки финансирования и их администрирование, военный аппарат США не уделял должного внимания обучению афганских, а затем иракских сил безопасности, поскольку выполнение этих функций не способствовало продвижению честолюбивых молодых офицеров по карьерной лестнице. Вместо этого военные во многом полагались на контрактников и резервистов, которые, по их мнению, могли выполнить поставленные задачи.
И только в последнее время институту советников для афганской и иракской кампаний было уделено должное внимание в смысле ресурсов, персонала и талантливых руководителей.
Аппарат советников и наставников местных сил безопасности перемещается ныне с институциональной периферии военного ведомства, где он считался «провинцией» спецназа, на передний край. В настоящее время это главная миссия Вооруженных сил в целом. В американской армии созданы специализированные бригады по предоставлению советников и оказанию содействия, которые теперь являются главными подразделениями в Ираке. Корректируется сама система назначений и продвижения по службе, учитывая важность вышеупомянутой миссии. Военно-воздушные силы США получили в распоряжение флот легких реактивных истребителей и транспортной авиации, оптимизированной для обучения зарубежных партнеров и оказания им помощи. Совсем недавно открылась школа по приобретению американскими летчиками квалификации советников для ВВС других стран. А Военно-морские силы США работают в африканских странах с целью повышения там эффективности борьбы с контрабандой, пиратством и иными угрозами безопасности мореплавания.
Одна из институциональных задач, стоящих перед нами в Пентагоне, заключается в равномерном распределении помощи партнерам и союзникам Соединенных Штатов между разными подразделениями Вооруженных сил. Исключение составляют ВВС, где большинство функций – от продажи военной техники иностранным государствам до организации совместных учений – относятся к компетенции одного гражданского исполнительного директора (должность эквивалентна должности трехзвездного генерала), чтобы они в большей степени отвечали стратегическим целям национальной безопасности. Подобный комплексный и более целостный подход имеет больше смысла для Пентагона и для правительства в целом.
Соединенные Штаты продвигаются семимильными шагами в деле наращивания боевых возможностей своих партнеров, обучая и оснащая их войска, а также инструктируя их в полевых условиях. Однако до сих пор недостаточно внимания уделялось институциональному укреплению оборонных структур в этих странах (например, созданию министерств обороны), а также человеческому капиталу (включая навыки руководства и поддержания боевого духа), которые необходимы для сохранения безопасности в долгосрочной перспективе.
В настоящее время США признают, что сферы безопасности в странах высокого риска – это на самом деле система систем, связующая воедино оборонную отрасль, полицию, систему правосудия и другие механизмы государственного управления и надзора. Строительство государственного управления, как таковое, и усиление мер безопасности в странах-партнерах – это общая ответственность многих агентств и департаментов аппарата американской национальной безопасности, которая требует создания гибких и оперативных инструментов, стимулирующих сотрудничество.
Операции против экстремистских группировок на Филиппинах, а в последние годы и в Йемене показали, что хорошо скоординированные усилия в сфере обучения и оказания помощи могут обеспечить реальный успех. Но, несмотря на достижения, механизмы взаимодействия между американскими ведомствами по-прежнему представляют собой некий набор наспех состряпанных договоренностей, выполнение которых сдерживается устаревшей и сложной системой различных руководящих органов, постоянной нехваткой ресурсов и громоздкими бюрократическими процедурами. Акт о национальной безопасности, в соответствии с которым и была выстроена нынешняя система межведомственных связей, был принят в 1947 г. Последний значительный законодательный акт о распределении Вашингтоном помощи другим странам был подписан президентом Джоном Кеннеди, а Закон о контроле над экспортом вооружений одобрен в 1976 г. Тем временем другие страны, у которых руки не связаны подобного рода нагромождениями, гораздо быстрее финансируют разные проекты, продают вооружения и выстраивают взаимоотношения.
Мост через Потомак
В 2005 г. Министерство обороны США получило полномочия оперативно реагировать на непредвиденные угрозы, используя любую возможность для обучения и снаряжения сил безопасности тех стран, которые не способны позаботиться о себе сами. Еще одно важное новшество заключалось в том, что использование этих новых инструментов должно быть санкционировано так называемым «двойным ключом», то есть требуется совпадение позиций государственного секретаря и министра обороны. В последние годы госсекретарь и шеф Пентагона использовали свои полномочия при оказании помощи ливанской армии, силам особого назначения Пакистана, а также ВМС и силам безопасности на море Индонезии, Малайзии и Филиппин. Так Соединенные Штаты отреагировали на самые безотлагательные нужды в сфере международной безопасности.
Эти новые полномочия и программы, а также роль Министерства обороны в расширении содействия другим странам вызвали дебаты в Вашингтоне. Я никогда не упускаю шанса призвать к выделению более значительных средств на программы в области дипломатии и развития, а также к оказанию более эффективной помощи гражданскому населению в зарубежных странах. Однажды я публично предупредил об опасности «ползучей милитаризации» внешней политики США, способной стать реальной угрозой, если не будет устранен дисбаланс в системе национальной безопасности. Как кадровый офицер ЦРУ, на глазах которого непрерывно возрастала роль военных в разведке, я прекрасно понимаю, что Министерство обороны – в силу одних лишь масштабов – представляет собой не просто огромного верзилу на шее американского правительства, а и постоянно растущий организм.
Тем не менее пора уже преодолеть идеологические и бюрократические споры, еще недавно затруднявшие оказание содействия странам-партнерам и принятие конкретных решений. В прошлом году я направил государственному секретарю Хиллари Клинтон предложение, которое считаю принципиально важным для дальнейшего прогресса на данном направлении. Речь идет о создании совместных фондов в целях расширения возможностей других стран в сфере безопасности, стабилизации положения и предотвращения конфликтов. Эти фонды должны пополняться как Госдепартаментом, так и Министерством обороны, и ни один проект не сможет быть осуществлен, минуя оба этих ведомства. Ряд других стран (в частности, Великобритания, пример которой меня, собственно говоря, и вдохновил) обнаружили, что объединение ресурсов разных ведомств – действенный способ поддержки стран со слабыми или неэффективными государственными структурами.
Данный подход привлекает меня тем, что, в отличие от нынешней системы, доставшейся нам в наследство от времен холодной войны и зачастую препятствующей подлинно государственному мышлению в решении сложных вопросов, он создает стимулы для сотрудничества между различными государственными структурами.
Но какой бы метод реформирования и модернизации правительственного аппарата мы ни избрали для выстраивания возможностей стран-партнеров, необходимо придерживаться нескольких принципов.
Во-первых, важно сделать систему маневренной и гибкой. Обычный цикл одобрения программ и согласования их бюджетов предполагает составление в первый год общей сметы. На следующий год бюджет рассматривается Конгрессом и утверждается, и только на третьем году программа начинает работать. Это уместно и допустимо в отношении предсказуемых и бессрочных расходов. Однако история последних лет учит нас, что подобный подход неприемлем, когда речь идет о непредвиденных угрозах или, наоборот, возможностях, часто возникающих в странах со слабым и недееспособным государственным аппаратом.
Во-вторых, должны быть созданы эффективные механизмы надзора, позволяющие Конгрессу выполнять свои конституциональные обязанности и следить за тем, чтобы фонды расходовались правильно. Инструменты совершенствования сотрудничества между разными ветвями исполнительной власти могли бы также способствовать укреплению взаимодействия между разными комитетами Конгресса независимо от их юрисдикции. Тем самым будет реально усилен контроль со стороны Конгресса над расходованием средств на нужды национальной безопасности.
В-третьих, оказание содействия в сфере безопасности должно осуществляться регулярно и в течение длительного срока, становясь в результате предсказуемым и планируемым правительством США и, что еще важнее, его зарубежными партнерами. Чтобы убедить другие страны и их лидеров в преимуществах партнерства с Соединенными Штатами, зачастую ценой высокого политического риска и личной безопасности, Вашингтон должен доказать, что он может быть надежным и стабильным партнером в долгосрочной перспективе. В то же время, прямо скажем, США не собираются прекращать помощь и разрывать тесные узы сотрудничества всякий раз, когда какая-то страна делает что-то не так или с чем Вашингтон не согласен.
В-четвертых, любое решение правительства в этой области должно укреплять ведущую роль Госдепартамента в выработке и осуществлении внешнеполитического курса, включая предоставление другим странам помощи – прежде всего той, которая способствует росту их потенциала в сфере безопасности. Надлежащие процедуры согласования послужат гарантией того, что потребности других государств в области обороны не будут подрывать важнейшие внешнеполитические приоритеты Соединенных Штатов.
Наконец, в-пятых, во всем следует руководствоваться принципами умеренности и трезвого расчета. Когда все уже оговорено и закреплено в документах, возникают определенные ограничения в том, насколько США способны влиять на непохожие на них самих страны и культуры. И даже самый просвещенный и модернизированный межведомственный аппарат остается, по сути, бюрократическим, склонным печься лишь о собственных узких интересах, подобно той системе, на смену которой он пришел.
Помощь другим странам в деле обеспечения их внутренней безопасности будет главным, долгосрочным мерилом мирового лидерства и существенным аспектом обеспечения безопасности США. Более качественное выполнение этой жизненно необходимой миссии американским правительством должно стать важным государственным приоритетом.

Отложенный нейтралитет?
Центральная Азия в международной политике
Алексей Богатуров – доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН, главный редактор журнала «Международные процессы».
Резюме Новизна международной среды в Центральной Азии состоит в освобождении малых и средних стран от пассивной роли объектов воздействия со стороны крупных держав. За два десятилетия после распада СССР государства Центрально-Азиатского региона прошли путь к формированию рациональной внешней политики.
Современная Центральная Азия – преемница, но не эквивалент советской Средней Азии. В политико-географическом смысле к этому региону можно отнести не только бывшие среднеазиатские союзные республики (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), но и Казахстан. Более того, понятие «Центральная Азия» подразумевает причисление к нему частей Северного Афганистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной Республики. В работах, посвященных анализу энергетических аспектов положения вокруг Каспия, в соответствующий дискурс включены также пограничные с Казахстаном территории России – от Астраханской области на западе до Алтайского края на востоке.
МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Энергоресурсы – благословение Центральной Азии и ее бремя. После распада СССР ни Россия, ни западные страны не смогли установить контроль над природными ресурсами центральноазиатских государств, хотя имели возможность влиять на их энергетическую политику. Обладание природными богатствами, доходы в виде экспортных поступлений, способность играть на конкуренции между российскими и западными компаниями обеспечивают энергоэкспортирующим малым и средним странам серьезный внешнеполитический ресурс.
Лишенные такого ресурса государства приобретают региональное значение в силу своих пространственно-географических характеристик, позволяющих влиять на безопасность сопредельных территорий, через которые проходят либо будут проходить трубопроводы. Пространственное измерение Центральной Азии стало восприниматься как зона прохождения энергонесущих артерий, способных перекачивать углеводородные потоки и в западном (в сторону Европейского союза и Атлантики), и в южном (к побережью Индийского океана), и в восточном (к Китаю, Японии и Тихому океану) направлениях.
Наряду с трубопроводной дипломатией геополитическим фактором может послужить железнодорожная сеть этой части мира. После распада СССР старая советская сеть железнодорожных путей перестала замыкаться на европейскую и сибирскую части России. Усилиями Казахстана достроен участок, соединивший эту республику с СУАР Китая (г. Урумчи). Теперь грузопотоки, если это окажется рентабельным, потянутся из Центральной Азии на восток не только через территорию России, по старому транссибирскому пути, но и через Китай.
Туркмения в 1990-х гг. тоже построила участок железнодорожной ветки, соединивший туркменскую сеть с иранской (г. Мешхед). Открылся прямой путь транспортировки на юг. После длительной изоляции от южных и восточных соседей регион «разомкнулся», получив впервые в истории техническую возможность прямого сообщения не только в северном и западном направлениях, но и в южном и восточном. Этот сдвиг не повлек за собой переориентацию связей центральноазиатских стран. Но открытие дорог на восток и юг способствовало созданию психологических предпосылок для проведения политики сотрудничества «по всем азимутам».
В Центральной Азии сосредоточено нелегальное производство наркотиков (прежде всего в Фергане), здесь же пролегает крупнейший транзитный путь, по которому после распада Советского Союза и свержения просоветского правительства в Афганистане стали доставляться наркотики афганского производства. Этот поток, частично оседая в России, следует далее через российскую территорию в страны Евросоюза.
Наркоторговля – источник огромных нелегальных доходов всех, кто к ней причастен, но распределяются они неравномерно. Рядовые контрабандисты-курьеры часто остаются нищими на протяжении всей жизни, так как их заработки поглощаются многочисленными родственниками. Однако этот люмпенский слой участников оборота наркотиков стал наиболее массовым и приобрел социально-политическое значение отчасти благодаря медленному расширению прав граждан в условиях «управляемой демократизации сверху».
«Пролетарии наркобизнеса» объективно не могут не сочувствовать наркодельцам, видя в совместной с ними нелегальной деятельности единственный источник своего существования. Одновременно этот слой наиболее взрывоопасен. С одной стороны, попытки государства искоренить наркобизнес рассматриваются им как посягательство на жизненные основы. Лидерам наркобизнеса нетрудно направить стихийное возмущение населения наркотранзитных и наркопроизводящих районов Центральной Азии против местных правительств и спровоцировать подобие не то нарко-, не то «цветных» революций.
С другой стороны, более образованная часть бедных слоев справедливо видит инструмент борьбы с наркоторговлей в экономических и социальных реформах, которые позволили бы отвлечь население «наркоопасных» регионов от преступного бизнеса. Отсутствие таких реформ тоже порождает недовольство населения.
Обе тенденции, налагаясь на личные, политико-партийные, клановые, региональные и иные легальные, но зачастую «невидимые» для аналитика конфликты, создают сложную структуру общественно-политических взаимодействий. Трудности внутреннего развития проявляются на уровне внешней политики стран региона. Колебания во взаимоотношениях Узбекистана и Таджикистана, обоюдонастороженные отношения между Таджикистаном и Афганистаном, хроническое противостояние властей и криминала в Ферганском оазисе, «пульсирующая» нестабильность в Киргизии – все это трудно проанализировать в отрыве от конфликтогенной роли наркотиков.
Контроль над наркотранзитом – источник борьбы между правительствами центральноазиатских стран и криминальными группировками, а также между самими группировками. Наркофактор, попытки местных криминальных структур поставить у власти «своих» людей составляют элемент местного политического, социально-экономического и идеологического колорита.
Наконец, важнейшее значение имеет неразрывность политических проблем Центральной Азии с вопросами безопасности Афганистана, Ирана и Пакистана. В Центральной Азии, неразделенность не воплощена в международно-политических документах или заявлениях руководителей. И своими корнями она уходит не в культуры и ценности, а в географические реалии. В силу особенностей рельефа (труднопроходимые горы, пустыни), распределения водных ресурсов и соответственно этнического расселения контуры политических границ – в отличие от Европы – не совпадают с очертаниями политико-географических интересов безопасности разных стран.
В Ферганском оазисе, зоне таджико-афганской границы или в поясе проживания пуштунских племен на рубежах Афганистана и Пакистана невозможно разграничить интересы безопасности сопредельных государств. Практически исключена выработка юридически четких договоренностей, поскольку таковые де-факто не могут учесть всю сложность реальных отношений между этническими группами и государствами в местах соприкосновения их интересов.
ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН
По-видимому, такой вариант «нераздельности безопасности» имеет объективную опору в традиционном сознании жителей этой части мира, для более южных народов которой (киргизы, таджики, туркмены, узбеки) характерно оазисное сознание. В его основе – идентификация по принципу самопричисления не столько к «своей» этнической группе, сколько к территории проживания. Люди селились преимущественно у воды. Ее дефицит в окружении пустынь и гор ограничивал возможности менять место жительства. Обитатели оазисов невольно вырабатывали в себе терпимость к чуждой этничности. Владетель мог не принадлежать к «твоей» этнической группе, но если он не лишал тебя доступа к воде, его можно было терпеть, даже если по крови он был «чужим».
До включения в состав Советского Союза с проведенным в его рамках этнотерриториальным размежеванием население Центральной Азии не знало «национального государства» в европейском понимании. Преобладало территориально-политическое образование по принципу надэтничности. С позиций европейской науки Бухарский и Кабульский эмираты, Хивинское и Кокандское ханства рассматривались как пестрые оазисные империи, «объединяющими идеями» которых были общее водно-земельное достояние и идеология религиозной солидарности. В таком идейно-политическом комплексе этническая рознь лишалась возможности развиться в доктрины этнического либо расового превосходства, как это происходило на волне «национальных самоопределений» в Европе и в Японии конца XIX столетия и первой половины XX века.
Такой фон вряд ли упростил ситуацию. Водораздел между понятиями «мы – они» и «свой – чужой» в центральноазиатском контексте был более размытым, чем в культурах, из недр которых вырастали концепции Макса Вебера. Условность понятий транслировалась в условность реалий. Четкость представления о «своем» и «чужом» материализовывалась в Европе в твердость предубеждения уважать чужие границы – на уровне правовой и этической норм.
Взаимотерпимость этносов в Центральной Азии, условность смысловой переборки между «своим» и «чужим» оборачивались невосприимчивостью к таким европейским по происхождению принципам международного общения, как уважение чужих государственных границ, невмешательство во внутренние дела других государств. Чужими или нечужими для Таджикистана являются афганские дела, если в Афганистане живет больше таджиков, чем в Таджикистане? Какое из двух государств «среднестатистический» таджик должен считать «своим» по Веберу? Сходные проблемы самоидентификации возникают для узбеков и таджиков Северного Таджикистана (г. Худжанд), для узбекских городов Самарканд и Бухара, для узбеков, таджиков и киргизов Ферганской долины.
Вооруженные формирования, выступающие против правительства Узбекистана, до сих пор перемещаются по горным перевалам и тропам с узбекской территории на таджикскую и киргизскую и обратно, не вступая в конфликты с местным населением. Этими же тропами пользуются для провода караванов, груженых наркотиками. Следуют они самостоятельно или под охраной бандформирований? Наркобизнес, контрабанда оружия и антиправительственные движения имеют общие интересы, и параметры их сотрудничества быстро меняются.
Конфликт в узбекской части Ферганской долины (г. Андижан) весной 2005 г. был частью антиправительственного брожения, которое происходило в то время в Киргизии и тоже уходило корнями в ее ферганские районы. Аналогичным образом «просачивание» конфликтности из Афганистана (из его таджикских и узбекских частей) в Таджикистан и Узбекистан – устойчивая черта региональной ситуации. «Тюльпановой» или «маковой» была революция 2005 г. в Бишкеке? Некоторые полагают, что на ее эмблеме было бы уместно поместить оба цветка.
ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Важнейший вопрос – реформа политических систем стран Центральной Азии. Наличие прочных структур традиционного саморегулирования местных обществ – региональных, племенных, родовых, клановых – и иных традиционно-общинных связей налагает отпечаток на условия, в которых формируется политика. Семь десятилетий модернизации среднеазиатских обществ в составе СССР и еще два десятилетия реформ в качестве независимых государств трансформировали социальный ландшафт региона. Советский строй, а после 1991 г. модели авторитарно-плюралистического устройства (по Роберту Скалапино) внешне изменили политический облик этих стран и заложили основы развития большинства из них по пути нелиберальной демократии (по Фариду Закариа).
Однако традиционные структуры саморегулирования не были ликвидированы и не саморазложились. Приняв удар большевистской модернизации в 1920–1940 гг., они выжили благодаря десятилетию «оттепели» в 1953–1963 гг., а затем адаптировались к условиям «позднего СССР» в 1970–1980 гг. Традиционные структуры нашли место в политической системе советского общества. Они изыскали способ сотрудничать с партийно-бюрократическим аппаратом, помогая ему в мобилизации масс на трудовые кампании, а иногда и образовывая личные унии.
При этом внешне система государственного управления в Казахстане и республиках Средней Азии выглядела советской, а реальное управление шло по двум ветвям: формальной – партийно-советской и неформальной – регионально-клановой. Центральный аппарат КПСС адекватно оценивал ситуацию и стремился не столько изменить ее через искоренение традиции, сколько научиться использовать традиционные факторы для регулирования положения на местах.
Во второй половине ХХ века в этой части СССР раньше, чем на остальной территории страны, сложилась «сдвоенная» общественно-политическая система. Внутри местных обществ уживались два отчасти автономных уклада. Первый – советский (современный). Второй – родо-племенной, этногрупповой, региональный (традиционный). Обычаи, нормативные прецеденты, своды поведенческих запретов и правил, религиозные регламенты составляли второй уклад. Привычка получать современное высшее образование, заниматься экономической, общественной и политической деятельностью, навыки проведения выборов – первый.
Бытовое поведение характеризовалось перемещением человека из первого уклада во второй и обратно. Светское сочеталось с религиозным – исламским, доисламским и не исламским (христианским, иудейским, языческим). Современный рыночный бизнес – с обычаем помогать в трудоустройстве неквалифицированных родственников и земляков. Привычки к существованию по канонам западного потребления – со вкусом к традиционному образу жизни. На уровне политической практики это выливалось после 1991 г. в обыкновение участвовать в выборах и политической борьбе и при этом голосовать в соответствии с советами «старших» в их традиционном понимании – начальники, вожди кланов и групп, старейшины, муллы, старшие родственники мужского пола либо в их отсутствие – просто мужчины.
Механизм поддержания социального порядка был сложным, но надежным. Во всяком случае, повсюду, кроме Таджикистана в начале 1990-х гг., подобная структура общества уберегла страны от войн и распада. Да и гражданская война в Таджикистане была вызвана чрезмерностью политических преобразований под натиском незавершенной «исламской демократической революции», которая разрушила старый механизм регулирования отношений между конкурирующими региональными группами в бывшей Таджикской ССР.
Провал эксперимента с «исламской демократией» настолько напугал соседние с Таджикистаном бывшие советские республики, что их руководители были вынуждены принять меры для борьбы с исламской и светской оппозицией, в том числе с применением силы. После этого реформы в Центральной Азии, если они вообще проводились, были направлены в консервативное русло. Гражданская война скомпрометировала концепт одномоментной демократизации по западным образцам. Последующее десятилетие было использовано для стабилизации и дозированной модернизации. На смену советской машине пришли системы правления, для которых характерно соединение официальных институтов партийно-президентской структуры с неформальным традиционным регулированием.
Наложение западных форм демократического правления на местный традиционализм вызвало к жизни центральноазиатские версии нелиберальной демократии. В политических системах Центральной Азии соотношение «нормы» и «патологии» не больше и не меньше, чем в общественно-государственном устройстве Индии, Южной Кореи или Японии на ранних стадиях развития демократических моделей, присущих каждой из названных трех стран.
Либерализация политических систем стран Центральной Азии возможна не раньше, чем произойдут изменения в культуре. Имеются в виду прежде всего сдвиги в базовых представлениях о достаточности либо избыточности, привлекательности «свободы» или «несвободы», индивидуальной конкуренции либо общинно-корпоративной солидарности, ответственности каждого за себя (и равенстве) или покровительстве (и подчиненности).
Это не означает, что Центральная Азия может позволить себе приостановить реформы. Приближеение естественной смены поколений лидеров вынуждает думать о необходимости продолжить модернизацию. Однако форсированная демократизация может подвергнуть эти страны такой же опасности, как и попытки остаться в парадигме поверхностного реформирования, стабилизирующий ресурс которой в значительной мере уже исчерпан.
СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ
Так же, как центральная и восточная части евразийского материка, Центральная Азия формировалась под влиянием взаимодействия оседлых и кочевых этносов. Оседлые культуры быстро порождали государства. Малопригодный для организованной эксплуатации в традиционных формах кочевой уклад исходно выступал альтернативой государственности. Однако кочевники нашли вариант адаптации к государству через симбиоз с ним. Внутри Бухарского эмирата, например, потомки кочевников составили «специализированный клан» – слой (по сути, племя) профессиональных воинов.
Часть завоевателей становилась системообразующим элементом новых правящих элит, другая – смешивалась, не всегда сливаясь с населением завоеванных территорий, формируя вместе с ним социальный «низ». При этом в ряде случаев могла веками сохраняться «этническая специализация» разных групп населения: завоеванные группы тяготели к привычной хозяйственной деятельности (земледелие, ремесленничество, строительство крепостей и каналов, торговля), пришлые же предпочитали быть воинами, управленцами низовых уровней, а позднее – тоже торговцами. Взаимная диффузия этнических специализаций, конечно, происходила. Но этнически окрашенные архетипы экономического поведения (по Максу Веберу и Александру Ахиезеру) хорошо различимы в странах Центральной Азии и сегодня, характеризуя деятельность «исторически коренных» и «исторически пришлых» (русские, украинцы, армяне, евреи-ашкенази, греки) групп населения. Конечно, такое обозначение условно: за 200 лет после переселения русских и украинцев в Центральную Азию они там укоренились и ныне представляют собой во всех смыслах, кроме исторического, группы коренного населения.
Русский элемент стал играть преобладающую роль в управленческих структурах присоединенных территорий. После революций 1917 г. в России и последующего вхождения Бухары и Хивы в состав СССР структура политико-административной элиты региона стала более разнообразной. Русский и украинский элементы были весомо дополнены как другими некоренными этносами (еврейский, армянский), так и местными группами населения, которые получили гораздо более широкий доступ к власти, чем прежде.
«Советская элита» в Центральной Азии вобрала в себя множество этносов. В этом смысле механизм ее формирования соответствовал привычной для региона взаимной этнической терпимости и традициям оазисно-имперской идеологии. Первыми лицами в республиках советской Средней Азии и Казахстане, как правило, являлись прямые назначенцы Москвы из местных уроженцев либо приезжих из других частей СССР.
Включение Центральной Азии в Советский Союз вызвало изменения в регионе. Крупнейшими нововведениями стали перевод Казахстана в режим оседлости и проведение в южной части региона водно-земельной реформы. В результате превращения казахов и киргизов в оседлых жителей, часть казахских и киргизских родов бежали на территорию Китая – в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Важнейшим политическим последствием водно-земельной реформы явилось истребление сельской части русской диаспоры в Центральной Азии. Казачество, успевшее было укорениться в Семиречье (юго-восточная часть Казахской ССР. – Ред.), перед лицом советских нововведений встало на сторону Белого движения. В ходе Гражданской войны казаки и их семьи были уничтожены, репрессированы или же вслед за казахами и киргизами бежали в СУАР.
В годы Второй мировой войны в Среднюю Азию и Казахстан было эвакуировано от трех до пяти млн человек из европейской части СССР. Это были в основном образованные люди, при помощи которых удалось решить ряд крупных социальных проблем и задач культурного строительства. Была ликвидирована безграмотность, а также были заложены основы современной системы здравоохранения. К тем же годам относятся развитие в Центральной Азии современного театрального и музыкального искусства, литературы, создание системы университетского образования.
Отмеченная тенденция связана и с высылкой в годы войны из Поволжья, Крыма и Северного Кавказа репрессированных народов: немцев, крымских татар, балкарцев, карачаевцев, греков, чеченцев, ингушей и др. Впоследствии в регион шли целые потоки политических иммигрантов из Греции. По завершении восстановительных работ после землетрясения в Ташкенте в 1966 г. многие рабочие разноэтничных строительных бригад пожелали остаться жить в этом регионе.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТРАН РЕГИОНА
Новизна международной среды в Центральной Азии состоит в освобождении малых и средних стран от пассивной роли объектов воздействия со стороны крупных держав. За два десятилетия после распада СССР государства региона прошли путь к формированию рациональной внешней политики. Большинство из них сформулировали более или менее убедительные внешнеполитические концепции, даже если не всем им был придан официальный статус, будь то различающиеся между собой версии постоянного нейтралитета Туркмении и Киргизии, варианты доктрин регионального лидерства Казахстана и Узбекистана либо концепция национальной безопасности Таджикистана.
Выделяются три типа внешнеполитического поведения малых и средних стран в отношении превосходящих их держав. Первый тип – агентский: «я – твой младший брат, моя земля – твой бастион, форт и крепость». Этот тип заменил собой прежнее вассальное, подданническое поведение. Второй – защитный: «ты – мой недруг, и я готовлюсь к борьбе с тобой, нападаешь ты или можешь хотеть напасть». Третий – условно партнерский: «мы ничем друг другу не обязаны и пробуем сотрудничать не только друг с другом, но и со всеми странами, несмотря на разность потенциалов».
При первом типе страны стремятся плотнее «прильнуть» к какому-то мощному государству, выторговывая себе за это определенные привилегии. При втором они могут обострять отношения с заведомо более сильной страной, желая привлечь к себе внимание мирового сообщества, нарочито концентрируясь на угрозах, реально либо предположительно исходящих от крупной державы. При третьем типе поведения малые и средние страны стараются осторожно дистанцироваться от всех мощных государств, одновременно пытаясь сохранить с ними хорошие отношения и отвоевать себе хотя бы небольшое автономное пространство.
К первому типу тяготеют страны, именуемые сателлитами. Ко второму – несостоявшиеся или неуверенные в себе государства (от Венесуэлы и Северной Кореи до Грузии). К третьему стремятся нейтральные и неприсоединившиеся государства, которые демонстрируют многообразные формы внешней политики – от «ядерного неприсоединения» Индии до сдержанного и гибкого «антиядерного нейтрализма» Вьетнама, Индонезии и Малайзии.
Центральноазиатские государства, как представляется, тяготеют к третьему типу поведения. Он тесно увязывается с их возможностями и спецификой международных условий существования. Главное из них – рыхлая внешнеполитическая среда, где в течение 20 лет Китай, Россия и США не могли да и не имели желания жестко привязать местные страны к своей военно-политической стратегии. Государства Центральной Азии избегают перегибов. Дистанцируясь от России и ассоциирования себя с «частями бывшего СССР», страны региона все же не поддались соблазну провозгласить себя «частью Запада». Увлечение сначала Турцией, а потом Китаем не спровоцировало их ни на «следование Китаю», ни на развитие по пути превращения в элементы «пантуранского пространства».
Ограничив влияние Москвы, страны региона не допустили деградацию отношений с ней, сохранив возможность при необходимости прибегать к ее ресурсам. Взамен они позволяют России пользоваться своим потенциалом – пространственно-геополитическим и отчасти энергосырьевым. Местный национализм, окрасившийся колоритом ислама и здешних доисламских культур, в целом не отлился ни в религиозный экстремизм, ни в светскую ксенофобию и шовинизм. Позитивную роль в этом смысле сыграли мощное советское просветительское и культурно-атеистическое наследие, присущая СССР традиция надэтничной социально-групповой солидарности в сочетании с оазисной культурой терпимости к говорящим на другом языке.
Отчасти сходным образом страны Центральной Азии добиваются уменьшения зависимости от России как покупателя и транспортировщика их энергоносителей. Но это не препятствует их желанию оставаться под «зонтиком» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который продолжает быть скорее политическим, нежели военным институтом.
В целом обстановка ориентирует малые и средние государства на проведение политики, которую характеризуют прагматизм, гибкость, лавирование, уход от обременительных внешних обязательств, стремление привлечь помощь более богатых держав. Ради этой помощи они торгуются по поводу встречных уступок – с Индией, Китаем, Россией, США или богатыми исламскими странами.
В этом не следует усматривать коварство со стороны центральноазиатских соседей России – данный термин уместнее адресовать тем государствам, лидеры которых, хитроумно переиграв Бориса Ельцина в 1991 г., разрушили советскую страну. В ту пору центральноазиатские республики стремились к увеличению пространства свободы рук в отношениях с Москвой, а не к полному отделению от России.
Важнее другое. Прагматизм в политике стран Центральной Азии соседствует с исторической памятью, в которой негативные ассоциации уравновешиваются комплексом представлений о позитивном наследии отношений с Россией. Взлет культурного и образовательного уровней, создание систем охраны здоровья, формирование основы, на которой возможно возведение современной политической системы – это плоды пребывания центральноазиатских союзных республик в составе СССР.
Советская система действовала в Центральной Азии так же деспотично, как и на всем остальном пространстве страны. Но при всех пороках она хорошо подготовила данный регион для избирательного восприятия новаций 1990-х гг., когда бывшие союзные республики стали независимыми государствами. Эта система позволила местной власти сдержать рост низовых протестов, направить исламизацию в умеренное русло и справиться с натиском транснациональных криминально-контрабандистских структур, которые действовали в союзе со здешними и зарубежными экстремистами. Сценарии раздела Таджикистана, распада Киргизии и образования криминального «Ферганского халифата» не реализовались, а попытка «исламской революции» не привела в Центральной Азии к тем удручающим результатам, которые проявились в Афганистане.
КОНЦЕПЦИЯ "ОТЛОЖЕННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА"
Географически и отчасти политически центр региона кажется из России расположенным между Астаной и Ташкентом. Но с позиций энергосырьевой дипломатии в ее зарубежных версиях центральную позицию в региональных делах занимают Каспий, вернее, его восточное побережье, а также газовые месторождения Туркмении.
Однако и такое восприятие региона является «объектным» скорее по отношению к малым и средним странам. Американские же и евросоюзовские политики и ученые оценивают ситуацию в этой части мира через призму того, какую выгоду либо опасность она им может сулить. Немалая часть российских и китайских государственных деятелей и экспертов фактически остались на такой же позиции. В качестве субъектов международной политики малые и средние государства мало кого интересовали.
Исследователи в лучшем случае стремились оценить, насколько они могут воспрепятствовать или поспособствовать реализации целей крупных держав. При этом каждая из них старалась составить представление о том, при помощи каких рычагов можно расширить влияние на региональную ситуацию. Всесильным инструментом представлялась американским аналитикам демократизация, в том числе путем революций – сначала «исламско-демократической», а потом «майдано-площадной». Российские и китайские ученые выступали за консервативные версии реформ, которые необходимы для преобразования экономических систем центральноазиатских стран и их политического устройства.
Малые и средние страны вынуждены лавировать. Однако вектор маневрирования не исчерпывал смысл их внешних политик. Местные государства тяготеют к нейтральному статусу. В 1990-х гг. о нем официально попытались заявить Киргизия и Туркмения. Правда, о классическом нейтралитете Швейцарии и Швеции в здешнем контексте говорить не приходится. В регионе сохраняются источники угроз – со стороны Афганистана, экстремистов в Ферганской долине и потенциальной нестабильности в исламских регионах Китая. Опыт Таджикистана, Узбекистана и самой Киргизии свидетельствует в пользу иллюзорности классического нейтрализма в этой части мира.
Вот почему в осмыслении перспектив нейтрализма страны Центральной Азии могут рассчитывать скорее на вариант «умеренно вооруженного нейтралитета» по образцу государств АСЕАН. При определенных обстоятельствах такой вариант мог бы устроить все страны региона, включая Казахстан и Туркмению. Но в силу военно-политических реалий он непригоден для немедленной реализации. Страны региона включены в многосторонние отношения с Россией через ОДКБ, а также с Россией и Китаем через Шанхайскую организацию сотрудничества. Правда, гибкость обязательств по этим договорам и неразработанность практики их применения позволяют входящим в них странам оставаться самостоятельными в сфере внешнеполитического поведения. Оба договора являются больше механизмами координации и профилактики угроз, чем боевыми организациями, способными к быстрой мобилизации ресурсов стран-членов.
В то же время наличие этих структур дает малым и средним государствам необходимые им гарантии внутренней и международной безопасности. Причем они сохраняют возможность по собственному усмотрению дозировать практическое участие в сотрудничестве с Россией и Китаем, не отказываясь от балансирования и ориентации на нейтралитет в принципе.
Для внешней политики центральноазиатских стран характерно соединение линии на партнерство с Москвой и Пекином со стремлением независимо от них развивать сотрудничество с США и ЕС. При этом страны Центральной Азии не стремятся участвовать в военном сотрудничестве вне пределов минимально необходимой безопасности. Подобный тип внешнеполитического поведения можно назвать потенциальным или отложенным нейтралитетом. Этот принцип фактически стал системообразующим элементом международных отношений в Центральной Азии.

Государство – это он
Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов – политолог, международный обозреватель, на протяжении 20 лет освещает события в Центральной Азии.
Резюме Бессменный глава независимого Узбекистана Ислам Каримов – дуайен всего корпуса постсоветских руководителей и по возрасту (72 года) и по сроку пребывания на президентском посту.
Нынешнее столетие решительно перекраивает карту стратегических приоритетов, уводя в тень одни части света и выдвигая на авансцену другие. Евразия стала ареной, на которой пересекаются разнообразные интересы мировых держав, а малые и средние государства, расположенные здесь, превращаются в объекты большой политики. Но пассивная роль устраивает далеко не всех, честолюбивые лидеры ряда стран стремятся вести свою собственную игру и с «ровней» (например, соседями), и с «грандами» – Россией, США, Китаем, Европейским союзом. К числу таких лидеров относится Ислам Каримов.
Бессменный глава независимого Узбекистана – дуайен всего корпуса постсоветских руководителей и по возрасту (72 года) и по сроку пребывания на президентском посту. 24 марта 2010 г. исполнится 20 лет с того дня, когда Верховный Совет Узбекской ССР проголосовал за введение президентства и избрал на должность президента страны Каримова. До тех пор в Советском Союзе был только один президент – Михаил Горбачёв, да и на союзном уровне этот пост только что ввели. Каримов проторил путь к президентскому креслу остальным лидерам союзных республик – до той поры просто местным партийным вождям, которые не преминули взять пример с ташкентского коллеги. Как вспоминают очевидцы, президент СССР был недоволен. «29 марта 1990 года в кулуарах съезда ВЛКСМ Горбачёв назвал этот шаг преждевременным, однако к тому времени он уже не влиял на ситуацию в республиках, а посему его отношение практически не вышло за рамки личного восприятия», – пишет неподцензурный узбекский сайт Uzmetronom.com.
Ислам Каримов никогда не скрывал, что не разделяет понятий «Узбекистан» и «президент». Построенное государство – это, по сути, его личный проект. За два десятилетия он пережил множество потрясений, но теперь творению Каримова предстоит самое тяжелое испытание. Фундаментальный геополитический сдвиг, происходящий в мире, заставляет отказываться от постсоветских практик. Вызовы слишком масштабны, чтобы для ответа на них хватало опыта партийной номенклатуры, пусть и помноженного на националистический азарт, с которым всегда связано строительство новой государственности.
СОЗДАНИЕ ФОРМЫ
«С точки зрения возраста я уже подхожу к той черте, когда мне больше надо думать о том, кто будет продолжать ту модель развития Узбекистана, которую я заложил в 1991 году». Эти слова президент Ислам Каримов произнес больше восьми лет назад, в конце января 2002 г., объясняя необходимость проведения референдума о введении двухпалатного парламента и продлении срока президентских полномочий с пяти до семи лет.
С тех пор Каримов не вспоминает о том, что ему пора думать о преемнике. Заступая когда-то на свой очередной президентский срок, он обмолвился: «Я буду жить долго». Эти слова уже тогда были восприняты как ясный сигнал всем, кто готов был покуситься на его кресло: мол, не дождетесь. Некоторые и вправду не дождались.
Каримова давно не волнуют нападки критиков в связи с практически узаконенным им пожизненным президентством. Если не считать выборов 1990 г., за 20 лет он всего трижды избирался главой независимого Узбекистана – в 1991, 2000 и 2007 гг. В 1995 г. полномочия продлили на референдуме. Еще один плебисцит (2002) увеличил конституционные сроки президентского мандата с пяти до семи лет. Причем спустя три года «выяснилось», что это положение относится и к действующему главе государства, хотя вопросы, вынесенные на голосование, этого не подразумевали.
Еще в октябре 1998 г. Ислам Каримов в интервью автору этой статьи утверждал: «У нас в Узбекистане сроки полномочий законодательного органа и президента по Конституции обозначены четко, и мы не будем играть в эти игры с продлением или сокращением полномочий – ведь это тогда лишний раз поставит под сомнение стабильность самой Конституции». А стабильность Конституции, говорил Каримов, есть гарантия стабильности в стране. В том же интервью он утверждал, что в Узбекистане создана система, «при которой парламентские и президентские выборы проводятся примерно в одно и то же время… чтобы настроения людей, голосующих за депутатов, не сильно отличались от настроений или проблем, волнующих их в тот момент, когда они идут на выборы президента». «Я надеюсь, что такая система надолго сохранится в Узбекистане», – сказал Каримов. Надеждам президента не суждено было сбыться, «система» по его же велению вскорости приказала долго жить.
Стоит заметить, что эти суждения узбекского президента прозвучали в ответ на вопрос, как он относится к принятому тогда Нурсултаном Назарбаевым решению провести досрочные выборы президента Казахстана в январе 1999 г.
В 2007 г. случился еще один характерный для узбекской правовой системы казус, демонстрирующий тамошнее понимание «стабильности Конституции как гарантии стабильности в стране». Согласно Основному закону, выборы президента проводятся в год истечения конституционного срока его полномочий – в первое воскресенье третьей декады декабря. Последний раз до этого Ислам Каримов принес присягу на заседании парламента 21 января 2000 г. Проведение же выборов 23 декабря (первое воскресенье третьей декады) 2007 г. означало нарушение статьи 90 Конституции страны, определяющей срок президентства в семь лет. Фактически полномочия Каримова оказались пролонгированы на 11 месяцев.
На это противоречие попытался тогда обратить внимание Конституционного суда (КС) Узбекистана правозащитник Джахонгир Шосалимов. Однако хотя закон обязывает КС отвечать на запросы граждан в десятидневный срок, Шосалимов так и не дождался ответа. Узбекская же оппозиция, а вслед за ней и многие международные наблюдатели, сочли лишние 11 месяцев пребывания Каримова в должности незаконной узурпацией власти. Однако официальный Ташкент даже бровью не повел в ответ на эти обвинения. Тем более что их тактично «не заметили» и лидеры мировых держав – ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Москве и словом об этом не обмолвились.
Но вольно или невольно президент сам напомнил о странной коллизии спустя пару месяцев, когда в феврале 2008 г., за месяц до президентских выборов в России, находился с визитом в Москве. Выступая в Кремле, Каримов говорил, что он «всегда был сторонником того, чтобы Владимир Владимирович (Путин. – Авт.) согласился с предложением, поступившим в том числе и от него (Каримова. – Авт.), и выставил свою кандидатуру на третий срок». «Я чувствую удовлетворение перед совестью от того, что этот вариант мог бы состояться, и убежден, что никто не пожалел бы», – делился переживаниями узбекский президент. «Если кто-то об этом что-то сказал бы, то со временем они тоже поняли бы, – добавил Каримов, – это было бы наиболее приемлемое решение».
Неловкость ощущали, кажется, все сидевшие в зале, и было очевидно, что оратор говорил скорее о себе, чем о Путине. Это ему самому требовалось в тот момент внутреннее оправдание прошлогоднего решения идти на третий президентский срок, несмотря на конституционный запрет.
На родине Исламу Каримову уже давно не перед кем отчитываться. Только однажды – в Намангане в декабре 1991 г. – ему довелось выслушивать «наказы избирателей». Этот город в Ферганской долине отличается тем, что исламские традиции там укоренены наиболее глубоко. Перед первыми прямыми президентскими выборами в Узбекистане Каримов отважно, фактически без охраны появился в городе, который практически находился под контролем исламского движения «Адолат» («Справедливость») во главе с Тахиром Юлдашевым и Джумой Намангани, впоследствии лидерами Исламского движения Узбекистана.
Каримов никогда не вспоминал, как ему вместе со всеми мусульманами пришлось стоя на коленях слушать, как Юлдашев читает суру Корана. Переговоры проходили в захваченном исламистами здании обкома компартии, и Исламу Каримову выдвинули 10 пунктов требований, в частности обеспечить гарантии того, что Узбекистан будет провозглашен исламским государством. Во всяком случае, одно из требований Каримов выполнил: давая президентскую присягу, он клялся не только на Конституции, но и на Коране.
С другой стороны, узбекский лидер давно не нуждается в каком-либо подспорье для доказательства легитимности своего правления, поскольку уверен, что только он способен поддерживать в стране стабильность. «Сегодня все замыкается на мне, и это не случайно, – рассуждал Ислам Каримов в интервью «Независимой газете» в январе 2005 г. – Мы прошли через весьма непростой период развития, приходилось отвечать на многие нелегкие вызовы времени, и я просто вынужден был брать все на себя». Но «постепенно ситуация будет меняться, нужно генерировать то поколение, которое придет после нас».
Президент Каримов убеждал слушателей и себя самого в том, что формирование профессионального двухпалатного парламента приведет к «созданию инструмента, с помощью которого мы ощутимо укрепим народовластие, основы гражданского общества, результатом чего должно стать демократическое государство». Последнее виделось как «исключающее возможность диктатуры», которая, в свою очередь, подразумевала «тиранию», «диктат одного человека, диктат одной структуры». Президент рассуждал о справедливости, к которой надо стремиться, и ссылался на народное выражение «пусть имеющий власть имеет совесть и будет справедлив». А затем изрек слова, которые можно считать квинтэссенцией философии государственного строительства в Узбекистане: «Мы ведь пока только форму создаем, главное – наполнить ее содержанием. Как Америка больше 200 лет наполняет содержанием свою Конституцию». И тут же дал наставления своему госаппарату: «В подобных категориях следует мыслить и депутатам нового парламента, и министрам, и руководителям судебной власти». За 20 лет правящая элита Узбекистана назубок усвоила каримовские категории, понимая, что создание всех этих «демократических» институций не больше, чем форма. В ожидании, когда сверху спустят команду «закладывать содержание», депутаты, министры и прочие руководители явно не волнуются: задание дано на 200 лет вперед.
Ислам Каримов делился итогами размышлений о «внутреннем протестном потенциале, который накапливается в течение многих лет», о «важности иметь прочный контакт правительства с населением, происходит ли между ними нормальный диалог». «Самое страшное, когда взаимоотношения властей с народом напоминают разговор глухонемых… когда протестные настроения достигают крайней точки, когда, как говорится, пар готов разорвать котел». И тут же добавляет: «Никакая Америка, никакая Европа не в состоянии направить события в нужное для себя русло, если само общество не жаждет резких перемен».
АНДИЖАНСКИЕ ПОВОРОТЫ
Куда исчезнут все эти мудрые умозаключения через три с половиной месяца, когда в мае того же 2005 г. взорвется «котел» в Андижане, где власть так и не услышала голос народа, требовавшего правосудия и справедливости от местной власти? Приговор, который власть вынесла стихии народного бунта, пусть отчасти и управляемого, был однозначным: все, кто вышел на улицы, протестуя против беспредела местных начальников, – террористы и преступники, подготовленные в лагерях за пределами Узбекистана и оплаченные его недругами. А все журналисты и правозащитники, рассказывавшие миру о бойне, устроенной в Андижане узбекскими силовыми структурами, – наймиты западных разведок и подрывных центров.
Сам президент Узбекистана, прибывший в Андижан в те дни, утверждал, что там «не был убит ни один мирный житель... только бандиты, при трупах или рядом с ними всегда находилось оружие».
Озвученное узбекскими властями в первые дни после трагедии количество жертв, 187 человек, никогда не корректировалось. Либо официальный Ташкент никогда не ошибается, сумев определить абсолютно точную цифру в разгар событий, либо боится назвать истинное число погибших. По данным правозащитников и независимых наблюдателей, число жертв Андижана составляет не менее 500 человек.
Ислам Каримов публично никогда не признавал ошибок власти, в том числе и местного начальства в Андижане. Это вполне логично – ведь если «все замыкается на нем», за все он отвечает лично. А авторитет Ислама Каримова не подлежит сомнению либо обсуждению.
Однако остальной мир был шокирован. Даже из Москвы, где традиционно не позволяли себе критиковать союзников по Содружеству независимых государств (СНГ), разве что Грузию и Украину, прозвучали критические нотки. «Сложное социально-экономическое положение, определенная слабость власти… исламский фактор – все это, вместе взятое, с учетом недовольства населения уровнем своей жизни и предопределяет взрывоопасность ситуации». Это цитаты из выступления в эфире радиостанции «Маяк» первого замминистра иностранных дел России Валерия Лощинина 15 мая 2005 г. Впрочем, после телефонного разговора Ислама Каримова с тогдашним президентом РФ Владимиром Путиным оценки стали иными. Глава МИДа России Сергей Лавров, признав, что «в результате силового вторжения в Узбекистан погибло много мирных жителей, и мы не имеем информации, как это происходило», перевел стрелки на угрозу извне: «Необходимо провести самое тщательное расследование, кто собрал группу людей и поручил им создать такую ситуацию в Узбекистане». Разумеется, сказанное относилось к внешнему фактору, но если задуматься, то эти слова могли быть обращены и к тем, кто уже долгие годы возглавляет страну.
Андижанские события привели к резкому развороту внешней политики Узбекистана. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Узбекистан за отказ рассматривать события в Андижане не только, как внутреннее дело страны. Требования США и Евросоюза провести независимое международное расследование майской трагедии Ташкент категорически отверг. Вашингтон и Брюссель ввели санкции в отношении Узбекистана, обвинив руководство республики в «несоразмерном применении силы» при подавлении беспорядков. Зато понимание на самом высшем уровне Ташкент нашел в Москве и Пекине. Так, свой первый зарубежный визит после тех трагических событий Ислам Каримов совершил 25 мая в Китай.
В отместку за резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов узбекские власти вынудили Вашингтон вывести с территории республики военную базу Карши-Ханабад, развернутую в сентябре 2001 г. в преддверии афганской кампании. А вот за российскую поддержку Ташкенту пришлось платить. Вслед за выводом американской базы последовало подписание 14 ноября 2005 г. российско-узбекского Договора о союзнических отношениях, который предусматривал взаимное предоставление военных баз. В январе 2006 г. Узбекистан вступает в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Наконец, в августе 2006 г. в Сочи, после продолжительной встречи один на один с Путиным, Каримов подписывает протокол «о восстановлении членства Узбекистана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)стран СНГ». В декабре, вслед за ратификацией парламентом, договор подписывает президент Каримов.
Впрочем, говорить о «восстановлении членства Узбекистана в ОДКБ» было бы не совсем корректно, поскольку он, строго говоря, никогда в эту организацию не входил. ОДКБ формально существует с 2002 г. Но за три года до этого Узбекистан (наряду с Грузией и Азербайджаном) отказался подписать протокол о пролонгации своего участия в структуре стран, подписавших в Ташкенте в мае 1992 г. Договор о коллективной безопасности (ДКБ) стран СНГ. В узбекском руководстве свое решение объясняли несогласием с российской политикой в Закавказье (односторонние поставки вооружения Армении), Центральной Азии (наращивание российского военного присутствия в Таджикистане), а также стремлением Москвы добиться единой позиции стран СНГ по всем вопросам – от расширения НАТО и ситуации в Косово до войны против Ирака. «Зачем нас надо опять под одной шапкой объединять, – возмущался Каримов, – мы суверенны и имеем собственную позицию по каждому вопросу».
Вступление Ташкента в ЕврАзЭС и «восстановление» его членства в ОДКБ было встречено многими со смешанными чувствами скепсиса и энтузиазма. Соседи Узбекистана по региону, в первую очередь Таджикистан, надеялись, что это приведет к открытию таджикско-узбекской границы для свободного перемещения людей и товаров. Ташкент действительно обещал подписать соответствующие соглашения в рамках ЕврАзЭС еще до конца 2006 г., но этого не случилось до сих пор. Мало того, некоторые участки границы по-прежнему заминированы. В ноябре 2008 г., менее чем через три года после вступления в ЕврАзЭС, Ташкент объявил о приостановке своего членства. Каримов обосновал это решение тем, что деятельность ЕврАзЭС, мол, во многом дублировала работу СНГ и ОДКБ, а также разногласиями с другими членами сообщества по поводу таможенного союза.
Есть и другое объяснение такому шагу. К концу 2008 г. стало ясно, что Европейский союз готовится снять с Узбекистана санкции, введенные после андижанских событий, появились признаки «оттепели» и в отношениях с Вашингтоном, что предвещало улучшение отношений с Западом в целом. Следовательно, чтобы восстановить баланс, надо было уменьшить крен в сторону Москвы.
Что же касается «возобновления» членства Узбекистана в ОДКБ, то уже спустя два с лишним года, в начале 2009 г., подтвердилось очевидное: для Ташкента это был вынужденный шаг, продиктованный сложной геополитической конъюнктурой, сложившейся после событий в Андижане. В феврале 2009 г., когда по инициативе России было принято решение создать Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) в рамках ОДКБ стран СНГ, Узбекистан от участия отказался. В Ташкенте, в частности, сочли невозможным согласиться с принципом принятия решений на применение КСОР большинством голосов, а не консенсусом. Такая реакция, впрочем, вполне естественна, если учесть уровень враждебности между Узбекистаном и его соседями. Ведь, гипотетически большинство участников КСОР вправе применить силу, вмешавшись в события внутри Узбекистана.
ДОБРОСОСЕДСТВО ТОЛЬКО СНИТСЯ
Неудачный опыт членства Ташкента в ЕврАзЭС мало кого удивил. Среди большинства чиновников, и не только российских, бытовало мнение, что с вступлением Узбекистана туда будут перенесены и все региональные проблемы. За два постсоветских десятилетия Ташкент не выстроил доверительные отношения ни с одной из соседних стран. Причин множество. Отсутствие опыта независимого существования центральноазиатских республик в границах, нарезанных советской властью, умножалось на национальный эгоизм. Острая проблема региона – единый экономический и водно-хозяйственный комплекс, созданный в советское время и трудно разделяемый на пять независимых частей. Все это можно было бы урегулировать, если бы не субъективный, но ключевой фактор, – очень непростая история личных отношений Ислама Каримова буквально с каждым из лидеров стран Центральной Азии. (В меньшей степени это относится к президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, который недавно пришел к власти.)
Подавляющее число экспертов полагают, что реальная возможность сотрудничества между странами региона появится не раньше, чем в историю уйдут времена правления нынешних лидеров Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. До тех же пор останутся в силе категорические «нет», которыми в Ташкенте встречают любые идеи интеграции. Так, в апреле 2008 г., отвечая в Астане на предложение президента Казахстана о создании Центральноазиатского союза, Каримов заявил, что для этого «потенциалы» стран-членов «должны быть как-то сравнимы». К тому же, продолжал он, «политика и направления, которыми занимаются лидеры государств, должны быть сравнимы, но не разноречивы, особенно если дело касается реформы и видения перспектив своего развития».
Трудно оспаривать справедливость этих слов. Правда, при разности «потенциалов» стран региона, «политика и направление» их лидеров отличаются лишь степенью авторитарности. Договороспособность подобных режимов между собой практически отсутствует, поскольку уничтожена культура дискуссий. Вместо этого культивируется взаимная подозрительность и шпиономания. Курьезными, но вполне характерными штрихами создаваемой в Узбекистане атмосферы являются долгие тюремные сроки за шпионаж в пользу Таджикистана, полученные пару лет назад женщинами, которые «под видом женщин легкого поведения» выведывали узбекские военные секреты. В Таджикистане, впрочем, ситуация зеркальная. А в феврале этого года узбекские власти внезапно, без объяснения причин приняли решение, согласно которому граждане Киргизии могут посещать Узбекистан не чаще одного раза в три месяца.
МЕНТАЛИТЕТ И ПОЛИТИКА
С подачи президента Узбекистана там принято ссылаться на многовековой менталитет узбекского народа как обоснование проводимой политики. Свежий пример – судебный процесс по делу известного узбекского фотографа и кинодокументалиста Умиды Ахмедовой, получивший широкий международный резонанс. Впервые в истории независимого Узбекистана художника судили за его творчество. Ахмедову обвинили в том, что в фильмах «Бремя девственности» и «Мужчины и женщины в обрядах и ритуалах», а также в фотоальбоме «Женщины и мужчины: от рассвета до заката» она оклеветала и оскорбила узбекский народ. В фильме Умида рассказала о том, к каким личным трагедиям приводит вековой свадебный обычай вывешивать на всеобщее обозрение простыни с пятнами крови после первой брачной ночи, а ее фотоаппарат запечатлел не только парадно-счастливые лица жителей республики, но и их трудный и не всегда веселый быт. Как выяснилось в судебном порядке, частные подробности жизни отдельных людей оказались оскорбительны для целого народа, который, кстати, сплошь из таких людей и состоит. Протесты мирового общественного мнения избавили Ахметову от тюрьмы: суд признал ее виновной по всем статьям обвинения, но применил амнистию по случаю 18-летия независимости Узбекистана. Вполне в духе советских традиций, яростно отвергаемых идеологами узбекского режима, художницу обвинили в тунеядстве: мол, она «не занимается общественно полезным трудом».
Президент как главный идеолог страны видит одной из своих основных задач противостояние чуждым «узбекскому менталитету» влияниям либо тем, кто является их проводником. Кого имеет в виду официальный Ташкент, можно понять из объяснений, которыми в 2008 г. были обоснованы запрет на возвращение в Узбекистан и лишение аккредитации представителя международной правозащитной организации Human Rights Watch Игоря Воронцова. По мнению узбекских властей, Воронцов «не знаком с менталитетом узбекского народа и не способен оценить реформы, осуществляемые руководством страны». Неофициально до сведения организации было доведено, что в Ташкенте могут рассмотреть другую кандидатуру, но этот человек «не должен быть русским».
Щепетильная национальная тема иногда всплывает самым неожиданным образом. Возникает ощущение, будто она связана не с межгосударственными отношениями, а с личными переживаниями самого президента, человека неординарного, темпераментного и искреннего, если последнее качество вообще применимо к профессиональному политику. «При империи (советской. – Авт.) нас считали людьми второго сорта», – заметил Каримов в одном из интервью. Узбекский президент хорошо помнит, каким унизительным для общественного мнения республики было так называемое «узбекское дело», раскрученное в 1980-х гг. присланными из Москвы следователями Гдляном и Ивановым. Много лет назад Ислам Каримов рассказывал автору этих строк, что те события стали для него глубокой травмой. При этом он жаловался, насколько оскорбительны для него упреки в русофобстве: «Я вырос на русской культуре, учился в русской школе, наизусть мог прочесть всего “Евгения Онегина”». Действительно, на узбекском языке Каримов стал свободно говорить, только став президентом.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказывал о том, как Каримов объяснял запреты на проведение его концертов в Ташкенте: «За полчаса твои песни делают из меня советского человека, а я этого не хочу...» Сам Ислам Каримов, выступая в январе нынешнего года в Ташкенте на церемонии открытия нового монумента «Клятва Родине», заметил, что стоявший на его месте памятник «Защитникам южных рубежей Отечества», открытый в 1975 г. к 30-летию победы в Великой Отечественной войне, «отражал идеологию старого строя». А новый, чисто узбекский, памятник, эскиз которого был разработан при личном участии главы государства, «останется на этом месте на века».
История со сносом памятника советскому солдату в Ташкенте ноябрьской ночью прошлого года вызвала резонанс в российской прессе. Москва не решилась выразить свое отношение к произошедшему, как она делала это в аналогичных случаях в Эстонии и Грузии. Вместо этого у стен посольства Узбекистана в Москве появились пикеты движения «Наши» с требованиями вернуть статую на место. Это вынудило узбекского посла выступить с сообщением, что старый памятник отправлен на «реконструкцию» и будет возвращен на прежнее место к 65-летию победы в мае 2010 г. Не прошло и месяца, как подтвердилось очевидное: обещание посла было просто дипломатической уловкой, призванной сгладить разгоравшийся в России скандал.
Трудно сказать, чем руководствовался Ислам Каримов, осуществляя этот демарш. Причин может быть множество – от демонстрации недовольства не слишком внятной и лояльной Ташкенту позицией, которую Москва заняла в отношении водно-энергетических проблем в Центральной Азии, до раздражения индифферентностью, с какой российское руководство относится к инициативам узбекских властей по афганскому урегулированию.
Афганская тема всегда была чувствительной для Ташкента и одной из центральных при формулировании внешней политики. Каримов считает себя глубоким знатоком афганских реалий и готов демонстрировать это в беседах практически с любыми высокопоставленными собеседниками. Последняя инициатива Ислама Каримова была озвучена в 2008 г. на саммите НАТО в Бухаресте и предусматривала возобновление деятельности контактной группы по Афганистану в формате «6 + 2» (соседи и друзья Афганистана – Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Россия и США) с преобразованием ее в «6 + 3» (включение в нее НАТО). Явной поддержки инициатива не вызвала. В первую очередь из-за отсутствия в составе группы самого Афганистана, чье правительство признано мировым сообществом. Не исключено, что, выдвигая эту инициативу, Ташкент стремился закрепить свою роль как одной из главных стран транзита в Афганистан, претендующей также на особые интересы на афганском Севере.
Возможно, демарш с памятником – свидетельство очередного разворота во внешней политике, то есть теперь уже в сторону Запада. Во-первых, узбекского президента не могло не вдохновить окончательное снятие осенью прошлого года санкций Евросоюза. Во-вторых, налаживается сотрудничество с Соединенными Штатами на афганском направлении. Ташкент получает подряды на строительство железной дороги на севере Афганистана и участие в других проектах.
Интересное совпадение по времени: накануне отповеди, которую Каримов дал при открытии «Клятвы Родине»12 января «идеологии старого строя», он подписал План действий по укреплению двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и США на 2010 год. Методично расписанный перечень из 31 пункта предусматривает мероприятия «в политической сфере, сфере безопасности, экономики и развития, человеческого измерения и в сфере обеспечения мира и стабильности в Афганистане». Предполагается подготовка визитов в Ташкент госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, конгрессменов, спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Ричарда Холбрука. Узбекские офицеры будут обучаться в Америке, предусмотрены поставки военного снаряжения в Узбекистан, намечены консультации на тему отмены поправки Джексона – Вэника в отношении Ташкента и даже содействие Узбекистана с целью обеспечить участие представителей Соединенных Штатов в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в узбекской столице в июне этого года.
Последний пункт особенно ярко подчеркивает, какую серьезную эволюцию претерпели взаимоотношения Ташкента и Вашингтона с тех пор, как на саммите ШОС в 2005 г. в Астане «шанхайцы» при активном одобрении узбекского президента недвусмысленно потребовали от США вывести военные базы из Центральной Азии. С учетом того что в нынешнем году Узбекистан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества, намерения Ташкента открыть шанхайскую «форточку» для Вашингтона могут оказаться вызовом Пекину, особенно если вспомнить об обострении американо-китайских отношений.
Кстати, председательство Узбекистана странным образом совпало с необъяснимым отсутствием генсека ШОС экс-министра иностранных дел Киргизии Муратбека Иманалиева на международной конференции высокого уровня по Афганистану, состоявшейся в Лондоне в конце января. Не появился на конференции и глава МИДа Узбекистана Владимир Норов. Причем в Ташкенте, в отличие от Тегерана, который также проигнорировал афганскую конференцию, происшедшее никак не объяснили.
На следующий день после того, как в прессе появился текст подписанного Каримовым Плана действий, послу США Ричарду Норланду пришлось деликатно дать понять, что Хиллари Клинтон не собирается в Ташкент в те сроки, которые ей определил глава узбекского государства, да и вообще неизвестно, посетит ли она эту страну. Еще через несколько дней Министерство юстиции Узбекистана изъяло из своей открытой электронной базы информации непонятно как там оказавшийся почти секретный План действий.
* * *
«Ислам Каримов – типичный восточный политик. Изощренный ум тонкого психолога подкреплен способностью к точному математическому расчету, парализующая царедворцев воля сочетается с безграничными амбициями личности, уверенной в своем историческом предназначении. Отсюда и Тамерлан как национальный символ современного Узбекистана. За последние 20 лет о Каримова неоднократно «спотыкались» и Восток, и Запад – он не позволяет перешагнуть через себя, заставляя принимать в расчет и себя, и государство, во главе которого стоит.
Классический прием во внешней политике: сначала довести отношения с тем или иным неудобным партнером до стадии кипения (замерзания), а затем по собственной инициативе либо остудить их до приемлемого уровня, либо разогреть до него же. Подобная тактика позволяет диктовать свои условия, а не выполнять чужие». Так пишет о Каримове известный узбекский журналист Сергей Ежков.
Однако и из физики, и из человеческого опыта известно, что резкая смена температур, которым подвергается объект, плохо сказывается на его состоянии, а то и вообще приводит к летальному исходу.
На долю поколения руководителей, к которому принадлежит Ислам Каримов, выпала по-настоящему историческая ответственность. Внезапный распад огромной империи заставил руководителей новых независимых государств искать способы выживания себя и своих наций. Оглядываясь назад, легко обнаруживать изъяны и фатальные ошибки, в условиях всеобщего коллапса принимать правильные решения было намного сложнее. И они создали то, что смогли, опираясь на свой опыт, знания и понимание происходящего.
Но постсоветское время закончилось. Глобальная политика все менее управляема, она бросает всем государствам и их руководителям беспрецедентный интеллектуальный вызов. Перед теми странами, которые еще недавно назывались «новыми независимыми государствами», вновь стоит проблема выживания – но совершенно в другой среде и перед лицом других угроз. Прежний опыт, особенно столь специфический, как у руководителей советского призыва, зачастую даже не бесполезен, а просто вреден для адекватного восприятия реальности. Особенно, когда между личностью и государственностью ставится знак равенства.

Наиболее важные события в отрасли связи Исламской Республики Афганистан (ИРА) во II пол. 2009г. были связаны с продолжением развития оптоволоконной инфраструктуры связи в стране. Создание общенационального оптоволоконного кольца с бюджетом 64,5 млн.долл. должно было начаться еще в 2006г., согласно официальному проектному описанию на сайте министерства коммуникаций и информационных технологий (МКИТ), но реально стартовал лишь в апр. 2007 и должен был завершиться еще в 2008г.
По официальным данным министерства на 8 дек. 2009г., проект был завершен «на 80%», но то же самое заявлялось еще в июле. Размытость численных оценок, видимо, связана с тем, что в ходе реализации проекта нарушен изначально запланированный порядок работ, изменена против изначальных оценок абсолютная протяженность прокладываемых коммуникаций и т.п. На текущий момент длина проложенной в рамках проекта инфраструктуры составляет 3100 км. из 3200, запланированных изначально, что, хотя бы формально, соответствует 96% завершению работ. Реальное завершение работ по проекту, судя по всему, ожидается в наступившем 2010г.
Афганская оптоволоконная сеть уже подключена к сетям Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Пакистана. Последняя страна была подключена лишь в дек. Ближайшие планы предусматривают создание наземного соединения с сетью Туркменистана. МКИТ планирует дальнейшее развитие сотрудничества с телекоммуникационными компаниями сопредельных государств. 16 дек. делегация МКИТ во главе с замминистра Барялай Хассамом встретилась в Ташкенте с гендиректором АК «Узбектелеком» Шухратом Садиковым. По итогам встречи Б. Хассам сообщил прессе, что Узбекистан намерен усилить «всестороннюю поддержку Республики Афганистан» и упомянул о возможном расширении емкости узбекско-афганского оптоволоконного канала. Эти успехи в развитии инфраструктуры Афганистана должны, по мнению руководства МКИТ, привести к значительному снижению цен на услуги доступа к интернету и мобильной связи. «Стоимость пользования услугами интернет по коммутируемым и выделенным каналам в ближайшие месяцы снизится в 4-5 раз», – пообещал министр Амирзай Сангин, выступая перед журналистами на церемонии открытия соединения с Пакистаном.
Официальный сайт МКИТ дает следующие прогнозы: «стоимость интернета сократится с 60 до 10 афгани в час и с 2000 до 1000 афгани в месяц». Также чиновники прогнозируют снижение стоимости мобильной связи в ближайшие месяцы. По официальным данным оптоволоконная сеть в настоящий момент охватывает 17 провинций и 68 уездов страны. Планируется также прокладка дополнительных соединений общенационального волоконного кольца с населенными пунктами в южных провинциях Афганистана. Исполнителем этих работ станет иранская компания «Шахид Канди», выигравшая летом тендер на прокладку цифровых линий телефонной связи в Кабуле.
Наравне с этим продолжается развитие сетевой инфраструктуры на основе спутниковых технологий связи. Структуры НАТО совместно с норвежским провайдером VIZADA заявили в конце дек., что намерены подключить ряд афганских университетов к интернету с использованием наземных спутниковых станций. В настоящий момент для первоочередного подключения намечены образовательные учреждения в Герате, Джелалабаде, Кандагаре и других населенных пунктах. Как сообщается, по аналогичной технологии к интернету уже подключен Кабульский университет.
Ежегодные опросы населения страны, проведенные Asia Foundation, показывают следующую картину развития информационно-коммуникационных технологий в стране: 52% опрошенных (44% в сельской местности и 81% в городской) сообщили, что их семья имеет в своем распоряжении работающий мобильный телефон; 6% (3% в сельской и 18% в городской местности) сообщили, что имеют дома персональный компьютер. Данный опрос не учитывает доступ к интернету с мест работы и учебы, что особенно важно, учитывая стартовавший в этом году крупный проект по компьютеризации школ (о нем мы писали в предыдущем обзоре). Опрос зафиксировал рост доли населения, использующего различные информационные технологии в последние годы.
Однако не может не вызывать удивления странная динамика использования интернета, фиксируемая опросами. В 2007г. 4% опрошенных сообщали об использовании интернета в целях получения новостей, в 2008-2%, в 2009г. ни один из опрошенных не признался в получении актуальной информации из этого источника. Эти итоги опроса мало соответствуют наблюдаемой динамике развития использования интернета. Большинство лиц, работающих в Афганистане, указывают на достаточно высокий уровень развития доступа к интернету, особенно в городской местности, хотя признают сравнительно низкую скорость соединения. В период последних президентских выборов была отмечена достаточно высокая активности СМИ, в т.ч. сетевых, создание новых информационных сайтов, пользующих спросом среди афганской сетевой аудитории. По данным официальной статистики на настоящий момент в Афганистане насчитывается 1 млн. пользователей интернета, каковая оценка, впрочем, тоже представляется не вполне достоверной.
Динамично развивается мобильная телефонная связь. По данным МКИТ в Афганистане зарегистрированы 10,4 млн. пользователей мобильной связи (80% населения страны живут в зоне ее действия), подключенных с использованием технологии GSM, и 65 тысяч пользователей, подключенных по технологии CDMA. Заметим, что ранее министерство проявляло большой интерес к развитию мобильной связи с использованием последней технологии.
Наиболее значительной политической проблемой мобильной связи в Афганистане в настоящий момент является вынужденное отключение базовых станций в ночное время суток в южных провинциях, производимое по требованию полевых командиров талибов, подкрепленных угрозами терактов против станций. Эта практика существует уже несколько лет и может объясняться технофобией «Талибана», связанной с опытом осени 2001г., когда многие видных активисты движения были обнаружены по сигналу спутникового телефона и уничтожены, так и попыткой ограничить централизованную боевую активность в ночное время суток. Еще летом представителями НАТО высказывалось предложение покончить с ночными отключениями, создавая базовые станции на территории военных баз иностранных войск, которые бы могли гарантировать их защиту от атак талибов, но следует помнить, что численность станций мобильной связи на территории страны превышает, по последним данным, 2100 ед. и их круглосуточная охрана может составить определенную проблему. Вообще анализ военно-оперативного аспекта связи и вещания в Афганистане заслуживает отдельного и более тщательного анализа и должен являться темой отдельной статьи.
В заключение хотелось бы отметить, что сбор и публикация статистических данных об афганской отрасли связи требуют совершенствования. Механизмы расчета многих оглашаемых показателей закрыты, что затрудняет объективную оценку данных и их международные сопоставления. Сайт МКИТ в настоящий момент периодически публикует лишь 7 параметров развития отрасли связи, но не хранит данные об их динамике. Конечно, специфика национального бухгалтерского учета и чисто организационные трудности препятствуют адекватному развитию статистического учета в области связи, но недостаток данных, объективно характеризующих отрасль и ее перспективы, не может не сказываться на ее инвестиционной привлекательности.
Никита Андреевич Мендкович – эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА); эксперт Института Развития Информационного Общества (ИРИО).

Власть и ответственность: выстраивая международный порядок в эру транснациональных угроз
Проблемы американского лидерства в современном мире
Bruce Jones, Carlos Pascual and Stephen John Stedman. Power and Responsibility: building international order in an era of transnational threats. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2009. (Брюс Джоунс, Карлос Паскуаль, Стивен Джон Стедман. Власть и ответственность: выстраивая международный порядок в эру транснациональных угроз)
Резюме В рецензируемой книге широко представлены острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом. Книга написана в стиле политического наказа администрации Барака Обамы, которому досталось, наверное, самое непростое (начиная с середины прошлого века) внешнеполитическое наследство.
В рецензируемой книге широко представлены острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом. Авторы монографии обладают богатейшим опытом в области международных отношений: Карлос Паскуаль работал в Совете национальной безопасности США, а Брюс Джоунс и Стивен Джон Стедман в течение длительного времени являлись высокопоставленными сотрудниками Секретариата Организации Объединенных Наций.
Книга написана в стиле политического наказа администрации Барака Обамы, которому досталось, наверное, самое непростое (начиная с середины прошлого века) внешнеполитическое наследство. Авторы призывают нового американского президента, а заодно и политическую элиту своей страны пересмотреть курс последних лет, который в значительной степени противопоставил Соединенные Штаты другим государствам мира.
Пожалуй, это – главное достоинство книги, но она содержит также целый ряд тезисов и соображений, с которыми нельзя согласиться.
В названии этого довольно объемного труда содержится его основной тезис: США – ведущая держава на земном шаре, и потому им априори принадлежит роль мирового лидера. Так, в самом начале говорится, что перед администрациями Клинтона, а впоследствии и Буша открылись исторические возможности вдохнуть новую жизнь в международное сотрудничество. Но при перечислении предпринятых для этого шагов чуть ли не на первое место поставлено расширение НАТО (с. 6), хотя, когда писалась книга, было уже очевидно, что включение в данный военный союз новых членов стало одним из стержневых разделительных рубежей в пост-конфронтационный период.
Соединенные Штаты, учитывая имеющиеся у них возможности, могли бы сыграть весьма важную роль в мировом развитии. Но это должна была быть совместная работа, а не распределение обязанностей по принципу «командир – подчиненные».
В книге утверждается, что американское лидерство – это первая из четырех предпосылок обеспечения международного порядка (с. 15). В то же время первым из девяти критериев, в соответствии с которыми должна выстраиваться деятельность по преодолению нынешних вызовов, является непременное согласие США на те или иные шаги, что якобы и будет условием успеха (с. 48).
Примеры можно продолжить, но от этого только усиливается впечатление, что читаешь некий транскрипт самогипноза, в котором авторы заклинают себя и своих читателей, что без Соединенных Штатов мир просто рухнет. Чего стоит, например, следующая фраза: «Международные стабильность и благосостояние в течение следующих двадцати лет невозможны без опоры на силу и лидерство США» (с. 36)!
Используя в аргументации относительно ядерного нераспространения ссылки на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (с. 109), которые, как известно, не были вызваны военной необходимостью, авторы, похоже, не понимают, что подталкивают к невыгодному для себя вопросу. Разве этот исторический опыт не является примером безответственного поведения с точки зрения интересов глобального мира, не говоря уже об уважении прав человека и гуманитарного права?
На самом деле только за последние годы накопилось немало примеров того, как Вашингтон решал международные проблемы силовыми методами: инициировал кампанию бомбардировок Сербии, вопреки международному праву продавил одностороннее провозглашение независимости Косово, под надуманным предлогом вторгся в Ирак, а также сорвал в 2002 г. переговорный процесс вокруг северокорейской ядерной проблемы. Здесь же следует упомянуть об одностороннем выходе Соединенных Штатов из международных соглашений в области раз-оружения, а также заглавную роль в обучении и вооружении режима Михаила Саакашвили.
Призывая «посмотреть фактам в лицо и начать действовать» (сс. 314–315), авторы, к сожалению, не пожелали применить этот тезис к американской политической элите, которой необходимо переосмыслить свои подходы и скорректировать политику. Если США хотят играть лидирующую роль в мире, то это надо делать без всепоглощающего чувства собственной исключительности.
Некоторые умозаключения, изложенные в книге, вызывают чувство неловкости, так как, мягко говоря, никак не согласуются с реальностью. Так, авторы недоумевают, почему Соединенные Штаты, обладающие беспрецедентной военной мощью, не могут склонить в свою пользу чашу весов в таких бедных странах, как Ирак и Афганистан (с. 22), а чуть позже утверждают, что глобальная война с террором вызвала рост числа террористов (с. 27). Думаю, для большинства людей, интересующихся мировой политикой, очевидно, что если контртеррористическая операция в Афганистане воспринималась как адекватный ответ на события 11 сентября 2001 г., то вторжением в Ирак администрация Джорджа Буша восстановила против себя даже многих своих традиционных единомышленников в арабских странах. Агрессия против Ирака, сопровождавшаяся к тому же заведомым искажением разведывательной информации о военных программах Багдада, бросила тень и на операцию в Афганистане, особенно если учитывать многочисленные жертвы среди гражданского населения.
Авторы настаивают на том, что в результате ослабленного контроля за применением силы и преступной деятельностью в Афганистане произошел рост повстанческой активности (с. 196), – по-видимому, речь идет о талибах. Утверждается даже, что США, дескать, недооценили «упертость» «Аль-Каиды» и движения «Талибан» (с. 277). В действительности же события развивались прямо противоположным образом: администрация Буша пренебрегла достоверной информацией о хорошо организованной подготовке тысяч боевиков в «серой зоне» афгано-пакистанской границы и осознанно пошла на сокращение американского военного присутствия, чтобы начать иракскую кампанию.
О том, насколько волюнтаристским было решение о переброске сил из Афганистана в Ирак, говорит и факт, на который ссылаются авторы, когда упоминают о свидетельствах экспериментов с биологическим оружием, обнаруженных в захваченных у «Аль-Каиды» документах (с. 145). Это обстоятельство заставляет усомниться в том, действительно ли так уж сильно волновала администрацию Буша опасность попадания биологического оружия в руки террористов.
Одна из достойных похвалы целей книги заключается в стремлении убедить американское общественное мнение в том, что деятельность ООН отвечает национальным интересам и, следовательно, заслуживает поддержки. В то же время, когда речь заходит о конкретных предложениях, авторы проявляют определенный максимализм. Так, они ратуют за предоставление Генеральному секретарю ООН дополнительных бюджетных полномочий в ущерб действующему механизму в лице Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам и Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН (сс. 60–61). Реализация такой идеи привела бы на практике не только к извращению сути межгосударственного согласования, но и к пагубным последствиям, учитывая имеющийся опыт сервильного поведения Генсека ООН по отношению к Соединенным Штатам.
В разделе об операциях по поддержанию мира авторы выступают за то, чтобы миротворческая доктрина была согласована между, как они выражаются, «четырьмя основными миротворческими платформами – НАТО, ООН, Африканским союзом и Европейским союзом» (с. 200). С учетом недавнего опыта продавливания ооновской доктрины, которую с подачи некоторых западных стран Секретариат ООН отказался подвергнуть межгосударственному согласованию вопреки требованиям целого ряда государств, в том числе России, понятно, что речь идет о том, чтобы пост-фактум освятить опус ооновской бюрократии.
Явные натяжки обнаруживаются и в изложении комплекса проблем, связанных с концепцией «ответственности за защиту». Авторы намеренно упрощают вопрос, когда начинают с констатации того, что эта концепция была одобрена в итоговом документе саммита-2005, а потом недоуменно сетуют на то, что это, дескать, не трансформировалось в более решительные действия ООН в кризисных ситуациях наподобие дарфурской (с. 175). Далее в книге говорится, что в 2006 г. Совет Без-опасности ООН якобы предложил «более сдержанную» трактовку концепции (с. 193). На самом деле итоговый документ саммита-2005 содержит единственное согласованное в рамках ООН толкование концепции, которая, разумеется, требует выработки критериев ее применения. Вместо этого предпринимаются попытки внедрить ссылки на концепцию в ооновские документы, в том числе резолюции СБ ООН. Возможно, именно этот вопрос является самым наглядным примером того, как западные страны пытаются навязать остальным свою интерпретацию подхода к кризисным ситуациям, вместо того чтобы попытаться договориться об общем видении.
Россию авторы упоминают с большой неохотой и вообще умалчивают о ней, даже когда речь идет о примерах сотрудничества «демократических» государств с «недемократическими», к которым, разумеется, относят и нашу страну. Показательно также, что на протяжении всей книги отстаиваются подходы либерально-демократического толка, но как только речь заходит о России, авторы мгновенно переходят на позиции ультраконсерваторов наподобие Джона Маккейна, рассуждая об исключении России из «Группы восьми» (с. 21), или же в стиле Ричарда Чейни обвиняют Москву в неоимпериализме (с. 314).
России не нашлось места ни среди крупных держав (названы Великобритания, Германия, Франция и Япония), ни в числе набирающих силу стран (упомянуты Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) при перечислении государств, с которыми Вашингтону следовало бы сотрудничать для обеспечения международного порядка (с. 45).
Еще более поразительно то, что Россия не упоминается даже в части, характеризующей взаимодействие с другими странами после теракта 11 сентября 2001 г. в борьбе с террором (с. 8), а толчком к сотрудничеству нашей страны с Соединенными Штатами в антитеррористической операции в Афганистане, оказывается, явилось то, что американские войска стали очень быстро справляться с талибами (с. 36)! И это несмотря на общеизвестные факты активных усилий, предпринятых в данной связи российским руководством, в том числе в контактах с третьими странами.
В части, посвященной региональным кризисам, авторы намеренно избегают упоминания о том, что и на постсоветском пространстве прилагались усилия по политическому урегулированию (с. 174), – иначе и нагорно-карабахский, и грузино-абхазский, и приднестровский, и внутритаджикский конфликты так и не были остановлены. А о существовании Шанхайской организации сотрудничества авторы, похоже, вспомнили лишь для того, чтобы заявить, что ни одна из входящих в нее стран не является бастионом по защите прав человека (с. 224).
Предвзятое отношение к России порой принимает несколько экстравагантные для политического трактата формы. Например, в части, касающейся экологии, вдруг говорится, что российские политики могут в будущем пожалеть о том, что снисходительно относились к этой проблематике, когда обнаружат, что Санкт-Петербург ушел под воду (с. 76)… И это при том, что на протяжении всех последних лет российская позиция была куда конструктивнее, чем подходы администрации Буша.
Авторы «забывают» о вкладе России в миротворческую деятельность, хотя хорошо известно, что ооновское миротворчество держится сегодня благодаря трем главным факторам – стабильной финансовой подпитке со стороны западных стран, последовательной готовности узкого круга стран (Бангладеш, Индия и Пакистан) предоставлять в распоряжение свои войска и низким расценкам на авиатехнику (в основном российскую), обслуживающую миротворческие операции.
Однако самым наглядным образом отношение к России сформулировано при описании событий августа 2008 г. Авторы безапелляционно ставят на первое место «российскую агрессию против Грузии», и лишь вскользь упоминаются «провокационные военные действия Грузии в Южной Осетии» (с. 304). По мнению американских политологов, всего этого можно было бы избежать при помощи эффективного международного участия в урегулировании. Однако они, вероятно, забывают о том, что именно администрация Буша обучала, вооружала и поощряла режим Михаила Саакашвили.
То, что произошло в Южной Осетии, должно рассматриваться через призму концепции «ответственности за защиту», когда в условиях процесса политического урегулирования с участием международной организации (ОБСЕ) и контингента миротворцев президент Грузии Саакашвили пошел на грубое нарушение международного права и начал военные действия против мирных людей. У Москвы не было иного выбора, кроме как прекратить кровопролитие, когда гибли российские миротворцы и другие граждане России.
Перечисляя вызовы современности, авторы начинают с Афганистана и Ирана, а заканчивают этот список словами «вновь утверждающая себя Россия» (с. 303) – это, дескать, повестка дня, которой мировому сообществу придется заняться. Естественно, от американцев никто не требует любить нашу страну, но раз они претендуют на объективность анализа, то должны соблюдать определенные правила, которые подразумевают неангажированное изложение фактов.
Книгу «Власть и ответственность: выстраивая международный порядок в эру транснациональных угроз» мне порекомендовал мой добрый приятель, работающий в Секретариате Организации Объединенных Наций, подчеркнув, что это – стоящая вещь, свидетельствующая о разворачивающемся процессе переосмысления американских подходов к ООН. Если это так, то хорошо: ведь Соединенные Штаты – одно из ведущих государств мира, от вовлеченности которого в решение международных проблем человечество только выиграет.
Недавние шаги, предпринятые администрацией Обамы, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне действительно происходит «перезагрузка» внешнеполитических подходов к самым разным международным проблемам. Имеются в виду усилия по достижению новых договоренностей с нашей страной в области разоружения, а также то, что американская дипломатия способствовала поиску формулы урегулирования в Гондурасе, то есть в регионе, который США считают зоной своего влияния. Все это вселяет надежду на то, что готовность к сотрудничеству на международной арене в интересах всего мирового сообщества прочно войдет в арсенал инструментов американской внешней политики.
В.Ф. Заемский – кадровый дипломат, длительное время работал в российском посольстве в США и в Постоянном представительстве РФ при ООН. В июне 2009 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Реформы ООН и миротворчество».

Конец североцентризма
Анатолий Вишневский
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2009
А.Г. Вишневский – д. э. н., руководитель Центра демографии Государственного университета – Высшей школы экономики, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Во второй половине XXI века больше половины населения стран Севера будут составлять недавние мигранты и их потомки. Новый этап мирового демографического развития приведет к изменению состава населения целых государств. Это будет иметь также и серьезные политические последствия.
ХХ век стал временем невиданного ускорения роста населения Земли вследствие несинхронных изменений смертности и рождаемости в процессе мирового демографического перехода. Темпы роста населения достигли своего максимума в 1960-х годах, а в последующие три десятилетия они постепенно снижались. Тем не менее рост продолжается, и в середине XXI столетия на земном шаре будет примерно в 5–7 раз больше людей, чем в начале прошлого века. В 1900-м на нашей планете проживало 1,6 млрд человек, в 1950-м – 2,5 млрд, в 2000-м – 6,1 млрд человек. Согласно последнему (2008) прогнозу Организации Объединенных Наций, к 2050 году число жителей Земли достигнет 8 млрд по нижнему варианту этого прогноза, 9,2 млрд – по среднему и 10,5 млрд человек – по верхнему варианту.
МИРОВАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ
Расселение людей никогда не было равномерным, но мировой демографический взрыв резко усилил эту диспропорцию. Он происходил в основном в развивающихся странах, в то время как большинство развитых государств находились на более поздних стадиях демографического перехода, рост населения в них почти прекратился, а в некоторых уже четко обозначились депопуляционные тенденции. К началу XXI столетия сложилась огромная демографическая асимметрия склонных к депопуляции промышленно развитых стран, в основном расположенных в северной части планеты, и перенаселенных развивающихся стран Юга. Пока мировой демографический взрыв не закончится, асимметрия будет нарастать.
Распределение населения по крупным регионам мира с некоторыми оговорками совпадает с распределением по двум крупным группам стран. Это так называемые «развитые», или «более развитые», как их принято обозначать в документах ООН, страны – индустриализованные, урбанизированные, богатые. А также «развивающиеся», или «менее развитые», – это преимущественно аграрные, сельские, бедные. Растет почти исключительно население «менее развитых» стран (табл. 1).
Географически почти все население «более развитых» регионов живет в северной части планеты – в Европе (включая Россию), Северной Америке и Японии. Наиболее важные исключения – Австралия и Новая Зеландия, но там проживает около 25 млн человек, что составляет немногим более 2 % всего населения развитых стран. «Менее развитые» регионы находятся в южной части планеты. Поэтому сейчас вполне правомерно говорить о разной демографической динамике Севера и Юга. Результатом становится резкое изменение соотношения демографических масс Севера и Юга в пользу последнего.
Северные, «более развитые» регионы никогда не составляли большинства мирового населения. В начале ХХ века там было сосредоточено примерно 30 % жителей планеты, к середине столетия эта доля немного выросла, но и тогда не достигла даже трети мирового населения. Однако затем началось стремительное падение доли Севера, которая к концу века опустилась ниже 20 % и продолжает быстро снижаться. Согласно среднему варианту прогноза ООН, к 2025-му она упадет ниже 16 %, к 2050 году будет составлять менее 14 % (табл. 1), или в 2,4 раза меньше, чем за сто лет до этого, в 1950-м. Примерно то же предполагается по верхнему и нижнему вариантам прогноза.
Т а б л и ц а 1
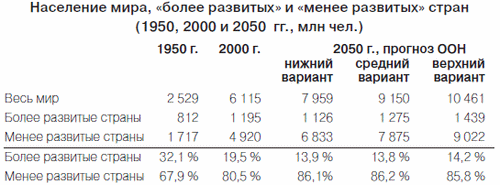
Источник: UN Department of Economic and Social Affairs / Population Division. World Population Prospects: The 2008 Revision. http://esa.un.org/unpp
В 1950 году среди 20 крупнейших по числу жителей стран мира с общим населением 1,9 млрд человек (около 75 % мирового населения) было 10 стран Севера. В 2009-м в первую двадцатку государств, в которых было сосредоточено 4,9 млрд человек (71 % мирового населения) входили только четыре северные страны. По среднему варианту прогноза ООН, в 2050 году в число 20 крупнейших стран с общим населением 6,2 млрд человек (68 % мирового населения) войдут только три страны Севера (табл. 2). Доля Севера в совокупном населении первой двадцатки упала с 34 % в 1950-м до 14 % в 2007 году, а к 2050-му опустится ниже 10 %.
Т а б л и ц а 2
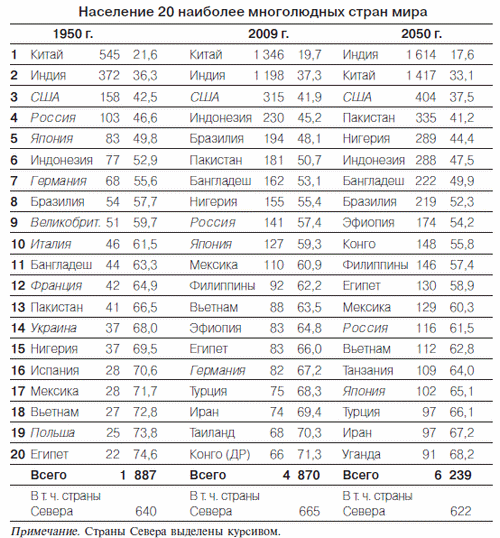
Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2009). World Population Prospects: The 2008 Revision. Highlights. New York: United Nations
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РАЗЛОМ
Какие изменения несет миру нарастающая демографическая асимметрия? Может ли она сама по себе повлиять на сохранение или изменение мирового порядка? Ведь, как отмечалось, доля развитых стран в населении планеты не являлась преобладающей, даже и в середине ХХ века, когда она была максимальной. Сейчас, как и тогда, вес Севера в мировой экономике и мировой политике определяется не столько его демографической мощью, сколько экономической и военной. Стоит ли придавать слишком большое значение демографическим переменам?
Скорее всего, стоит, потому что они протекают на фоне переживаемого человечеством глубочайшего цивилизационного сдвига, сами являются его частью и не могут рассматриваться вне общего контекста всесторонней глобальной трансформации.
Человеческая цивилизация первоначально сложилась как цивилизация собирателей и охотников, живших небольшими разобщенными группами и постепенно, очень медленно расселявшихся по всему земному шару. Каждое племя существовало под охраной своего тотема, соблюдая обычаи и нормы, привязанные к особенностям места обитания. Но цивилизационный фон был общий, главные социальные предписания – однотипными, они обеспечивали выживание в равновесии с дикой природой, остававшейся на протяжении десятков тысяч лет единственным кормильцем человека.
Этот этап истории закончился неолитической революцией, ознаменовавшей переход от присваивающей экономики к производящей. Возникли скотоводство и земледелие, а вместе с ними и первые очаги новой, аграрной цивилизации – их число множилось по мере распространения сельскохозяйственного производства.
Сельское хозяйство сделало возможным существование на планете намного большего, чем прежде, числа людей, их совершенно иную концентрацию и частоту взаимодействия. Оно способствовало появлению оседлости, возникновению сел и городов, государства, семьи нового типа, новых религий. Все это и создало основы мировой аграрной цивилизации, вновь ставшей общим фоном, на котором формировались локальные человеческие сообщества больших или меньших размеров, политически и (или) культурно обособленные, но цивилизационно однотипные. За несколько тысяч лет новая цивилизация охватила почти все население Земли, на планете осталось лишь несколько небольших очагов присваивающей экономики.
Однако подошел к концу и этот этап человеческой истории. Все главные события произошли во второй половине второго тысячелетия новой эры. Особенно же заметным новый цивилизационный разлом стал с конца XVIII столетия, когда западноевропейское общество начало втягиваться в три фундаментальные революции: промышленную, урбанизационную и демографическую. Они, в свою очередь, потребовали огромных политических и культурных перемен, и постепенно стало ясно, что у тысячелетней аграрно-сельской цивилизации появился мощный конкурент – цивилизация промышленно-городская.
Последняя обладала бесспорными эволюционными преимуществами, которые проявлялись, по крайней мере вначале, в экономической и военной сферах, но, видимо, и в мотивации поведения людей, хотя это менее верифицируемо. Так или иначе, но именно новая цивилизация привела к необыкновенному возвышению Европы, которая уже со времени Великих географических открытий XV–XVI веков начала формировать «европоцентристский» мир. С этого времени непрерывно нарастала связанность различных частей планеты, причем на протяжении нескольких столетий судьбы все более единого мира решались европейским политическим истеблишментом, а внутриевропейские конфликты нередко были обусловлены борьбой между различными национальными частями этого истеблишмента за мировое влияние.
Однако уже в ХIХ веке промышленно-городская цивилизация выплеснулась за пределы Европы, и к середине ХХ столетия все «северное кольцо» – Европа, СССР, США и Япония – стало промышленно-городским, и теперь уже все эти части Севера претендовали на участие в управлении остальным миром. Соответственно и связанные с такими претензиями конфликты вышли за пределы Европы и оказались «внутрисеверными».
Между тем «южное кольцо» – развивающиеся страны (за исключением нескольких небольших вкраплений) – оставалось преимущественно аграрным и сельским со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому какое-то время могло казаться, что сложившийся за предыдущие два-три столетия международный порядок останется неизменным, а разница заключается лишь в том, что политический европоцентризм сменился североцентризмом. Нарастающий дисбаланс демографических масс Севера и Юга был замечен не сразу, а многим и до сих пор не кажется особенно важным. В конце концов, население Великобритании всегда было намного меньше населения Индии, но это не помешало англичанам превратить Индию в свою колонию. Соотношение сил, особенно в XXI веке, зависит не от количества людей.
Это рассуждение могло бы быть правильным, если бы Север обладал монополией на новую цивилизацию. Но он ею не обладает.
ЮГ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ АГРАРНЫМ И ВСЕ БОЛЕЕ ГОРОДСКИМ
Примерно до конца XVIII столетия основу экономики всех государств составляло сельское хозяйство, и с ним была связана производственная деятельность подавляющего большинства населения, остававшегося сельским.
Промышленная революция, начавшаяся в конце XVIII века, все изменила. В одной стране за другой – вначале в Европе, а затем и в других частях света – сельское хозяйство начало терять роль главного источника богатства, все больше уступая ее промышленности и сфере услуг. Хотя и сейчас существуют страны, в которых половина и даже больше половины внутреннего валового продукта создается в аграрном секторе, для мира в целом это уже не характерно. В частности, такое соотношение сохраняется только в двух из 20 крупнейших государств мира, где, как мы видели, живет 71 % населения планеты. Среди них преобладают страны, в которых вклад сельского хозяйства в ВВП находится на уровне 10–20 %, а есть и такие, где этот показатель опустился ниже 1 % (табл. 3).
Т а б л и ц а 3
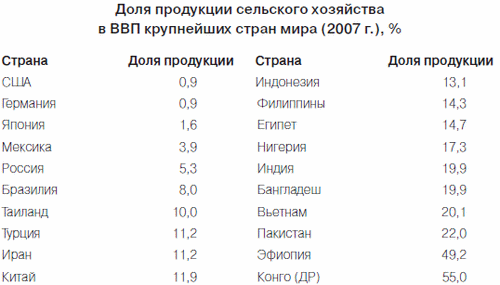
Источник: Wikipedia / List of countries by GDP sector composition
Падение относительного веса аграрного хозяйства неотделимо от коренных изменений в структуре экономически активного населения: оно начинает переходить от сельских к городским занятиям, количество которых стремительно увеличивается, а вместе с тем растет и число городских жителей.
Большие города существовали уже в древности, но в них всегда жила незначительная часть населения. Промышленная революция запустила механизм перекачки сельских жителей в города, и там, где включался этот механизм, численность населения деревень начинала быстро уменьшаться, постепенно превращаясь в незначительную величину. К началу ХХ столетия была только одна страна – Англия, где количество горожан превышало число сельских жителей. Но уже в 1950 году доля горожан превысила долю сельских жителей для всего Севера в целом (табл. 4). Население же Юга в середине ХХ века оставалось по преимуществу сельским, доля горожан составляла всего 18 % – примерно такой была доля городского населения в СССР в конце 1920-х перед началом индустриализации. Доля горожан в населении мира в целом не достигала и 30 %.
Т а б л и ц а 4
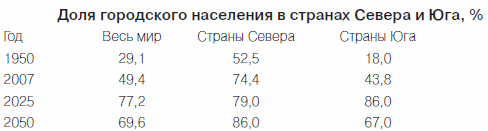
Источник: UN Department of Economic and Social Affairs / Population Division World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. Highlights. UN, New York, 2008, p. 4
Однако прошло немногим более полувека, и ситуация коренным образом изменилась. С одной стороны, значительно возросла доля городского населения в странах Севера: с 52,5 % в 1950 году до 74,4 % в 2007-м. С другой стороны (и это особенно важно), увеличилась в 2,4 раза и достигла почти 44 % доля горожан в странах Юга. Это означает резкий отрыв от уровня урбанизации, характерного для доиндустриальных обществ, и свидетельствует о том, что урбанизация Юга находится в наиболее активной фазе. В целом для всего мира доля городского населения в 2007 году превысила 49 %, а в 2009-м весь мир преодолел рубеж, который к началу ХХ столетия перешла только Великобритания: количество горожан на планете превысило число сельских жителей.
В таблице 4 представлен также прогноз изменения доли городского населения, из которого следует, что оно очень скоро (примерно к 2020 году) станет большинством и в странах Юга, а к середине столетия горожане будут составлять две трети населения Юга. Этот показатель определяется в основном уровнем урбанизации в Азии, демографический вес которой намного превосходит вес других частей Юга. В Африке доля городского населения будет меньше – около 62 %. Но и это не так мало, если учесть, что в 1950-м в Северной Америке, самой урбанизированной части света, горожане составляли около 64 %. Зато доля городского населения в Латинской Америке уже сейчас больше, чем в Европе (обгон произошел на рубеже 1980-х и 1990-х), а к середине века она почти вплотную приблизится к североамериканской, которая, в свою очередь, достигнет 90 %.
Если говорить о крупнейших государствах, то в половине стран первой двадцатки городские жители составляют больше половины населения. При этом Бразилия и Мексика уже сегодня по доле городского населения обогнали Германию, а Бразилия обошла США, Турция и Иран потеснили Японию. К середине столетия, согласно прогнозу, в 10 из 20 крупнейших стран доля городского населения превысит 75 %, и только в двух из них она не достигнет 50 %. Даже Эфиопия, где доля городских жителей сейчас примерно такая, как в дореволюционной России, выйдет по этому показателю на уровень России или Мексики середины ХХ века (табл. 5).
Т а б л и ц а 5

Источник: UN Department of Economic and Social Affairs / Population Division World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. Highlights. UN, New York, 2008, p. 69-83
Важно и то, как меняется доля Юга в городском населении мира. Если в 1950 году представители Юга составляли немногим более 40 % всех горожан мира, то уже к 1970-му их доля в городском населении планеты превысила половину, к 2015 году превысит три четверти, а к середине века на долю Севера будет приходиться менее одной пятой городских жителей планеты.
Человечество, на протяжении 10–15 тысячелетий остававшееся сельским и создавшее цивилизацию, соответствующую этой ступени его развития, стремительно становится городским. Современное городское общество возникло в Европе, было перенесено на заокеанские территории и до сих пор часто воспринимается как что-то чисто европейское, или «западное» (несмотря на то, что уже давно существует такое важное «восточное» исключение, как Япония). Но сейчас это уже ложное представление. Миллиарды людей за пределами европеизированного мира рождаются и социализируются в городской среде, формируют более или менее современные городские слои, становятся носителями городской культуры, и это полностью меняет социальный облик Третьего мира и все более сближает его с социальным обликом Запада, сколь бы велики ни были сохраняющиеся различия. Современный город – это особая, новая ступень цивилизации, и она порождает новые универсальные цивилизационные требования, которые никто не может игнорировать.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ МОЩЬ ЮГА НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ
Индустриализация и урбанизация Юга имеют многообразные последствия – как положительные, так и отрицательные. Одно из них заключается в том, что по мере утраты демографических позиций Север теряет как экономическое, так и военное превосходство, что стало привычным за несколько столетий.
Перед Первой мировой войной на долю Севера приходилось около 83 % мирового валового внутреннего продукта. В середине ХХ столетия, несмотря на некоторый рост доли стран Севера в мировом населении, их доля в мировом валовом внутреннем продукте упала до 6
9 %, к 2007-му составила 59 % (табл. 6). Это, конечно, тоже немало, но былого безоговорочного превосходства уже нет, и тенденция изменений не в пользу Севера.
Т а б л и ц а 6
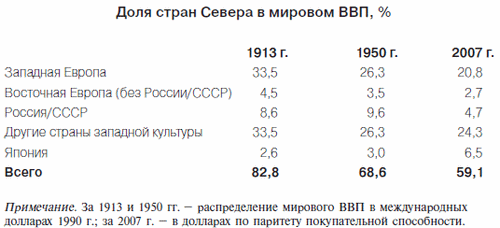
Примечание. За 1913 и 1950 гг. – распределение мирового ВВП в международных долларах 1990 г.
; за 2007 г. – в долларах по паритету покупательной способности.
Источники: Maddison A. The world economy: a millennial perspective. OECD, 2001, p. 261; The 2008 World book. CIA, 2008
В 1950 году только пять стран Юга входили в первую двадцатку стран по величине ВВП, в 2007-м их было уже девять – почти половина (табл. 7). При этом в 1950 году на их долю приходилось 16,6 % совокупного ВВП этой двадцатки, а в 2007-м – 34,8 %.
Т а б л и ц а 7
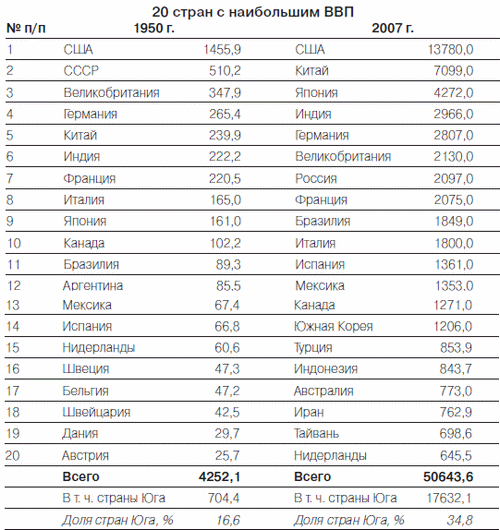
Источники: Maddison A. The world economy: a millennial perspective. OECD, 2001, p. 261, 272-273, 275, 284; The 2008 World book. CIA, 2008
Разумеется, совокупный размер ВВП говорит об экономических возможностях страны далеко не все. Если расположить те же 20 стран по величине ВВП на душу населения, то станет ясно, что экономическое превосходство государств Севера все еще очень велико (табл. 8). Многолюдные страны Юга, даже если они и занимают высокое место по величине совокупного валового внутреннего продукта, пока очень бедны.
Т а б л и ц а 8
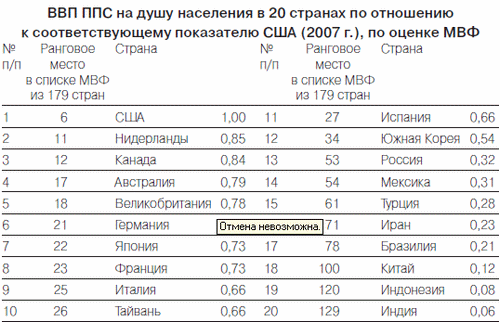
Источник: International Monetary Fund. Имеются и другие оценки (в частности, Всемирного банка и ЦРС США), которые близки к оценкам МВФ.
Тем не менее фактор высокого совокупного ВВП не следует недооценивать. Он позволяет даже при наличии бедного населения сконцентрировать огромные ресурсы в руках государства, которое благодаря этому может стать серьезным игроком на мировой политической сцене. Так, некоторые крупнейшие страны Юга тратят довольно значительную долю своего ВВП на военные расходы (табл. 9). Такое, в сущности, бедное государство, как Китай, может позволить себе военные расходы, исчисляющиеся сотнями миллиардов долларов. Военные расходы Индии сопоставимы по абсолютной величине с военными расходами России.
Т а б л и ц а 9
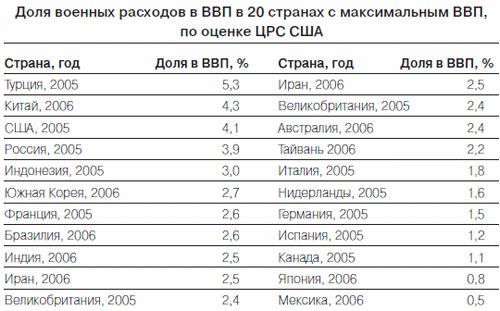
Источник: The 2008 World book. CIA, 2008
Неудивительно, что из пяти ядерных держав, входивших в 2007 году в первую десятку мировых «демографических грандов», три – Индия, Китай и Пакистан – страны Юга.
СЕВЕР ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД СВОИМИ ГРАНИЦАМИ
Эпоха европоцентризма началась с Великих географических открытий, которые положили начало миграционной экспансии европейцев. На протяжении нескольких столетий они распространялись по миру, включая заморские страны в свои колониальные империи либо завладевая малозаселенными просторами на далеких континентах. Главные потоки шли на неосвоенные или слабо освоенные территории Нового Света и Океании. Это движение достигло наибольшего размаха во второй половине XIX – первой половине XX века. С 1820 по 1940 год из Европы за океан выехало более 60 млн человек. Одновременно шло распространение населения европейской части – сначала Российской империи, а затем СССР – по территории Северной Азии. Нынешний геополитический североцентризм пришел на смену европоцентризму именно в результате этого мощного миграционного движения.
Однако во второй половине XX столетия демографическая асимметрия и экономическая поляризация Севера и Юга привели к изменению направления межконтинентальной миграции и ее масштабов. Согласно оценкам, приведенным в прогнозе ООН-2008, за вторую половину XX века с Юга на Север переместилось около 60 млн человек (примерно столько же мигрантов выехало в свое время из Европы за океан за 120 лет), и этот поток не сокращается. Только с 1990 по 2005 год число переселенцев в мире выросло на 36 млн (со 155 до 191 млн), годовые темпы увеличения количества мигрантов все время растут: в 1990–1995 годах они составляли 1,4 %, в 2000–2004 – уже 1,9 %.
Далеко не все переселенцы едут с Юга на Север – это лишь примерно треть из упомянутого 191 млн человек, еще столько же мигрантов перемещаются между странами Юга. Общее число переселенцев с Юга на Север в 2005-м оценивалось в 62 млн мигрантов. Среднегодовое сальдо миграционного обмена развитых стран с развивающимися в пользу развитых составило в 2000–2005 годах 2,6 млн человек в год. Согласно среднему варианту прогноза ООН, за первую половину нынешнего века в развитые страны переместятся еще 90 млн человек из развивающегося мира. Однако мне этот прогноз представляется заниженным, поскольку он предполагает сокращение притока переселенцев в развитые страны после 2010-го. Такие ожидания, возможно, соответствуют желаниям политических элит стран Севера, однако едва ли можно рассчитывать на то, что они оправдаются. Более вероятно, что миграционное давление Юга будет усиливаться, что обусловлено рядом объективных обстоятельств. Отмечу несколько важнейших.
Во-первых, демографический взрыв в странах Юга, породивший их перенаселение и выталкивание «избыточного» населения, вынужденного эмигрировать в поисках средств существования.
Во-вторых, демографическая и экономическая асимметрия современного мира, выражающаяся в существовании наряду с бедными и перенаселенными странами богатых, а зачастую и депопулирующих государств. Страны Юга заинтересованы в доступе к экономическим и интеллектуальным ресурсам Севера, а эти последние – в использовании обильных людских ресурсов и дешевого труда из бедных государств Юга.
В-третьих, рост мобильности населения Юга, что всегда сопровождает «раскрестьянивание» и урбанизацию.
В-четвертых, небывалое развитие средств сообщения и связи, резко упростившее перемещение между странами и континентами и поддержание контактов между ними.
Эти и другие обстоятельства не только обусловили нарастающий поток мигрантов с Юга на Север, но и породили мощные экономические и социальные механизмы, поддерживающие взаимодополняемость и взаимную заинтересованность в миграции как Юга, так и Севера.
Примером такого механизма могут служить денежные переводы мигрантов. В начале 1970-х годов, когда современная трудовая миграция с Юга на Север делала только первые шаги, общая сумма переводов была незначительной, но сейчас она достигла колоссальных размеров (табл. 10). По оценке Всемирного банка, в 2007-м страны Юга получили только учтенных переводов на сумму 217 млрд долларов, в том числе Индия – 27 млрд, Китай – 25,7 млрд, Мексика – 25 млрд, Филиппины – 17 млрд долларов. Из одних только США было переведено по учтенным каналам 42 млрд долларов. А если бы удалось учесть переводы по неофициальным каналам, суммы были бы значительно больше.
Денежные переводы мигрантов в страны Юга, млн дол. США
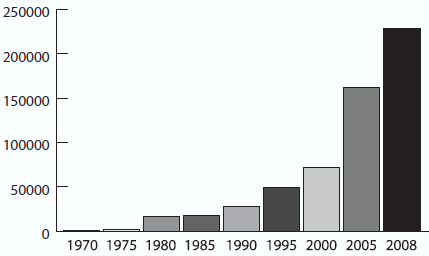
Источник: World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund's Balance of Payments Statistics Yearbook 2008
Наличие таких огромных финансовых потоков говорит о том, что мы имеем дело с серьезным звеном современной мировой экономики. Речь идет о перемещении сотен миллионов людей и сотен миллиардов долларов, и остановить их по чьему-либо желанию едва ли возможно: все части света превратились в сообщающиеся сосуды. К тому же эти потоки все в большей мере становятся инструментом мирового развития, вносят все более заметный вклад в достижение экономических и социальных целей стран исхода мигрантов.
В то же время нельзя не видеть, что современные международные миграции уже сейчас вымывают почву из-под ног североцентризма, и в дальнейшем этот эффект будет лишь усиливаться. Он связан не только с масштабами миграционных потоков, но и с изменившимся характером миграционного взаимодействия.
Миграционная экспансия европейцев в прошлом не считалась с государственными границами колонизуемых территорий, а во многих случаях их просто не существовало. Сами же европейцы жили с середины XVII столетия в условиях Вестфальской системы, которая отводила центральное место идее абсолютного суверенитета государства над своей территорией в ее четко установленных границах. Соответственно все государства контролировали свои границы, пересекать которые можно было только с их ведома. Этот принцип распространился и на новые государства, созданные иммигрантами, – Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, и пока он соблюдался, сохранялась цивилизационная целостность Севера, который диктовал правила отбора иммигрантов и их последующей интеграции в принимающие общества.
Сейчас этот принцип подвергается серьезному испытанию, и не в последнюю очередь именно из-за новой ситуации с миграцией.
Ее наиболее очевидное проявление – это быстро усугубляющиеся проблемы недокументированной (нелегальной) миграции. Несмотря на усиливающееся противодействие правительств, количество нелегальных мигрантов в США, Европе, России исчисляется миллионами и все время увеличивается, демонстрируя и возрастающую проницаемость границ.
Устранить нелегальную миграцию невозможно: она всегда будет спутником легальной. Разница демографических масс Севера и Юга такова, что даже при самой высокой оценке странами Севера выгод иммиграции и при их самом благоприятном отношении к приему приезжих спрос на мигрантов всегда будет меньше соответствующего предложения Юга. Каким бы ни было разрешенное число иммигрантов, многие желающие останутся за бортом, и какая-то их часть будет пытаться обойти установленные законом ограничения. Все будет зависеть от рисков, на которые способны пойти потенциальные мигранты, чтобы обойти закон, и от цены, которую они готовы за это заплатить.
Однако истинные проблемы Севера связаны не только, а может быть, даже и не столько с нелегальной миграцией, сколько с миграцией вообще, включая и ее вполне законную составляющую.
Еще в первой половине ХХ века большинство мигрантов, перебираясь в новую страну, порывали с родиной навсегда. Огромное физическое и социальное расстояние препятствовало сохранению родственных, дружеских, культурных связей, которые быстро ослабевали, а то и вовсе прекращались даже у первого поколения переселенцев, не говоря уже о последующих. Жизненный успех человека и его детей после эмиграции в решающей степени зависел от того, насколько успешно им удавалось интегрироваться в принимающее общество и приобрести новую национальную идентичность, усвоить незнакомые ранее цивилизационные ценности. Переплавка в «плавильном котле» новой родины завершала процесс, начатый в момент пересечения ее государственной границы.
К концу ХХ столетия все изменилось, и прежде всего из-за того, что исчезли непреодолимые расстояния. Современные средства транспорта свели к минимуму физическую дистанцию, но сократилась дистанция и социальная – благодаря тому, что изменились сами страны Юга, по крайней мере многие из них. Современные мигранты с Юга на Север приезжают из стран, уже частично индустриализованных и урбанизированных, обладают определенным, иногда довольно высоким, уровнем образования и профессиональной подготовки и не нуждаются в полном переучивании.
Новые возможности средств коммуникации, распространение Интернета позволяют сколь угодно долго сохранять тесные связи со страной исхода, быть в курсе ее общественной и политической жизни и участвовать в ней, поддерживать постоянное общение с родственниками, друзьями и пр. Даже если де-факто иммиграция оказывается постоянной, психологически она долгое время может восприниматься самими мигрантами как временная. У жителей стран Юга появляются и все время расширяются возможности дистанционного присутствия на рынке труда стран Севера. Одним словом, множатся формы миграции, не требующие кардинальной переплавки, которая была необходима сто лет назад, и становится возможной и обычной множественная идентичность мигрантов – цивилизационная, культурная, гражданская.
Теперь пересечение государственной границы не является препятствием: оставаясь формально «на замке», она размывается, становится проницаемой, перестает отделять одну страну от другой, Север от Юга. Юг оказывается внутри Севера, этнокультурный состав его населения быстро меняется.
По имеющимся прогнозам, уже к середине нынешнего века белое неиспаноязычное население перестанет быть большинством в США, во многих европейских странах доля мигрантов и их потомков превысит 25 и даже 30 % и будет продолжать нарастать. Отмечается высокая степень вероятности того, что во второй половине XXI столетия и в ряде других стран Севера в результате иммиграции и неодинаковой рождаемости среди коренных и вновь прибывших жителей страны больше половины населения будут составлять недавние мигранты и их потомки. Этот новый этап мирового демографического развития, приводящий к изменению состава населения целых стран, британский демограф Дэвид Коулмен назвал «третьим демографическим переходом». Говоря его словами, в странах Севера «низкие уровни рождаемости приводят к изменению политики в отношении миграции, а миграция, в свою очередь, оказывает влияние на состав населения. В конечном счете она может привести к полному изменению этого состава и замене нынешнего населения населением, которое составляют либо мигранты, либо их потомки, либо население смешанного происхождения».
Как скажутся все эти процессы на соотношении Севера и Юга, на их цивилизационном развитии?
Скорее всего, влияние будет двояким. С одной стороны, огромный приток мигрантов с менее развитого, все еще полугородского, полукрестьянского Юга может внести элементы архаизации в жизнь Севера, особенно тех его стран, которые модернизировались позднее и где все еще жива ностальгия по «добрым старым временам». С другой стороны, появление мощного «промежуточного» слоя живущих и работающих на Севере выходцев из стран Юга может существенно ускорить сближение этих двух ныне все еще цивилизационно разделенных частей человечества. Приобретаемые мигрантами профессиональные знания и социальный опыт превращают их в агентов модернизации, носителей новых технологических и институциональных представлений, проводников нового социального и политического мышления, которого так не хватает на Юге. Но это лишь ускорит изживание цивилизационного разлома и приблизит конец североцентризма.

Контуры посткризисного мира
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2009
В.Л. Иноземцев – д. э. н., директор Центра исследований постиндустриального общества, главный редактор журнала «Свободная мысль».
Резюме Имеются все предпосылки к тому, что Соединенные Штаты скоро утратят экономическое и финансовое доминирование и новым номером один наверняка окажется именно КНР.
В последнее время утверждение о том, что мир неузнаваемо изменился после террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, стало общим местом. Эксперты заговорили о «новой геополитической реальности», а «войну с террором» стали именовать чуть ли не Четвертой мировой. Америка, возложив на себя миссию борьбы с вездесущим, но невидимым врагом, казалось, восстановила если не лидирующую, то доминирующую роль в мире. Граница «долгого ХХ века» была определена, а либеральные сторонники теории «конца истории» считались посрамленными.
Однако это новое видение геополитической реальности основывалось на том же факторе, что и система, существовавшая в эпоху холодной войны, – на экономическом доминировании западного мира, и прежде всего Соединенных Штатов. Вплоть до начала нового тысячелетия США никому не уступали своего хозяйственного лидерства. В 2001-м Америка производила 24,8 % глобального валового продукта, акции американских компаний обеспечивали 34,7 % показателя капитализации всех фондовых бирж, инвестиции в НИОКР составляли 38,4 % мировых, военный бюджет Соединенных Штатов обеспечивал 46,2 % всех произведенных на нашей планете военных расходов, а доллар занимал 70,7 % в совокупных резервах центральных банков.
Безусловно, доля США в глобальном валовом продукте и промышленном производстве снижалась, но вместе со странами Европейского союза «атлантический мир» контролировал приблизительно половину мировой экономики – как, кстати, и в первые послевоенные годы.
Но с наступлением нового столетия ситуация начала меняться, чего Соединенные Штаты и их будущие союзники по знаменитой coalition of the willing (коалиции желающих) предпочитали до поры до времени не замечать. Изменения шли по двум направлениям.
СИМБИОЗ РИСКА
С одной стороны, в рамках самого западного мира выделилась группа экономик, сделавших ставку на экспансионистскую (и потому рискованную) финансовую политику. Предпосылки для таковой сформировались еще в 1970-х и 1980-х годах, когда США отказались от «золотого стандарта», а развивающиеся страны прибегли к массированным заимствованиям на мировом рынке капитала, будучи убеждены в том, что их природные богатства, цены на которые в те годы достигали рекордных значений, навечно гарантируют их финансовую устойчивость.
Характерно, что та эпоха принесла с собой не «крах» американской системы под натиском Третьего мира, а нечто обратное. В первой половине 1980-х Соединенные Штаты предприняли решительную атаку на инфляцию, что привело к росту курса доллара, снижению сырьевых цен и массовым дефолтам стран Юга по своим обязательствам. Дальнейшее развитие ситуации – и в том числе продолжавшиеся финансовые трудности мировой «периферии» (от распада Советского Союза и дефолта Мексики в 1994 году до «азиатского» финансового кризиса и дефолтов России в 1998-м и Аргентины в 2001-м) – привело власти США и их союзников к выводу об устойчивости финансовой системы, основанной на долларе. О том же говорили стремительный рост фондовых рынков всех развитых стран в 1997–2000 годах и устойчивое укрепление доллара в тот же период. Результатом стала масштабная либерализация, воплотившаяся, в частности, в отмене Акта Гласса – Стигала в 1999-м.
Итоги впечатляют. С 1995 по 2007 год отношение капитализации фондовых рынков к ВВП в Соединенных Штатах и Великобритании возросло, согласно данным Всемирного банка, соответственно с 62 % и 78 % до 145 % и 171 %. За тот же период размер чистого долга корпораций и домохозяйств увеличился со 138 % и 142 % до 228 % и 249 % ВВП. Цена среднего жилого дома взлетела соответственно в 2,38 и 2,64 раза. Возникли совершенно новые секторы финансового рынка, такие, к примеру, как рынок деривативов, номинальный объем которого, по данным базельского Банка международных расчетов, вырос с 40,1 до 683,7(!) трлн долларов и который (какое совпадение!) к 2008-му на 43 % контролировался британскими и на 24 % – американскими финансовыми институтами.
«Богатство» западного мира стремительно приумножалось, но при этом во многом оставалось фиктивным, тогда как реальное производство устойчиво утекало в менее процветающие страны. Здесь стоит задачи ни приветствовать, ни осуждать такую политику – необходимо привлечь внимание к самой важной ее черте: США, Великобритания (в меньшей мере Испания с ее экспериментами с ипотечным жилищным строительством, Ирландия и Исландия с их банковскими схемами, Италия с самым большим среди европейских стран государственным долгом) стали странами – производителями рисков (risk-makers). Это в какой-то момент не могло не выйти наружу.
С другой стороны, многое менялось и в странах Третьего мира. После затяжного периода неопределенности, начатого долговыми проблемами 1980-х годов и закончившегося с выходом из «азиатского» кризиса конца 1990-х, почти все «пострадавшие» государства резко изменили финансовую политику. Они отказались от активных заимствований за рубежом в пользу наращивания внешнеторгового профицита и аккумулирования валютных резервов. Этому способствовали, с одной стороны, стремительный хозяйственный рост в Китае, с другой – повышение цен на энергоносители и сырье.
Данные факторы привели к резкому изменению торговых балансов. Так, если в 1996 году экспорт из КНР не превышал по объему экспорт из Бельгии (172 млрд долларов), то в 2008-м он достиг 1,46 трлн долларов, став вторым в мире. Если в 1998 году из региона Персидского залива было экспортировано нефти на 67 млрд долларов, то в 2008-м – уже на 539 млрд долларов.
Параллельно в быстроразвивающиеся страны Восточной Азии и нефтедобывающие государства притекали прямые иностранные инвестиции, что также обеспечивало рост валютных резервов (которые реинвестировались в государственные ценные бумаги развитых стран, в первую очередь Соединенных Штатов). В результате только за 1999–2008 году развивающиеся страны Восточной Азии, нефтедобывающие государства Персидского залива, а также Россия увеличили свои суммарные валютные резервы более чем на 4,9 трлн долларов (для справки: в 1998-м все они составляли менее 600 млрд долларов).
За счет покупки этими странами казначейских облигаций (treasuries) США было профинансировано почти 54 % американского бюджетного дефицита. При этом американские компании и банки всё реже давали в долг собственному правительству: по мере того как средняя доходность от вложений в облигации упала с 6,2 % в 1999-м до 2,1 % в 2007–2008 годах, американские банки сократили их долю в своих активах с 9,7 % в 1995-м до 1,3 % в 2008 году. Как и в первом случае, автор не готов комментировать такой курс развивающихся стран, но очевидно, что они и их государственные институты, инвестирующие в западные (и прежде всего американскую) экономики, стали своего рода глобальными потребителями рисков (risk-takers) и тем самым заняли место «второго участника» в «экономике риска» начала ХХI столетия.
Таким образом, в экономическом аспекте мир разделился на два лагеря. Одни страны надували финансовые пузыри, все сильнее отрывавшиеся от экономических реалий. Другие «демпфировали» ситуацию, скупая долларовые активы. В стороне от этой «экономики риска» находились континентальная Европа (с собственной свободно конвертируемой валютой и практически нулевым внешнеторговым сальдо), Латинская Америка (сфокусировавшаяся на создании общего рынка и относительно прохладно относящаяся к Соединенным Штатам) и Африка (вообще не вовлеченная в мировое хозяйство). Но эта экономическая картина интересна не сама по себе – она примечательна тем, какой политический курс проводят сегодня глобальные risk-makers и risk-takers.
Склонность к риску в экономике трансформируется в наше время в готовность принимать рискованные решения и в политике. Вряд ли чистой случайностью является то, что США стали страной, наиболее решительно взявшейся за формирование нового миропорядка, а Великобритания, Испания и Италия оказались костяком коалиции, участники которой «без страха и сомнения» пошли за Америкой в Ирак. Ощущение всемогущества, порожденное финансовыми фикциями, преломилось в готовность рискнуть политическим влиянием.
В то же время Китай, Россия, страны арабского мира, а также, например, Венесуэла, возомнившие себя мощными геополитическими игроками в основном из-за встроенности в американизированный мир (как Китай) или вследствие спекулятивного роста цен на сырьевых рынках (как экспортеры сырья), стали говорить о желательности изменения глобальной политической и экономической конфигурации, выступая за установление «многополярного» мира.
Этот «многополярный» мир, который пока еще не стал реальностью, может оказаться куда более опасным и непредсказуемым, чем «однополярный» мир рубежа веков или даже «биполярный» мир второй половины ХХ столетия. События последнего десятилетия свидетельствуют о том, что новая геополитика становится «геополитикой риска»: в то время как Европа «устраняется» от участия в глобальной политической игре, risk-makers и risk-takers ведут себя всё более решительно.
С одной стороны, Соединенные Штаты за последние десять лет осуществили военные вмешательства в Сербию, Афганистан, Ирак и до недавнего времени демонстрировали готовность применить силу в отношении Ирана.
С другой стороны, Россия жестко ответила на «антисепаратистскую» операцию Грузии в Южной Осетии, вторгшись на грузинскую территорию, а затем признав независимость двух ее мятежных республик. Китай уже стал второй в мире державой по объему военных расходов. Пекин осуществляет строительство военных баз по всему периметру Индийского океана и дислоцировал воинские контингенты в Мьянме и Судане.
«Производители» и «потребители» рисков одинаково отрицательно воспринимают большинство гуманитарных инициатив последнего времени, будь то Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении или Международный уголовный суд. США и их союзники – пусть не на уровне политиков, а на уровне экспертов – всё более открыто признают, что в XXI веке основными источниками если не явных угроз, то очевидных вызовов являются Китай и Россия. Последние отвечают тем же, укрепляя Шанхайскую организацию сотрудничества, которая воспринимается ими как «естественный противовес» «центру» современного мира.
США И КИТАЙ: МИР ПОПОЛАМ?
К чему может привести нарастающая «конфронтация рискующих»? Да и является ли она реальным фактом, или, быть может, все это плод воображения, а Соединенные Штаты и Китай составляют «Большую двойку», которая станет стержнем нового миропорядка?
Несомненно, США и КНР постепенно формируют одну из самых важных (хотя и несколько гипертрофированных, с уклоном в торгово-финансовую сферу) экономических и торговых «связок» в современном мире. В 2008-м объем накопленных взаимных прямых инвестиций приблизился к 70 млрд долларов, совокупные торговые трансакции составили 409,3 млрд долларов, а стоимость американских государственных долговых обязательств, которые держат китайские финансовые институты, перевалила за 760 млрд долларов. (Для сравнения: показатели экономической взаимозависимости Соединенных Штатов и Евросоюза располагаются в обратном порядке: европейцы держат облигаций на 460 млрд долларов, торговый оборот равен 675 млрд долларов, а суммарные инвестиции в экономику друг друга составляют 2,6 трлн долларов).
В то же время Китай не является демократическим государством, что считается американским руководством препятствием для политического сближения; экономика КНР в последние пять лет становится все более огосударствленной, военные расходы растут со средним темпом в 12–15 % ежегодно, а внешнеполитические предпочтения китайцев все чаще расходятся с американскими. Кроме того, американская и китайская экономики не сходны по своим структуре и качеству, как, например, европейские, а представляются прямым дополнением друг к другу. Это допускает для каждой из сторон возможность считать себя зависимой от другой (порой чрезмерно), что может обострять возникающие конфликты.
Едва ли Китай способен стать для Соединенных Штатов реальной угрозой уже в ближайшие годы, но очевидными представляются несколько обстоятельств, по которым его «мирное возвышение» делает современный мир менее комфортным для Америки.
Во-первых, США никогда не доминировали политически в мире, в котором они не были бы хозяйственным лидером. В наши же дни имеются все предпосылки к скорой утрате ими экономического и финансового доминирования, и новым номером один наверняка окажется именно КНР. Это может повысить агрессивность и непредсказуемость не столько самого Китая, сколько Соединенных Штатов, которые, естественно, захотят сохранить статус-кво.
Во-вторых, Китай, уже сегодня воспринимаемый как «второй полюс» нового многополярного мира, несомненно, будет строить свою внешнеполитическую идентичность на умеренном антиамериканизме (или, правильнее сказать, скептицизме в отношении США).
В-третьих, и Соединенные Штаты, и КНР, демонстрирующие в последнее время весьма прохладное отношение к формированию более обязывающего мирового порядка на основе европейских подходов, заведомо являются менее предсказуемыми политическими игроками, чем те же страны Европейского союза. Список можно продолжить.
Откровенно говоря, я не верю, что США с их мессианской идеологией и историей, которую они имели в ХХ столетии, спокойно и беспристрастно смогут наблюдать за возвышением Китая, превращением его в крупнейшую экономику мира, укреплением ШОС (что, на мой взгляд, крайне маловероятно, но чем бог не шутит), формированием китайской зоны влияния в Южной Азии и Индийском океане и т. д. Более того, нынешний кризис ускорит процесс формирования «постамериканского» мира, и по мере нарастания такового озабоченность Вашингтона будет лишь усиливаться.
Кроме того, говоря столь же откровенно, я не верю ни в то, что Китай не представляет собой экономическую и политическую угрозу для современной России, ни в то, что наша страна заинтересована закреплять свое подчиненное место в альянсе с недемократической державой и становиться сырьевым придатком государства, которое само выступает в качестве сырьевого придатка западного мира. Поэтому (с точки зрения как США, так и России) я не вижу ничего положительного в формировании нового биполярного мира, центрами которого окажутся Вашингтон и Пекин.
В этот мир вернется Realpolitik самого примитивного толка, а союзники обеих сторон окажутся разменными монетами в их геополитических играх. В то же время появление Китая как нового, чуждого Западу центра экономической и политической мощи способно изменить мировую политику к лучшему и сделать мир XXI века более сплоченным и организованным.
НОВЫЙ ЗАПАД
В данном случае я имею в виду, что возвышение нового восточного гиганта может подтолкнуть западные страны к переосмыслению своего места и роли в мире, что представлялось бы крайне своевременным. В 2003 году французский политический аналитик Доминик Муази констатировал в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, что окончание холодной войны знаменовало переход от мира, в котором существовали «две Европы, но один Запад», к такому, где имеются «одна Европа и два Запада».
Пока идея о «конце истории» получала в 1990-х подтверждения своей состоятельности, конкуренция двух моделей западной цивилизации выглядела если не естественной, то допустимой. Однако ныне, после резкого падения политического, а теперь и экономического «авторитета» Соединенных Штатов, существование «двух Западов» является непозволительной роскошью в мире, где формируется «новый Восток», причем гораздо более «восточный» и гораздо более мощный, чем тот, что противостоял Западу в холодной войне.
Переосмысление природы западной цивилизации крайне важно сегодня не только потому, что связи между США и Евросоюзом нуждаются в укреплении, а позитивный опыт ЕС по вовлечению в орбиту стабильного демократического развития все новых и новых государств – в усвоении и развитии. Дело еще и в том, что в 1990–2000-х годах Запад – сознательно или вследствие ошибок в политических расчетах – оттолкнул от себя многие страны, являющиеся его естественной составной частью.
На протяжении 1990-х Америка и Европа не попытались интегрировать в свои политические, экономические и военные структуры Российскую Федерацию и большинство республик европейской части бывшего СССР, которые в начале того десятилетия были готовы приобщиться к западному миру.
К началу же 2000-х Россия оказалась почти потерянной для Запада, перейдя под контроль сторонников умеренного авторитаризма, государственной экономики и апологии неограниченного суверенитета. В 2000-х годах то же самое произошло в Латинской Америке, где недовольство Соединенными Штатами спровоцировало во второй половине десятилетия массовый успех демагогических националистических сил, прикрывающихся ультралевыми лозунгами.
Между тем и Россия, и страны Латинской Америки – общества, сформировавшиеся в их современном виде на западной культуре, чья позитивная идентификация складывалась и складывается в осознании своих частных отличий от иных версий европейской цивилизации. Не пытаться переломить в равной степени опасного как для Запада, так и для самой России ее постепенного дрейфа в сторону Китая – величайшая ошибка, которую может сегодня совершить западный мир. Действие из того же ряда – молча и с видимым безразличием взирать на усиление экономических позиций Китая в Латинской Америке.
Сегодня возвышение Пекина порождает надежду на то, что Запад способен сформулировать более ответственную геополитическую «повестку дня» для первой половины XXI века. Не создавая глобального антикитайского альянса, Соединенные Штаты и Европейский союз могли бы попытаться расширить границы западного мира, пока его потенциал и выгоды от сотрудничества с ним выступают, несомненно, притягательным фактором для правительств и народов стран, в той или иной степени обращенных к Западу.
Для реализации такой стратегии необходимы нетрадиционные решения и радикальные действия. НАТО как американо-европейский военный альянс могла бы быть преобразована в ПАТО (Pan-Atlantic Treaty Organization), к участию в которой следовало бы пригласить Россию, Украину, Мексику, Бразилию и Аргентину, заявив об открытости организации для всех стран Восточной Европы и Латинской Америки. США, ЕС, Россия, Мексика, Бразилия и Аргентина могли бы стать основателями новой экономической организации, повторяющей в своих основных чертах экономическую структуру Европейского союза и способствующую не только распространению свободной торговли, но и введению единых правил в сфере защиты инвестиций, развитию конкуренции, расширению зоны действий единых стандартов, общих правил регулирования трудового и социального законодательства.
Важнейшей задачей этих мер была бы интеграция Соединенных Штатов – в военном отношении самой мощной, но экономически и гео-политически все менее предсказуемой державы мира – в рамки ассоциации, которая смогла бы стать «центром притяжения» для всего остального человечества.
«Расширенный Запад» мог бы стать таким субъектом мировой экономики и политики, какого мир никогда не знал. Простой подсчет показывает, что его суммарное население составило бы 1,65 млрд человек, доля в глобальном валовом продукте – от 68 до 71 %, в мировой торговле – около 76 %, а в экспорте капитала – более 80 %. На страны блока пришлось бы почти 35 % личного состава вооруженных сил, 78 % затрат на военные цели и свыше 94 % существующих в мире ядерных вооружений.
Превосходство «расширенного Запада» в технологической и инновационной сферах вообще не требует комментариев. И что особенно важно, с учетом людских и природных ресурсов России и Латинской Америки «расширенный Запад» стал бы в этих отношениях совершенно самодостаточным экономическим блоком, независимым от импорта труда, полезных ископаемых и энергоресурсов из-за пределов собственных границ. Только в рамках этого объединения, простирающегося от Анадыря до Гавайев, от Бергена до Огненной Земли, Европа, Соединенные Штаты и Россия смогли бы ощущать себя в безопасности и пользоваться всеми благами свободного перемещения товаров, капитала и людей по половине обитаемой поверхности земной суши.
Подобный альянс был бы выгоден для всех его участников.
Во-первых, он вдохнул бы новую жизнь в прежнее североатлантическое единство, которое может быть подорвано постепенным финансово-экономическим упадком США даже в большей степени, чем их ближневосточными авантюрами.
Во-вторых, он задал бы четкий вектор развития России, у которой объктивно сегодня нет возможностей самостоятельно осуществить модернизацию экономики и стать державой, хотя бы относительно сравнимой с Китаем по хозяйственной мощи.
В-третьих, он позволил бы интегрировать быстро развивающийся латиноамериканский континент в орбиту западного мира, поскольку формальная «вестернизация» и так находящихся в орбите влияния Запада Мексики, Бразилии и Аргентины позволила бы существенно изменить баланс сил в Латинской Америке и в конечном счете привела бы к падению популистских режимов от Венесуэлы до Боливии. По сути, он создал бы евроцентричную и европейскую по духу структуру, позволяющую, перефразируя сформулированную после Второй мировой войны задачу НАТО, to keep America in, and China out (держать Америку внутри, а Китай вовне).
Разумеется, нельзя не отдавать себе отчета в том, что важнейшим возражением против подобной схемы (за исключением сложностей ее практической реализации) станет тезис о том, что появление такого рода структуры будет воспринято Китаем как возведение вокруг него «санитарного кордона». Пекин и так чувствителен к стремлению Запада, пока уступающего Китаю в экономическом соревновании (пусть и ведущемся далеко не всегда честными методами с обеих сторон), застопорить возвращение Поднебесной на ее «естественное» место в мировой экономике и политике.
В результате подобная политика может породить больше опасностей и угроз, чем преодолеть. Такая возможность реально существует, и не нужно сбрасывать ее со счетов. Однако намного правильнее заранее осознавать опасность и не допускать создания ситуации, в которой она окажется очевидной и непосредственной, чем тешить себя идеями «умиротворения», никогда еще в истории не зарекомендовывавшими себя с лучшей стороны.
Следует еще раз подчеркнуть, что воссоединение Запада вряд ли превратится в антикитайский альянс прежде всего потому, что ни один из его участников не будет заинтересован в военном противостоянии с Китаем (а если кто-то и попытается пойти в этом направлении, он будет удержан остальными участниками сообщества). Кроме того, объединение столь разнообразных стран потребует переосмысления тех ценностей и принципов, которые сейчас считаются «западными», и тем самым неизбежно снизит накал критики, которой сейчас подвергается Китай за свой «недостаточный либерализм». И, наконец, за исключением России членами нового объединения не станут страны, которых Китай рассматривает либо как свои потенциальные «зоны влияния» (государства Центральной Азии), либо как «потенциальных соперников» (Индия и Япония).
Хотя экономически КНР выступает сегодня как один из основных игроков на международной арене, в военно-политическом аспекте она остается мощной региональной державой, выстраивающей свою политику исходя из оценки отношений с Японией, Индией, Россией, Пакистаном, Мьянмой и странами Юго-Восточной Азии. Сегодня многие эксперты признают, что Азия (в том числе и из-за возвышения Китая) является потенциально самым конфликтным регионом мира. Формирование сообщества, которое станет, несомненно, самым мощным в военно-политическом отношении игроком в мире, способно существенно снизить угрозы кризисов, порождаемых стремлением отдельных стран стать равнозначным геополитическим актором, – просто потому, что подобная задача окажется заведомо нереализуемой.
***
Рассуждения об «упадке» Запада занимают умы философов уже несколько столетий, но только на рубеже XX и XXI веков они начали получать явные подтверждения. Впервые с XVII столетия (а если рассматривать мир как единое целое, то вообще впервые) центр экономической мощи смещается из Северной Атлантики в Азию, причем в условиях продолжающейся глобализации. Также впервые внутренне рациональные идеологии, сформировавшиеся в рамках западной цивилизации, больше не управляют миром. Более того, рационализм, как таковой, переживает кризис, на его фоне все большую популярность и влияние приобретают религиозные верования, абсолютизирующие деление человечества на группы и цивилизации, эксплуатирующие для своей экспансии эмоции и предрассудки.
По мере таких перемен мир становится во всевозрастающей степени неуправляемым, радикально отличаясь от тех времен, когда европейцы без особых усилий контролировали в политическом и военном отношениях бЧльшую часть земной поверхности. Созданные в ХХ веке международные союзы и организации оказываются неспособны поддерживать даже иллюзию порядка, ради упрочения которого они были созданы. Повышение степени разнообразия культурных и политических традиций постепенно выхолащивает саму идею прогресса в его европейском понимании, заменяя ее принципом «все дозволено», что, на мой взгляд, в перспективе может оказаться крайне опасным.
Переломить эту тенденцию традиционный североатлантический Запад не в силах. Рассуждения о том, что XXI век будет таким же «американским», как и ХХ век, не выглядят убедительными, как и любые «линейные» прогнозы в эпоху перемен. Наступившее столетие не будет ни «американским», ни «североатлантическим», но в том, чтобы оно стало «азиатским» и тем более «китайским», не заинтересованы ни американцы, ни европейцы, ни россияне. Сегодня всем им, как никогда прежде, стоит объединиться – не для того, чтобы создать враждебный кому-либо военный или политический альянс, а для того, чтобы, осознав на фоне «подлинно иного» общность своих культурных и исторических корней, попытаться сделать мир лучше. И если эта попытка увенчается успехом, нынешний финансово-экономический кризис не возвестит упадок Запада, а станет поворотным пунктом на пути к восстановлению его исторической роли.

Как развитие ведет к демократии
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2009
Кристиан Вельцель – профессор политологии Бременского университета им. Якобса (ФРГ). Роналд Ингелхарт – профессор политологии Мичиганского университета, директор проекта World Values Survey («Всемирный опрос о ценностях»). Они – соавторы книги Modernization, Cultural Change, and Democracy («Модернизация, культурные изменения и демократия»). © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Демократические институты возникают только тогда, когда для этого складываются определенные социальные и культурные условия. Экономическое развитие и модернизация содействуют возникновению таких условий, повышая вероятность укрепления демократии.
В последнее время демократический бум сменился демократическим спадом. С 1985 по 1995 год множество стран совершили переход к демократии, что вызвало повсеместную эйфорию. Но впоследствии демократия сдала позиции в Бангладеш, Нигерии, на Филиппинах, в России, Таиланде и Венесуэле, а попытки администрации Джорджа Буша установить демократию в Афганистане и Ираке, по всей вероятности, ввергли обе страны в хаос. Эти события, наряду с растущей мощью Китая и России, подтолкнули многих наблюдателей к выводам, что демократия достигла высшей точки и ее подъем завершился.
Это – ошибочное заключение. Основополагающие условия во многих странах мира указывают на более сложные обстоятельства. Нереалистично полагать, что демократические институты можно без труда ввести почти везде и в любое время. Хотя перспективы никогда не бывают безнадежными, с наибольшей вероятностью демократия возникает и выживает при наличии определенных социальных и культурных условий. Администрация Буша проигнорировала эти реалии, когда попыталась внедрить демократию в Ираке, не укрепив предварительно внутреннюю безопасность и упустив из виду культурные условия, которые поставили эту попытку под угрозу.
Однако обстоятельства, ведущие к демократии, могут возникнуть и возникают, а многочисленные эмпирические данные свидетельствуют о том, что этому способствует процесс модернизации. Модернизация – совокупность социальных перемен, связанных с индустриализацией. Вступив в действие, она стремится проникнуть во все сферы жизни, неся с собой профессиональную специализацию, урбанизацию, повышение уровня образования, увеличение средней продолжительности жизни и быстрый экономический рост. Все это создает самоусиливающийся процесс, сопровождаемый подъемом массового участия в политике и – в долгосрочной перспективе – повышает степень вероятности установления демократических политических институтов. Сегодня мы имеем, как никогда, четкое представление о том, почему и как происходит процесс демократизации.
Долгосрочная тенденция к возникновению демократии всегда проявлялась в подъемах и спадах. В начале ХХ столетия существовала лишь горстка демократических стран, и даже они не соответствовали сегодняшним стандартам демократии. Число демократических государств резко возросло после Первой мировой войны, следующий пик наступил после Второй мировой, а третий – в конце холодной войны. За каждым из этих подъемов следовал спад, хотя число демократических стран никогда не опускалось до первоначального уровня. К началу XXI века около 90 государств можно было считать демократическими.
Хотя многие из этих демократий несовершенны, общая тенденция крайне убедительна: в долгосрочной перспективе модернизация ведет к демократии. Это значит, что экономический взлет Китая и России имеет положительный аспект: происходят сопутствующие перемены, которые повышают вероятность появления в будущем все более либеральных и демократических политических систем. Еще это значит, что нет причины для паники в связи с тем, что в настоящее время демократия, по-видимому, вынуждена перейти к обороне. Динамика модернизации и демократизации проявляется все отчетливее, и вполне вероятно, что она продолжит функционировать.
ВЕЛИКИЙ СПОР
Концепция модернизации имеет долгую историю. В XIX и ХХ веках марксистская теория модернизации провозглашала, что отмена частной собственности положит конец эксплуатации, неравенству и конфликтам. Согласно противостоявшей ей капиталистической версии, утверждалось, что экономическое развитие приведет к росту уровня жизни и к демократии. Эти два представления о модернизации яростно соперничали друг с другом на протяжении большего периода холодной войны. К 1970-м, однако, коммунизм начал переживать застой, а во многих бедных странах не наблюдалось ни экономического развития, ни демократизации. Казалось, что ни та, ни другая точки зрения не подтвердилась, и критики объявили о смерти теории модернизации.
Однако после окончания холодной войны концепция модернизации обрела вторую жизнь и возникла новая версия теории с ясным пониманием того, куда должно привести глобальное экономическое развитие. Освободившись от предшествующих упрощений, новая теория модернизации проливает свет на текущие культурные перемены, такие, например, как утверждение гендерного равенства, недавняя волна демократизации и видение демократического мира.
На протяжении большей части истории технологический прогресс протекал крайне медленно, а новые способы увеличения производства продуктов питания сводились на нет ростом населения. Аграрные экономики зажимались в капкан стационарного равновесия без повышения уровня жизни. Историю считали либо цикличной, либо постепенно приходящей в упадок после золотого века. Ситуация начала меняться после промышленной революции и наступления устойчивого экономического роста, что привело к появлению как капиталистического, так и коммунистического представлений о модернизации. Хотя эти идеологии яростно между собой, обе они опирались на экономический рост и общественный прогресс и привели народные массы в политику. Причем каждая из сторон верила, что развивающиеся страны Третьего мира выберут ее путь модернизации.
В разгар холодной войны в Соединенных Штатах возникла версия теории модернизации, которая описывала экономическую отсталость как прямое следствие психологических и культурных характеристик нации. Утверждалось, что такая отсталость отражает традиционные религиозные и общинные ценности, которые не поощряют достижений. Богатые демократии Запада, гласила теория, могли бы внедрить современные ценности и содействовать «недоразвитым» странам в том, чтобы идти по пути прогресса, оказывая им экономическую, культурную и военную помощь. К 1970-м годам, однако, стало ясно, что помощь не принесла народам этих стран ни процветания, ни демократии. Доверие к данной версии теории модернизации, которую всё настойчивее критиковали за этноцентризм и высокомерие, было подорвано.
Ее атаковали последователи теории зависимости, утверждавшие, что торговля с богатыми странами эксплуатирует бедные государства, замыкая их в положении структурной зависимости. Элиты в развивающихся странах приветствовали такой взгляд, поскольку из него следовало, что нищета не связана с внутренними проблемами или коррупцией местных лидеров, а во всем виноват мировой капитализм. К 1980-м теория зависимости стала крайне модной. Согласно ее аргументам, страны Третьего мира могли спастись от глобальной эксплуатации, только уйдя с международных рынков и приняв политику импортозамещения.
Позднее стало понятно, что стратегия импортозамещения провалилась: наименее вовлеченные в мировую торговлю страны – в частности, Бирма, Куба и Северная Корея – не стали наиболее успешными, так как в действительности они прогрессировали меньше всех. Стратегии, ориентированные на экспорт, куда больше содействовали устойчивому экономическому росту и в конечном счете демократизации. Маятник качнулся назад, и доверие начала внушать новая теория модернизации. Стремительный экономический рост Восточной Азии и последовавшая за этим демократизация Южной Кореи и Тайваня, казалось, подтверждали ее основные постулаты: производство для мировых рынков стимулирует рост экономик; инвестирование прибыли в человеческий капитал и повышение квалификации рабочей силы для производства высокотехнологичных товаров приносят более высокую прибыль и расширяют образованный средний класс; после того как средний класс становится достаточно многочисленным и способным четко выражать свои мысли, он начинает настаивать на либеральной демократии – наиболее эффективной политической системе для передовых индустриальных обществ.
Тем не менее даже сегодня, если упомянуть модернизацию на конференции по экономическому развитию, в ответ, скорее всего, можно услышать повторение критики в духе теории зависимости, в которой речь шла об «отсталых странах», как будто других аспектов модернизации не существует и как будто с 1970-х годов мы не получали новых данных.
НОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Если оглянуться назад, станет очевидна ошибочность ранних версий теории модернизации в нескольких пунктах. Сегодня практически никто не ждет пролетарской революции, которая отменит частную собственность, возвещая новую эру без эксплуатации и конфликтов. Никто не ждет и того, что индустриализация автоматически приведет к установлению демократических институтов, – коммунизм и фашизм тоже были порождением индустриализации. И все-таки большой массив данных указывает на то, что основная предпосылка теории модернизации была верной: экономическое развитие действительно ведет, как правило, к важным и в целом предсказуемым переменам в обществе, культуре и политике. Но в более ранние версии теории модернизации необходимо внести ряд поправок.
Во-первых, модернизация не линейна. Она не движется бесконечно в одном и том же направлении, а вместо этого процесс достигает переломных точек. Эмпирические данные показывают, что каждая фаза модернизации связана с особыми изменениями в мировоззрении людей. Индустриализация ведет к единому масштабному процессу перемен, результатом которого становятся бюрократизация, иерархия, централизация власти, секуляризация и сдвиг от традиционных ценностей к ценностям светским и рациональным. Постиндустриальное общество приносит набор культурных перемен, которые движутся в ином направлении: вместо бюрократизации и централизации новая тенденция направлена на то, чтобы усилить акцент на автономности индивида и ценностях самовыражения, что ведет к растущей эмансипации от власти.
Таким образом, при прочих равных условиях высокий уровень экономического развития обычно делает людей более терпимыми и доверчивыми, повышает стремление к самовыражению и участию в принятии решений. Этот процесс не является предопределенным, и любой прогноз может быть только вероятностным, поскольку на него влияют не только экономические факторы. Лидеры той или иной страны и ее внутренние события тоже формируют происходящее. Более того, модернизация не является необратимой. Ее может повернуть вспять тяжелый экономический спад, как случилось во времена Великой депрессии в Германии, Испании, Италии и Японии, а в 1990-х – в большинстве бывших советских республик. Если текущий экономический кризис превратится в Великую депрессию XXI столетия, мир может столкнуться с новой борьбой против возродившихся ксенофобии и авторитарности.
Во-вторых, социальные и культурные перемены зависят от пути, пройденного страной: история имеет значение. Хотя экономическое развитие обычно и приносит предсказуемые перемены в мировоззрении людей, историческое наследие общества, сформированное протестантизмом, католицизмом, исламом, конфуцианством или коммунизмом, оставляет продолжительный отпечаток на его мировоззрении. Система ценностей отражает взаимодействие между движущими силами модернизации и стойким влиянием традиции. Классики теории модернизации как на Востоке, так и на Западе думали, что религия и этические традиции отомрут, однако эти категории доказали свою высокую сопротивляемость. Хотя жители стран, вставших на путь индустриализации, становятся богаче и образованнее, это отнюдь не ведет к появлению единообразной мировой культуры. Культурное наследие удивительно долговечно.
В-третьих, модернизация – это не вестернизация, вопреки более ранней, этноцентрической, версии теории. Процесс индустриализации начался на Западе, но в течение последних нескольких десятилетий самые высокие темпы экономического роста наблюдались в Восточной Азии, а Япония занимает первое место в мире по средней продолжительности жизни и по ряду других аспектов модернизации. Соединенные Штаты не являются образцом для глобальных культурных перемен, а индустриализующиеся общества в целом не становятся похожими на США, как предполагает популярная версия теории модернизации. На самом деле американское общество сохраняет больше традиционных ценностей, чем многие другие страны с высоким уровнем доходов.
В-четвертых, модернизация не ведет к демократии автоматически. Скорее она приносит социальные и культурные изменения, которые повышают степень вероятности демократизации. Простое достижение высокого уровня ВВП на душу населения не создает демократию: в противном случае Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты превратились бы в образцовые демократии. (Эти страны не прошли описанный выше процесс модернизации.) Но возникновение постиндустриального общества сопровождается определенными социальными и культурными переменами, которые способствуют демократизации. Информационные общества не могут эффективно функционировать без высокообразованного населения, которое все больше привыкает думать самостоятельно. Более того, повышение уровня экономической безопасности переносит акцент на ценности самовыражения, ставя в число основных приоритетов свободу выбора и мотивируя политическую активность. Соответственно после определенного момента довольно трудно избежать демократизации, потому что подавление массового требования более открытого общества становится дорогостоящим и пагубным для экономической эффективности. Таким образом, на продвинутых стадиях модернизация связана с социальными и культурными переменами, которые способствуют повышению степени вероятности появления и расцвета демократических институтов.
Центральной идеей теории модернизации является то, что экономическое и технологическое развитие порождает комплекс взаимосвязанных социальных, культурных и политических изменений. Это подтверждается большим объемом эмпирических данных. Экономическое развитие действительно связано с повсеместными сдвигами в убеждениях и мотивации людей, а эти сдвиги в свою очередь изменяют роль религии, трудовую мотивацию, уровень рождаемости, гендерные роли и сексуальные нормы. А еще они вызывают растущий массовый спрос на демократические институты и куда более отзывчивую реакцию со стороны элит. Совокупность этих перемен делает возникновение демократии все более вероятным, а войну – менее приемлемой для населения.
ОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Новые эмпирические данные позволяют лучше понять, как модернизация меняет мировоззрение и мотивацию. Одним из важных источников служат глобальные опросы о массовых ценностях и отношении к различным проблемам. С 1981 по 2007 год «Всемирный опрос о ценностях» (World Values Survey) и «Исследование европейских ценностей» (European Values Study) провели пять циклов репрезентативных общенациональных опросов во многих странах, охватив почти 90 % населения мира. (С данными опросов можно ознакомиться на сайте www.worldvaluessurvey.org.)
Результаты обнаруживают значительные кросснациональные различия в том, во что люди верят и что ценят. В некоторых государствах 95 % опрошенных утверждают, что Бог очень важен в их жизни; в других странах таких только 3 %. В одних обществах 90 % респондентов убеждены, что мужчины имеют больше прав на рабочее место, чем женщины; в других так считают только 8 %. Эти кросснациональные различия прочны и долговечны, и они тесно коррелируют с уровнем экономического развития. Население стран с низким доходом намного чаще делает акцент на религию и традиционные гендерные роли, чем жители процветающих стран.
Эти опросы о ценностях демонстрируют, что мировоззрение представителей богатых обществ системно отличается от мировоззрения жителей бедных стран, относительно широкого диапазона политических, социальных и религиозных норм. Различия касаются двух фундаментальных аспектов: противопоставления традиционных ценностей секулярно-рациональным и ценностей выживания ценностям самовыражения. (Каждый аспект отражает ответы на множество вопросов, задававшихся в ходе опроса.) Сдвиг от традиционных к секулярно-рациональным ценностям связан с переходом от аграрного общества к индустриальному. Традиционные общества делают упор на религии, на уважении и повиновении властям и на национальной гордости. Эти характеристики меняются по мере того, как общества становятся более секулярными и рациональными.
Переход от ценностей выживания к ценностям самовыражения связан с появлением постиндустриальных обществ. Он отражает культурный сдвиг, который происходит, когда появляются молодые поколения, считающие выживание само собой разумеющимся. Ценности выживания отдают приоритет экономической и физической безопасности и конформистским социальным нормам. Ценности самовыражения отдают приоритет свободе выражения, участию в принятии решений, защите политических прав, охране окружающей среды, гендерному равенству, терпимости к этническим меньшинствам, иностранцам и сексуальным меньшинствам. Все это порождает культуру доверия и терпимости, в которой люди дорожат личной свободой и самовыражением и ориентированы на активное участие в политике. Эти свойства жизненно необходимы для демократии – они же и объясняют, как экономический рост, ведущий к переходу от аграрных обществ к индустриальным, а впоследствии от индустриальных к постиндустриальным обществам, приводит к демократизации.
Беспрецедентный экономический рост в последние 50 лет означает, что бЧльшая часть мирового населения выросла в условиях гарантированного выживания. Данные временнЧго ряда, полученные при опросах о ценностях, указывают на то, что массовые приоритеты сдвинулись с повсеместного акцента на экономической и физической безопасности в сторону субъективного благополучия, самовыражения, участия в принятии решений и относительно доверительных и толерантных взглядов.
Оба измерения тесно связаны с экономическим развитием: системы ценностей в странах с высоким уровнем дохода резко отличаются от этих систем в странах с низким уровнем. Все государства, которые имеют высокий уровень дохода по методике Всемирного банка, отличаются относительно высокими показателями по обоим направлениям – с ярко выраженным упором и на секулярно-рациональных ценностях, и на ценностях самовыражения. Все страны с низким и средненизким уровнями дохода по обоим аспектам отличаются относительно невысокими показателями. Страны со средневысоким уровнем дохода располагаются где-то посередине. Ценности и убеждения каждого общества в примечательной степени отражают уровень его экономического развития, как и предсказывает теория модернизации.
Эта прочная связь между системой ценностей общества и ВВП на душу населения заставляет предположить, что экономическое развитие обычно порождает более или менее предсказуемые изменения в убеждениях и ценностях общества, и эту гипотезу подтверждают имеющиеся данные временнЧго ряда. При сравнении позиций отдельных государств в последовательных волнах опроса о ценностях обнаруживается, что почти всем странам, переживающим подъем ВВП на душу населения, свойствен и предсказуемый сдвиг в системе ценностей.
Вместе с тем результаты опросов показывают также, что культурные перемены зависят от предшествующего пути: культурное наследие того или иного общества формирует его место на культурной карте мира. На этой карте отражены отличные друг от друга группы государств: протестантская Европа, католическая Европа, бывшая коммунистическая Европа, англоговорящие страны, Латинская Америка, Южная Азия, исламский мир и Африка. Ценности, на которые ориентируются различные общества, складываются в удивительно связную схему, которая отражает и экономическое развитие, и религиозное и колониальное наследие. Тем не менее, даже если культурное наследие продолжает формировать превалирующие ценности, экономическое развитие несет с собой перемены, которые ведут к важным последствиям. Со временем оно преобразует самые разные убеждения и ценности, а также формирует растущий массовый спрос на демократические институты и куда более отзывчивую реакцию со стороны элит. И за более чем четверть века, в течение которых велись опросы о ценностях, люди в большинстве стран всё больше подчеркивали ценности самовыражения. Этот культурный сдвиг значительно увеличивает вероятность возникновения демократии там, где ее пока нет, равно как и вероятность повышения ее эффективности и полноты там, где она уже есть.
РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАТИЯ
Пятьдесят лет назад социолог Мартин Липсет отметил, что богатые страны с гораздо большей степенью вероятности становятся демократическими, чем бедные. Хотя это утверждение долгие годы оспаривалось, оно выдержало неоднократные проверки. Сомнению подвергалось и направление причинно-следственной связи – богатая страна является демократией, выше потому, что демократия делает страну богатой, или развитие ведет к демократии?
Сегодня представляется очевидным, что движение происходит в основном в направлении от экономического развития к демократизации. На раннем этапе индустриализации авторитарные государства способны добиться высоких темпов роста с той же степенью вероятности, что и демократические. Но после определенного уровня экономического развития повышается также степень вероятности появления и выживания демократии. Так, из целого ряда государств, демократизировавшихся около 1990-го, большинство относилось к странам со средним доходом: почти все государства с высоким доходом уже являлись демократиями, и немногие страны с низким доходом тоже совершили этот переход. Более того, среди государств, которые демократизировались в период с 1970 по 1990 год, демократия выжила во всех странах, находившихся на экономическом уровне сегодняшней Аргентины или выше. Среди стран, стоявших ниже этого уровня, средняя продолжительность жизни демократии составляла всего восемь лет.
Явная корреляция между развитием и демократией отражает тот факт, что экономические успехи содействуют появлению демократии. По вопросу о том, почему, собственно, развитие способствует демократии, велись интенсивные споры, но уже появляется ответ. Якобы благодаря некоей бестелесной силе демократические институты автоматически появляются, когда страна достигает определенного уровня ВВП. Скорее экономическое развитие влечет за собой социальные и политические перемены, только когда оно меняет поведение людей. Следовательно, экономическое развитие ведет к демократии в той степени, в какой оно, во-первых, создает многочисленный, образованный и четко выражающий свои мысли средний класс, состоящий из людей, привыкших думать самостоятельно, и, во-вторых, преобразует ценности и мотивы людей.
В настоящее время появилась возможность установить, в чем состоят ключевые перемены и насколько они продвинулись в той или иной стране. Анализ опросов о ценностях позволяет классифицировать факторы воздействия на социальные и культурные перемены, а его результаты позволяют заключить, что экономическое развитие ведет к демократии постольку, поскольку оно приносит с собой конкретные структурные изменения (в особенности подъем информационного сектора) и определенные культурные изменения (в особенности подъем ценностей самовыражения). Войны, депрессии, институциональные изменения, решения элит и конкретные лидеры тоже влияют на происходящее, но структурные и культурные перемены являются главным фактором появления и выживания демократии.
Модернизация способствует подъему уровня образования, создавая профессии, требующие независимого мышления, и делая людей более способными выражать свои мысли и лучше оснащенными для вмешательства в политику. По мере возникновения информационных обществ люди привыкают полагаться на собственную инициативу и суждения на работе и становятся более склонными подвергать сомнению жесткую и иерархичную власть.
Модернизация также делает людей более защищенными экономически. Ценности самовыражения распространяются все шире, когда большая доля населения вырастает с уверенностью, что ее выживание гарантировано. Желание свободы и автономии – это универсальные стремления. Когда выживание не гарантировано, они могут быть подчинены потребности в пропитании и порядке, но они поднимаются все выше в списке приоритетов по мере того, как выживание становится более обеспеченным. Основная мотивация для демократии – желание человека иметь свободу выбора – начинает играть более важную роль. Люди все больше и больше акцентируют свободу выбора в политике и требуют гражданских и политических прав, а также демократических институтов.
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
С 1985 по 1995 год выборная демократия быстро распространилась по миру. В этом процессе важную роль сыграли стратегические договоренности элит, которым содействовала международная обстановка, когда окончание холодной войны открыло путь для демократизации. Изначально было принято считать демократией любой режим, проводивший свободные и справедливые выборы. Но многие новые демократии страдали от массовой коррупции и не смогли установить правовое государство, а именно это делает демократию эффективной. Поэтому все больше наблюдателей сегодня подчеркивают неадекватность «выборной демократии», «гибридной демократии», «авторитарной демократии», иных форм мнимой демократии, в которой предпочтения масс могут в основном игнорируются политическими элитами и в которых народ не может оказывать определяющее влияние на решения правительства. Соответственно важно отличать эффективную демократию от неэффективной.
Суть демократии состоит в том, что она дает власть и возможности рядовым гражданам. Эффективность либо неэффективность демократии определяется не тем, какие гражданские и политические права существуют на бумаге, а тем, как чиновники на самом деле соблюдают эти права. Первый из этих двух компонентов – существование прав на бумаге – измеряется ежегодным рейтингом Freedom House: если страна проводит свободные выборы, Freedom House обычно присваивает ей статус «свободной» и начисляет баллы, помещающие ее на верхние строчки рейтинга или рядом с ними. Таким образом, новые демократии Восточной Европы получают такой же высокий рейтинг, как и устоявшиеся демократии Западной Европы, хотя углубленный анализ показывает, что широкое распространение коррупции делает эти демократии куда менее эффективными в реагировании на предпочтения граждан. К счастью, рейтинг качества государственного управления Всемирного банка измеряет степень реальной эффективности демократических институтов. Следовательно, примерный индекс эффективной демократии можно получить, умножив эти два рейтинга – формальной демократии по измерениям Freedom House и рейтинг порядочности элит и институтов, устанавливаемый Всемирным банком.
Эффективная демократия – это гораздо более строгий стандарт, чем выборная демократия. Выборную демократию можно установить практически где угодно, но она, скорее всего, долго не продержится, если не передаст власть от элит народу. Эффективная демократия с наибольшей вероятностью будет существовать при наличии относительно развитой инфраструктуры, которая включает в себя не только экономические ресурсы, но и широко распространенную привычку к участию в политическом процессе, а также акцент на автономии. Соответственно она тесно связана с тем, в какой степени население заинтересовано в ценностях самовыражения. И действительно, корреляция между ценностями общества и природой политических институтов страны необыкновенно велика.
Буквально все стабильные демократии демонстрируют высокие ценности самовыражения. У большинства латиноамериканских государств результаты оказались ниже ожидаемых: это свидетельствует о более низком уровне эффективной демократии, чем можно было предсказать исходя из ценностей, которым отдают предпочтение жители данных стран. Можно предположить, что такие общества в состоянии поддерживать более высокий уровень демократии, если укрепить там правовое государство. Результаты Ирана тоже ниже ожидаемых: это теократический режим, который допускает куда более низкий уровень демократии, чем тот, к которому стремится народ. Как ни удивительно для тех, кто концентрируется на политике только на уровне элит, жители Ирана демонстрируют относительно высокую степень поддержки демократии. Напротив, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Польша и Эстония показывают результаты выше ожидаемых, уровень демократии там выше, чем можно было бы предсказать исходя из ценностей, предпочитаемых жителями данных стран, – возможно, это отражает стимулы к демократизации, связанные с членством в Европейском союзе.
Но ведут ли ценности самовыражения к демократии, или же демократия служит причиной появления ценностей самовыражения? Результаты иследований указывают на то, что именно ценности приводят к демократии. (Полностью с данными, подкрепляющими это утверждение, можно ознакомиться в нашей книге «Модернизация, культурные перемены и демократия».) Для того чтобы появились ценности самовыражения, нет необходимости в уже существующих демократических институтах.
Данные временныЂх рядов, полученные при опросах о ценностях, указывают на то, что в период, предшествовавший волне демократизации в конце 1980-х и начале 1990-х годов, ценности самовыражения уже возникли в процессе поколенческой смены ценностей – не только в западных демократиях, но также и во многих авторитарных обществах. К 1990-м народы Восточной Германии и Чехословакии, жившие при двух из наиболее авторитарных режимов в мире, высоко подняли планку ценностей самовыражения. Важнейшим фактором была не политическая система, а тот факт, что эти страны относились к числу наиболее экономически развитых в коммунистическом мире, с высоким уровнем образования и передовой системой социального обеспечения. Таким образом, когда лидер Советского Союза Михаил Горбачёв отказался от доктрины Брежнева, устранив угрозу советского военного вмешательства, эти государства сразу же вступили на путь демократии.
В последние десятилетия ценности самовыражения распространялись и укреплялись, повышая вероятность прямого вмешательства народа в политику. (Действительно, беспрецедентное число людей принимало участие в демонстрациях, которые содействовали появлению последней волны демократизации.) Значит ли это, что авторитарные системы неминуемо рухнут? Нет. Акцентирование на ценностях самовыражения обычно подрывает легитимность авторитарных систем, но пока авторитарные элиты контролируют армию и тайную полицию, они способны подавлять продемократические силы. И все-таки даже для репрессивных режимов сдерживание подобного рода тенденций обходится дорого, ибо обычно это препятствует появлению эффективных информационных секторов.
СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Такое новое понимание модернизации имеет немаловажные последствия для международных отношений.
В первую очередь оно помогает объяснить, почему передовые демократии не воюют друг с другом. Утверждение о невозможности вооруженного конфликта между ними восходит еще к Адаму Смиту и Иммануилу Канту, и недавние исследования обеспечивают солидную эмпирическую поддержку этого тезиса. После своего появления в начале XIX века либеральные демократии сражались в нескольких войнах, но практически никогда друг против друга. Эта новая версия теории модернизации указывает на то, что причиной феномена демократического мира являются скорее культурные ценности, связанные с модернизацией, чем демократия, как таковая.
В более ранние периоды истории демократии часто воевали друг с другом. Но превалировавшие в них нормы со временем эволюционировали, о чем свидетельствуют отмена рабства, постепенное распространение избирательных прав и движение к гендерному равенству практически во всех современных обществах. Еще одна культурная перемена, произошедшая в современных обществах, состоит в том, что война считается все более неприемлемой, а степень вероятности того, что люди будут выражать свои предпочтения и пытаться воздействовать на политику, повысилась. Данные проекта «Всемирный опрос о ценностях» показали, что жителям стран с высоким уровнем дохода присущ гораздо более низкий уровень ксенофобии, чем жителям стран с низким уровнем дохода, а граждане государств с высоким уровнем дохода в гораздо меньшей степени готовы сражаться за свою Родину, чем жители стран с низким уровнем дохода. Более того, экономически развитые демократии ведут себя по отношению друг к другу куда более мирно, чем бедные демократии, и гораздо меньше склонны развязать гражданскую войну, чем бедные демократии.
Для внешней политики США теория модернизации имеет как предостерегающие, так и ободряющие последствия. Предостерегающим уроком, конечно же, служит Ирак. Вопреки привлекательному мнению, что демократию можно без труда установить практически везде, теория модернизации утверждает, что демократия с гораздо большей степенью вероятности укоренится при определенных условиях. Ряд факторов, включая глубокие этнические противоречия, усугубленные режимом Саддама Хусейна, сделали нереалистичными ожидания того, что демократию в Ираке будет просто установить. А после поражения Саддама особенно серьезной ошибкой стала неспособность противодействовать снижению уровня физической безопасности.
Межличностное доверие и терпимость процветают, когда люди чувствуют себя в безопасности. Маловероятно, что демократия выживет в социуме, раздираемом недоверием и нетерпимостью, а Ирак сейчас отличается самым высоким уровнем ксенофобии из всех обществ, по которым имеются соответствующие данные. Наглядным показателем ксенофобии служит число людей, не желающих иметь соседями иностранцев. Средняя доля опрошенных из 80 стран, которые заявили об этом, составляет 15 %. Среди иракских курдов 51 % участников опроса тоже сказали, что не хотели бы соседствовать с иностранцами. 90 % иракских арабов-респондентов не хотели бы иметь соседей-иностранцев. Сообразно с этими условиями Ирак (вместе с Зимбабве и Пакистаном) демонстрирует очень низкие уровни как ценностей самовыражения, так и эффективной демократии.
Теория модернизации имеет для внешней политики Соединенных Штатов также и позитивные последствия. На основе большого количества данных она приводит к выводу, что экономическое развитие является фундаментальной движущей силой демократических перемен, то есть Вашингтон должен делать все что в его силах для поощрения развития. Если, например, он хочет добиться демократических перемен на Кубе, то изолировать ее контрпродуктивно. США должны снять эмбарго, содействовать экономическому развитию и поощрять социальное взаимодействие и другие внешние связи Кубы с остальным миром. Ни в чем нельзя быть уверенным, но эмпирические данные заставляют предполагать, что растущее там ощущение безопасности и акцент на ценностях самовыражения подорвут авторитарный режим.
Аналогичным образом тревожащее экономическое возрождение Китая влечет за собой долгосрочные позитивные последствия. Под видимой монолитной политической структурой возникает социальная инфраструктура демократизации. Китай сейчас приближается к тому же уровню массового внимания к ценностям самовыражения, достигнув которого такие страны, как Польша, Тайвань, Чили и Южная Корея совершили переход к демократии. И, как ни удивительно это может показаться тем исследователям, которые берут в расчет только политику на уровне элит, Иран тоже приблизился к этому порогу.
Пока Коммунистическая партия Китая и теократические лидеры Ирана контролируют армию и силы безопасности в своих странах, демократические институты на уровне государства не появятся. Но растущее давление масс в пользу либерализации уже начинает проявляться, и их подавление приведет к росту издержек с точки зрения экономической неэффективности и упадка морального духа общества. В целом рост благосостояния населения Ирана и Китая соответствует национальным интересам США.
В более широком смысле из теории модернизации следует, что Соединенные Штаты должны приветствовать и поощрять экономическое развитие во всем мире. Хотя экономическое развитие и требует сложной адаптации, но его долгосрочный эффект ведет к появлению более терпимых, менее ксенофобских и в конечном счете более демократических обществ.

Центральная арена XXI века
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2009
Роберт Каплан – национальный корреспондент журнала The Atlantic, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. Пишет книгу об Индийском океане. Недавно его пригласили читать лекции по национальной безопасности в Академии Военно-морских сил США. Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 2 (март – апрель) за 2009 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Уже сегодня основные торговые и энергетические потоки следуют морскими путями. Когда Индия и Китай вступят в эпоху великодержавного соперничества в водах Индийского океана, значение этого пространства еще больше возрастет.
Правильно составленная карта либо план действий могут сделать стратегов более предусмотрительными, предлагая широкий взгляд на важные тенденции в мировой политике. Чтобы понять XX век, необходимо понимание европейской карты. Хотя технологические достижения и экономическая интеграция стимулируют глобальное мышление, некоторые места на глобусе по-прежнему значат больше, чем другие. А в отдельных странах, таких, например, как Ирак и Пакистан с их искусственно созданными границами, политика все еще отдана на милость географии. Так в каком же месте земного шара можно наилучшим образом увидеть будущее?
В силу своего географического положения американцы уделяют главное внимание Атлантическому и Тихому океанам. Это миропредставление сформировалось в годы Второй мировой и холодной войн. На оба океана были устремлены взоры нацистской Германии, империалистической Японии, Советского Союза и коммунистического Китая. Это отражено даже в условных картографических обозначениях. В проекции Меркатора Западное полушарие помещается в центре карты, а Индийский океан разделен на две части и изображен по краям карты мира. Однако, как следует из пиратских рейдов в прибрежных водах Сомали и той резни, которую террористы устроили в Мумбаи прошлой осенью, Индийский океан, третье по площади водное пространство планеты, становится центральной ареной вызовов, на которые человечеству предстоит дать ответ в XXI столетии.
Регион Индийского океана охватывает все страны «мусульманской дуги» (или «полумесяца») – от пустыни Сахара до Малайского архипелага. Хотя арабы и персы известны жителям Запада главным образом как люди пустыни, они были и великими мореплавателями. Странствуя в Средние века из Аравии в Китай, они на всем пути следования проповедовали свою веру. Сегодня на западном побережье Индийского океана расположены такие «взрывоопасные» государства, как Иран, Йемен, Пакистан и Сомали. Они находятся в непосредственной близости от важных торговых путей и представляют собой центральное ядро сети мирового терроризма, пиратства и наркоторговли. Сотни миллионов мусульман, принявших ислам в Средние века, проживают на восточном побережье Индийского океана в таких странах, как Бангладеш и Индия, Индонезия и Малайзия.
Господствующее положение в Индийском океане занимают два огромных водных пространства – Аравийское море и Бенгальский залив, на северном побережье которого расположены две самые нестабильные страны мира – Пакистан и Мьянма (известна также как Бирма). Распад государственности или смена режима в Пакистане окажут влияние на соседние страны. Это подтолкнет сепаратистов белуджи и синдхов искать более тесные связи с Индией и Ираном. Точно так же крах хунты в Мьянме, где уже брезжит соперничество между Индией и Китаем за доступ к энергетическим и прочим ресурсам, угрожает соседним экономикам и требует массированной гуманитарной интервенции по морю. С другой стороны, приход к власти более либерального режима пошатнет доминирующие позиции Китая в Мьянме, усилит влияние Индии и ускорит региональную экономическую интеграцию.
Иными словами, Индийский океан – это больше, чем просто географическая данность; это еще и идея, сочетающая ислам с мировой энергетической политикой и усилением Индии и Китая. Все вместе ведет к формированию многополярного, «многослойного» мира в данном регионе. Общепризнанным является впечатляющий экономический рост Индии и Китая, но мало кто задумывается о военно-политических последствиях усиления этих государств. Великодержавные устремления Индии и Китая, а также их стремление получить доступ к энергоресурсам заставили обе страны «перевести взоры с суши на море», как выразились Джеймс Холмс и Тоси Йосихара, преподаватели стратегии в Военно-морском колледже США. Тот факт, что эти страны сосредоточивают внимание на военно-морской мощи, показывает, что на суше они чувствуют себя куда более уверенно.
Итак, на карте Индийского океана обнаруживаются основные контуры силовой политики в XXI веке. И в этих новых условиях Соединенным Штатам отводится роль глобального миротворца и хранителя общемировых ценностей: ожидается, что они обуздают террористов, пиратов и контрабандистов, окажут гуманитарную помощь и будут управлять обостряющейся конкурентной борьбой между Индией и Китаем. США придется заниматься всеми этими неотложными делами не так, как в Афганистане и Ираке, то есть путем прямого вторжения наземных войск. Обеспечивать баланс сил они должны посредством не столь заметных морских операций, оставаясь в тени. Военно-морская мощь никогда не воспринималась столь же грозной, как сухопутная военная сила: общепринято, что ВМС наведываются в порты, тогда как сухопутные войска вторгаются на чужую территорию и осуществляют прямую интервенцию. Кораблям требуется значительное время, чтобы добраться до театра военных действий, и это дает шанс дипломатии совершить чудо. И как показала операция, проведенная Соединенными Штатами в связи с цунами в Индийском океане в 2004 году, когда большинство моряков и морских пехотинцев каждый вечер возвращались на свои корабли, военно-морским силам по плечу предпринять многое на берегу, почти не оставляя при этом следов. Чем больше США будут отказываться от гегемонии на суше в пользу гегемонии на море, тем меньшую угрозу они будут представлять в глазах других государств.
Более того, именно потому, что Индия и Китай уделяют такое большое внимание военно-морской мощи, задача управления их мирной экономической экспансией ляжет в значительной степени на американские ВМС. Между флотами этих трех стран, безусловно, неизбежны трения, особенно если разница в их относительной силе начнет уменьшаться. Но даже если в предстоящие десятилетия и произойдет сокращение американских Военно-морских сил в относительном выражении, то в абсолютных категориях Соединенные Штаты останутся величайшей из внешних держав, присутствующих в акватории Индийского океана. Это даст Америке возможность выступать в роли посредника в деле урегулирования отношений между Индией и Китаем. Для понимания динамики необходимо взглянуть на данный регион с точки зрения перспектив господства на море.
ИЗМЕНЕНИЯ НА МОРЕ
Благодаря предсказуемости муссонов прибрежные страны Индийского океана были связаны друг с другом задолго до наступления эры паровой тяги. Торговля ладаном, пряностями, драгоценными камнями и текстилем сплачивала народы, разбросанные вдоль океана во времена Средневековья. На протяжении всей истории морские торговые пути были важнее наземных, пишет историк Фелипе Фернандес-Арместо, поскольку они давали возможность перевозить больше товаров при более низких транспортных расходах. В XV столетии утверждали: «Кто господствует в Малаккском проливе, тот возьмет Венецию за горло». Другая поговорка гласит: «Если бы мир был яйцом, то Ормузский пролив был бы его желтком». Даже в наш век информации и реактивных самолетов по морю осуществляется 90 % мировой торговли и перевозится около 65 % нефти.
Глобализация стала возможна благодаря легкой и дешевой транспортировке контейнеров на танкерах, а на Индийский океан приходится половина всех мировых контейнерных перевозок. Более того, 70 % мировой торговли нефтепродуктами проходит по Индийскому океану – с Ближнего Востока к Тихоокеанскому региону. Пользуясь этим маршрутом, суда торгового флота следуют по важнейшим и достаточно узким морским путям, включая Аденский и Оманский заливы, а также такие всемирно известные «контрольно-пропускные пункты», как Баб-эль-Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы. Примерно 40 % мировой торговли осуществляется через Малаккский пролив, а 40 % торгуемой нефти-сырца – через Ормузский пролив.
Уже сегодня Индийский океан является межгосударственным торговым и энергетическим путем первостепенной важности, в будущем его значение только возрастет. Как ожидается, с 2006 по 2030 год мировые потребности в энергоносителях увеличатся на 45 %, а почти половина растущего спроса придется на Индию и Китай. С 1995 по 2005-й потребность КНР в сырой нефти удвоилась, а с 2005 по 2020 год страна будет импортировать предположительно 7,3 миллиона баррелей сырой нефти в день. Это половина планируемой нефтедобычи в Саудовской Аравии. Более 85 % нефти и нефтепродуктов направляется в Китай по Индийскому океану через Малаккский пролив.
Индия, которая вскоре станет четвертым потребителем энергоресурсов в мире после США, Китая и Японии, покрывает за счет нефти примерно треть потребностей в энергии, причем 65 % нефти она импортирует, а 90 % всего импорта нефти может в скором времени поступать из Персидского залива по Индийскому океану. Ожидается, что в будущем Индия резко увеличит импорт угля из далекого Мозамбика в дополнение к тому объему угля, который она уже получает из других стран, омываемых водами Индийского океана, таких, в частности, как Австралия, Индонезия и ЮАР. В будущем постоянно растущие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из Южной Африки будут поступать в Индию морским путем в дополнение к СПГ, ввозимому из Индонезии, Катара и Малайзии.
По мере того как вся акватория Индийского океана, включая восточное побережье Африки, опутывается паутиной мировой торговли энергоносителями, Дели стремится усилить свое влияние на пространстве от Иранского нагорья до Сиамского залива. Экспансия на запад и на восток призвана расширить сферу, которой когда-то управляли вице-короли Раджа (речь идет о Британской Индии колониальной эпохи, которая управлялась вице-королем, наместником английской королевы. – Ред.). Торговля Индии с арабскими странами Персидского залива и Ираном, с которым у нее давно сложились тесные экономические и культурные связи, процветает. Примерно 3,5 миллиона индийцев трудятся в шести арабских странах, объединенных в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Ежегодно они отправляют на родину 4 миллиарда долларов.
Торговля Индии с Ираном, а впоследствии и с Ираком будет развиваться вместе с индийской экономикой. Подобно Афганистану, стратегическим тыловым плацдармом для Индии в ее противодействии Пакистану можно назвать Иран, который неизбежно станет важным энергетическим партнером Дели. В 2005 году Индия и Иран заключили многомиллиардный контракт, по которому Тегеран, начиная с 2009-го, будет ежегодно поставлять в Индию 7,5 миллиона тонн СПГ в течение 25 лет. Ведутся также переговоры о строительстве газопровода из Ирана в Индию через территорию Пакистана. Этот проект объединит Ближний Восток и Южную Азию и сможет во многом способствовать стабилизации индийско-пакистанских отношений. Другим признаком продолжающегося сближения Дели и Тегерана служит то, что Индия помогает Ирану в развитии порта Чах-Бахар в Оманском проливе, который призван также служить плацдармом для передового базирования иранских Военно-морских сил. Индия не может себе позволить пренебрежительное отношение к бирманской хунте, поскольку Мьянма богата такими природными ресурсами, как нефть, природный газ, уголь, цинк, медь, уран, древесина, гидроэнергия. Китайцы тоже кровно заинтересованы в закупке этих природных ресурсов. Индия надеется, что дорожная сеть, связывающая запад страны с востоком, а также нефте- и газопроводы в конечном счете позволят ей наладить тесные связи с Ираном, Мьянмой и Пакистаном.
В том же духе Дели наращивает мощь своих Военно-морских сил. Имея 155 военных кораблей, Индия уже сегодня является одной из крупнейших военно-морских держав мира. К 2015-му она надеется пополнить свой арсенал тремя атомными подводными лодками и тремя авианосцами. Один из главных побудительных мотивов наращивания мощи индийских ВМС – их поразительная неспособность эвакуировать граждан Индии из Ирака и Кувейта во время первой войны в Персидском заливе в 1990–1991 годах.
Другой мотив – это то, чтЧ Мохан Малик, ученый из Азиатско-тихоокеанского центра исследований в области безопасности, охарактеризовал как «ормузскую дилемму», имея в виду зависимость Индии от импорта, проходящего через одноименный пролив в непосредственной близости от Макранского побережья Пакистана, где китайцы помогают пакистанцам строить глубоководные порты.
По мере того как Дели расширяет влияние на Западе и Востоке (как на суше, так и на море), его интересы сталкиваются с интересами Пекина, который распространяет свое влияние на Юге. Президент КНР Ху Цзиньтао выражает обеспокоенность по поводу «малаккской дилеммы» Китая. В Пекине надеются, что в конечном итоге удастся частично обойти этот пролив путем транспортировки нефти и других энергоресурсов по дорогам и трубопроводам из портов на Индийском океане в глубь материкового Китая. Одна из причин, по которым КНР так страстно хочет объединения с Тайванем, заключается в том, что в этом случае она смогла бы перенаправить усилия своих Военно-морских сил с Тайваньского пролива на Индийский океан.
Китайское правительство уже приняло на вооружение стратегию по Индийскому океану под названием «нитка жемчужин». Она состоит в создании цепи портов в дружественных странах вдоль северной акватории океана. Пекин строит крупную военно-морскую базу и наблюдательный пункт в Гвадаре (Пакистан), из которого, возможно, уже отслеживается движение кораблей через Ормузский пролив, а также порт в Пасни (Пакистан) в 120 км восточнее Гвадара, который будет соединен с Гвадаром новой высокоскоростной трассой. Кроме того, Китай планирует построить заправочный пункт на южном побережье Шри-Ланки и контейнерный склад для торговых и военно-морских операций в Читтагонге (Бангладеш). Китай разместил специальную аппаратуру слежения на островах Бенгальского залива.
В Мьянме, которая получает от Пекина военную помощь на миллиарды долларов, китайцы строят (или реконструируют) торговые и военно-морские базы, а также дороги, прокладывают водные пути и трубопроводы, чтобы соединить Бенгальский залив с южнокитайской провинцией Юньнань. Некоторые из этих инфраструктурных объектов находятся ближе к городам в Центральном и Западном Китае, чем Пекин и Шанхай. Поэтому строительство автомагистралей и железнодорожных путей от этих объектов в глубь КНР даст импульс экономике тех провинций, которые не имеют выхода к морю. Китайское правительство задумало также строительство канала через перешеек Кра в Таиланде, чтобы связать Индийский океан с тихоокеанским побережьем Китая. Этот проект сопоставим по масштабам со строительством Панамского канала и может еще больше склонить чашу весов в азиатском раскладе сил в пользу Пекина, поскольку бурно развивающиеся торговый и военный флоты КНР в данном случае получат беспрепятственный доступ к гигантским морским пространствам – от Восточной Африки до Японии и Корейского полуострова.
Вся эта деятельность нервирует Дели. Когда Китай строит глубоководные порты к западу и востоку от индийских границ и осуществляет массированные поставки вооружений в государства, расположенные на побережье Индийского океана, Индия опасается, что она может оказаться со всех сторон окруженной Китаем, если только не будет расширять собственную сферу влияния.
Пересекающиеся торговые и политические интересы обеих стран усиливают конкуренцию между ними – и в большей степени на море, чем на суше. Чжао Наньци, бывший начальник по снабжению Народно-освободительной армии Китая, провозгласил в 1993 году: «Мы больше не можем считать, что Индийский океан существует только для индийцев». В ответ на строительство китайцами военно-морской базы в Гвадаре Индия создала базу в Карваре на своей территории, к югу от Гоа. Тем временем Чжан Мин, китайский военно-морской аналитик, предупредил, что 244 острова, образующие принадлежащие Индии Андаманский и Никобарский архипелаги, могут быть использованы в качестве «железной цепи», чтобы заблокировать западный проход в Малаккский пролив, от которого Китай так сильно зависит.
«Наверно, Индия является наиболее реальным стратегическим противником Китая, – пишет Чжан. – Когда Индия возьмет под контроль Индийский океан, она не удовлетворится этим положением и будет стремиться расширять сферу своего влияния. Ее экспансия на восток может быть особенно опасна для Китая». Возможно, это только слова профессионального китайского алармиста, но высказываемое им беспокойство на многое открывает глаза. Пекин уже считает Дели крупной военной державой.
Конкуренция между Индией и Китаем свидетельствует о том, что основная борьба в XXI веке развернется именно в Индийском океане. Старые границы и линии размежевания эпохи холодной войны быстро стираются, и Азия становится все более цельным континентом – от Ближнего Востока до Тихого океана. Южная Азия была неделимой частью великого мусульманского Ближнего Востока со времен Средневековья: мусульмане-газневиды вторгались в северо-западные провинции Индии из Восточного Афганистана в начале XI столетия, и индийская цивилизация представляет собой слияние культуры хинди с мусульманской культурой, которая укоренилась здесь со времен средневековых нашествий.
Хотя большинство западных обозревателей стали относить Индию к региону Большого Ближнего Востока лишь после террористических актов в Мумбаи в ноябре прошлого года, побережье Индийского океана всегда было огромным взаимосвязанным пространством. Меняется лишь степень этой интеграции. На морской карте Южной Евразии исчезают искусственные административные деления на суше, и даже Центральная Азия представляется неотъемлемой частью бассейна Индийского океана. Однажды природный газ может начать поступать из Туркмении через Афганистан, например, в города и порты Пакистана и Индии, и это лишь одна из нескольких возможных энергетических связей между Центральной Азией и индийским субконтинентом. Китайский порт в пакистанском Гвадаре и индийский порт в иранском Чах-Бахаре могут быть соединены в обозримом будущем с богатыми нефтью и газом Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, а также с другими бывшими республиками Советского Союза.
Фредерик Стар, эксперт по Центральной Азии на факультете международных отношений Университета Джонса Хопкинса, сказал на прошлогодней конференции в Вашингтоне, что доступ к Индийскому океану «будет определяющим фактором в будущей политике центральноазиатских стран». Другие специалисты называют порты в Индии и Пакистане «пунктами транспортировки» нефти из Каспийского бассейна. Судьбы стран, находящихся даже на расстоянии полутора-двух тысяч километров от Индийского океана, неразрывно связаны с ним.
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАКАТ
Соединенным Штатам предстоит решить в Азии три взаимосвязанные геополитические задачи: стратегический кошмар Большого Ближнего Востока, борьба за влияние на южный пояс бывшего Советского Союза и усиливающееся присутствие Индии и Китая в Индийском океане.
Наименее трудной из трех представляется последняя. Китай – не враг США, подобно Ирану, но законный конкурент в экономической и геополитической сфере, а Индия и вовсе является союзником и дружественным государством. Усиление индийских Военно-морских сил, которые вскоре станут третьими по мощи после ВМС Соединенных Штатов и Китая, будет служить противоядием военному экспансионизму Пекина.
Таким образом, задача американских ВМС будет состоять в том, чтобы использовать мощь своих близких союзников – Индии в Индийском океане и Японии в западной акватории Тихого океана, чтобы сдерживать Китай. Но одновременно необходимо использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы вовлечь китайские ВМС в международные альянсы, поскольку взаимодействие Вашингтона и Пекина на море жизненно важно для стабилизации мировой политической сцены в XXI веке. В конце концов, Индийский океан – морской путь, используемый для транспортировки не только энергоносителей, но и наркотиков, а следовательно, существует настоятельная потребность в проведении в этом регионе полицейских операций.
Для успешного решения данной задачи США нужно, совместно с Китаем и Индией, организовать морские патрули. Цель Соединенных Штатов должна заключаться в создании всемирной системы мореплавания, призванной свести к минимуму опасность межгосударственных конфликтов и частично переложить бремя проведения полицейских операций на море на другие страны.
Сохранение мира в Индийском океане особенно важно с учетом тесной взаимосвязанности морей и морских побережий от Аденского залива до Японского моря. Число маршрутов доставки грузов по Индийскому океану в будущем может существенно возрасти.
Портовый оператор Dubai Ports World рассматривает возможность строительства моста через канал, который китайцы надеются прорыть через перешеек Кра, а также пути соединения портов по обе стороны этого перешейка скоростными железнодорожными и автотрассами. Правительство Малайзии заинтересовано в создании трубопроводной сети, связывающей порты в Бенгальском заливе с портами в Южно-Китайском море. Вне всякого сомнения перекрестье транспортных путей вокруг Малайзии, Сингапура и Индонезии станет морским «сердцем» Азии, не менее важным в стратегическом отношении, чем «коридор Фульды», по которому советские танки могли вторгнуться в Западную Германию во времена холодной войны.
Вот почему так важно, чтобы этот стратегически важный узел находился под присмотром Военно-морских сил США. Будучи единственным мощным океанским флотом, не имеющим территориальных амбиций на азиатском материке, американские ВМС смогут в будущем работать с отдельными странами Азии, такими, к примеру, как Китай и Индия, гораздо эффективнее, чем те смогут взаимодействовать друг с другом. Вместо того чтобы обеспечивать доминирование на море, ВМС Соединенных Штатов должны просто стать полезной силой в акватории Индийского океана.
Американцы уже начали необходимые реформы. Из-за изнурительных войн, которые они вели в Афганистане и Ираке, передовицы последних лет пестрят заголовками о наземных войсках и силах быстрого реагирования для подавления мятежей. Но если учесть, что 75 % всего населения земного шара живет в зонах, удаленных от моря не более, чем на 350 км, военно-морские силы (и ВВС), вполне возможно, будут доминировать в будущем, действуя на обширных площадях. В большей степени, нежели другие армейские части, ВМС существуют для защиты экономических интересов и систем, поддерживающих их.
Понимая, насколько сильно мировая экономика зависит от морской торговли, американские адмиралы думают не только о победах в локальных войнах или морских сражениях. Они готовятся осуществлять полицейские функции для обеспечения бесперебойной мировой торговли. Они готовятся также к преодолению негативных последствий военного удара США по Ирану для морской торговли и цен на нефть. Американские ВМС в течение нескольких десятилетий помогают обезопасить жизненно важные морские проливы в Индийском океане, избрав в качестве основного плацдарма свою военно-морскую базу на британском атолле Диего-Гарсия, расположенную в непосредственной близости от главных морских путей (примерно в 1 700 км к югу от Индии). А в октябре 2007 года Соединенные Штаты дали понять, что стремятся к постоянному присутствию в Индийском океане и на западе Тихоокеанского бассейна, а не в Атлантическом океане. Это – знаменательное изменение американской военно-морской стратегии и доктрины. В документе под названием «Идеология и стратегия Корпуса морской пехоты США на период до 2025 года» (Marine Corps Vision and Strategy 2025) делается также вывод о том, что Индийский океан и его акватория станут центральной ареной столкновения интересов и конкуренции между основными игроками эпохи глобализации в XXI столетии.
Но поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с растущим числом вызовов за пределами своих территориальных вод, то неясно, как долго еще они будут доминировать в Мировом океане. По окончании холодной войны у США было около 600 боевых кораблей; теперь их число сократилось до 279. В ближайшие годы оно может возрасти до 313, когда будут введены в строй «боевые корабли береговой охраны», но может и уменьшиться до 200 единиц с учетом перерасхода средств на 34 % и низких темпов кораблестроения. Хотя революция в области высокоточного оружия означает, что существующие суда обладают значительно большей огневой мощью, чем флот времен холодной войны, один корабль не может одновременно присутствовать в двух местах. Поэтому чем меньше кораблей, тем рискованнее решение об их размещении. В конце концов наступает такой момент, когда недостаточное количество сказывается на качестве.
Между тем уже в следующем десятилетии Военно-морские силы Китая могут превзойти американские ВМС по числу военных кораблей. КНР производит и покупает в пять раз больше новых подводных лодок, чем США. Китайцы предусмотрительно сделали акцент на закупку морских мин, баллистических ракет, способных поражать движущиеся цели на море, а также аппаратуры, которая глушит сигналы, поступающие со спутников глобальной системы навигации, от которых зависят американские Военно-морские силы. Китайцы планируют приобрести также хотя бы один авианосец, поскольку отсутствие этих кораблей помешало им оказать помощь жертвам цунами в 2004-м.
Цель китайцев – блокировать доступ к внутреннему морю либо не допустить приближение ударных группировок американских авианосцев к материковой Азии в тех местах и в такое время, которые Вашингтон для этого выберет. Китайцы более агрессивны, чем американцы. В то время как перспектива этнических конфликтов заставила Вашингтон отказаться от создания военно-морской базы в Шри-Ланке, расположенной в стратегически важном месте слияния Аравийского моря и Бенгальского залива, китайцы строят там заправочную станцию для своих военных кораблей.
В усилении ВМС КНР нет ничего противозаконного. По мере резкого расширения зоны своих экономических интересов Китай должен развивать также Вооруженные силы, и в частности Военно-морской флот, для защиты этих интересов. Именно такую политику проводили Великобритания в XIX веке и Соединенные Штаты в период между Гражданской и Первой мировой войнами, когда они стали превращаться в великую державу. В 1890-м американский военный теоретик Алфред Тейер Мэхэн в своей книге «Влияние морской мощи на историю с 1660 по 1783 год» (The Influence of Sea Power Upon History) утверждал, что решающим фактором в мировой истории стала способность защитить торговые флотилии. В наши дни этой книгой зачитываются китайские и индийские военно-морские стратеги. В 2005-м китайцы широко отмечали годовщину со дня рождения Чжэн Хэ, исследователя и адмирала эпохи династии Минь, бороздившего моря между Китаем и Индонезией, Шри-Ланкой, Персидским заливом и Африканским Рогом в первые десятилетия XV века. Те торжества ясно говорят о том, что Китай всегда считал эти моря зоной своего влияния.
Подобно тому как Королевские ВМС Великобритании в конце XIX столетия начали сокращать присутствие в разных частях земного шара, поддерживая тем самым растущую военно-морскую мощь своих союзников на море (Япония и США), Соединенные Штаты в начале XXI века стали аккуратно сокращать военное присутствие на море, поддерживая тем самым растущую военно-морскую мощь своих союзников – Индии и Японии в противовес Китаю. Можно ли придумать лучший способ сократить свое присутствие, чем возложить бЧльшую ответственность на единомышленников и союзников, которые, в отличие от европейских партнеров, не отказываются от военной мощи?
Индия готова помочь Америке больше, чем кто бы то ни был. «Индия никогда не спрашивала разрешения американцев на то, чтобы уравновешивать силу Китая», – писал индийский стратег Си Раджа Мохан в 2006 году, добавляя, что Индия сдерживает Китай со времен китайского вторжения в Тибет. Видя угрозу в усилении Пекина, Индия расширила свое военно-морское присутствие от Мозамбикского пролива на западе до Южно-Китайского моря на востоке. Она строит стоянки для судов и наблюдательные пункты в таких островных государствах, как Мадагаскар, Маврикий и Сейшельские острова, укрепляя отношения с этими странами в военной области именно для того, чтобы противодействовать чрезвычайно активному военному сотрудничеству с ними Пекина.
Сейчас, когда союз между Китаем и Пакистаном приобретает вполне определенные очертания в виде строительства китайцами порта Гвадар возле Ормузского пролива, а Индия наращивает мощь военно-морских сил на Андаманских и Никобарских островах близ Малаккского пролива, соперничество между Пекином и Дели выходит на новый уровень, превращаясь в «большую игру» на море. Вот почему Соединенным Штатам нужно без лишнего шума поддерживать Индию в ее стремлении уравновесить растущую мощь КНР, хотя сами США намерены развивать экономическое сотрудничество с Китаем. Во времена холодной войны Тихий и Индийский океаны были в полном смысле слова американскими акваториями. Но подобная гегемония не может длиться вечно, и Соединенным Штатам необходимо заменить ее тонко сбалансированным соглашением.
ГЛАВНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ КОАЛИЦИЙ
Так как же Соединенным Штатам играть роль конструктивного, удаленного и медленно уходящего гегемона, поддерживая мир в экстерриториальных водах «постамериканского мира», по меткому выражению Фарида Закария, редактора The Newsweek International?
Несколько лет назад адмирал Майкл Маллен, в то время главнокомандующий ВМС США, а ныне председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что ответом на этот вопрос являются «военно-морские силы свободолюбивых государств в составе тысячи боевых кораблей, ведущие наблюдение за океаном и друг за другом». Сейчас от выражения «военно-морские силы в составе тысячи боевых кораблей» отказались, сочтя его слишком высокомерным и угрожающим. Однако сама идея остается насущной: вместо того чтобы заниматься всеми проблемами в одиночку, американские ВМС должны создать мощную коалицию, сотрудничая с любыми военными флотами, которые согласятся патрулировать моря и делиться информацией о беспорядках и пиратах.
Объединенная оперативная группа 150 (CTF-150), базирующаяся в Джибути и включающая в себя примерно 15 судов из США, Европы, Канады и Пакистана, уже осуществляет патрулирование в неспокойных водах Аденского залива, чтобы не допускать нападения морских разбойников на торговые суда. В 2008 году пиратам удалось захватить примерно 100 торговых кораблей и более 35 судов, перевозивших грузы стоимостью в несколько миллиардов долларов. В конце 2008-го более десяти судов, включая нефтеналивные танкеры, грузовые и прочие корабли, а также в общей сложности свыше 300 человек удерживались в плену. Выкуп, требуемый пиратами за судно, обычно превышает 1 миллион долларов, а за недавно захваченный нефтеналивной танкер, принадлежащий Саудовской Аравии, пираты потребовали 25 миллионов долларов.
Осенью прошлого года после захвата украинского судна, перевозившего танки и другие военные грузы, боевые корабли из США, Кении и Малайзии поспешили в Аденский залив на помощь CTF-150. Двумя неделями позже подоспели два китайских военных корабля. Военно-морская группировка, которая должна быть усилена и переименована в CTF-151, скорее всего, станет постоянно действующей силой в Индийском океане. Пиратство – это следствие анархии на суше, и до тех пор, пока в Сомали будет царить хаос, бандиты, действующие в интересах военных диктаторов, будут бесчинствовать вдоль всего восточноафриканского побережья Индийского океана.
Модель оперативных групп быстрого реагирования можно также использовать в Малаккском проливе и других водах, омывающих Малайский архипелаг. С помощью американских ВМС военно-морские силы и береговая охрана Индонезии, Малайзии и Сингапура уже объединили силы в борьбе с пиратством и добились определенных успехов. Если ВМС США будут выполнять роль посредника и гаранта стандартных процедур, то коалиции подобного рода могли бы объединить усилия соперничающих стран, таких, как Индия и Пакистан или Индия и Китай, для достижения общей цели. Правительствам этих государств нетрудно оправдать перед своими избирателями и широкой общественностью участие в группах быстрого реагирования для противодействия транснациональным угрозам. Пиратство – та опасность, устранение которой может потребовать объединения усилий соперничающих стран, расположенных вдоль берегов Индийского океана.
На побережье Индийского океана находится слишком много стран со слабой государственностью, слабыми правительствами и неразвитой инфраструктурой. Этот регион представляет собой беспорядочный мир, не подчиняющийся общим условностям, в котором американские военные должны будут оперативно реагировать на разные ЧП: не только на вылазки пиратов, но и на теракты, межэтнические конфликты, циклоны и наводнения. Хотя Вооруженные силы Соединенных Штатов, и в частности Военно-морские силы, переживают относительный упадок, они остаются самыми могущественными в мире, и все надеются на то, что американцы будут реагировать на чрезвычайные происшествия. В условиях стремительного роста численности населения в регионах, подверженных частым землетрясениям и другим природным аномалиям, сегодня опасность угрожает большему числу людей, чем когда-либо в истории человечества, и катастрофы, требующие оперативного вмешательства, могут следовать одна за другой.
Разнообразие и цикличность этих вызовов делают карту Индийского океана в XXI веке весьма отличной от карты Северной Атлантики в XX столетии. Та акватория таила в себе одну-единственную угрозу под названием «Советский Союз», что в общем-то упрощало задачу США – защищать Западную Европу от Красной армии и блокировать советские Военно-морские силы в Северном Ледовитом океане. Военная мощь Соединенных Штатов была главным сдерживающим фактором, а НАТО во главе с США, как полагают многие, стала самым успешным военно-политическим альянсом за всю историю.
Можно представить себе образование «морской НАТО» в Индийском океане с участием Австралии, Индии, Омана, Пакистана, Сингапура и ЮАР, хотя споры между Дели и Исламабадом внутри этого альянса, наверно, будут не менее ожесточенными, чем споры между Грецией и Турцией в составе сухопутной НАТО.
Однако данная концепция не охватывает всех многообразных проблем Индийского океана. Благодаря интенсивному мореплаванию арабов и персов в Средние века, а также наследию португальских, голландских и британских империалистов, Индийский океан образует историческое и культурное целое. Но со стратегической точки зрения в нем нет какой-то одной фокусной точки или центра, как нет этого и в современном мире. Аденский залив, Персидский залив и Бенгальский залив – все эти регионы таят различные угрозы, исходящие от разных игроков.
Подобно тому как современная НАТО становится все более свободным альянсом без явного доминирования какой-то одной страны, так и любая коалиция, создаваемая в Индийском океане, должна быть адаптирована к требованиям времени. Учитывая размер этого океана (он охватывает семь часовых поясов и почти половину всех широт земного шара) и сравнительно невысокую скорость перемещения кораблей, многонациональным силам будет трудно вовремя оказываться в зоне очередного кризиса. США сумели возглавить спасательную, гуманитарную операцию на побережье Индонезии после разрушительного цунами 2004 года лишь благодаря тому, что ударная группа авианосца «Авраам Линкольн» оказалась в непосредственной близости от места катастрофы, а не у Корейского полуострова, куда она направлялась.
Лучше было бы полагаться на многочисленные региональные и идеологические союзы в разных частях Индийского океана. Попытки сформировать такие союзы уже предпринимаются. ВМС Индонезии, Сингапура и Таиланда объединились для того, чтобы сдерживать пиратство в Малаккском проливе, а ВМС Соединенных Штатов, Австралии, Индии и Сингапура провели совместные учения у юго-западного побережья Индии. Они стали неявным предупрежением Китаю, стремящемуся расширить влияние в регионе. По мнению вице-адмирала Джона Моргана, бывшего заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами США, стратегическая система Индийского океана должна напоминать службу нью-йоркского такси, которая не имеет центрального диспетчера и регулируется лишь рыночной конъюнктурой. Коалиции будут естественным образом возникать в тех районах, где требуется защита судоходного пути подобно тому, как такси съезжаются в большом количестве к театру до начала спектакля и после его окончания. По мнению одного австралийского военачальника, модель взаимодействия должна опираться на сеть морских баз, оборудованных ВМС США, которые позволяли бы гибко видоизменять различные союзы и создавать новые. Этими базами, рассредоточенными на огромной территории – от восточноафриканского побережья до Малайского архипелага, могли бы пользоваться фрегаты и эсминцы из разных стран.
Представляя собой уменьшенную модель нашего мира, большой регион Индийского океана превращается в зону яростно охраняемого суверенитета (с быстро растущими экономиками и армиями) и поразительной взаимозависимости (с многочисленными трансграничными трубопроводами, наземными и морскими трассами). И впервые со времен португальского завоевания в начале XVI века сила Запада в этом регионе ослабевает, хотя очень медленно и почти незаметно. Индийцы и китайцы вскоре начнут динамичное соперничество в водах Индийского океана, свойственное великим державам, хотя общие экономические интересы и заинтересованность друг в друге как в важных торговых партнерах будут поневоле вынуждать их к более тесному взаимодействию. Тем временем Соединенные Штаты будут играть роль стабилизирующей силы в этом сложном регионе. Их целью должно быть не доминирование, а незаменимое посредничество.

ООН и миротворчество
Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. Курс лекций. – М.: Международные отношения, 2008. – 312 с., ил.
Резюме Вниманию читателя предлагается разноплановое рассмотрение одного из наиболее востребованных в современных условиях направлений деятельности Организации Объединенных Наций. В работе, в которой широко использован целый ряд документов и литературных источников, прослеживается эволюция операций по поддержанию мира (ОПМ) в их исторической связи.
Дипломаты не так часто публикуют под собственной фамилией труды по актуальным вопросам внешней политики, к решению которых они непосредственно причастны. Тому много причин – от деликатности самих проблем до нехватки свободного времени. Автор рецензируемой работы, заместитель директора Департамента международных организаций МИДа России Владимир Заемский, изящно обходит первое препятствие, назвав свое исследование «курсом лекций». Это не уловка: в основу книги действительно положен специальный курс, который автор, кандидат политических наук, читает в МГИМО (У). Что до второго препятствия, то оно преодолевается невероятной работоспособностью и усидчивостью, чему свидетель сам рецензент, наблюдавший трансформацию Заемского из «территориалиста» – специалиста по Латинской Америке в «международника» – эксперта в сфере многосторонней дипломатии.
Вниманию читателя предлагается разноплановое рассмотрение одного из наиболее востребованных в современных условиях направлений деятельности Организации Объединенных Наций. В работе, в которой широко использован целый ряд документов и литературных источников, прослеживается эволюция операций по поддержанию мира (ОПМ) в их исторической связи. Весьма важны воззрения автора на перспективы ОПМ, их нынешнее и будущее место в системе мер обеспечения международной безопасности.
Автор опирается на личный опыт работы в органах ООН, прежде всего в Совете Безопасности и Специальном комитете по ОПМ, что добавляет убедительности его выводам. Особую ценность представляет раскрытие малоизвестных особенностей процедур и методов принятия решений в органах ООН, а также перипетий вокруг выработки мандатов ряда современных ОПМ.
Не могу не вспомнить собственный опыт участия в операции по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. Нам, военным и гражданским, нередко приходилось ломать голову над тем, как совместить действующий мандат миссии с изменениями и дополнениями, вносившимися в него очередной резолюцией Совета Безопасности. От руководителя боснийский части операции, опытнейшего дипломата и ооновского аппаратчика Виктора Андреева требовалось немало терпения, чтобы разъяснить, в каких сложных и противоречивых условиях принимаются решения и как нам, работающим «на земле», эти решения творчески осмыслить и осуществить без ущерба для миссии и собственной безопасности.
Владимир Заемский поясняет, что выработка либо расширение мандата той или иной операции имеют место порой в условиях не только противоборства между членами Совета Безопасности, но и столкновения интересов наиболее влиятельных его членов с устремлениями стран – поставщиков воинских контингентов, каковыми традиционно являются такие государства, как, например, Пакистан, Индия, Бангладеш. Любопытно и наблюдение автора относительно роли Секретариата ООН: в подготавливаемых им проектах документов «вместо требуемой в ООН открытости и плюрализма мнений довольно часто просматривается заангажированность в пользу односторонних решений, предопределенных менталитетом наций, к которым принадлежит большинство сотрудников Секретариата (читай: западных стран. – Б.Т.)» (с. 80).
Рецензенту, являющемуся юристом-международником, весьма импонирует то, что автор уделяет внимание ряду важных юридических аспектов, связанных с подготовкой и проведением ОПМ. В работе нашлось место для обсуждения как общих правовых основ деятельности ООН по поддержанию мира и безопасности с использованием ОПМ, так и специальных тем, таких, как правовая защита участников операций, российское законодательство, определяющее порядок принятия решений о направлении для участия в ОПМ военнослужащих и гражданских специалистов.
Наконец, нельзя не отметить базирующийся на реальных фактах сценарий, предложенный в качестве основы для проведения деловой игры. Итоговое занятие, проходящее в такой форме, позволяет преподавателю оценить усвоенные студентами знания и навыки их применения, при необходимости вносить коррективы в сценарий по мере развития ситуации, а также дорабатывать и совершенствовать спецкурс.
При этом следует сказать, что структура работы, с моей точки зрения, не вполне совершенна. В ее основе, как было сказано выше, лежит спецкурс, читаемый Заемским, но работа вполне «тянет» на научное издание, и поэтому разделы, ныне обозначенные как «лекции», можно было бы преобразовать в главы, предусмотрев – по мере необходимости – их разбивку на параграфы.
В издании предложен обзор российской и иностранной литературы по анализируемой проблематике, при этом автор не выступает в качестве постороннего наблюдателя, а дает собственную оценку приводимым им трудам. Однако данный обзор представляется далеко не полным, даже в описании работ видного дипломата и ученого Владимира Фёдорова, вкладу которого во всестороннее изучение деятельности ООН по поддержанию международного мира и безопасности Заемский заслуженно дает высокую оценку. Обойден вниманием наиболее фундаментальный труд Фёдорова «Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке» (М., 2005), увидевший свет незадолго до его кончины. Да и много ранее, в 1960–1970-х годах, отечественные авторы разрабатывали тематику ОПМ (см. работы Э.С. Кривчиковой, В.С. Семёнова и др.), даже если в те времена наши оценки ОПМ существенно отличались от нынешних.
Более полный обзор или хотя бы перечень литературы имеют и важное методологическое значение: с их помощью студент, освоивший данный спецкурс и заинтересованный в углубленном освоении проблематики, сможет сделать первые шаги в собственном научном поиске. Работа выиграла бы, найдись в ней место ссылкам на наиболее важные и достоверные электронные источники информации по рассматриваемым вопросам.
Сделанные замечания – это скорее пожелания и советы. Они никак не снижают положительную оценку рецензируемого труда, который, уверен, найдет применение в учебном процессе не только в МГИМО (У), но и в других учебных заведениях. Причем как в гражданских, так и в специализированных, в частности в системе Министерства обороны РФ (курсы подготовки военных наблюдателей ООН) и Министерства внутренних дел РФ (курсы подготовки гражданских полицейских).
Б.Г. Тузмухамедов – профессор Дипломатической академии МИД РФ, ветеран операций ООН в бывшей Югославии.

Новая Антанта
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2008
С.К. Дубинин – доктор экономических наук, профессор.
Резюме Многополярность является для России не стратегической победой, а новым стратегическим вызовом: она несет в себе и многие риски, и «многие печали». Мир вступает в период пересмотра старых догм, перегруппировки существующих союзов и формирования новых альянсов.
Развеялись гарь и дым спалённых в войне кавказских городов и сел, в зоне конфликта постепенно налаживается мирная жизнь. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подписаны документы об оказании этим государствам экономической и военной помощи.
Вполне очевидно, что итоги столкновения на Кавказе выходят далеко за пределы данного региона. Внимание российского общест-венного мнения было все это время сосредоточено не столько на проблемах отношений с Южной Осетией, Абхазией или Грузией – нас интересовало и интересует, как недавние события повлияли на отношения России с Соединенными Штатами и Европейским союзом. Резкое обострение риторики заставило многих говорить о начале новой конфронтации. Но если отвлечься от сиюминутных эмоций, станет понятно, что объективно необходимость сближения с Западом вплоть до обязывающего союза только возросла.
ПРОБЛЕМА «ГАРАНТИРОВАННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ»
Российский аналитик в области международной безопасности Павел Золотарёв писал на страницах этого журнала: «Фундаментальным фактором взаимного недоверия является высокая готовность стратегических ядерных сил сторон к применению из-за сохранения задачи взаимного ядерного сдерживания. Оба государства оказались заложниками средств, созданных в период холодной войны, прежде всего межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, которые не могут быть переведены в состояние пониженной готовности к пуску без нарушения штатного режима эксплуатации» («Россия в глобальной политике», т. 6, № 3, май – июнь 2008, сс. 134–135).
Наиболее важная, я бы даже сказал, экзистенциальная проблема, которая разделяет Россию и США, – это стремление Вашингтона лишить Москву ракетно-ядерного паритета, унаследованного от советской эпохи.
Такое желание вполне объяснимо. Россия – единственная держава в мире, способная в прямом смысле уничтожить Соединенные Штаты. И хотя никто не собирается начинать ядерную войну, само наличие такой возможности оказывает огромное влияние на политическую ситуацию и восприятие сторонами друг друга. Так, именно существование паритета позволило Российской Федерации сохранить за собой место постоянного члена Совета Безопасности ООН, помогло ей еще в период экономического упадка стать равноправным участником «Большой восьмерки».
Одновременно тот же фактор сыграл решающую роль в политике расширения НАТО на Восток, а также развертывания элементов национальной системы ПРО США в непосредственной близости от российских границ. После завершения дискуссий на саммите Североатлантического альянса, а также на встрече в верхах Россия – НАТО в Бухаресте (апрель 2008 г.) Дмитрий Медведев и Владимир Путин высказывались в том духе, что для НАТО было бы более целесообразно заняться поисками возможности достичь соглашения с Москвой, чем форсировать дальнейшее расширение за счет вступления в альянс Украины и Грузии. Однако этот вполне обоснованный призыв не был услышан, точно так же как ранее были проигнорированы и многие иные предложения России. Вашингтон отвергает и все ее инициативы о совместном создании и коллективном управлении силами противоракетной обороны.
Возьму на себя смелость предположить, что происходит это именно потому, что российские предложения включают в себя в качестве обязательного условия сохранение ракетно-ядерного паритета между Россией и Соединенными Штатами. Администрация Джорджа Буша в текущем десятилетии выбрала для себя иную стратегию – изматывания Москвы как в ходе конфронтации в области стратегических вооружений, так и в бесконечных противостояниях по периметру российских границ. Сегодня, когда авторитет нашей страны в мире вырос, Соединенные Штаты, по сути, пытаются навязать России новую гонку вооружений, которую она заведомо не сможет выиграть, как когда-то не смог ее выдержать Советский Союз. Логика, видимо, в том и заключается, чтобы Москва пошла на неприемлемо высокие затраты бюджетных, интеллектуальных и человеческих ресурсов.
Именно исходя из этих расчетов, Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО. В 2009 году истекает срок действия Договора СНВ-1, затем придет черед и ряда других соглашений, ограничивающих число ядерных боезарядов сторон (сегодня оно установлено на уровне 1700–2200) и носителей ядерного оружия. В том же ряду размещение на территории Польши и Чехии американских средств противоракетной обороны, способных контролировать активность российских стратегических сил на всей европейской территории нашей страны и в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей.
Нет оснований надеяться, что со сменой американской администрации в 2009-м политика США радикально изменится. Приостановка сотрудничества по линии НАТО – Россия и общее обострение отношений с Вашингтоном в результате недавних событий в Южной Осетии означают долговременное свертывание всяких переговоров по проблемам ПРО на двустороннем уровне.
Через десять-пятнадцать лет мы сможем реально оценить, удался ли американцам прорыв в средствах противоракетной обороны и космических вооружений, который они запланировали. Вероятность того, что средства уничтожения ракет-носителей на активных участках полета и боевых блоков на пассивных участках будут созданы, испытаны и начнут развертываться, очень высока. Еще несколькими годами позже Россия, видимо, утратит ракетно-ядерный паритет с Америкой.
Разумеется, Россия по-прежнему будет мощной ядерной державой, способной осуществить доставку и взрыв на территории любого противника нескольких ядерных боеприпасов. Но мы станем лишь одной из многих таких стран. У Соединенных Штатов может возникнуть опасная иллюзия защищенности и безнаказанности в случае применения ими первыми своего оружия.
Оставаясь в ранге «потенциального противника», наша страна будет обоснованно опасаться американской агрессии. Как США, добившись после изнурительной гонки вооружений доминирования в сфере стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороны, распорядятся этим достижением?
После того как самолеты НАТО бомбили Белград, непросто убедить кого-либо в нашей стране, что такое никогда не произойдет с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы нуждаемся в надежной защите от подобного рода угроз. Но в какой именно?
В момент осознания невозможности поддержания на долгий период ядерного паритета с Вашингтоном у Москвы останется не очень богатый выбор альтернатив.
Во-первых, немедленная атака «пока не поздно». Надеюсь, Бог не лишит российское руководство разума и этого не случится.
Во-вторых, заключение союза с противниками Соединенных Штатов, чтобы разделить с ними затраты по созданию «контр-ПРО». Едва ли это станет эффективным ответом на усилия всех стран НАТО, вместе взятых, но такие действия будут крайне дорогостоящими, приведут к новому изданию холодной войны. Впрочем, как в России, так и в США, вероятно, найдутся желающие развернуть новую гонку вооружений.
Эскалация военно-политического противостояния, в том числе и в ядерной области, потребует сосредоточения всех сил на военном строительстве, что, собственно говоря, и делал СССР после Второй мировой войны. Втянуться сейчас в такую конфронтацию – значит подвергнуть себя военной угрозе без надежды на успех и обречь Россию на растрату материальных ресурсов, остро необходимых для решения социально-экономических проблем.
Наконец, в-третьих, Москва может инициировать переговоры с Вашингтоном о новом modus vivendi. Но переговорные позиции окажутся к тому времени заведомо слабее, чем сегодня. К тому же и российская, и американская стороны затратят колоссальные средства на реализацию военных программ.
Самое разумное – начать эти переговоры уже сегодня. Предлагаю назвать такой путь «новой Антантой», поскольку он подразумевает поиск возможности для заключения военно-политического союза с теми, кого традиционно привыкли считать историческими противниками. Так, в конце ХIХ – начале ХХ века правительство Российской империи сделало выбор в пользу союза с Францией, а затем с Великобританией, посчитав его более выгодным и перспективным, чем альянс со старинным и традиционным «другом» – германским кайзером. Сегодня же решением проблемы на долгосрочную перспективу стало бы заключение союза России с Соединенными Штатами.
ЗАЧЕМ НУЖЕН СОЮЗ С АМЕРИКОЙ?
Боевые действия на Южном Кавказе в августе 2008 года резко осложнили для России выбор в пользу «новой Антанты». Российскому обществу очень трудно понять и принять позицию Соединенных Штатов и их европейских союзников в отношении конфликта в Южной Осетии. И все же президенту и правительству России необходимо проявить стратегическое видение на перспективу не одного избирательного цикла, а на 25–30 лет вперед. И в этом свете оценить плюсы и минусы данной альтернативы, равно как и последствия отказа от нее.
Однополярной системы, в которой доминирует Америка, больше не существует. Но и многополярность является для России не стратегической победой, а новым стратегическим вызовом: она несет в себе и многие риски, и «многие печали». Мир вступает в период пересмотра старых догм, перегруппировки существующих союзов и формирования новых альянсов. Речь, без сомнения, пойдет не только об экономических, но и военно-политических блоках. Для гарантий безопасности в этих условиях России нужны сильные союзники. Как показали недавние события, сейчас их нет и Москва получила неприятные (и почему-то для нее неожиданные) свидетельства неспособности обеспечить поддержку своих интересов и действий на мировой арене.
Совсем недавно многие в России утверждали, что отсутствие недвусмысленных взаимно обязывающих отношений с теми или иными государствами является сознательным выбором и явным преимуществом российской позиции. Коалиции якобы могут гибко меняться от случая к случаю по мере потребности и по ситуации. И вот страны СНГ, ШОС, ОДКБ и даже Белоруссия как часть единого с Россией Союзного государства весьма «гибко» отказали в поддержке. Мы заслужили в лучшем случае «понимание».
Нынешние российские власти не готовы платить за присоединение к Западу сколько-нибудь значимую цену. Пока мы согласны сотрудничать с западными структурами на наших собственных условиях. Только вот отечественная элита пока оказалась неспособна четко сформулировать желательные для России правила такого сотрудничества. Еще более сложной оказывается задача стабильно следовать ранее провозглашенным подходам. Волюнтаризм и ad hoc пересмотр ранее принятых решений разрушительны для любых альянсов.
После того как иллюзия однополярного мира, в котором одна великая держава, Соединенные Штаты, может определять течение международных событий, рассеется окончательно, мы окажемся перед реальностью хаоса. В целом ряде взрывоопасных регионов Земли уже сегодня царит соперничество между двумя-тремя региональными «сверхдержавами», которые одна за другой встают на путь гонки вооружений, включая ядерное оружие.
Позиция ведущих ядерных держав вызывает все большее недоверие основной части стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Они видят, что провозглашенные ранее цели дальнейшего сокращения и полной ликвидации оружия массового уничтожения, по существу, отброшены. Число государств желающих обзавестись собственным ядерным арсеналом, будет непрерывно возрастать.
В непосредственной близости от границ России уже находятся как реальные ядерные державы – Китай, Индия, Пакистан и, очевидно, Северная Корея, так и потенциальные – Иран. В случае превращения последнего в ядерную державу «эффект домино» в регионе практически неизбежен. Готова ли Россия к ядерной гонке вооружений, в которой ей придется учитывать совокупный потенциал всех этих государств? Можем ли мы позволить себе соперничество с западными ядерными державами в то же самое время?
После двадцати лет вооруженных конфликтов на Юге с вполне определенным противником – исламским экстремизмом (Афганистан, Таджикистан, Чечня) мы всё еще готовимся к войне вовсе не там и не с теми. Настоящий противник отступил, но не разгромлен. Завтра исламисты могут перейти в наступление не только где-нибудь в Ферганской долине. После признания поражения США в Ираке и вывода оттуда американских войск они попытаются взять под контроль ядерное оружие и ракетную технику в Пакистане либо Иране.
Необходим реальный прорыв в определении национальной стратегии. Уже сегодня России нужно сделать выбор, с каким сообществом обладателей оружия массового уничтожения сблизиться, с кем сотрудничать в военной сфере, с кем заключать союзы. Убежден, что здравый смысл возобладает и руководство страны пойдет на сближение с сильнейшей группировкой, которую принято называть «Западом». Как патриот своей Родины я убежден, что нашему государству необходим политический и военно-оборонительный союз с Соединенными Штатами. Но не вступление в НАТО, а прямой договор о совместной обороне и военно-техническом сотрудничестве Россия – США.
Несомненный плюс альянса с Америкой – возможность сосредоточить силы и средства на модернизации Вооруженных сил и обеспечить их подготовку к такому характеру противостояния, которое наиболее вероятно и на тех направлениях, где угроза выше. Союз с Соединенными Штатами позволит сэкономить огромные средства на одном стратегическом направлении, но, увы, не гарантирует, что на другом не придется создавать крупную военную группировку с участием ряда союзных стран. Разве не будет это легче сделать вместе с США, чем без их участия?
Конечно, между дипломатическими и военными элитами обеих стран существует глубоко укоренившееся недоверие. Наследство холодной войны живо, да и период после ее окончания совсем не способствовал взаимопониманию. Однако властям двух стран предстоит в ближайшие годы произвести переоценку многих ценностей. Пора дать себе отчет в том, что кроме вчерашних проблем уже имеется масса сегодняшних. В глобальном плане у России и Соединенных Штатов гораздо больше общих интересов, чем спорных вопросов. Потенциальный противник у них тоже общий. Разброд и шатания в многополярном мире станут нарастать. Москва и Вашингтон будут нуждаться друг в друге. Кстати, военные действия на Кавказе продемонстрировали всему миру, что российские Вооруженные силы могут быть ценным союзником.
Обеспечить приемлемое для России содержание союзнического договора – дело, безусловно, не простое. Главное в нем – взаимные гарантии того, что в случае нападения какой-либо третьей страны на одного из союзников агрессору совместно будет нанесен удар, обеспечивающий его разгром. Это необходимо распространить и на ядерный, и на неядерный акты агрессии. Договор должен содержать такие меры доверия, которые обеспечивали бы подготовку общих действий и исключали бы саму возможность использования ракетно-ядерного оружия друг против друга.
Желательно предоставление аналогичных гарантий со стороны обоих участников договора и странам-союзницам, то есть европейским государствам – членам НАТО, а также бывшим республикам Советского Союза, при условии, что они захотят получить такие гарантии.
Сама возможность заключения подобного договора будет определяться достижением соглашения между США и Россией по стратегическим вооружениям. Выход из противостояния на основе паритета должен быть четко спланирован и скоординирован с созданием коллективно управляемой системы ПРО. Она будет сочетать в себе национальные элементы, управляемые с участием военных специалистов союзников, центры обмена данными между участниками договора, станции слежения, а также противоракеты наземного и космического базирования, размещаемые в оптимальных точках.
ОТВЕТЫ РОССИИ
Антанта начала ХХ столетия победила в войне на европейском континенте, но России не оказалось среди держав-победительниц. В силу внутренних слабостей она не выдержала испытание войной и погрузилась в пучину еще бЧльших бедствий вследствие социальных революций и Гражданской войны 1917–1922 годов. Россия оказалась «слабым звеном». Чтобы новая Антанта принесла нам успех, Россия должна быть сильной современной державой.
Теоретически есть два варианта реагирования на происходящее сегодня в мире, в том числе и на финансово-экономический кризис.
Первый – попытаться самоизолироваться. По существу, это сыграет на руку нашим открытым противникам, облегчит им осуществление всевозможных антироссийских мер. Но сторонники такой позиции имеются, их аргументы громко звучат в отечественной дискуссии. Им мнится возможность повторить сталинскую индустриализацию в условиях государства, закрытого от мира. «Изоляционисты» стараются не вспоминать, что сталинский «эффективный» менеджмент базировался на эксплуатации дармовой рабочей силы в колхозах и в ГУЛАГе. Как только советское руководство отказалось от этого ресурса, плановая государственная система обнаружила свою низкую эффективность. Может быть, господа-товарищи «изоляционисты» честно скажут, кого теперь они предложат массово «стереть в лагерную пыль»?
Второй вариант – активное участие в глобализированной экономике. Развитие событий в мировой финансовой сфере оставляет глубокий след в любой национальной экономике. В период экономического роста речь чаще всего шла о положительных эффектах глобализации. Казалось, что любой масштабный инвестиционный проект может быть профинансирован за счет мобилизации ресурсов на мировом рынке. IPO российских компаний сопровождались переподпиской инвесторов на их акции. ОАО «Газпром» удалось «поднять» деньги совместно с ENI и построить газопровод «Голубой поток» по дну Черного моря. Не было сомнений и в том, что средства найдутся для других «потоков» – северного и южного направлений. Многие российские компании получили кредиты на хороших условиях под залог собственных акций. Говоря шире, все экономические успехи последнего десятилетия основаны на международном разделении труда и экономическом росте в открытой экономике благодаря присоединению к мировому финансовому рынку.
Финансовый кризис демонстрирует негативные стороны глобальной экономики. Стало очевидно, что подключение к международным товарным и денежным потокам требует от национальной финансово-экономической системы зрелости и прочности. Выяснилось, что российская экономика не готова к таким испытаниям в полной мере.
Инвестиционное сообщество оценивает Россию как страну с «формирующимся рынком», повышенными экономическими и политическими рисками. По сути, так наша экономика оценивалась всегда. Но подчеркнуто громкая публичная конфронтация с Западом в ходе и после войны в Закавказье усугубила ситуацию. Инвесторы побежали с нашего рынка быстрее, чем в предшествовавшие месяцы кризисного года. Кризис вскрыл слабости модели глобализации в целом и российские проблемы.
России необходимо осуществить массовое обновление основных производственных фондов и добиться качественно нового уровня развития человеческого капитала. Руководители страны это ясно понимают и открыто говорят о неизменности курса на международное сотрудничество и открытую экономику. Российская экономика стала рыночной и быстрорастущей, но она не стала эффективной. Без современных технологий переход в новое, постиндустриальное качество и вовсе может не состояться. Нам нужны современные технологии, а их реальными носителями являются иностранные инвесторы. Масштаб необходимых инвестиций таков, что национальному капиталу не справиться с этими задачами даже с подключением государственных бюджетных средств.
Мы не можем позволить себе и остановку важнейших социальных программ. В ближайшие 15 лет перед российской экономикой стоит задача обеспечения гражданам достойного уровня пенсий. В недалеком будущем на одного занятого в экономике будет приходиться один пенсионер, чего в истории страны никогда еще не было.
Для решения поставленных задач российская экономика нуждается в кардинальном снижении того, что принято называть «политическими рисками». Грубо говоря, если мы угодим в состав «оси зла» и наши враги добьются введения реальных экономических санкций, то с надеждами на модернизацию экономики и международную конкурентоспособность российской продукции придется проститься надолго.
И не надо «сказок для взрослых» о передовых достижениях отечественных ученых и конструкторов на всех направлениях. В современном мире такой тотальный охват всех отраслей научно-технического прогресса не способна обеспечить ни одно государство. Вспомним лучше о возвращенных из Алжира боевых самолетах, авионика которых не дотягивала до современных требований. Подумаем, что нам делать с газовыми турбинами ГТ-110 для электростанций производства фирмы «Сатурн», которые она не может уже десять лет запустить в серию и чертежи которых украинские соавторы и партнеры, видимо, успешно продали в Китай. Там уже производят машины, которые совершенно аналогичны ГТ-110. Кстати сказать, китайские руководители отказались и от закупок российской боевой авиационной техники, предпочитая ее бесплатное копирование на собственных предприятиях.
СССР не сумел создать эффективную экономику и распался под грузом проигранной гонки вооружений. А ведь масштаб затрат на военные и научно-технические разработки он позволял себе такой, что ресурсов на молоко и мясо (в том числе даже куриное) для собственного населения не хватало. Мы рискуем сегодня повторить эти «успехи». Нам это нужно? Нет. Президент страны Дмитрий Медведев ясно заявил, что Россия не позволит повторно втянуть себя в эту изматывающую гонку.
ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ США
А нужен ли союз с Россией Соединенным Штатам?
Еще вчера заносясь в гордыне в качестве единственной страны-гегемона, американцы пренебрегали мнением не только потенциальных партнеров, в том числе и России, – они наплевательски отнеслись к предупреждениям действующих союзников, в частности Германии и Франции. Сегодня и республиканцы, и демократы в США активно обсуждают механизмы коллективных действий на мировой арене.
В ходе кризиса на Южном Кавказе не только Москва, но и Вашингтон столкнулись с очевидными свидетельствами ограниченности своих возможностей. Притязания американской элиты изначально были явно шире амбиций российского истеблишмента. С приходом в Белый дом администрации Джорджа Буша-младшего во властных структурах воцарилась уверенность в том, что единственная сверхдержава способна одновременно выдерживать конфронтацию и побеждать в соперничестве с любым количеством противников во всем мире.
Соединенные Штаты явно внушили президенту Грузии Михаилу Саакашвили собственную уверенность в том, что никто, включая Россию, не решится противодействовать стране, которую Вашингтон публично называет своим важнейшим партнером. Тбилиси, «инфицированный» этими фантомными «гарантиями», предпринял военную авантюру в Южной Осетии. Однако оказалось, что США не обладают реальными рычагами влияния и способностью контролировать ситуацию и действия российских властей.
Необходимость пересмотра позиций Соединенных Штатов стала особенно очевидной для их собственной элиты на фоне масштабного финансового кризиса, начавшегося как американское потрясение, но быстро ставшего общемировым. Американские финансовые институты обслуживают в настоящее время мировой оборот капитала, когда этот капитал принимает денежную, финансовую форму. Трансформация сбережений в инвестиции протекает во всем мире по новой, «глобализированной» формуле: национальные сбережения накапливаются, выходят на мировой финансовый рынок и, только пройдя этот международный этап, вкладываются в ту или иную национальную экономику.
К числу самых общих проблем, от которых страдают не только Соединенные Штаты или какие-либо другие страны, но и весь международный рынок, относится отсутствие адекватного регулирования мирового финансового рынка. Попытки американских регулирующих властей ужесточить требования к раскрытию информации и регистрации игроков и участников на рынках США привели к переносу операций в иные юрисдикции. Развитие инновационных операций с производными финансовыми инструментами разорвало связь финансовых сделок с базовыми реальными активами.
Видимо, национальное законодательство сможет быстро сделать в этой сфере только одно – ввести запрет для национальных юридических лиц иметь на своем консолидированном балансе определенные виды рисковых активов. После этого предстоит договариваться, как оценивать риски активов по единой методике и регулировать работу с ними общими усилиями многих стран. А в течение переходного этапа наиболее рисковые операции будут продолжаться в офшорном «Лас-Вегасе». Односторонние меры для преодоления кризиса и регулирования мировой финансовой сферы недостаточны, даже если затраты на эти цели будут определяться многими сотнями миллиардов долларов.
Пришло время обсуждать методы международного регулирования. Объективно в условиях кризиса американская сторона заинтересована не в нагнетании военно-политического соперничества на мировой арене, а в конструктивном взаимодействии, в том числе и с Россией.

Россия одна навсегда?
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2008
Тома Гомар – директор Центра стратегических исследований России во Французском институте международных отношений (IFRI), а также редактор трехъязычного электронного сборника Russie.Nei.Visions. Преподает в Военной школе в Сен-Сире. Впервые статья опубликована в специальном номере журнала Politique etranger (сентябрь 2008 года).
Резюме Внешняя политика Москвы основана на идее державничества: либо Россия – великая держава, либо она полный ноль. В основу курса на мировой арене положены постимпериалистические и националистические интересы. Президент Дмитрий Медведев и его премьер-министр выбрали гордое одиночество.
В мае 2008 года Дмитрий Медведев стал президентом Российской Федерации, а Владимир Путин был назначен председателем Правительства РФ. Три месяца спустя Россия вступила в войну с Грузией…
До парламентских выборов в декабре 2007-го на Западе разрабатывались многочисленные сценарии, зачастую основанные на противоречивом и туманном анализе ситуации в России за последние два года. Внешние комментаторы были буквально одержимы Путиным, порождая новую разновидность кремлинологии.
Эта история преемственности лишний раз напоминает о том, насколько непредсказуема российская политика и как трудно иностранному наблюдателю понять истинный расклад сил. Нам хотелось бы иметь стабильного «стратегического партнера», но складывается впечатление, что во внутренней политике его действия импульсивны и необдуманны, а на международной арене он руководствуется холодным расчетом.
Трудно иметь дело со страной, которая готова прибегать к военным действиям для достижения своих целей. В данной статье не ставится задача выяснить степень ответственности Грузии, России, США и Европейского союза. Просто хотелось бы подчеркнуть, что российская власть традиционно опиралась и опирается на использование военной силы. Впрочем, это присуще не только России.
СИЛОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
С мая 2008 года комментаторы преимущественно анализировали взаимодействие Владимира Путина и Дмитрия Медведева, часто представляя последнего в качестве марионетки первого. В этой связи нужно учитывать два важных обстоятельства.
Во-первых, в России выстроена президентская модель власти. Так, именно Медведев участвует во встречах «Большой восьмерки» на высшем уровне.
Во-вторых, после избрания на президентский пост Владимиру Путину понадобилось три года, чтобы овладеть всеми рычагами управления. Дмитрию Медведеву также придется шаг за шагом укреплять свою власть.
Однако во внешней политике перед ним стоят две, казалось бы, несовместимые задачи: сохранить преемственность линии Путина, демонстрируя при этом способность быстро разработать новый внешнеполитический курс. Чтобы Дмитрия Медведева признали полноценным и полновластным президентом, он должен проявить себя не только руководителем внешней политики, но и стратегом в области безопасности. С августа 2008-го это стало особенно актуально, и политическое будущее Медведева зависит от его способности решительно действовать в условиях конфликта.
В грядущие годы в повестке дня окажутся два важных вопроса.
Прежде всего лидерство Дмитрия Медведева будет зависеть от умения правильно выстроить отношения между гражданскими и силовыми ведомствами. Традиция персонификации власти глубоко укоренена в России, как и неизменно деликатные отношения между главой государства и структурами безопасности. Владимира Путина они считали профессионалом в области защиты от внутренних и внешних угроз, первым среди равных. Медведева пока таковым не считают.
Наследие Путина весьма значимо с точки зрения взаимосвязи внешней политики и отношений между гражданскими и силовыхми ведомствами. Нельзя отрицать, что по сравнению с периодом правления Бориса Ельцина Владимир Путин сумел существенно расширить спектр возможностей России, хотя и действовал неубедительно в стратегическом плане. Конец его второго президентского срока ознаменовался грозной риторикой, призванной привлечь внимание мировой общественности. Но так или иначе предшественник Медведева уважал российскую политическую культуру и крайне осторожно вводил новшества, особенно в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность.
Вне зависимости от оценок войны в Грузии ясно одно: Москва серьезно подмочила свою международную репутацию. Но, как выяснилось, Россию это не беспокоит. Поскольку администрация Джорджа Буша просто не имеет морального права поучать других, российское руководство расценило привычное осуждение со стороны Запада как наглядную иллюстрацию неуверенности и нерешительности.
Однако военная победа отнюдь не всегда приносит геополитические дивиденды. Тот факт, что российские действия поддержали только Белоруссия, Венесуэла и Сирия, должен послужить предупредительным сигналом для российских элит. Страна сталкивается с очевидным парадоксом: геополитическая вездесущность как следствие возвращения к активной международной политике и экономического возрождения идет рука об руку со стратегической изоляцией.
Эта изоляция, имеющая глубокие исторические корни, будет усугубляться, что, вне всякого сомнения, станет главным вызовом для Дмитрия Медведева, особенно если учитывать демографический кризис и нехватку в стране современных технологий. Находясь за закрытыми дверями, российское руководство отдает себе отчет в том, что России требуется реальное стратегическое партнерство. Однако на практике Кремль неохотно идет на формирование альянсов, поскольку международная изоляция прочно укоренилась в стратегическом менталитете российского руководства.
БУДУЩИЕ ИЛИ ПРОШЛЫЕ ВЫЗОВЫ
Чтобы понять недавнее прошлое России и прогнозировать ее будущее, необходимо всегда держать в уме пять цифр.
В 2006 году средняя продолжительность жизни в России составляла, по данным Госкомстата, 60,4 года для мужчин и 73,2 года для женщин. В период с 1992 и 2007 год дефицит естественного прироста населения составил 11,8 миллиона. За это время страна привлекла 5,5 млн иммигрантов. Следовательно, чистая убыль населения составила 6,3 млн жителей.
Россия переживает демографический спад, находясь при этом на втором месте в мире по притоку иммигрантов после США. В середине XX века Россия в ее нынешних границах занимала четвертое место в мировом рейтинге по численности населения после Китая, Индии и США. С тех пор она переместилась на девятое место, пропустив вперед такие страны, как Индонезия, Бразилия, Пакистан, Бангладеш и Нигерия.
С 2006 года Кремль поставил проблемы демографии во главу угла и разработал государственную политику, направленную на стимулирование рождаемости. Однако специалисты сомневаются в том, что нынешние тенденции удастся обратить вспять, и считают, что Москва явно переоценивает демографический вес России в будущем. Данная ситуация приводит к раздвоению мнений в российской элите.
Одни полагают, что для следующих десятилетий будет характерен все больший дисбаланс между растущим народонаселением мира и оскудением природных ресурсов. Как страна, одаренная природными богатствами, но вместе с тем находящаяся не в ладах с демографией, Россия будет испытывать сильное давление извне. Поэтому по мере повышения своей основополагающей роли в мировой геополитике, ей придется укреплять безопасность собственных границ.
Другие говорят, что у Москвы имеются уникальные возможности максимально увеличить добычу нефти и газа в течение следующих 20 лет. При этом российская элита будет противиться любой модели устойчивого развития, предлагаемой ЕС, поскольку широкое и повсеместное использование природных ресурсов останется лучшим способом сохранять сказочные богатства.
Россия считает энергетические ресурсы своим главным козырем на ближайшие два десятилетия, а поскольку в основе геополитического менталитета российской элиты лежит принцип баланса сил, идея перераспределения мировых ресурсов во имя глобального управления и решения мировых проблем Москве абсолютно чужда.
Обсуждая международную политику, Россия и Евросоюз говорят на разных языках. Брюсселю очень трудно иметь дело со страной, открыто бросающей вызов его ценностям и стремящейся к самоутверждению в мировой политике. Москва в силу впечатляющего экономического возрождения просто одержима собственным престижем. Россия ведет себя все более высокомерно по отношению к Европейскому союзу с его культурой политического компромисса.
Маниакальная тяга к престижу – это ключ к пониманию России в период путинского правления, а также в течение первых месяцев пребывания у власти Медведева. Его главной целью остается возрождение былого величия и авторитета страны. Вот почему для Кремля так важны сопоставления с прошлым.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ – В ИСТОЛКОВАНИИ ПРОШЛОГО
Интерпретация событий относительно недавнего прошлого оказывает значительное воздействие на нынешнее политическое мышление. Рискуя чрезмерно упростить суть проблемы, все же можно утверждать, что российская элита (за редкими исключениями) предпочитает не вспоминать о советском прошлом и не ворошить событий вчерашнего дня, обращаясь вместо этого к доблестной истории военных лет.
Россия и некоторые страны ЕС вовлечены в «битву воспоминаний», корни которой уходят в разную трактовку коммунизма и фашизма, с одной стороны, и холодной войны, с другой, не говоря уже о Второй мировой войне. Это «сражение» является частью психологического самоопределения сторон, что подчас игнорируется Евросоюзом в его контактах с Москвой. Сегодняшнее возрождение национализма в России можно объяснить глубокой ностальгией, которую испытывает подавляющее большинство населения. Это все, что остается для тех слоев, которые никак не выигрывают от общего экономического роста последних лет.
Всеобщая ностальгия вдохновляет власти предержащие на проведение политики реваншизма. После славной победы над нацизмом в 1945-м, господства над доброй третью земного шара вплоть до 1989 года и жестокого унижения в 1991-м Россия не допускает даже мысли о том, чтобы пересмотреть современную историю. Например, трезво взглянуть на проводившуюся советским режимом оккупационную политику. Иосиф Сталин остается в глазах многих россиян прежде всего победителем в Великой Отечественной войне. Адепты новых философских веяний с политическим подтекстом утверждают, что «криминализация» Сталина Западом преследует цель украсть у русских победу 1945 года, унизить Россию на международной арене.
Кому-то этот спор может показаться уделом военных историков и специалистов, но он имеет прямое отношение к национальным амбициям. Система власти в России зиждется на тесной связи между престижем государства и авторитетом армии. Как в эпоху Российской империи, так и в советское время военным целям всегда придавалось приоритетное значение. Иными словами, за «битвой воспоминаний» встает серьезная проблема милитаризации российской власти, которая, подражая США, так и не избавилась от искушения демоном военных побед и таким образом бросает вызов стратегической культуре Европы. В конечном итоге это влияет на баланс гражданских и военных структур общества, поощряя силовиков постоянно обращаться к символике военных побед.
В августе 2008-го Российская армия, которая никогда не была такой сильной, какой хотела казаться, но и такой слабой, как представлялось некоторым западным лидерам и наблюдателям, одержала первую важную победу за многие годы. Вне всякого сомнения, это окажет психологическое воздействие на российские элиты и неизбежно будет подпитывать милитаризм.
В политическом плане победа уже эксплуатируется следующим образом:
на Кавказе ничего не может делаться без России (явное предупреждение Баку);
так называемая «стратегия дел», проповедуемая влиятельными сторонниками расширения НАТО на восток, потерпела крах в Грузии (ясное предупреждение Украине);
Западу придется разобраться с собственными противоречиями;
наконец, что тоже немаловажно, будущее Михаила Саакашвили зависит исключительно от благоволения России, что унизительно для администрации Джорджа Буша, которая за восемь лет не добилась успеха ни в одном своем начинании.
Эта победа способна породить иллюзию того, что у России есть реальные возможности. Не подлежит сомнению, что Москва в силах заблокировать процессы, происходящие в так называемом «ближнем зарубежье». Однако Россия, слишком лелея собственный престиж, не способна привлечь к себе другие страны и создать могущественные альянсы.
Западные политики, конечно же, недостаточно серьезно отнеслись к этой одержимости престижем. Они не поняли, сколь важна интерпретация прошлого для России, ведущей поиск своего места в глобальной политике. Они не придавали значения памяти о Второй мировой войне, не приняли во внимание то, как трактуется переходный период. Во время президентства Путина появилось новое понимание трудностей политико-экономического развития России: они не только объяснялись советским наследием и 70-летним господством коммунизма, но и связывались с «переходным периодом».
Рискуя провести неверную параллель, все же осмелюсь утверждать, что правящая российская элита интерпретирует и «переходный период», и расширение НАТО как очередную версию Версальского договора. Игнорируется тот факт, что речь не идет о военном поражении, а советская империя рухнула, не спровоцировав крупных конфликтов. Подобная трактовка – следствие чувства геополитической несправедливости, которое подпитывается памятью о социально-политических потрясениях того времени. Экономическое возрождение и политическое восстановление способствовало появлению нового понимания «переходного периода» как времени ограбления России Западом.
Все эти толкования можно долго обсуждать. Главное заключается в том, как они влияют на представления друг о друге. Следует также принять во внимание ту простую истину, что в России выработалось стойкое неприятие Запада.
ЕСТЬ ЛИ У МЕДВЕДЕВА ПОЛЕ ДЛЯ МАНЕВРА?
Заявление Владимира Путина о том, что распад СССР был «величайшей геополитической катастрофой XX века», шокировало Европу, и в первую очередь страны бывшего Варшавского договора. Однако Путин выразил глубокие чувства своих соотечественников.
Путинская Россия не чувствует ответственности за прошлое. В начале своей карьеры Владимир Путин воспринял как собственное то унижение, которое испытала Россия в 1990-х, и, похоже, одержим идеей возрождения былого могущества и величия, которое во многом идеализировалось. Многим казалось, что в силу возраста и предшествующей карьеры у Медведева не было оснований считать Россию униженной. Напротив, будучи зрелым человеком, отвечающим за свои поступки, он мог наблюдать, как его страна постоянно двигалась по восходящей. В перспективе эта разница между двумя президентами могла оказаться решающей. Но похоже, что после Грузии тандем Путин/Медведев укрепился благодаря реальному опыту взаимодействия.
Сразу по вступлении в президентскую должность Дмитрий Медведев нанес серию международных визитов и поддержал принятие новой Концепции внешней политики (июль 2008 г.), которая, впрочем, не отличалась большой оригинальностью. Выступая с важной речью в Берлине (июнь 2008 г.), Медведев изложил свое видение «всего евро-атлантического пространства от Ванкувера до Владивостока» – фраза, которая для специалистов в области российской внешней политики не показалась чем-то принципиально новым.
Однако заслуживает внимания следующее его утверждение: «В результате окончания холодной войны возникли условия для налаживания подлинно равноправного сотрудничества между Россией, Евросоюзом и Северной Америкой как тремя ветвями европейской цивилизации». Сейчас еще преждевременно оценивать значение, которое здесь придается отношениям с Евросоюзом и США, но очевидно, что Медведеву хотелось бы добиться большего признания на Западе. В перспективе внешнеполитические ориентиры российского президента будут зависеть от формирующегося соотношения сил между Россией, Европой и Соединенными Штатами; оно повлияет не только на европейскую, но и на мировую безопасность. Правда, после Грузии эта мягкая попытка установить новые отношения представляется неактуальной…
Медведеву придется иметь дело с наследием Путина – в основном в области безопасности. В результате войны в Чечне и восстановления статуса мировой державы с помощью энергетических ресурсов Россия при Путине неожиданно для Запада вступила в фазу экономической экспансии и политического самоутверждения. По сути, Москве следовало бы избегать прямой конфронтации.
Однако российское руководство оказалось перед непростым выбором: или агрессивно отстаивать национальные интересы, или делать все, чтобы зарекомендовать себя надежным партнером. Проще говоря, война была неотделима от власти Путина.
Вот почему было важно понять, во-первых, как Медведев будет относиться сразу после своего избрания к взрывоопасным ситуациям в Абхазии и Южной Осетии, а во-вторых, уяснить отношение силовых ведомств к новому президенту. Похоже, ответ теперь предельно ясен: война будет неотделима и от политики Медведева.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
Эта мысль подводит нас к деликатному вопросу: какими будут главная цель и программа российской власти на ближайшее десятилетие? Как обычно, престиж?
В долгосрочной перспективе главная цель, вероятно, будет заключаться в восстановлении престижа России на международной арене и в подготовке к конкуренции за природные ресурсы, которая, с точки зрения российской элиты, неизбежна. Согласно подобным представлениям, Российская Федерация станет одновременно ключевым игроком и целью для многих конкурентов. И ее политические задачи носят исключительно национальный, федеральный и суверенный характер. В отличие от других европейских столиц Москва не мыслит своего будущего как составной части межгосударственного объединения. Основной задачей в области безопасности останется сохранение Российской Федерации в ее нынешних границах. Вот почему власть столь ревностно отстаивает суверенитет Российского государства.
Сохранение путинского наследия в качестве руководящего принципа объясняет, почему Медведев так озабочен созданием поля для маневра, отказываясь играть роль «младшего партнера» Вашингтона и – в более широком смысле – строя внешние отношения по принципу ассоциации, но не интеграции. Существует убеждение, будто Россия способна выработать и отстаивать собственные правила и ценности. Модернизация не идет рука об руку с европеизацией, хотя в кулуарных беседах подчас высказываются прямо противоположные суждения.
Представители российской элиты предпочитают демонстрировать экономические мускулы и подчеркивать, что их страна является равноправной участницей БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Стремление показать динамичное развитие российской экономики и приуменьшить политико-экономическое влияние Запада стало мантрой российского истеблишмента. В Москве часто говорят, что по экономическому потенциалу БРИК обгонит большую «шестерку» (Великобриатния, Германия, Италия, США, Франция, Япония) в течение следующих четырех десятилетий. Это, в свою очередь, оказывает весьма двойственное влияние на российское представление о глобализации.
С одной стороны, она расценивается как угроза самобытности в силу растущего обмена не только между государствами, но и между гражданскими обществами, а это остается чрезвычайно чувствительной темой для Кремля. Москва опасается, что глубокие преобразования в обществе под влиянием внешних факторов неизбежно дестабилизируют власть.
С другой – ссылки на БРИК могут быть истолкованы как желание политиков использовать возможности глобализации в целях модернизации.
МИРОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА?
Международная политика Москвы будет, безусловно, определяться расстановкой сил в сфере безопасности. Необъятность территории предопределяет присутствие России одновременно на нескольких региональных сценах, и эту ситуацию она при всем желании не сможет изменить. Отсюда и обширная дипломатическая активность как на мировом (с использованием международных институтов, и прежде всего статуса постоянного члена СБ ООН), региональном (посредством таких форумов, как Шанхайская организация сотрудничества), так и на двустороннем уровне (где баланс сил играет ключевую роль, особенно на постсоветском пространстве и в отношениях с европейскими странами).
Следовательно, при Медведеве явно не предвидится сокращения сферы внешнеполитической деятельности. Дорожа путинским наследием, он будет использовать все возможности влияния в таких регионах, как Ближний Восток и Северная Африка. В основе политики Путина лежала стратегическая традиция свободы действий, хотя в большинстве случаев она не находит применения.
Взаимоотношения России с другими странами по-прежнему осложняются ее внешнеполитическим курсом, во главу которого ставятся постимпериалистические и националистические интересы. Тот факт, что Москве не удалось осуществить региональную интеграцию, свидетельствует о том, что она не может долгое время придерживаться принципов взаимного доверия. Отчасти это объясняется тем, что она не считает возможным положиться на соседей.
Недоверие лежит в самой основе российской властной вертикали и коренится в системе связей между гражданскими и силовыми структурами. А ведь построение такой системы составляет костяк программы российской власти. По сути своей, эта программа реалистична, поскольку продумывает расклад сил при любых обстоятельствах, чтобы воспользоваться малейшей возможностью для быстрого извлечения выгоды. Чтобы и дальше удерживать власть в стране, российской элите необходимо наличие серии угроз, оправдывающих существование нынешних силовых структур. Вместе с тем ее представителям, все больше интегрирующимся в мировую элиту, придется оправдывать существование подобных угроз при личных встречах со своими коллегами.
Несмотря на различия в акцентах, интонации и средствах, и Борис Ельцин, и Владимир Путин начинали свое президентство с заявлений о желании укреплять связи с Западом, а заканчивали разговорами о евразийском пространстве, следуя историческим рефлексам военно-политической элиты. До конфликта с Грузией Медведев двигался в том же направлении. Похоже, что теперь он и его премьер-министр выбрали гордое одиночество.
Властные структуры, большая часть населения и политическое руководство России считают великодержавный статус страны фундаментальным моментом самоопределения. Спустя много лет после распада СССР Москва продолжает проводить внешнюю политику, преимущественно основанную на идее державничества: либо Россия – великая держава, либо она полный ноль. В этом смысле можно считать, что Дмитрий Медведев принял наследие Путина, даже если он считает, что его стране в одиночку не выжить.

Противоракетная оборона: история и перспективы
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2008
П.С. Золотарёв – к. т. н., замдиректора Института США и Канады РАН, профессор Академии военных наук, генерал-майор.
Резюме Системы ПРО способны снизить мотивацию пороговых стран к обладанию ракетно-ядерным потенциалом, а также уменьшить либо предотвратить ущерб от возможного применения ракетно-ядерного оружия. Но проблему противоракетной обороны необходимо решать так, чтобы это не приводило к нарушению стратегического баланса сил между основными ядерными государствами.
Противоракетная оборона (ПРО) превратилась в последнее время в одну из наиболее острых проблем международной политики. Намерение США развернуть третий позиционный район ПРО в Восточной Европе вызывает резкое несогласие России, которая угрожает ответными мерами. В Европе есть разные мнения о целесообразности американского проекта, да и в Вашингтоне хватает скептиков. Чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию, стоит вспомнить, как формировалось отношение сторон к идее противоракетной обороны.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Проблема ПРО возникла после первых атак на Лондон немецких крылатых ракет «Фау-1» и «Фау-2» летом – осенью 1944 года. Достаточно быстро был сделан вывод, что реальным способом защиты может быть только противоракета. Однако между этим выводом (примерно 1946-й) и первыми испытательными пусками противоракет в Соединенных Штатах и Советском Союзе (1961–1962) прошло почти 20 лет. Столь длительное время потребовалось для развития радиолокационных технологий и наращивания скорости противоракет. Таким образом, с самого начала противоракетная оборона нуждалась в новых технологиях, стимулируя их поиск в достаточно широком научно-техническом диапазоне.
И Москва, и Вашингтон прорабатывали два варианта – непосредственное поражение цели (попадание «пулей в пулю») и мощный взрыв, позволяющий уничтожать цель на значительном удалении. Обе стороны практически одновременно пришли к выводу о том, что приемлемый результат поражения может быть получен лишь при условии применения противоракет с ядерным боезарядом. Общим стал и вывод о целесообразности ограничить область прикрытия ПРО несколькими объектами из числа наиболее важных. Вплоть до 1964 года не возникало сомнений в том, что противоракетная оборона должна ориентироваться на поражение ракет противостоящей стороны (СССР или США). Приобретение ядерного статуса Китаем расширило диапазон ракетных угроз, но не повлияло на облик систем ПРО.
Необходимо отдать должное шефу Пентагона Роберту Макнамаре, госсекретарю Дину Раску, а затем и президенту Линдону Джонсону, которые в середине 1960-х первыми осознали необходимость таких ограничений. Их опасения были связаны с тем, что успешная попытка создания ПРО одной из сторон может вызвать опасную иллюзию неуязвимости и в определенной ситуации подтолкнуть к непоправимому решению применить ядерное оружие.
Военно-политическому руководству СССР было не до новых идей. Основные усилия Москвы концентрировались на сокращении отставания в сфере стратегических ядерных вооружений. Для этого имелись веские основания. После проведенных в Советском Союзе испытаний ядерного оружия Соединенные Штаты приступили к разработке реальных планов ядерной войны против СССР. Согласно плану Trojan, боевые действия предполагалось начать 1 января 1950-го. На то время США имели на вооружении 840 стратегических ядерных бомбардировщиков и свыше 300 атомных бомб. Однако в ходе штабных учений выяснилась неготовность Вашингтона к ведению превентивной ядерной войны, и поэтому вопрос сняли с повестки дня.
В 1953 году администрация Дуайта Эйзенхауэра приняла концепцию «массированного возмездия». В декабре 1960-го был составлен первый всеобъемлющий план ведения ядерной войны – Единый комплексный оперативный план (Single Integrated Operational Plan, SIOP). В нем постулировалось ведение против СССР только всеобщей ядерной войны с неограниченным применением ядерного оружия (ЯО).
В 1961 году на смену этому плану пришел SIOP-2. Он предусматривал проведение пяти взаимосвязанных операций:
уничтожение советского ядерного арсенала;
подавление системы ПВО;
уничтожение органов и пунктов военного и государственного управления;
уничтожение крупных группировок войск;
нанесение ударов по городам.
Военно-политическое руководство США исходило из необходимости иметь такой состав стратегических ядерных сил (СЯС), который обеспечил бы реализацию концепции «гарантированного уничтожения» Советского Союза как жизнеспособного государства.
Возможность проведения упреждающего удара по центральным пунктам государственного и военного управления («обезглавливающий удар») и носителям ядерного оружия («контрсиловой удар») позволяла Вашингтону надеяться на сведение к минимуму вероятности ответного удара. Сочетание планируемых упреждающих ударов с возможностями системы ПРО создавало ощущение, что победа в войне с СССР достижима, а ущерб от ответных действий может быть минимальным.
Советское руководство первоначально настороженно восприняло инициативы по ограничению систем ПРО. Однако внешнеполитическая ситуация подталкивала оба государства к поиску путей снижения напряженности в двусторонних отношениях.
Суть советской позиции сводилась к необходимости учитывать американские средства передового базирования в балансе стратегических сил. Соединенные Штаты придавали большее значение вопросу об ограничении ПРО. Американский подход, основанный на сокращении масштаба развертывания систем ПРО, в целом удовлетворял Москву. Тогдашний министр обороны США Роберт Макнамара сумел доказать советскому руководству, что создание ПРО является дестабилизирующим фактором. Далее обсуждение проблемы в основном касалось технической стороны – количества и расположения районов развертывания и деталей конфигурации системы.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (Соглашение ОСВ-1), подписанные в Москве в мае 1972-го, знаменовали собой качественные изменения в советско-американских отношениях. Ни одна из сторон не имела шансов нанести ядерный удар, не получив уничтожающего ответного удара, что стало фактором обеспечения стабильности отношений.
Тем не менее фиксация допустимого уровня развития систем ПРО не остановила развитие наступательных ядерных средств. Советский Союз постоянно оставался в положении страны, вынужденной отвечать на очередной вызов: добиваться количественного паритета в стратегических ядерных вооружениях, реагировать на качественный отрыв Соединенных Штатов (принятие на вооружение разделяющихся головных частей), на размещение в Европе американских ракет «Першинг-2», способных нанести «обезглавливающий удар» по СССР, и т. д.
В марте 1983 года президент Рональд Рейган обнародовал новые планы США в рамках стратегической оборонной инициативы (СОИ). Есть основания считать, что программа «звездных войн» была нацелена на скачок в развитии передовых технологий, что в итоге и было достигнуто. Но как бы то ни было, в сложной для себя экономической и политической обстановке Советский Союз реагировал на СОИ со всей серьезностью и напряжением сил.
С началом процесса разрядки инициативы в области противоракетной обороны приобрели иную тональность. Президент США Джордж Буш-старший предложил переориентировать программу СОИ на создание системы ПРО для защиты Соединенных Штатов и их союзников, а также группировок войск от одиночных и групповых ударов – глобальной системы защиты от ограниченных ударов (ГЗОУ). Однако работа над такой системой требовала выхода за пределы ограничений Договора по ПРО. Взаимные консультации – сначала советско-, затем российско-американские – привели к предложениям российской стороны о совместной разработке и эксплуатации глобальной системы защиты (ГСЗ). На встрече в верхах в Кэмп-Дэвиде в феврале 1992-го президент Российской Федерации Борис Ельцин выдвинул инициативу трансформировать СОИ в международный проект с участием России. Эти предложения предусматривали открытость ГСЗ для всех государств, желающих участвовать в ее создании.
Однако Соединенные Штаты не были готовы к равноправному сотрудничеству. Символическое участие России в создании системы, заимствование некоторых передовых технологий допускались, но, судя по всему, ради одной цели – отказа от Договора по ПРО. Тем более исключалась идея создания международной системы, участвовать в управлении которой мог бы кто-либо, кроме Вашингтона.
Фактически предложения России были отвергнуты, однако из-за благоприятного политического фона это не нанесло ущерба отношениям. Более того, обе страны достаточно успешно развивали сотрудничество в области ПРО театра военных действий (ПРО ТВД).
Администрация президента США Билла Клинтона выдвинула компромиссный вариант системы противоракетной обороны – создание ограниченной национальной ПРО для защиты от единичных и групповых ударов. Благодаря ограниченным возможностям такая система не должна была вызывать беспокойство России и Китая, но требовала корректировки Договора по ПРО. Однако официальная позиция российской стороны не предполагала компромиссов. Ряд политических сил в России вновь подняли вопрос о совместной российско-американской системе противоракетной обороны, но на официальной позиции это не отразилось.
В июне 2000-го в ходе российско-американского саммита в Москве президент Владимир Путин официально выступил с инициативой о создании общеевропейской системы нестратегической ПРО в качестве альтернативы американской национальной ПРО. Соединенные Штаты согласились рассмотреть это предложение, но не как альтернативу своим планам, а как дополнение к программе национальной ПРО.
Бескомпромиссность России в отношении Договора по ПРО в конечном итоге вылилась в решение администрации Джорджа Буша-младшего о выходе из этого договора. Тем не менее возможность сотрудничества по ПРО продолжала декларироваться. Так, при подписании в Москве Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор СНП) в мае 2002-го была принята совместная декларация, согласно которой вопросы стратегической стабильности в новых условиях и сотрудничество по ПРО должны стать предметом дальнейшей совместной работы. Фактически с этой целью была образована комиссия в составе министров иностранных дел и обороны обеих стран. Однако ее работа не отличалась активностью. Поэтому обострение ситуации из-за намерений США разместить элементы системы ПРО в Польше и Чехии вполне закономерно.
Таким образом, вся история российско-американских отношений в сфере противоракетной обороны дает основания для того, чтобы относиться к американским планам с недоверием.
ИСТОКИ НЕДОВЕРИЯ
Фундаментальным фактором взаимного недоверия является высокая готовность стратегических ядерных сил сторон к применению из-за сохранения задачи взаимного ядерного сдерживания. Оба государства оказались заложниками средств, созданных в период холодной войны, прежде всего межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, которые не могут быть переведены в состояние пониженной готовности к пуску без нарушения штатного режима эксплуатации. Все наземные комплексы МБР находятся в состоянии готовности к применению в режиме ответно-встречного удара. И могут быть применены по сигналам системы предупреждения о ракетном нападении.
В результате сохраняет актуальность задача поддержания системы «взаимного гарантированного уничтожения». Отсюда и неизбежность поддержания баланса стратегических ядерных вооружений и стратегических оборонительных систем. Все это и создает фундамент взаимного недоверия, но в первую очередь недоверия России к Соединенным Штатам, поскольку она постоянно находится в положении догоняющего государства.
К числу факторов, порождающих недоверие российской стороны, можно отнести следующие обстоятельства.
США пытаются убедить Россию в том, что создаваемая система не направлена против нее. Вместе с тем подобное утверждение противоречит доктринальным подходам Вашингтона к построению оборонной политики. Соединенные Штаты декларировали, что исходят не из оценки угроз национальной безопасности, а из оценки возможностей других государств нести в себе такую угрозу. Россия – единственная страна, обладающая ядерным потенциалом, позволяющим уничтожить США. Нет оснований полагать, что, создавая многоэшелонную и крайне дорогостоящую систему противоракетной обороны, Вашингтон не предусматривает возможность уничтожения российских стратегических ракет.
Все предварительные проработки вариантов сотрудничества и совместного создания системы противоракетной обороны наталкиваются на желание американской стороны ей управлять.
При этом элементы ПРО в Польше и Чехии могут оказаться лишь первым шагом всей этой системы на европейском континенте. Как и в случае с расширением НАТО, Россия снова может услышать рассуждения о праве каждого государства на защиту от возможной ракетной угрозы. В результате в западной части Европы будет развернута значительная группировка средств ПРО, способная нарушить стратегический баланс сил.
Москва давала понять Вашингтону, что системы противоракетной обороны, расположенные на территории России, позволяют оптимальным образом отражать ракетные угрозы с южного направления. Однако американцы не проявили интереса к такому сотрудничеству. Наряду с этим нет недостатка в информации о намерении США разместить элементы ПРО на территориях к югу от Российской Федерации. Это свидетельствует о двойном назначении американской системы: и против угроз с юга, и против России.
По оценкам ряда российских и американских экспертов, противоракеты, обладающие скоростью 4,5–9 км/сек., способны уничтожать цели, расположенные на расстоянии 2 000–2 500 км от места их дислокации (в данном случае на северо-востоке Польши). Исходя из этого, делаются предположения о том, что элементы системы ПРО в Восточной Европе могут быть задействованы против ракет, расположенных в Саратовской, Челябинской и Оренбургской областях. При скорости порядка 9 км/сек. противоракеты будут способны поражать ракеты, стартующие из любой европейской части России, в том числе вдогонку за боевыми блоками.
Кроме того, у российских экспертов есть опасения, что и по функциональным возможностям элементы системы американской ПРО в Европе будут заметно превосходить декларируемые характеристики. Нельзя исключать, что противоракеты в Польше легко переоборудовать в боевые. Последним понадобится незначительное подлетное время для поражения важных объектов на территории России. Вполне вероятно также, что противоракеты будут функционально пригодны для решения задач противоспутниковой борьбы. Нет гарантии, что они не станут использоваться для уничтожения космических ракет, запускаемых с российского космодрома в Плесецке.
Нельзя не учитывать, что планируемая РЛС в Чехии способна контролировать всю ракетно-космическую деятельность в европейской части России, в том числе и на полигоне Плесецк, а также акватории Баренцева, Белого и Карского морей, то есть зону действий Северного флота РФ, и т. п.
Наращивание боевых возможностей системы противоракетной обороны связано с развитием космической компоненты, позволяющей уничтожать боевые блоки на пассивном участке полета. Весьма вероятно, что это повлечет за собой появление системы американской ПРО, способной эффективно отражать ответные действия СЯС России.
Планы Соединенных Штатов, нацеленные на то, чтобы сформировать одновременно с оперативно развернутыми СЯС значительный возвратный потенциал и наметить перспективу эффективной системы национальной ПРО, могут привести к разрушению стратегического баланса сил между двумя основными ядерными государствами. Это нанесет серьезный ущерб стратегической стабильности в глобальном масштабе.
В то же время, несмотря на значительный потенциал недоверия, система ПРО способна существенно содействовать обеспечению безопасности в условиях ядерной многополярности.
ПРО В УСЛОВИЯХ ЯДЕРНОЙ МНОГОПОЛЯРНОСТИ
Ядерная многополярность означает существование нескольких групп государств:
официально признанные ядерные государства (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай);
непризнанные ядерные государства, открыто заявившие о наличии у них ядерного оружия (Индия, Пакистан);
государства, не признающиеся в обладании ядерным оружием (Израиль);
государства, имеющие мотивацию к обладанию ядерным оружием и необходимый для этого научно-технологический потенциал (КНДР, Иран);
государства «латентные», т. е. способные создать ядерное оружие, но в силу политической и военной нецелесообразности воздерживающиеся от перехода в разряд ядерных (Аргентина, Бразилия, Южная Корея и др.).
Нарастающие проблемы с энергоресурсами делают неизбежным распространение ядерных технологий. В результате ядерная многополярность будет расширяться, а ракетно-ядерные угрозы – возрастать.
Системы ПРО способны снизить мотивацию к обладанию ракетно-ядерным потенциалом, а также уменьшить либо предотвратить ущерб от возможного применения ракетно-ядерного оружия.
Но проблему ПРО необходимо решать так, чтобы это не приводило к нарушению стратегического баланса сил между основными ядерными государствами.
Существует ряд особенностей построения систем ПРО. Достаточно указать на следующие.
Ракетно-ядерная опасность может возникнуть с разных географических направлений. Поэтому система противоракетной обороны должна быть достаточно гибкой.
Преднамеренное применение официально признанными ядерными государствами ядерного оружия друг против друга практически исключено ввиду полной бессмысленности. Но поддержание баланса ядерных потенциалов может еще длительное время сохранять политическую актуальность, влияя тем самым на отношение к появлению системы ПРО у одной из сторон.
Наиболее актуальны угрозы применения ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении непризнанными, непризнающимися или будущими ядерными государствами, но в перспективе не исключены угрозы применения межконтинентальных баллистических ракет.
Система ПРО эффективна лишь при условии, что она способна поразить цель на различных участках траектории полета ракеты и боевых блоков.
Эффективная система противоракетной обороны не может быть создана на территории одного государства из-за неопределенности направлений движения ракет и необходимости поражения целей на различных участках траектории полета.
Рассредоточение средств ПРО неизбежно будет вызывать опасения государств, обладающих ракетным потенциалом и попадающих в зону действия этих средств.
Опасения в связи с размещением вблизи национальной территории средств ПРО могут быть сняты в случае участия других государств, обладающих ракетно-ядерным потенциалом, в процессе управления этими средствами.
Оптимальной с точки зрения затрат может быть система, использующая национальные средства ПРО государств, расположенных вблизи ракетоопасных направлений.
Оптимальная ПРО – совместная (коллективная) по построению. Ее система управления должна позволять совместное использование национальных информационных и огневых средств, а также участие в управлении боевых расчетов от государств-партнеров.
Применительно к существующим средствам и системам можно предположить, что в состав совместной (коллективной) системы ПРО должны входить:
национальные средства систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН);
национальные мобильные (наземного, морского и воздушного базирования) и стационарные огневые комплексы систем ПРО для поражения ракет на активном и пассивном участках траектории их полета;
национальные наземные противоракетные комплексы, включая радиолокационные средства наведения, для поражения боевых блоков ракет на пассивном и конечном участках полета;
совместные (многонациональные) средства и пункты управления, которые позволяют в комплексе использовать национальные средства ПРО различных государств, принимающих участие в создании системы противоракетной обороны.
Впоследствии в составе системы ПРО могут появиться космические средства поражения боевых блоков на пассивном участке траектории их полета.
Очевидно, что элементы противоракетной обороны, размещаемые на национальной территории, должны находиться в собственном управлении, что, однако, не отменяет возможность их применения в составе общей системы. Средства ПРО для поражения боевых блоков ракет на конечном участке траектории их полета, вероятнее всего, нет смысла включать в состав совместной системы противоракетной обороны. Однако необходимо информационное сопряжение национальной системы ПРО и элементов совместной системы. Лишь зная результаты действия совместной системы ПРО, можно эффективно решать задачу уничтожения сохранившихся боевых блоков.
Если брать за основу принятый более 10 лет назад российско-американский Меморандум об открытии в Москве совместного Центра обмена данными (ЦОД), то необходимо выделить несколько важных позиций, предусмотренных этим документом.
Во-первых, предполагается сделать ЦОД открытым для участия в его работе представителей других стран.
Во-вторых, участники ЦОДа обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о предстоящих пусках ракет (испытательных, учебно-боевых, научных), запусках космических аппаратов и т. д.
В-третьих, на первом этапе ЦОД должен оснащаться национальными техническими средствами отображения информации от СПРН, но в последующем предусматривается их сопряжение.
Фактически ЦОД может послужить фундаментом для создания совместной системы управления противоракетной обороной. Но возможно ли в принципе коллективное управление столь сложными структурами? Не получится ли так, что, пока будет вырабатываться совместное решение, оно окажется уже ненужным? В этой связи необходимо отметить следующее.
В условиях ограниченного времени огневые средства систем ПРО эффективны лишь в автоматическом режиме функционирования. Временной дефицит не позволяет в автоматизированном режиме (при участии человека) сопровождать цели, распределять средства для их поражения, осуществлять их запуск и наведение на цель.
С учетом этой особенности на пункт управления системы региональной ПРО, вероятнее всего, могут возлагаться следующие функции:
сбор и отслеживание информации о состоянии национальных огневых комплексов, предоставленных для использования в составе объединенной системы региональной ПРО;
перевод огневых комплексов в то или иное состояние готовности с учетом информации, получаемой из различных источников, в том числе от национальных СПРН;
сбор и анализ информации о ходе выполнения задач по поражению целей на различных участках траектории их полета (для оптимального использования всех имеющихся в распоряжении средств).
При таком наборе функций реальна постановка вопроса о совместном пункте управления. Сами огневые комплексы будут действовать в автоматическом режиме при условии их заблаговременного перевода в необходимую степень готовности.
Очевидно, что на сегодняшний день актуальна постановка вопроса о региональной системе противоракетной обороны. Мобильный характер большинства существующих комплексов ПРО (С-300, С-400, Patriot, Aegis и пр.) позволяет реализовывать гибкую архитектуру системы, способную к развертыванию на различных ракетоопасных направлениях. Определенный опыт региональных ПРО уже накоплен. Есть основание и необходимый технический задел для осуществления комплексного применения и управления существующими национальными средствами противоракетной обороны.
ИСКУССТВЕННЫЙ ТУПИК
Комплекс ПРО в Восточной Европе имеет целью защитить Соединенные Штаты от межконтинентальных баллистических ракет в неопределенной временнЧй перспективе.
Совместные же с Россией работы по созданию европейской системы ПРО приостановлены. Выходом из создавшегося тупика призвана быть ориентация на главный принцип – не нарушать баланса сил между основными ядерными державами. Однако озабоченность Москвы как раз и состоит в том, что этот принцип может быть нарушен.
Из отмеченных ранее особенностей построения систем противоракетной обороны следует, что наиболее эффективный путь решения возникшей проблемы был предложен российским президентом. Открытие в Москве и Брюсселе Центров обмена данными и включение в систему российских радиолокационных средств закладывают фундамент для совместного построения системы ПРО как регионального, так и глобального масштаба.
Однако из американской позиции следует, что США готовы включить российские элементы противоракетной обороны в систему, но не готовы к совместному управлению ею. И всё же сдвиги в поведении Соединенных Штатов наметились. Во всяком случае, сам факт сделанного российской стороне предложения о мерах по наблюдению за элементами системы ПРО в Польше и Чехии говорит о признании озабоченностей Москвы обоснованными.
По всей вероятности, мы находимся в самом начале поиска компромиссных вариантов. На недавнем саммите НАТО в Бухаресте одобрены предложения о размещении элементов американской ПРО в Европе, но одновременно говорилось и о необходимости создания европейской системы ПРО. В этих условиях возможны два компромиссных варианта.
Первый и самый простой связан с углублением предложений США по контролю, который российские эксперты могли бы осуществлять за элементами системы ПРО в Польше и Чехии. Предложения Соединенных Штатов еще до конца не выработаны, но можно утверждать, что они окажутся приемлемыми лишь в том случае, если позволят контролировать выполнение следующих технических условий:
исключение возможности использовать радиолокационные средства, дислоцированные в Чехии, на российском направлении;
исключение намерения переоборудовать противоракеты в боевые ракеты;
предотвращение угрозы применения противоракет для поражения российских МБР и космических ракет.
Очевидно, что такой контроль не может быть основан на периодических экскурсионно-инспекционных проверках. Необходимо, чтобы российские специалисты постоянно находились на объектах. Но недостатки данной модели тоже очевидны – ведь их присутствие может быть прервано в случае обострения ситуации и требует согласия со стороны Польши и Чехии.
Второй вариант, как наиболее рациональный с точки зрения создания эффективной системы ПРО, не нарушающей баланса сил, – принятие российских предложений по совместному построению системы и, главное, управлению ею.
Каким будет решение, в значительной степени зависит от результатов президентских выборов в США – вероятнее всего, оно будет носить промежуточный характер. В дальнейшем не исключено постепенное движение в сторону российских предложений, не преследующих цель получить односторонние преимущества и наиболее рациональных с точки зрения построения эффективной системы ПРО.

Не разбрасывать камни в стеклянном доме
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2008
А.Г. Арбатов – член-корреспондент РАН, директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Москва вполне обоснованно взяла направление на изменение «правил игры» в отношениях с Западом, сложившихся в 90-х годах прошлого века. Но дело в том, что сказать «нет» совершенно недостаточно. Необходимо сформулировать конструктивную и конкретную альтернативу по основным вопросам.
Журнал «Россия в глобальной политике» уже не первый год держит планку на уровне высоких мировых стандартов как по системности и актуальности подбора тем, так и по профессионализму и стилю публикаций. Именно поэтому многие его статьи будят мысль и вызывают желание высказать собственное мнение по затронутым вопросам. К таким материалам относится, в частности, опубликованная в выпуске за март – апрель 2008 года статья Тимофея Бордачёва и Фёдора Лукьянова «Время разбрасывать камни».
Ее главный тезис приведен как эпиграф ко всему разделу: «…переход от модели холодной войны к какому-то новому статус-кво, характер которого еще не прояснился, продолжается. В таких условиях Российскому государству было бы рискованно начать полномасштабно “собирать камни”, пытаясь выстроить новую систему взаимоотношений с внешними партнерами. Велика опасность попасть под удар со стороны тех, кто эти камни пока разбрасывает» (сc. 76–77).
Свою идею авторы обосновывают тем, что мир стал неуправляем, на смену старому мировому порядку пришел не новый миропорядок, а хаос. Стремление США установить гегемонию в глобальном масштабе и попытки НАТО создать систему безопасности в евро-атлантической зоне и за ее пределами терпят крах. Глобальные финансово-экономическая и энергетическая системы выходят из-под контроля, а ООН, ОБСЕ и другие международные организации прошлого не адаптировались к новым реалиям, и их жизнь «подходит к концу». Разваливается договорно-правовая система ограничения вооружений и разоружения.
Из этого Бордачёв и Лукьянов делают вывод: тот, кто будет играть по старым правилам или пытаться их заново сформировать, непременно проиграет. Россия правильно делает, доказывают авторы, что с середины текущего десятилетия перешла к «активному и жесткому продвижению собственных фундаментальных интересов» (с. 79) и больше не остерегается идти вразрез с международными структурами, нормами и договорами. Это выражается в суровой критике ОБСЕ, несговорчивости в МВФ, падении интереса к ВТО и новому соглашению с Европейским союзом, решимости наложить вето в Совете Безопаснсти ООН по вопросу о независимости Косово, приостановке членства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и вероятном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) (сс. 84–85). Этот курс авторы статьи предлагают продолжать и впредь.
Ну что же, такая позиция в стиле «мачо» – предельно приземленная, отрицающая всякий идеализм и сурово прагматическая – не может не импонировать большинству в нынешней российской политической элите и общественном мнении. Особенно притягательно выглядит эта «крутизна» на фоне воспоминаний о благоглупостях конца 80-х и политических метаниях и унижениях 90-х годов прошлого века. И все же попытаемся разобраться в существе некоторых базисных предпосылок и выводов.
О ПОПУЛЯРНОМ ТЕЗИСЕ НЕУПРАВЛЯЕМОСТИ XXI ВЕКА
Начнем с того, что управляемость XX века в сравнении с новым столетием сильно преувеличивается. Даже если оставить за скобками две мировые войны и взять только период после 1945-го и до окончания холодной войны, то нынешние представления кое-кого о прошлом – это больше ностальгия, чем объективный исторический анализ. Психологически такое легко объяснить: биполярность ассоциируется со стабильностью, тем более что одним из полюсов был предшественник нынешней России – советская военная сверхдержава и глобальная империя.
Однако на деле после 1945 года управляемость и предсказуемость были скорее иллюзией, чем реальностью. Почти сорок лет мир жил в постоянном страхе перед всеобщей термоядерной войной в результате внезапной агрессии противника, неуправляемой эскалации кризиса либо технического сбоя. Как минимум, четырежды великие державы невольно подходили к грани ядерной войны (1957, 1961, 1962, 1973), причем однажды эту черту почти переступили – во время Карибского кризиса в октябре 1962-го. Тогда человечество было спасено не только и не столько благодаря осторожности Кремля и Белого дома, сколько по счастливому случаю.
Не было никакого «совместного управления» миром сверхдержавами – просто существовали негласно признанные «сферы влияния» в Европе и на Дальнем Востоке, а в остальных частях света ужас перед ядерной катастрофой заставлял обе стороны избегать прямого столкновения в их геополитическом соперничестве. Тем не менее за этот период произошли десятки крупных региональных и локальных конфликтов, унесших жизни более двадцати миллионов человек. Зачастую они разражались неожиданно, протекали неконтролируемо и завершались непредсказуемо, в том числе поражением великих держав: война в Корее, две войны в Индокитае, четыре войны на Ближнем Востоке, войны в Алжире, на полуострове Индостан, на Африканском Роге, в Анголе, Родезии, Афганистане, не говоря уже о бесчисленных внутренних переворотах и кровавых гражданских катаклизмах…
Разделение на «своих» и «чужих» периодически приносило сверхдержавам неприятные сюрпризы. Так, Китай сначала был «великим восточным другом», а потом стал главным военно-политическим и идеологическим врагом СССР, насеровский Египет выступал в качестве основного ближневосточного клиента Москвы, а садатовский Каир переметнулся к Соединенным Штатам.
Франция вышла из военной организации НАТО и подрубила под корень тыловую инфраструктуру альянса. Главный оплот американского влияния в Персидском заливе Иран, которому Соединенные Штаты продали горы оружия и заложили обширную ядерную программу, стал их заклятым врагом. Напавший на него Ирак сначала был американским помощником, а потом, после захвата Кувейта, стал основным противником США. Перечень примеров можно было бы продолжать, но и так ясно, что управляемость в период холодной войны – это скорее миф, чем реальность.
Спору нет, мир, вступивший в эру многоплановой глобализации и реальной многополярности, стал гораздо более сложным для понимания, а значит, и для согласованного управления ведущими державами. Ясно и то, что эйфория и надежды на всеобщую гармонию после окончания холодной войны были наивны. Но при всех разногласиях и соперничестве между великими державами сейчас нет антагонистических противоречий, не существует угрозы большой войны, никто никого не стремится «закопать». Как бы ни были ведущие государства подчас недовольны друг другом, ни одно из них (исключая маргинальных политических безумцев, которые есть везде) не желало бы крушения и распада США, России, Евросоюза, Китая, Индии, Японии, Бразилии, ЮАР, Украины, Казахстана… Все они хорошо осознают, что непредсказуемые последствия образовавшейся таким образом «черной дыры» причиняют вред, намного больший, чем выигрыш от устранения соперника.
Фундаментальная общность интересов многополярного мира, экономическая и социальная взаимозависимость диктуют гораздо бЧльшую «корпоративную солидарность», сдержанность и избирательность в выборе инструментов достижения интересов, чем страх перед ядерной катастрофой в прошлом веке. Между ведущими державами и их союзниками нет конфликтов, сравнимых по масштабам и жертвам с локальными войнами ушедшего столетия. Исключением являются гражданские войны в Югославии и Таджикистане, спонтанное насилие в несостоявшихся государствах Африки и террористическая война под американской оккупацией Ирака, но это не прямые и не опосредованные конфликты великих держав.
Иными словами, при всей сложности нынешних международных проблем (включая финансовый кризис, дефицит энергосырья и потепление климата) для их решения сейчас имеются более благоприятные предпосылки, а мир стал гораздо менее опасным, чем в годы холодной войны. Оговорку следует сделать в отношении угроз распространения и ракетно-ядерного оружия, и международного терроризма, которые создают вероятность применения ядерного оружия третьими странами либо террористами. Однако противодействие этой угрозе, как и решение других проблем, зависит от субъективной политики лидеров ведущих держав, и именно в ней заключаются главные трудности.
ПОЛИТИКА США В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
После завершения эпохи биполярности и холодной войны у Вашингтона был уникальный исторический шанс утвердить в международной политике верховенство правовых норм, ведущую роль легитимных международных институтов (прежде всего ООН и ОБСЕ), избирательность и законность применения силы исключительно для самообороны или в целях обеспечения мира и безопасности (по статьям 51 и 42 Устава ООН). Очевидно, что этот шанс возглавить процесс созидания нового многостороннего миропорядка, основанного на балансе интересов, Соединенные Штаты бездарно провалили.
Неожиданно ощутив себя «единственной сверхдержавой» и пребывая во власти эйфории, самолюбования и самонадеянности, политическая элита США все более подменяла международное право правом силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН – директивами американского Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ – действиями НАТО. Наиболее яркое выражение такая политика получила в военной операции против Югославии в 1999 году. После смены американской администрации в 2001-м и чудовищного шока от террористических актов 11 сентября того же года эта линия была возведена в абсолют. Вслед за справедливой, законной и успешной операцией в Афганистане Соединенные Штаты вторглись в Ирак (под надуманным предлогом и без санкции СБ ООН), намереваясь в дальнейшем «переформатировать» весь Большой Ближний Восток под свои экономические и военно-политические интересы.
В итоге США увязли в беспросветной оккупационной войне в Ираке (которая чревата еще более тяжелым поражением, чем во Вьетнаме), подорвали миротворческую миссию в Афганистане, раскололи антитеррористическую коалицию. Политика Вашингтона спровоцировала небывалый подъем антиамериканских настроений по всему миру, вызвала новую волну активности международного терроризма, подстегнула распространение ядерного и ракетного оружия.
Необоснованное расширение НАТО на восток возрождает противостояние Запада и России, для которого у обеих сторон нет ни мотивов, ни ресурсов и которое идет вразрез с их экономическими и политическими интересами. За пятнадцать лет, сосредоточившись на проблеме геополитической экспансии, альянс не смог и не захотел фундаментально реформироваться (как, впрочем, и Российская армия без реального гражданского руководства). Самый мощный военный союз в мире, поддерживая в Европе неизвестно зачем 1,8-миллионную армию, не может найти несколько дополнительных вертолетов и батальонов для успешного ведения миротворческой операции в Афганистане.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ДОГОВОРЫ
Трудности НАТО, как порождения холодной войны, в ее поисках новой роли в современном мире вполне объяснимы, хотя и не вызывают сочувствия. Проблемы Евросоюза есть следствие его поспешного и непродуманного расширения, но со временем их, видимо, удастся решить. Другое дело Организация Объединенных Наций. Бордачёв и Лукьянов пишут: «Созданная в обстановке жесткой биполярной конфронтации… ООН не может быть адаптирована к требованиям ни имперского, ни многополярного мира» (с. 77).
С этим никак нельзя согласиться. ООН была создана в 1945 году, когда еще была жива антигитлеровская коалиция, и предусматривала как раз формализованный исполнительный «концерт наций» из держав-победительниц как постоянных членов Совета Безопасности (то есть многополярность) плюс нормотворческий международный парламент в лице Генеральной Ассамблеи. Именно раскол антигитлеровской коалиции, приход биполярности и холодной войны парализовали ООН на сорок лет и превратили ее в форум пропагандистской полемики.
После окончания холодной войны наступил короткий золотой век Организации Объединенных Наций, которая стала впервые выполнять свои целевые функции как легитимная структура обеспечения международной безопасности. В частности, из 49 миротворческих операций ООН 36 были проведены после 1988-го. И хотя – в зависимости от локальных условий – не все из них были одинаково успешны, они обошлись гораздо дешевле и принесли более весомые результаты, чем односторонние акции по принуждению к миру со стороны США и НАТО.
Не многополярность и новые сложные проблемы, а односторонняя силовая политика США в текущем десятилетии нанесла удар по эффективности этой организации. Конечно, мир неузнаваемо изменился с 1945 года, и ООН настоятельно требуются глубокие и хорошо продуманные реформы. Но, вопреки мнению авторов рассматриваемой статьи, дело отнюдь не в генетической неадекватности организации, а в обострении разногласий между постоянными членами СБ ООН и в решимости Соединенных Штатов действовать вне международно-правового поля, когда коллеги по Совбезу с ними не согласны.
За это Вашингтон уже горько поплатился в Ираке. Наверное, администрация Буша сейчас дорого бы дала, чтобы повернуть время вспять и прислушаться к доводам России, Франции, Германии и Китая в 2003-м против необоснованной военной операции. И Западу еще предстоит расплатиться за то, как решалась проблема Косово. Глубоко увязнув в Ираке, США не решаются на одностороннее применение силы против Ирана. Но, собственноручно подорвав авторитет Совета Безопасности ООН, они дали повод и Тегерану безнаказанно игнорировать вот уже четыре резолюции Совбеза по иранской ядерной программе.
Международная система договоров по разоружению тоже не стала анахронизмом после окончания холодной войны. Без твердой опоры на системы и процессы ядерного разоружения нежизнеспособен и режим нераспространения ядерного оружия, что наглядно подтвердили события последнего двадцатилетия.
Правда, есть миф, что окончание холодной войны подстегнуло распространение ядерного оружия. Но и это не так. За четыре десятилетия холодной войны ядерное оружие обрели семь стран («Большая пятерка» плюс Израиль и ЮАР), а после ее окончания – три государства (Индия, Пакистан и – с оговорками – КНДР). Самые значительные прорывы в разоружении имели место в 1987–1999 годах: ДРСМД, ДОВСЕ, Конвенция о запрещении химического оружия, Протокол о контроле над конвенцией по бактериологическому и токсинному оружию, Договор СНВ-1, параллельные сокращения тактического ядерного оружия США и России, Договор СНВ-2, рамочные соглашения по СНВ-3 и по противоракетной обороне театра военных действий (ПРО ТВД), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), адаптированный ДОВСЕ .
Нет сомнения, что вовсе не случайно это был самый продуктивный период и в нераспространении ядерного оружия. К Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) присоединились 40 новых государств, включая две ядерные державы (Франция, КНР), он был бессрочно продлен; вступил в силу Дополнительный протокол для укрепления гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); семь стран отказались от ядерного оружия и военных ядерных программ или были лишены их насильно (ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия, Бразилия, Аргентина, Ирак).
Однако в текущем десятилетии безответственный курс США повлек за собой демонтаж системы разоружения, начиная с Договора по ПРО и кончая большинством вышеупомянутых соглашений. Вашингтон стремился максимально развязать себе руки для развития военных программ, опираясь на свое огромное военно-техническое превосходство. А в действительности он дал свободу рук странам, стремящимся к обладанию ядерным оружием и ракетными технологиями, и подорвал сотрудничество великих держав.
Ныне система и режимы ДНЯО трещат по швам. КНДР вышла из этого договора и провела ядерное испытание, Иран упорно движется к этому порогу по пути ядерных технологий двойного назначения, еще десяток стран заявили о намерении последовать данному примеру, ширится «черный рынок» контрабанды ядерных материалов и технологий, обладая которыми террористы могут получить доступ к атомному взрывному устройству.
Со своей стороны Россия недавно ввела мораторий на ДОВСЕ и заявила о вероятном выходе из ДРСМД. После истечения срока действия Договора СНВ-1 в 2009-м потеряет смысл и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) от 2002 года. Этот договор, срок действия которого истекает в 2012 году, предусматривает сокращение ядерных боезарядов США и РФ до уровней 1 700–2 200 единиц, но не имеет своей системы контроля и опирается на нормы СНВ-1.
От соглашения по ядерному разоружению останутся лишь договоры о частичном запрещении ядерных испытаний от 1963 и 1976 годов и несколько символических документов. В таком случае и на ДНЯО, скорее всего, можно будет поставить крест со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Все это не может не внушать острую тревогу. Но при чем тут «многополярность, формирующаяся в условиях распада институтов», о которой пишут Бордачёв и Лукьянов (с. 85)? Налицо преднамеренный и безответственный слом таких институтов и норм – в значительной мере со стороны нынешнего руководства Соединенных Штатов при поддержке некоторых их союзников, а с недавнего времени, увы, и с участием России.
Экономика и климат – предметы особого разговора, а вот нынешняя ситуация в сфере международной безопасности неуправляема ровно настолько, насколько ведущие державы не умеют ею управлять, не желая понимать ее механизмов и обратных связей. Она именно настолько неконтролируема, насколько ведущие страны ставят свои узкокорыстные, зачастую конъюнктурные интересы и амбициозные прожекты выше согласованных приоритетов и совместных действий по укреплению общей безопасности.
КАКАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА РОССИИ?
Вряд ли кто-то станет возражать против российской политики «наращивания своей относительной силы» и «активного и жесткого продвижения собственных фундаментальных интересов» (сс. 75, 79). Весь вопрос в том, как трактовать эти фундаментальные интересы. Одна версия, выдвигаемая, в частности, некоторыми экс-либеральными телеобозревателями, сводится к принципу «хватай все, что плохо лежит, а там видно будет». Другая трактовка предполагает определение внешнеполитических приоритетов и своих реальных возможностей, предвидение последствий собственных действий на несколько ходов вперед, утверждение важных международных принципов, которые в конечном итоге лучше и надежнее обеспечат национальные интересы.
Например, какую выгоду получила бы Москва от выхода из Договора по РСМД? Развернуть несколько дивизионов ракет «Искандер» повышенной дальности? Но при этом США будут иметь мощный аргумент в пользу дальнейшего расширения инфраструктуры ПРО в Европе, получат легальную возможность вернуть ракеты «Першинг-2» либо более современные системы с коротким подлетным временем на континент, причем не в ФРГ, а в страны Балтии.
Формальное признание Россией независимости Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья ничего не изменит в их материальном положении сверх начатого Москвой расширения экономических и гуманитарных контактов. Но это сыграет на руку сторонникам расширения НАТО на Украину, Грузию, Молдавию, а затем подтолкнет их к военному решению вопросов отделившихся территорий. Тем более что кроме России (и, возможно, Армении) ни одно из государств – участников СНГ не присоединится к такому признанию. От него отмежуются Китай, Индия, многие другие партнеры России на мировой арене, которые сейчас осуждают позицию ряда стран НАТО в отношении Косово. В дальнейшем вооруженный сепаратизм может вновь поднять голову в самой России и получить прямую поддержку извне, особенно с нарастанием демографических проблем.
Москва вполне обоснованно взяла направление на изменение «правил игры» в отношениях с Западом, сложившихся в 90-х годах прошлого века. Парадигма отношений того периода, когда Москва вольно или невольно шла в фарватере американского курса, когда с ее интересами не считались и ее мнением пренебрегали, абсолютно неприемлема сегодня. Ныне Россия стала значительно сильнее в экономическом и политическом отношении, а позиции США, Евросоюза, Японии ощутимо ослабли, причем в основном по их собственной вине. Проблема российской внешней политики не в том, что она стала более активна и самостоятельна, а в другом. Именно в этой связи тезис о продолжении «разбрасывания камней» вызывает серьезные возражения.
Дело в том, что сказать «нет» совершенно недостаточно. Необходимо сформулировать конструктивную и конкретную альтернативу по главным вопросам. Например, вполне обоснованно выступая против расширения НАТО на Грузию и Украину, России следовало бы четко изложить свое долгосрочное видение отношений как с Североатлантическим альянсом, так с соседними республиками. Ведь столь мощные военные организации и силы, как имеющиеся у России и НАТО, не могут просто мирно соседствовать, не обращая друг на друга внимания и занимаясь только своими делами. Они либо будут всё теснее сотрудничать и интегрироваться, либо станут подозревать другую сторону во враждебных намерениях и готовиться к военному конфликту.
Примером тому служит начавшаяся недавно на Западе кампания, направленная на возрождение «военной угрозы» с востока (указывая на полеты российских стратегических бомбардировщиков, дальние походы и стрельбы корабельных соединений). О том же свидетельствует новомодная концепция российской военной доктрины об «угрозе авиационно-космического нападения» и о развитии потенциала ее отражения, что подразумевает не что иное, как большую войну с НАТО.
России надо решить для себя, рассчитывает ли она на военную конфронтацию или на углубление военного сотрудничества с альянсом, создание крупного общего корпуса быстрого реагирования для совместных миротворческих операций в Европе и за ее пределами, борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой ядерных материалов и ракетных технологий. Все это подразумевает военный союз нового типа и глубокую реформу как НАТО, так и российской военной организации. Ждать инициативы со стороны Запада в нынешних условиях не приходится. Именно Россия, возрождаясь как великая держава, могла бы выдвинуть долгосрочный проект. В таком контексте ее возражения против расширения альянса выглядели бы вполне убедительно, а преодолеть саботаж новых членов НАТО было бы гораздо легче.
Делу немало помогли бы и предложения, направленные на решение проблем соседних республик, гарантии их суверенитета и территориальной целостности, планы экономического и гуманитарного сотрудничества при условии закрепления их военно-политического нейтралитета. И наоборот, разговоры об отделении Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Крыма и Донбасса сплачивают общественность и элиты соответствующих стран на антироссийской основе, побуждают обратиться к НАТО как единственному гаранту их территориальной целостности.
Другой пример – план США по строительству систем ПРО в Центральной Европе. Москва правильно сказала «нет», поскольку ракетная угроза Ирана пока не материализовалась, а новая база ПРО получит маргинальную возможность перехвата нескольких российских межконтинентальных баллистических ракет. Россия предложила сотрудничество в этой сфере на основе совместного использования радиолокационных станций (РЛС) в Азербайджане и Центра обмена данными о ракетных пусках в Москве. Однако, признав тем самым наличие ракетной угрозы с юга, Россия не может выдвигать радар и центр в качестве альтернативы системе ПРО, для которой нужны дополнительные РЛС и ракеты-перехватчики. Требуется или разветвленная российская система ПРО, или совместная с Соединенными Штатами и НАТО противоракетная оборона, которая тоже подразумевает военный союз нового типа.
В последнее время в российской политике наметилось по обеим темам позитивное продвижение. После саммита альянса в Бухаресте в апреле 2008-го Дмитрий Медведев и Владимир Путин весьма прозрачно высказались в том отношении, что вместо поспешного расширения на восток Североатлантическому блоку следует сосредоточиться на развитии хороших отношений и сотрудничества с Россией – и тогда многие конфликтные ныне вопросы будут выглядеть иначе. По поводу противоракетной обороны Путин сказал, что видит будущее решение в создании совместной системы ПРО России, США и Европы.
Однако для того чтобы эти идеи воспринимались не как полемические декларации, а всерьез, необходимо их продуманное военно-политическое и военно-техническое наполнение. Тут имеется непочатый край работы. Ни государственные ведомства, ни экспертное сообщество России не торопятся с предложениями. Многие просто не воспринимают заявлений руководства всерьез. Другие не желают брать на себя какую-то ответственность и обременять себя дополнительной работой. Третьи намеренно саботируют любые подобные инициативы, рассчитывая на упрочение своих позиций внутри страны в условиях роста конфронтации с Западом, невзирая на огромный ущерб, который, если придерживаться такой линии, может быть причинен национальным интересам и безопасности России.
Курс «бросания камней» авторы статьи советуют продолжать, пока не закончится «переход от эпохи холодной войны к какому-то новому статус-кво» (с. 76). Однако это ожидание может никогда не завершиться. Многополярная международная система, по сравнению с однополярной или биполярной, по своей природе переменчива и динамична; она никогда не придет к какому-то постоянному статус-кво. Конечно, в отличие от европейского «концерта наций» XIX века, нынешняя международная система неизмеримо более сложна и глобальна. Но и при ней в самом выигрышном положении оказывается та держава либо коалиция, которая построит наиболее оптимальные отношения с другими «центрами силы». Это дает большие преимущества для влияния на международную политику в своих интересах.
Выстраивание конструктивных взаимосвязей с другими государствами и союзами предполагает достижение договоренностей по важнейшим вопросам, повышение эффективности прежних многосторонних институтов и создание новых структур. Великая держава должна не разрушать, а активно формировать новую систему международных отношений, пока эту систему не создали другие без должного учета ее интересов. Нельзя поддаваться соблазну «доломать» ослабленные международные институты и договоры, по-быстрому урвать все что можно, следуя плохому примеру США. Ведь как раз такая политика привела Соединенные Штаты к провалу, подорвала их лидерство в мире, несмотря на огромное американское превосходство по экономическому и военному потенциалам, на подавляющее влияние США в международных союзах и организациях.
Запуская новый этап своих экономических и демократических реформ, Россия способна одновременно оказать большое позитивное влияние на формирование новой системы международных отношений. Разумеется, это возможно при том непременном условии, что Москва будет ясно представлять себе, чего хочет. Если она, как и подобает великой державе, станет придерживаться твердых принципов и вести себя последовательно и предсказуемо. Если она сможет адекватно представлять себе окружающий мир и точно соизмерять свои желания и возможности.

«Нам грозит более опасный период, чем холодная война»
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2008
По обе стороны Атлантики стало модно говорить о холодной войне. И хотя перемены в мире очевидны, соблазн вернуться в привычную конфронтационную обстановку, когда все было понятно, велик. Известный обозреватель Джонатан Пауэр, который на протяжении нескольких десятилетий освещает мировые события для ведущих западных изданий, обратился к двум участникам политических битв эпохи идеологического противостояния. Академик РАН Георгий Арбатов и профессор политологии Збигнев Бжезинский – признанные эксперты в области международных отношений. И тот и другой знают предмет не понаслышке: и Арбатов, и Бжезинский многие годы служили советниками руководителей своих стран. Оба интервью впервые вышли в свет в британском журнале Prospect в декабре 2007 года.
Резюме Во времена холодной войны нас тревожило, что противник может сделать что-то плохое. Сегодня мы должны опасаться того, что стороны не делают ничего хорошего. Они рассчитывают, что все будет идти так, как идет сегодня. Но ситуация постоянно меняется.
– Если бы вам пришлось подводить жизненные итоги в 55 лет, были бы вы в таком же мире с собой и со своей совестью, в каком, по всей видимости, пребываете ныне?
– Конечно, я критично относился ко многим сторонам нашего образа жизни, хотя говорить открыто об этом тогда было рискованно. Но, насколько помню, я и в то время не шел на какие-то компромиссы по принципиальным вопросам. Возможно, я был введен в заблуждение теми идеологическими глупостями, которые мы все время друг другу говорили. Я и сегодня считаю, что, хотя мы кое в чем и ошибались, но зачинщиками холодной войны все же были американцы. Полагаю, что ее началом нужно считать атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. В своих мемуарах американский военный секретарь Генри Стимсон честно признал, что это было сделано для того, чтобы преподать русским урок и показать, что теперь придется играть по новым правилам.
– Вам не кажется, что Сталин планировал конфронтацию с Западом после победы во Второй мировой войне?
– Нет. На встречах со Сталиным коммунистические лидеры Франции и Италии, Морис Торез и Пальмиро Тольятти, например, поднимали вопрос о том, не настал ли подходящий момент для начала революций в этих странах, учитывая возникшую революционную ситуацию. Однако Сталин ответил: «Ни при каких обстоятельствах. Запад этого не потерпит». А еще одной войны мы да и мир в целом не выдержали бы.
– Но он ведь был сторонником марксистской идеологии экспансионизма?!
– Да, Сталин считал, что победа революции неизбежна. Но после пережитой нами страшной войны он боялся новых опасных начинаний. Он предпочитал выжидать и уповать на силу убеждения, а также на то, что противоречия капиталистического строя и новые экономические потрясения сыграют свою роль. Во многих вопросах он был наивен и невежествен. Наши общественные науки пребывали в то время в плачевном состоянии — не потому, что у нас не было умных людей, а потому, что было очень мало места для творческого мышления.
– В своей книге воспоминаний вы задаете вопрос в связи с советской интервенцией в Анголе и Афганистане: «Почему во второй половине семидесятых годов мы в глазах всего мира стали агрессивной, экспансионистской державой?» Но вы на него так и не ответили.
– Я предполагаю, что в тот период военно-промышленный комплекс настолько усилился, что политические лидеры не могли долж-ным образом его контролировать. Но при этом нуждались в нем, чтобы оставаться у власти. Он был их главным инструментом власти, и поэтому они всячески избегали отчуждения во взаимоотношениях с военными. Страна управлялась не одним человеком. Вся система была насквозь пронизана военно-промышленным комплексом.
– Почему Горбачёв потерпел крах? Почему он не воспользовался своей колоссальной властью, чтобы ускорить продвижение реформ?
– Горбачёв боялся идти вперед, поскольку не был уверен, что страна и общественное мнение созрели для того, чтобы понять и принять реформы. Жаль, потому что я считаю его лучшим из всех наших лидеров, даже лучше Андропова.
– Тем не менее вы довольно критично высказываетесь о нем в своей книге.
– Только потому, что он не воспользовался своими возможностями и допустил распад Советского Союза. Три пьяных человека устроили заговор в Беловежской Пуще: Борис Ельцин, Леонид Кравчук из Украины и Станислав Шушкевич из Белоруссии. Об этой встрече хорошо известно, но мало кто знает, что все трое были пьяны.
– Откуда вы это знаете?
– Мне об этом рассказал один из присутствовавших там людей.
– Вы можете назвать имя этого человека?
– Нет.
– А каково влияние военно-промышленного комплекса в современной России? Удалось ли взять его под контроль?
– Экономические трудности в постсоветской России заставили сократить военные расходы до такой степени, что это нанесло ущерб нашей безопасности. Но теперь, похоже, наш новый лидер Путин снова вынужден считаться с военно-промышленным комплексом. Во всяком случае, военные назначаются на многие ответственные посты. Не знаю, в какой мере он может их контролировать. В целом им тоже приходится думать о выживании в военно-промышленном комплексе, а не об углублении мирного революционного процесса. Однажды в интервью одному американскому журналу я сказал (и эти слова были весьма популярны в то время), что мы сделаем для вас очень нехорошую вещь – лишим вас врага. И мы это сделали. Многим в Вашингтоне теперь непросто, как непросто и нам. Весьма трудно оправдывать непомерные военные расходы, когда в стране столько других нужд и к тому же нет реальной опасной угрозы извне. Это большая проблема. Не знаю как Путин и его окружение, но, глядя со стороны, можно сказать: он опасается упреков в том, что не заботится о нуждах военных. Коммунисты и Жириновский не преминули бы обвинить его в этом. Сейчас очень много развелось авантюристов. Путин могуществен, он опирается на широкую поддержку избирателей, но никто не знает, что будет после него. Это важно. Бюрократы тревожатся в первую очередь о своем будущем.
– Упустил ли Запад возможность перетянуть Россию на свою сторону?
– Вы хотите сказать, воспользовались ли обе стороны окончанием холодной войны? Полагаю, что нет. Соединенные Штаты были ослеплены тем, что, оказавшись единственной сверхдержавой, пустились в разные авантюры. Не все их инициативы были плохи. В Кувейте все было сделано правильно, но военная кампания в Ираке оказалась слабо обоснованна и подготовлена. Разведывательные службы неудовлетворительно выполнили свою работу, да и сама кампания была проведена некачественно. Поэтому теперь США оказались втянуты в тяжелую войну с очень сомнительным исходом. Ирак может так измотать Америку, что она уйдет из этой страны, как в свое время случилось во Вьетнаме. Мы тоже из-за множества внутриполитических проблем не использовали шанс, полученный после окончания холодной войны. Наши лидеры были удовлетворены тем, что Россию приняли в клуб восьми индустриально развитых стран. Не считаю, что новая холодная война неминуема, но мы вступили в эпоху многополярных международных отношений со множеством «центров силы». Подобная ситуация существовала перед Первой мировой войной. Это непростая политика: она требует больших усилий и тщательно обдуманных шагов. Вряд ли обе стороны к этому готовы. Мы можем шаг за шагом скатываться в трясину противостояния.
– Почему ситуация так резко ухудшилась? Я имею в виду решения в области контроля над вооружениями и вооруженными силами, а также обострение отношений с Великобританией.
– Главное в том, что прекратились переговоры. Стороны теряют интерес друг к другу. Виноваты обе стороны.
– Если бы вы сегодня были президентом России, что бы вы предприняли для предотвращения дальнейшего ухудшения отношений?
– Я бы начал серьезные переговоры. Организовал бы две-три встречи на высшем уровне, чтобы обсудить новую международную обстановку, возможные линии поведения и ответственность ведущих держав. Затем следовало бы со всей старательностью разработать повестку дня таких переговоров. Мы постоянно нуждаемся в переговорах, но к ним нужно все время готовиться, и притом весьма тщательно. Встречу в Кеннебанкпорте нельзя назвать переговорами. Я помню, как в прошлом организовывались подобные саммиты. У всех организаций, включая и мой аппарат, дел было по горло. Мы работали, работали и работали не покладая рук. Теперь же стороны потеряли всякий интерес. Российские правящие круги утратили интерес к консультациям с научным сообществом и пренебрегают мнением авторитетных специалистов. Боюсь, что нечто похожее происходит и в США. Встречи на высшем уровне превратились в шоу: лидеры жмут друг другу руки, улыбаются перед телекамерами, но никакие серьезные переговоры не ведутся.
Создается впечатление, что сейчас никто ни в чем не заинтересован. Я понятия не имею, откуда правители получают информацию и где черпают свои идеи. Путин создал наименее прозрачную на моей памяти систему государственного управления. Даже во времена Сталина мы знали, что, скажем, Маленков, или Суслов, или Жданов хотели сделать то-то либо то-то, после чего это становилось все более очевидным и заметным.
Мне ничего не известно об окружении Путина. Что думают эти люди? Что можно сказать о том или ином члене президент-ской команды? Они не выражают себя как общественные, публичные деятели.
Путин сделал много хорошего – восстановил систему государственного управления, например. Но в то же время ни в одной своей речи он не говорит о перспективах. К чему мы стремимся? Какой курс мы хотим осуществлять во внутренней и внешней политике? Это бы намного эффективнее сплотило страну, чем «вертикаль власти».
Интеллектуальный уровень бюрократов, чиновничества заметно снижается. Это началось при Ельцине: в воскресенье кто-то подсказывает ему имя, а в понедельник мы узнаём о новом премьере. Мы ничего о них не знаем, не знаем их взглядов.
– Вас не беспокоит, что Запад опять начнет считать Россию военным противником, если развитие ситуации продолжится в этом направлении?
– Все зависит от конкретных дел. Если руководители страны будут вести себя, как безумцы, это возможно. Но не думаю, что мы на такое способны – в первую очередь по экономическим соображениям. По дороге сюда вы видели богатые пригороды с фешенебельными особняками. Это главная цель бюрократии. Чинуши не заинтересованы в напряженной работе, военной конфронтации или мировой революции. В любой из этих их особняков можно направить судебных приставов и поинтересоваться источниками сверхдоходов. Все это грязные деньги, чиновники не получают столь высоких зарплат, на которые можно было бы купить такие особняки.
– Путин считает, что США воспользовались временной слабостью России, расширив НАТО, распространив свое влияние на южные республики бывшего Советского Союза и т. д. Теперь он наносит ответный удар, отменяя ранее заключенные договоры и угрожая перенацелить ракеты на Европу.
– Меня это не слишком тревожит. Я больше обеспокоен тем, чтó происходит внутри России. А что представляет собой новое поколение? Что у молодежи на уме? Иногда складывается впечатление, что они ничего не знают о прошлом, и похоже, что их не интересует будущее. На первом плане у них сиюминутные материальные потребности. Завтра эти молодые люди станут играть важную роль. Другой повод для беспокойства – это экономика. Мы так сильно зависим от цен на нефть, что, если они упадут, я не знаю, сможет ли что предпринять Путин. Подобно наркоману, мы сидим на игле высоких цен на нефть.
– Я решил навестить вас сегодня, потому что, похоже, начинается новая опасная фаза противостояния. Призраки и тени прошлого не дают нам покоя.
– Люди размышляют об этом, говорят об этом. Во времена Советского Союза мы были чрезмерно идеологизированы, но жить вообще без идеологии невозможно. Нам нужно прекратить глупые разговоры о том, что у России есть свой, уникальный путь. Это чепуха. Политическое руководство должно думать о том, куда нынешняя ситуация выведет страну, как решить существующие проблемы и к чему они приведут страну.
– Почему так сильно испортились отношения с Великобританией?
– В отсутствие реальных проблем политики искусственно раздувают надуманные. Главными злодеями становятся российские граждане, которые в данный момент находятся на территории России, но когда-то находились в Великобритании.
– Создается ли «дымовая завеса», чтобы защитить убийц Литвиненко?
– Это слишком далеко от меня и моей работы, и поэтому я плохо представляю себе реальное положение вещей. Возможно, создается «дымовая завеса», а быть может, речь идет об элементарной глупости. Я не знаю, что за люди окружают Путина. Я больше всего опасаюсь как раз таких инцидентов, таких мелочей, которые не были заранее спланированы, но могут иметь очень плохие последствия. Мы не выстроили хорошие, на прочной основе, российско-британские отношения, хотя раньше они существовали.
– Обеспокоены ли вы тем, что руководство России плохо контролирует ядерный арсенал страны?
– У нас происходило множество техногенных катастроф, но нет оснований беспокоиться именно по вопросу о контроле над ядерными вооружениями.
– Но достаточно ли благоприятна политическая обстановка для того, чтобы говорить о более решительном сокращении ядерных вооружений?
– Обе стороны потеряли врага. Они не видят друг в друге непосредственной угрозы. И, похоже, не понимают, что эта угроза может снова возникнуть в довольно-таки короткое время. Уже одно только наличие большого количества вооружений повышает вероятность ухудшения отношений и делает ситуацию менее стабильной.
Если у вас накоплено так много ядерных вооружений, то необходимо сказать, что существует план избавления от них, даже если вы пока не можете назвать точную дату. В противном случае другие страны скажут: если у вас есть эти вооружения, почему мы не можем их иметь? В настоящее время обладание ядерным оружием становится признаком великой державы. Какие враги угрожают без-опасности Северной Кореи? Их нет, но эта страна хочет быть великой и могущественной.
Во времена холодной войны нас тревожило, что противник может сделать что-то плохое. Сегодня мы должны опасаться того, что стороны не делают ничего хорошего. Они рассчитывают, что все будет идти так, как идет сегодня. Но ситуация постоянно меняется. Можно ожидать появления новых диктаторов, которые пожелают обзавестись ядерным оружием.
США и Россия в равной степени виновны в том, что ядерного раз-оружения нет. Честно говоря, Россия действует неправильно в этом вопросе. У нас так много вооружений, что мы могли бы сократить их в одностороннем порядке, показав хороший пример. Мы могли бы демонтировать ракеты и тем самым внушить другим доверие. Тогда американцы вынуждены были бы последовать нашему примеру.
– Кто из американских президентов, по вашему мнению, больше виновен в создании напряженности – Буш или Клинтон?
– Буш, поскольку он применил военную силу.
– Не кажется ли вам, что начинается новая холодная война?
– Нет, но мы можем скатиться к ней. Это будет не идеологическая война, но она окажется хуже предыдущей, потому что мы живем в многополярном мире и даже небольшие государства обладают ядерным оружием или могут стать ядерными. Раньше США и СССР всех держали под контролем, а теперь многие страны мира становятся неуправляемыми. Я не говорю, что это уже свершившийся факт, но мы можем подойти к более опасному периоду, чем холодная война. Впереди маячит опасность. Два года тому назад об этом нельзя было даже помыслить, а теперь можно. Многое будет зависеть от личных качеств будущих лидеров США и России.
– Кого бы вы хотели видеть следующим президентом России?
– У меня нет фаворитов, потому что я не знаю кандидатов.
– А с американской стороны?
– Из Хиллари Клинтон может получиться неплохой президент. Что касается Барака Обамы, то о нем я знаю очень мало.
– Обама недавно сказал, что США «снова должны повести за собой мир».
– Если Обама надеется править миром, став политическим лидером Америки, то он наивный новичок в политике. Даже если он так думает, ему не следует говорить об этом вслух.
– Митт Ромни, ведущий кандидат от Республиканской партии, не так давно заявил, что «угроза радикального ислама так же реальна», как в прошлом была реальна угроза нацистской Германии и Советского Союза. «Последствия пренебрежения вызовом в лице радикальной исламской организации или государства, обладающего ядерным оружием, просто неприемлемы», – сказал он.
– Они нашли потерянного врага! Теперь все можно объяснить и оправдать: военные расходы, военные действия… «Война цивилизаций» – это в большой степени надуманное понятие.
– Продолжится ли все это после Буша?
– Продолжится – и у них, и у нас. Нам придется вести переговоры с разными мусульманскими лидерами, потому что такой сценарий плох как для христианства, так и для ислама. Возможно, нам нужно организовать конференцию с участием Китая, Японии, Малайзии, Индонезии, Египта и представителей христианского мира. Нам нельзя допустить, чтобы новое поколение выросло с этой нездоровой идеей «войны цивилизаций», поскольку так недолго и беду накликать. Если все время внушать эту мысль людям, то война станет реальностью.
У Пакистана уже есть ядерное оружие. Вскоре им, возможно, обзаведется Иран. Расползание ядерных вооружений удастся остановить лишь в том случае, если в мире улучшится политический климат, а это не произойдет до тех пор, пока крупные державы не начнут сокращать свои ядерные арсеналы. Нам нужно подать пример, а затем сказать: зачем вам нужно это оружие? Вы опасаетесь других стран? Если это так, то давайте сядем за стол переговоров и обсудим, как мы можем помочь вам.
– Может ли Россия убедить Иран отказаться от планов создания атомной бомбы?
– Думаю, что совместно с Америкой мы сможем остановить Тегеран и уговорить его не создавать бомбу. В Москве все говорят: «Зачем нам тревожиться и переживать по этому поводу? Ведь у американцев больше причин для беспокойства». Поэтому Америка должна стать инициатором переговоров. Если же все будет идти так, как идет сегодня, появление у Ирана атомной бомбы неизбежно. Но если мы будем вести переговоры и подадим хороший пример, сократив собственные ядерные арсеналы, то этого можно будет избежать. Я лично не знаком с лидерами мусульманских стран и не знаю их психологию, но я уверен, что обладание ядерным оружием делает лидера более авантюрным и надменным.
– Беспокоит ли вас рост военной мощи Китая, как это беспокоит Пентагон?
– Мне не очень нравится военное усиление Китая. Это в большей степени угроза для России, чем для США. Но я не вижу явной, реальной опасности. Китай мирно интегрируется в мировую экономику и делает это весьма успешно. Это государство так долго было лишено достойного места в мировом сообществе! Это наложило отпечаток на психологию китайцев. В настоящее время они заняты реальным возрождением своей страны. В то же время у нас нет гарантий того, что военные однажды не придут к власти в КНР. Это будет плохо для Китая и для его соседей. Важно продолжать переговоры с Пекином. Нам придется строить систему многополярного мира и международных отношений как основу нашей общей безопасности.
– Разделяете ли вы идею Горбачёва о том, что Россия должна стать частью общеевропейского дома?
– Конечно. Россия могла бы внести большой вклад в развитие Европейского союза. Почему она должна находиться в изоляции, как того хотят Польша и Эстония? Нельзя все время жить вчерашним днем. Если бы мы жили только прошлым, никто из нас не пожал бы руку немцу. ЕС должен помочь нам теперь, пусть даже чисто символически, дав понять, что Европа не против присоединения России к Евросоюзу. Если бы Европейский союз сказал о том, что Россия может стать частью единой Европы через одно или два десятилетия, это помогло бы стабилизировать политику России.

Многополярность и демография
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2008
А.Г. Вишневский – д. э. н., директор Института демографии Государственного университета – Высшей школы экономики, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике». Данная статья представляет собой сокращенный вариант главы, которая выйдет в свет в коллективной монографии «Россия и мир – 2020: новая эпоха».
Резюме Позиции России в «северном клубе» могут опираться на тот факт, что по численности населения она вторая после США и первая в Европе страна. Но рядом с Китаем или Индией данный аргумент перестает действовать. Слишком тесные союзы с такими гигантами могут полностью лишить Россию самостоятельной роли.
ХХ век стал временем невиданного в истории ускорения роста населения Земли вследствие несинхронных показателей изменений смертности и рождаемости в процессе мирового демографического перехода. Темпы роста достигли максимума в 1960-е годы, в последующие три десятилетия они постепенно снижались, и эта тенденция продолжается. Тем не менее в середине XXI столетия на Земле будет жить примерно в 5–7 раз больше людей, чем в начале XX века. Расселение людей по планете никогда не было равномерным, но мировой демографический взрыв резко усилил эту неравномерность.
Главный глобальный вызов демографического взрыва, порождающий в свою очередь цепочку других вызовов, – экономический. Он обусловлен колоссальным увеличением потребностей вследствие появления миллиардов дополнительных потребителей и роста среднего уровня запросов каждого из них. В результате попыток ответить на взрывоподобноый рост глобальных потребностей интенсификацией производства во всех его формах, включая и самые традиционные, нарушение равновесия между жизнедеятельностью людей и используемыми ими природными ресурсами приобрело общемировые масштабы.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВЗРЫВА
В современном мире экономические и экологические проблемы могут легко трансформироваться в политические, а то и военно-политические вызовы. В той мере, в какой они вытекают из демографической ситуации, у этих вызовов есть два ряда причин, которые можно условно назвать международными и внутренними.
Международные причины очевидны. Демографическая асимметрия мира резко обостряет экономические диспропорции, противостояние бедных и богатых государств, конкуренцию за ресурсы в условиях их нарастающего дефицита. В то же время подобный ход событий подталкивает развивающиеся страны к модернизации, а это коренным образом изменяет соотношение сил на мировой арене. В воздухе носится идея передела мировых богатств.
Внутренние причины связаны с тем, что модернизация, разрушая традиционные социальные структуры и институты, жизненный уклад десятков и сотен миллионов людей, создает множество неизвестных прежде каналов экономической и социальной мобильности. Люди приобщаются к новому образу жизни, вырабатывается иная система норм, институтов, ценностей. Однако многие экономические, социальные и демографические обстоятельства тормозят модернизацию и снижают ее темпы. Пропускная способность каналов социальной мобильности расширяется крайне медленно и не соответствует потребностям формирующихся социальных слоев. В обществе накапливается недовольство, которое обостряется на фоне неизбежного конфликта между полуразрушенными старыми и еще не полностью созревшими новыми формами жизни.
Повсеместно возникают контрмодернистские (обычно антизападные) идеологии и политические движения. Идеализируя прошлое, они ищут опору в традиционных ценностях, религиозном фанатизме, националистическом экстремизме и т. п. Парадокс истории состоит в том, что движущей силой подъема традиционализма, как правило, являются модернистские устремления.
Эта чрезвычайно сложная ситуация плохо осознается даже учеными, ее анализ зачастую подменяется конструированием поверхностных схем. Примером может служить концепция «столкновения цивилизаций» Самьюэла Хантингтона, подчеркивающая непроницаемость границ между «цивилизациями».
Между тем в действительности происходит стремительное усвоение достижений (и противоречий) промышленно-городской цивилизации сельскими, крестьянскими обществами, которые вынуждены за очень короткое время совершать переход из одной исторической эпохи в другую. Именно трудности столь быстрого перехода порождают промежуточные социальные состояния. Они крайне неустойчивы политически и чреваты вспышками беспорядков и насилия, государственными переворотами, кровавыми этническими конфликтами, военными авантюрами, ростом внутреннего и международного терроризма.
Ситуация осложняется важным, но, как правило, недооцениваемым демографическим фактором. Отметим, что выражение «Третий мир» – в противовес Первому (капиталистическому) и Второму (социалистическому) – было впервые введено в употребление французским демографом Альфредом Сови именно на основе анализа мировой демографической ситуации.
Одно из следствий демографического взрыва в развивающихся странах – их исключительно молодое население. Половина жителей России моложе 37 лет, Европы – 39, таких стран, как Германия и Италия, – 42, Японии – 43 лет. Между тем в Афганистане половина населения – это дети и подростки в возрасте до 16 лет, в Демократической Республике Конго, которая по числу жителей со временем обгонит Россию, – до 15 лет. Средний возраст всего населения Африки – 19 лет, Азии – 28 лет. К 2025-му медианный возраст населения повысится в России до 42 лет, в Европе – до 44, в Северной Америке – до 37 лет. В Африке же он сдвинется лишь к 22 годам, в Азии – к 34 годам. Таким образом, и сейчас, и в обозримом будущем огромной частью населения развивающихся стран будут подростки и молодые люди, незрелые в социальном отношении и в массе своей необразованные. Они не имеют ясных перспектив и легко поддаются манипулированию, склонны к религиозному или политическому фанатизму.
Все это усиливает политическую неустойчивость, которая ощущается во многих густонаселенных странах. Вписываясь в общие процессы глобализации, она грозит дестабилизировать обстановку в мире и привести к крупномасштабным военным конфликтам. При наличии у противоборствующих сторон современных средств массового уничтожения такие столкновения смертельно опасны для всего человечества.
НЕОБХОДИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ
Очевидно, что международное сообщество должно направить усилия на снижение давления в мировом «котле». Один из способов – влияние на глобальную ситуацию с целью скорейшего завершения демографического взрыва и постепенного сокращения численности населения планеты. Единственный приемлемый способ такого воздействия – снижение рождаемости в развивающихся странах.
К настоящему времени на этом пути достигнуты немалые успехи. С середины до конца ХХ века рождаемость в менее развитых регионах снизилась практически вдвое. Однако она все еще значительно выше, чем требуется (при нынешнем уровне смертности) даже для стабилизации численности населения. Соответственно и мировое население продолжает расти довольно быстро, хотя и медленнее, чем в 50–70-х годах прошлого столетия.
Тем не менее рождаемость сокращается, и есть основания надеяться, что примерно в середине века рост числа жителей планеты прекратится. Но этого, скорее всего, недостаточно.
В соответствии с долгосрочным прогнозом ООН, можно выделить три версии роста населения планеты. Развитие ситуации по «высокому» сценарию – это прямой путь к катастрофе. Но и «средний» сценарий не внушает большого оптимизма (рис. 2).
«Стабильные» 9 млрд человек, помноженные на растущие нужды «среднего» жителя Земли, дают такой совокупный объем потребностей, удовлетворить которые едва ли возможно. Единственный путь, позволяющий сохранять оптимизм, – это развитие по «низкому» сценарию, предполагающему постепенное сокращение численности населения. В отдаленном прошлом (не менее 200 лет назад) число жителей Земли было примерно таким же, как в середине ХХ столетия, т. е. перед началом демографического взрыва (рис. 3). Следовательно, необходимо, чтобы рождаемость в мире опустилась ниже уровня простого воспроизводства.
Стратегия замедления демографического роста остается, пожалуй, единственным и не создающим дополнительных проблем способом относительно успешного ответа на глобальные вызовы. Хотя она не всегда эффективна и порой проводилась с большой жесткостью (Китай).
ГЛОБАЛЬНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
На протяжении истории важным механизмом глобального демографического регулирования не раз оказывалось перемещение людей из густонаселенных регионов в менее обжитые. В XIX и XX столетиях ускорившийся рост числа жителей Европы снова включил этот механизм. Вплоть до середины прошлого века преобладало движение из экономически развитых стран Старого Света в колонизуемые регионы, в основном на неосвоенные либо слабо освоенные территории Нового Света и Океании. С 1820 по 1940 год из Европы за океан выехало более 60 млн человек.
Однако во второй половине XX века демографическая асимметрия и экономическая поляризация Севера и Юга привели к изменению направления межконтинентальной миграции и ее масштабов. Только за 30 лет (1960–1990) из южных районов в северные переместилось около 60 млн человек (примерно столько же в свое время выехало из Европы за океан за 120 лет), и этот поток не сокращается. Более того, годовые темпы увеличения количества переселенцев возросли с 1,4 % (1990–1995) до 1,9 % (2000–2004). С 1990 по 2005 год число мигрантов в мире выросло на 36 млн человек, причем 92 % из них (33 млн) переехало в промышленные страны. Среднегодовое сальдо миграционного обмена развитых государств с развивающимися в пользу первых составило в 2000–2005 годах 2,6 млн человек в год, или 2,2 %. Эти цифры привел на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в мае 2006-го Генеральный секретарь этой организации.
Согласно среднему варианту прогноза ООН (как представляется, заниженному, поскольку он предполагает сокращение притока мигрантов в развитые страны после 2010 года), за первую половину XXI века в эти страны смогут переместить еще 120 млн человек.
Движение жителей Юга на Север стало новой мировой реальностью, которая ведет к существенным изменениям этнического состава развитых стран. Уже к середине столетия белое неиспаноязычное население может перестать быть большинством в США. Во многих европейских государствах доля мигрантов и их потомков превысит четверть и приблизится к трети населения, но будет увеличиваться и далее.
Создав эффективный механизм перераспределения финансовых ресурсов между Югом и Севером, миграция превратилась в важный экономический компонент современных международных отношений. По оценке Всемирного банка, уже в конце 1980-х годов средства, которые мигранты ежегодно пересылали своим родственникам, в совокупности достигали 65 млрд долларов. (Сумма уступает только общим доходам от продажи сырой нефти на тот период.) В начале 1990-х получаемая странами Третьего мира часть доходов мигрантов составляла 31 % прибыли от внешнеэкономической деятельности Египта, 26 % – Бангладеш и Иордании, 25 % – Судана, 23 % – Марокко и Мали. С тех пор роль международных трансфертов зарабатываемых мигрантами средств значительно выросла. В период между 1995 и 2005 годами общая сумма денежных переводов, направляемых в развивающиеся страны, увеличилась (вероятно, по заниженным оценкам) с 58 до 167 млрд долларов и существенно превысила объем всей международной помощи Третьему миру. Согласно данным ООН, в 2004-м денежные переводы, поступившие от мигрантов в развивающиеся страны, составляли 1,7 % их ВВП. Три крупнейших получателя этих доходов – Китай, Индия и Мексика. Но большинство из 20 стран, в которых на долю денежных переводов приходится по крайней мере 10 % ВВП, составляют малые развивающиеся страны.
Хотя бóльшая часть этих средств используется на потребление, нельзя сказать, что они просто проедаются. В частности, деньги мигрантов зачастую служат основным источником покрытия расходов на образование и медицинские услуги, способствуя накоплению человеческого капитала.
Однако значимость мигрантов измеряется не только деньгами. Приобретаемые ими профессиональные знания и социальный опыт превращают их в агентов модернизации, носителей новых технологических и институциональных представлений, проводников современного социального и политического мышления.
ГРАНИЦЫ МИГРАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ СЕВЕРА
Миграция с бедного Юга на богатый Север представляется, таким образом, вполне логичной. И кажется естественным, что потоки, сформировавшиеся во второй половине ХХ века, не только сохраняются, но и расширяются. Но переселенцы все чаще сталкиваются с серьезными препятствиями ввиду ограниченности миграционной емкости развитых государств.
Эти страны стали поощрять иммиграцию, когда в период послевоенного экономического роста испытывали нехватку рабочей силы, особенно неквалифицированной. Иммиграция способствовала их хозяйственному подъему. Но и Третий мир получил немалую экономическую выгоду, не говоря уже о пользе непосредственного соприкосновения с современной культурой. Так на какое-то время интересы сторон совпали (по крайней мере, частично). Однако постепенно стала обнаруживаться противоречивость найденного, казалось бы, пути.
Прежде всего дает себя знать количественное несоответствие. Потребности развитых государств в привозной рабочей силе, особенно если она служит структурным дополнением к уже имеющимся трудовым ресурсам, ограниченны, тогда как потенциальное предложение развивающихся стран практически безгранично.
Согласно произведенным недавно оценкам, в 2050 году в развитом мире понадобится 513 млн рабочих мест – на 84 млн меньше, чем в 1995-м. А развивающемуся миру для трудоустройства населения потребуется 3 928 млн рабочих мест – на 1 806 млн больше, чем в 1995 году. Даже если считать эти оценки приблизительными, бросается в глаза разительное несоответствие величин, свидетельствующих о неспособности Севера удовлетворить спрос развивающегося мира на рабочие места.
Дело, однако, далеко не только в емкости рынка рабочей силы. Серьезные проблемы связаны с ограниченными возможностями социально-культурной адаптации иммигрантов. До тех пор пока количество переселенцев – носителей иных социокультурных, правовых, политических традиций и стереотипов относительно невелико, они достаточно быстро растворяются в местной среде. Когда же абсолютное и относительное число иммигрантов становится значительным, а главное, быстро увеличивается, они образуют более или менее компактные анклавы. Интеграционные процессы замедляются, возникает межкультурное напряжение, которое усиливается экономическим и социальным неравенством «местного» и «пришлого» населения. Все это неизбежно порождает маргинализацию иммигрантов (по крайней мере, временную), ведет к кризису и раздвоению культурной идентичности. В результате достаточно широкие массы становятся восприимчивы к упрощенным «фундаменталистским» идеям, которые помогают избавиться от культурной раздвоенности и, как кажется, вновь обрести свое «я». При этом процесс интеграции блокируется, и многие (хотя, конечно, не все) иммигранты оказываются в оппозиции к принимающим их обществам. Иногда это противостояние приобретает крайне агрессивные формы.
Ситуация усугубляется тем, что параллельно обостряется кризис культурной идентичности в странах исхода. Постепенно продвигаясь по пути модернизации, страны Третьего мира вступают в крайне болезненный период внутреннего конфликта, жесткого противостояния ценностей традиционного и современного обществ.
В то же время государства, использующие иностранную рабочую силу, начинают осознавать ограниченность своей иммиграционной емкости. Развертываются дебаты вокруг проблемы иммиграции, которая становится картой в политической игре. Нарастают антииммиграционные настроения, и усиливаются меры по ограничению притока иностранцев. Однако реальное сокращение исхода населения из развивающихся стран в развитые маловероятно, и миграционное давление Юга на Север превращается в еще один глобальный вызов.
РОССИЯ И НОВЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
Россия принадлежит к мировому демографическому меньшинству, входит в «золотой миллиард». Это сближает ее с другими странами Севера и в то же время требует осмысления как ситуации внутри «золотого миллиарда», так и отношения к остальному миру.
Серьезному испытанию на прочность подвергается представление о биполярном мире, якобы существовавшем до недавнего времени. На самом деле, это была биполярность не мира, а Севера, в основном совпадающего со странами расселения «золотого миллиарда». Она поставлена под сомнение как изменением соотношения сил внутри Севера, так и постепенной утратой им роли единственного, пусть и «двуглавого», мирового центра принятия решений.
Тенденции международного развития подталкивают к поискам оптимальной внутренней конфигурации стран «золотого миллиарда». Будет ли она моноцентрической, бицентрической, полицентрической? Что больше отвечает интересам «мирового демографического меньшинства»?
Моноцентричность Севера, которая предполагает определенное неравенство и наличие единственного центра принятия решений, пытающегося взять на себя и всю ответственность, едва ли реализуема.
Странам европейской культуры, имеющим более или менее общие историческое прошлое и систему ценностей, более богатым, а главное, находящимся на стадии индустриально-городской цивилизации, противостоит многонаселенный, но бедный развивающийся мир. Для защиты общих интересов требуются консолидация сил и объединение ресурсов «золотого миллиарда». Трудно, однако, представить себе развитые страны, еще недавно разделенные идеологиями «капитализма» и «социализма», как нечто совершенно однородное. Природа сложных систем требует их внутренней дифференциации и структурирования растущего внутреннего разнообразия.
Поиски нового структурирования, отвечающего условиям меняющегося мира, идут уже не одно десятилетие. Страны Севера все яснее осознают себя экономическими, политическими и военными единицами, недостаточно крупными для того, чтобы выступать на мировой арене порознь. Это соображение, например, принималось во внимание при создании, укреплении и расширении Европейского союза. В одиночку ни одна европейская страна не может выступать в качестве центра экономической или политической силы, соизмеримой с Соединенными Штатами, а Евросоюз может. (В 2007-м население самой большой страны ЕС – Германии – составляло 82 млн человек, а всего в объединенной Европе проживало 497 миллионов.) При этом взаимоотношения Европейского союза и США, будучи конкурентными, не становятся конфронтационными, что во многом связано с пониманием общности коренных интересов перед лицом мировых вызовов.
Осознаны ли в полной мере требования нового мирового структурирования в России? Скорее всего, нет. Претензии Москвы на создание «третьего северного центра силы» (в дополнение к США и ЕС) если иногда и обозначаются, то слабо и невнятно, серьезных практических шагов в этом направлении не делается. Когда же Россия в одиночку пытается играть роль такого центра в общемировом масштабе, это свидетельствует о явной переоценке ею своего экономического и демографического веса.
Даже если оставаться в рамках только демографической логики, то нынешняя политика Москвы не может не вызвать беспокойство. Россия – самая населенная страна Европы, однако ее планка в мировой демографической иерархии устойчиво понижается. В 1993 году численность населения России достигла максимума – 148 млн человек, с тех пор уменьшилась более чем на 6 млн и продолжает снижаться. Но даже и 148 млн в наши дни – это далеко не то же самое, что 130 млн жителей Российской империи в конце XIX века, когда они составляли 8 % населения планеты. Напомним, что на территории США ныне проживают 306 млн человек, а в государствах ЕС – 497 миллионов.
В середине ХХ столетия Россия в ее нынешних границах уступала по численности населения только трем странам – Китаю, Индии и США. К 2000-му ее обогнали Индонезия и Бразилия, и она передвинулась с четвертого (если не считать СССР) на шестое место. Затем Россию опередили также Пакистан, Бангладеш и Нигерия, что отодвинуло ее на девятую позицию. Согласно среднему варианту прогноза ООН (пересмотр 2006 г.), Россия сохранит за собой девятую строчку и в 2017, и даже в 2025 годах, но к середине века потеряет еще несколько позиций и отступит на 15-е место. (При корректировке прогнозов ООН, которая производится каждые два года, ситуация несколько меняется. Так, по прогнозу-2000 Россия в 2050 г. занимала 17-е место, по прогнозу-2002 – 18-е, по прогнозу-2004 – 17-е; см. табл. 1: A - ранг, Б - страна, В - население, млн чел.).
Какими бы ни были экономические или военные возможности «третьего северного центра», он не может состояться и стать конкурентоспособным без наращивания демографического веса.
Если Россия заинтересована в появлении «третьего северного центра», она должна стремиться к созданию более крупного наднационального межгосударственного сообщества, чего-то вроде Евросоюза. Сейчас единственная возможность для этого – хотя бы частичное восстановление геополитического единства бывшего советского пространства, но на совершенно иной, неимперской, основе, без каких бы то ни было попыток воссоздания СССР.
Для движения по этому пути следовало бы использовать потенциал Содружества Независимых Государств, пока непрерывно слабеющий. Учитывая демографическую и экономическую ситуацию, самым естественным и выгодным было бы начать с создания единого рынка труда стран СНГ. В этом случае снималась бы проблема надвигающейся на Россию угрозы дефицита рабочей силы, появился бы промежуточный механизм по подготовке части мигрантов к натурализации, а Москва, благодаря своим нынешним экономическим преимуществам, автоматически заняла бы место общепризнанного неконфронтационного лидера Содружества.
В будущем единый рынок труда мог бы сыграть роль Европейского объединения угля и стали. (Эта организация, созданная в 1951-м при активном участии недавних смертельных врагов – Германии и Франции, затем превратилась в Европейское экономическое сообщество.) К сожалению, сейчас развитие идет в противоположном направлении.
Однако демографический потенциал даже всех стран СНГ также не очень велик. Численность населения многих из них будет снижаться – помимо России это Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Соответственно уменьшится общее число жителей региона (см. табл. 2).
Поэтому, даже если создание «третьего северного центра» за счет сближения бывших советских республик и состоится, Москве придется принимать меры по наращиванию демографического потенциала, двигаясь по трем главным направлениям: повышение рождаемости, снижение смертности, привлечение иммигрантов.
Следует остерегаться утопических надежд на то, что успех на первых двух направлениях избавит от необходимости крупномасштабной иммиграции. Все имеющиеся прогнозы показывают, что это не так и серьезный демографический подъем возможен только за счет миграционных потоков, причем в значительной мере из-за пределов СНГ. Для этого надо энергично наращивать возможности интеграции мигрантов в российский социум, но до 2020 года рассчитывать на это особенно не приходится.
Сейчас Россия не готова к приему большого числа иностранцев. Общественное мнение настроено крайне недоброжелательно в отношении иммиграции, что сказывается и на позиции власти. Это не соответствует ни императивам глобальной демографической эволюции, ни интересам России. Но изменить ситуацию в ближайшее время едва ли возможно.
РОССИЯ И ТРЕТИЙ МИР
Выстраивая отношения с «золотым миллиардом», Россия должна решать и вопросы сотрудничества с государствами остального мира – прежде всего с азиатскими соседями.
В Азии сильнее и дольше, чем в других частях мира (возможно, за исключением Африки, но это – дело более отдаленной перспективы), будет ощущаться внутреннее напряжение – экономическое, социальное, политическое, культурное, во многом связанное с небывалым ростом населения. Поэтому Азия останется очень неспокойным регионом. Выстраивание стабильных отношений с азиатскими державами – один из внешнеполитических приоритетов России. Однако демографическая логика требует очень взвешенного подхода к взаимодействию с этими государствами.
Нынешние позиции России в «северном клубе», несмотря на все сделанные выше оговорки, все же могут во многом опираться на ее демографический вес, на тот факт, что по численности населения она вторая после США и первая в Европе страна. Но рядом с Китаем или Индией данный аргумент перестает существовать. В 2025-м число жителей каждой из этих стран превысит 1,4 млрд человек, а к середине века их общее население перевалит отметку в 3 миллиарда. Слишком тесные союзы с такими гигантами способны полностью лишить Россию самостоятельной роли, в лучшем случае – превратить ее в «придаток» (хорошо еще, если не чисто сырьевой).
В России, особенно в слабо заселенной азиатской части, сосредоточены огромные природные богатства. Это не только энергоносители, но и бесценные ресурсы пресной воды, а также бескрайние земельные просторы. Размер пахотных земель на душу населения в мире сократится к 2050 году до 0,08 га. В России же к этому моменту на каждого человека будет приходиться по 1,14 га пахотных земель. Чрезмерное сближение, скажем, с усиливающимся Китаем, где ресурсов явно не хватает, может наложить на Россию «союзнические обязательства», способные в конечном счете привести к ограничению прав как на российские ресурсы, так и на территории, на которых они находятся. Успешно отстаивать свои интересы Москва сможет, только опираясь на солидарность стран Севера, находящихся с ней в одной демографической лодке.
Россия, как в прошлом и СССР, занимает уклончивую позицию по вопросам снижения рождаемости в развивающихся странах. В самой России вновь популярно «антимальтузианство» советских времен. Подвергаются нападкам международные организации, занимающиеся пропагандой планирования семьи, все чаще слышна критика решений Всемирной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994), ориентированных на замедление роста населения Земли. Все это играет на руку традиционалистским настроениям, широко распространенным в развивающихся странах, но явно противоречит интересам России. Как и другие государства Севера, она объективно заинтересована в скорейшем прекращении демографического взрыва в Третьем мире. Только сокращение рождаемости в развивающихся странах может стать едва ли не единственным непротиворечивым ответом на многие мировые вызовы.

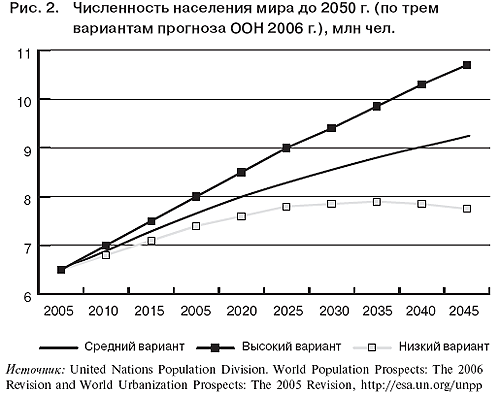
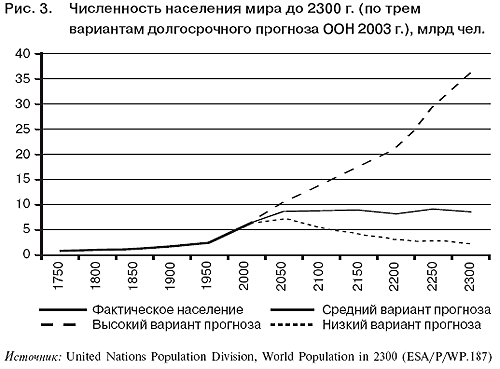

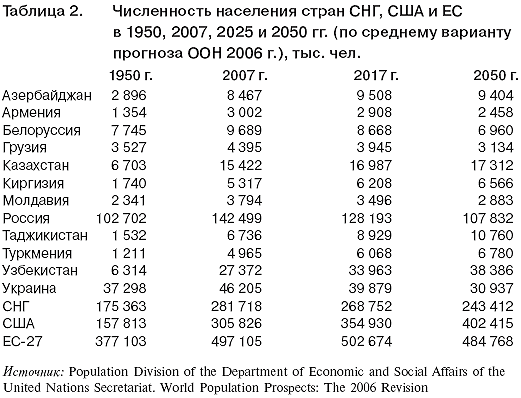

Взаимоотношения крупных держав в XXI веке
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2007
Карл Кайзер – приглашенный профессор Центра международной политики Уэзерхед при правительственном факультете им. Джона Кеннеди Гарвардского университета, член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Несколько неожиданным итогом необычайно жестокого XX века стало появление своего рода мировой оси, образованной великими демократиями. Силовое противостояние между ними практически невозможно, однако это не защищает от развязывания войн и насилия другими странами и негосударственными образованиями.
Сто лет назад невозможно было представить себе, к каким страшным конфликтам и катастрофам приведут в XX столетии непростые взаимоотношения великих держав. История способна преподносить сюрпризы, и нам следует очень скрупулезно подходить к своим прогнозам на XXI век.
Вместе с тем определенные тенденции начала нынешнего столетия, которые с большой долей вероятности будут какое-то время определять отношения между крупными державами, достаточно легко просматриваются, исходя из наших сегодняшних знаний и видения.
Вначале определимся с понятием «крупные державы». Речь идет о небольшой группе государств, численность населения и потенциал ресурсов которых позволяют им оказывать влияние на глобальном уровне, а также о тех странах, которые достаточно уверенно приближаются к статусу мировых держав. Сюда относятся постоянные члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), а также возможные кандидаты на членство в случае его расширения (Бразилия, Германия, Индия, ЮАР, Япония). Некоторые из указанных государств связаны союзническими обязательствами или даже (как в случае с Европейским союзом) объединены в конфедерацию, что не может не влиять на их позицию и действия на мировой арене.
КРУПНЫЕ ДЕРЖАВЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА
Международные отношения и глобализация. Благодаря новым технологиям в области транспорта и связи (в частности, Интернету) во второй половине прошлого столетия заметно активизировались прямые трансграничные контакты и взаимодействие между отдельными людьми и общественными организациями. Обмен идеями, товарами и специалистами упростился, а значимость государственных границ заметно снизилась. Оставаясь ведущей силой в мировой политике, государства или национальные образования до некоторой степени утратили способность в одиночку решать проблемы и воздействовать на ход событий. Они всё более уязвимы перед лицом внешних угроз, терроризма и преступности. Вместе с тем неуклонно возрастает влияние негосударственных образований – прежде всего в экономике, поскольку многонациональные компании производят сегодня треть совокупного мирового продукта.
Эти перемены лежат в основе того, что мы называем глобализацией, – процесса, который де-факто стал необратимым мегатрендом, определяющим все остальные тенденции. Глобализация выводит мир на новый уровень взаимозависимости, когда международная торговля и прямые иностранные инвестиции растут быстрее, чем производство. Она порождает новые виды неравенства как внутри стран, так и между государствами, но при этом резко снижает общий уровень бедности и нищеты на планете.
Крупным державам никак не избежать этих процессов, поскольку модернизация, экономический рост и более высокий уровень жизни зависят от открытости и способности к взаимодействию. В то же время издержки глобализации (например, уязвимость для терроризма) создают дополнительную напряженность и побуждают к более тесному сотрудничеству.
Усиление Азии, в частности Китая и Индии. Экономический подъем КНР, Индии, а также других азиатских стран приведет в XXI веке к серьезному изменению геополитического ландшафта. В силу внутренних причин, прежде всего неграмотности населения и кастовой системы, Индия будет отставать от Китая, но оба государства приобретут значительный вес в международных делах, как самые густонаселенные и способные мобилизовать колоссальный экономический потенциал.
К 2020 году КНР, скорее всего, обгонит все экономики мира, за исключением США, а Индия оставит позади большинство европейских стран. Китай займет место Японии в качестве экономического лидера Азии. Атлантическая экономика по-прежнему останется наиболее цельным сегментом мировой хозяйственной системы, а Соединенные Штаты, Европа и Япония, весьма вероятно, будут доминировать в международных финансовых учреждениях. И тем не менее глобализация приобретет более отчетливые азиатские черты.
Вместе с тем КНР и Индия могут столкнуться с серьезными проблемами. В Китае это, в частности, усугубляющиеся неравенство и имущественное расслоение общества, его демографическая структура и отсутствие демократических механизмов для мирного урегулирования внутренних конфликтов. Если не удастся остановить нарастание этих дисбалансов, они станут сказываться и на внешней политике Пекина. Послужит ли в этом случае растущая зависимость от мировых рынков фактором, ограничивающим поведение страны на международной арене?
Демографические сдвиги и миграция населения. Многие страны испытают последствия низкой рождаемости и роста числа пенсионеров, что заметно увеличит нагрузку на социально-политическую структуру общества. К 2020-му в КНР будет проживать более 400 млн пенсионеров старше 65 лет, а в Германии численность населения сократится к середине столетия с нынешних 82 до 67 млн человек (даже с учетом ежегодного притока 150 тыс. иммигрантов). С демографическими проблемами столкнутся Великобритания и Франция, а также (хотя и в меньшей степени) Россия и Япония. Численность населения в США, Индии и Бразилии, скорее всего, будет расти. В ЮАР демографическую кривую в значительной мере определит свирепствующая эпидемия ВИЧ/СПИДа.
Сокращение численности населения вынудит крупные державы направлять дополнительные средства на решение внутренних проблем, что в свою очередь уменьшит ресурсы для проведения эффективной внешней политики (например, в военной сфере или в оказании помощи развивающимся странам). Нехватка рабочих рук и рост числа пенсионеров увеличат потребность в иммигрантах. Это вызовет дополнительные проблемы: в частности, как интегрировать мусульман в общество и как иммигрантам общаться с родственниками? Из крупных держав лишь Соединенные Штаты (и до некоторой степени Бразилия) сумели вписать иммиграцию себе в актив, хотя нарастающие проблемы нелегалов тревожат и Вашингтон.
Проблема миграции обещает стать одной из главных в XXI веке. «Факторы выталкивания», такие, как экономическая несостоятельность, многочисленное подрастающее поколение и колоссальная по масштабам безработица, создают мощный стимул для исхода населения из развивающегося мира. С другой стороны, нехватка рабочих рук в стареющих развитых обществах и дефицит там молодежи создают потребность в иммигрантах и служат мощным «фактором притягивания». Однако, поскольку миграционные процессы все чаще осуществляются через нелегальные каналы, во многих странах нарастает ксенофобия, раздаются призывы возвести на пути пришельцев более мощные барьеры.
Вызов, брошенный насилием. В начале XXI столетия «классическая» война между крупными державами маловероятна. Межгосударственные войны уступили место внутренним столкновениям, гражданским, этническим и асимметричным конфликтам (например, между движением «Хезболла» и Израилем), а также террористическим атакам. Традиционные вооруженные силы не в состоянии защитить современное открытое и потому уязвимое общество от такого рода насилия. Они могут быть использованы разве что против стран (таких, как Афганистан), которые служат базами для террористов. Существующие механизмы и международное право неприменимы к конфликтам, которые развязываются преимущественно негосударственными силами, объединенными в интернациональные сети.
Адекватный ответ на подобного рода угрозы требует использования широкого спектра международных инструментов, отличных от привычных союзов. Необходимо взаимодействие разведывательных служб, полиции, таможенных и финансовых органов, сил по борьбе с распространением наркотиков, которое легче наладить тем государствам, которые имеют прочные традиции сотрудничества. В первую очередь это крупные страны – члены НАТО (Великобритания, Германия, США, Франция), евро-атлантические государства в целом, а также Япония. Сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года Китай и Россия присоединились к антитеррористической коалиции, созданной Соединенными Штатами, и предложили активное взаимодействие. Однако война в Ираке и другие разногласия свели это сотрудничество к взаимоприемлемому минимуму. Две другие крупные державы, Бразилия и ЮАР, оказались за пределами антитеррористической коалиции, хотя в будущем положение может измениться.
Распространение ядерного оружия. Разрастание клуба ядерных держав подошло к той черте, когда международная система договоров и учреждений по нераспространению атомного оружия не оказалась под угрозой денонсации. Помимо постоянных членов Совета Безопасности ООН, статус ядерных государств приобрели Индия, Пакистан, Северная Корея и де-факто Израиль. Иран осуществляет программу, очевидной целью которой является создание ядерного оружия.
Из крупных держав оружием массового уничтожения обладают лишь пять членов СБ ООН и Индия, тогда как Германия и Япония настроены против вступления в ядерный клуб. ЮАР, имевшая ранее атомный арсенал, добровольно отказалась от него. Бразилия привержена своему безъядерному статусу, но осуществляет программу обогащения урана.
Создание действенного механизма нераспространения особенно актуально в свете новых проблем. Прежде всего это угроза соединения ядерного оружия и терроризма, то, что Грэм Эллисон назвал «самой страшной предотвратимой катастрофой». Жертвой атак террористов-самоубийц может стать любое государство, но открытые западные общества подвергаются более серьезному риску, чем страны со строгим государственным контролем. Такая опасность заставила крупные державы забыть о соперничестве и объединить усилия.
За исключением Ирана 182 государства, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пока соглашаются со своим безъядерным статусом. Отказ администрации Джорджа Буша от обязательств, взятых на себя США в связи с бессрочным продлением ДНЯО, привел к подрыву международного режима нераспространения, созданию которого сами Соединенные Штаты когда-то способствовали. Общую картину довершают невозможность добиться от Северной Кореи окончательного отказа от ядерных амбиций, а также признание Вашингтоном ядерного статуса Индии и заключение с ней договора о стратегическом сотрудничестве.
Обретение Тегераном ядерного оружия создаст огромную проблему. Сомнительно, чтобы на страну, где стратегические решения принимаются по религиозным соображениям, эффективно воздействовала рациональная политика взаимного сдерживания и гарантированного уничтожения, – та, что в свое время предотвратила ядерную войну между Востоком и Западом. Еще опаснее то, что Иран способен нарушить хрупкое равновесие и развязать на Ближнем Востоке гонку вооружений, дестабилизировав тем самым и без того взрывоопасный регион. Это нанесет смертельный удар по ДНЯО. Новый альянс под руководством США, дающий гарантии безопасности соседям Ирана, мог бы отчасти нейтрализовать отрицательные последствия появления у Тегерана ядерного оружия. Однако готовность Вашингтона и государств данного региона к такому повороту событий вызывает сомнения.
Обзаведутся ли собственным ядерным оружием те из крупных держав, которые его еще не имеют? В свое время президент Франции Шарль де Голль подчеркивал, что ядерное оружие необходимо для сохранения независимости и обеспечения влияния на мировой арене. Однако Германия и Япония доказали, что и безъядерные страны могут стать великими державами. В этом смысле их постоянное членство в реформированном Совете Безопасности ООН послужило бы важным сигналом для других государств и способствовало бы укреплению режима нераспространения.
Но если Берлин вряд ли когда-либо откажется от безъядерного статуса, то о Токио сказать этого нельзя. Договор, подписанный недавно в рамках шестисторонних переговоров, полностью не исключает продолжение Северной Кореей программы создания ядерных вооружений. В этом случае японское правительство окажется под сильным внутриполитическим давлением и ему придется приступить к разработке оружия массового уничтожения. Открытым остается вопрос, удержат ли Японию от подобного шага обязательства по обеспечению гарантий безопасности, недавно повторно взятые на себя Вашингтоном, а также возможность негативных последствий для всей Азии.
Распространение радикального ислама. Сценарий «столкновения цивилизаций» маловероятен, но ограниченный конфликт между радикальным исламом и Западом начался, и, по всей вероятности, он будет только нарастать. Войну в Ираке и связанные с ней злоупотребления мусульмане воспринимают как атаку на мир ислама в целом. Обстановка подогревается доведенными до отчаяния молодыми людьми, которые не могут заработать себе на жизнь, радикалами исламистами, призывающими к совершению самоубийств во имя Аллаха, и ежедневными сводками о насилии в зоне израильско-палестинского конфликта.
Сегодня джихадисты представляют угрозу практически для всех крупных держав, хотя и в разной степени. Главной мишенью их атак, скорее всего, останутся Соединенные Штаты. Считается, что от мусульман, проживающих на американской территории и хорошо интегрированных в общество, не следует ожидать агрессии. (Правда, в мае 2007 года на одной из военных баз США был раскрыт заговор террористов-самоубийц.)
Потенциально проблема стоит еще острее в Великобритании, России и Индии, тогда как во Франции и Китае она не столь драматична. Германия (несмотря на значительное турецкое меньшинство ее населения), Япония, Бразилия и ЮАР не сталкиваются с внутренней угрозой, исходящей от мусульман, хотя в Германии имели место инциденты, связанные с агрессией извне. Так или иначе, борьба с терроризмом в каждой отдельно взятой стране зависит от степени взаимодействия государств и внешней поддержки. Следует также установить диалог с современным исламом, чтобы изолировать экстремистское меньшинство.
Глобальное потепление и нехватка ресурсов. В результате индустриализации и бурного развития Третьего мира (прежде всего КНР и Индии) потребность в энергоносителях и сырье растет столь же стремительно, как и нагрузка на окружающую среду. Неравномерность в распределении природных богатств и зависимость некоторых крупных держав от импорта сырья будут все больше влиять на расстановку сил и станут определяющим элементом международной политики.
Утратив паритет с США времен холодной войны, Россия вернула себе статус великой державы, использовав свое положение крупнейшего поставщика нефти и газа на мировой рынок. Пять крупных государств, а именно Великобритания, Германия, Китай, Франция и Япония, в разной степени зависят от российских поставок и вынуждены учитывать это, выстраивая свои отношения с Москвой.
По степени зависимости от импорта энергоносителей и сырья КНР, безусловно, возглавляет список. В ближайшем будущем за ней последует Индия. Требуемый объем импорта неуклонно растет, и вся экономическая стратегия Китая, столь важная для сохранения социально-политической стабильности, зависит от непрерывного притока ресурсов. Неудивительно, что задачей внешней политики Пекина во все большей степени становится получение гарантий поставок энергоносителей и сырья из Африки.
Образцовую самодостаточность в области энергоресурсов сохраняет Бразилия, в то время как Соединенные Штаты остаются крупнейшим их импортером. Но, учитывая наличие в Америке собственных ресурсов (в частности, угля) и огромный потенциал энергосбережения, США находятся в несколько более выгодном положении, нежели их европейские и азиатские союзники.
Все большее влияние на отношения между крупными державами оказывает проблема глобального потепления. В прошлом разногласия по экологической политике настроили Европу и Японию против Соединенных Штатов, которые лидируют по объемам выбросов в атмосферу вредных веществ, но отказались подписывать Киотский протокол, направленный на ограничение парникового эффекта.
Последствия глобального потепления требуют принятия безотлагательных мер, а между тем разногласия по проблемам экологической безопасности грозят обостриться. Во главу угла мировой политики становится вопрос о том, кто и в каком размере будет финансировать природоохранные мероприятия. В дискуссию вовлечены не только Европа, Япония, и отстающие от них США, но и Китай, который вскоре вытеснит Соединенные Штаты с позиции главного производителя парниковых газов, а также стремительно развивающаяся Индия.
Пекин указывает на то, что запад несет ответственность за выбросы парниковых газов в течение 150 лет. Китай же теперь, дескать, имеет право наверстать упущенное в плане индустриализации и готов пойти на дорогостоящие меры по защите окружающей среды, только если развитые страны помогут их финансировать. Индия склонна проводить аналогичную политику, и разрешить этот конфликт интересов в ближайшие десятилетия будет непросто.
КРУПНЫЕ ДЕРЖАВЫ И МИРОВОЙ ПОРЯДОК
Навстречу многополярному миру? После окончания холодной войны США остались единственной сверхдержавой. Американские неоконсерваторы поспешили назвать эту ситуацию «однополярным моментом». Его расценили как шанс, данный Богом Соединенным Штатам, чтобы перекроить мир по своим меркам, не считаясь с международными обязательствами и мнением других государств. Однако эта теория подверглась серьезной проверке на прочность в связи с непрекращающимся насилием в Ираке. Как выяснилось, даже американская мощь отнюдь не беспредельна. Справедливость претензий Вашингтона на лидерство была также поставлена под сомнение вследствие пренебрежения международным правом, правами человека в Гуантанамо и тюрьме «Абу-Грейб». Имидж США пострадал и после скандалов вокруг выдачи заключенных странам, практикующим пытки.
В 2003-м многополярный мир возродился усилиями президентов Владимира Путина и Жака Ширака, ныне большинство крупных держав представляют собой своеобразные геополитические полюсы. Благодаря энергетическим ресурсам в клуб великих держав вернулась Россия. Китай уже сейчас представляет собой крупную торговую страну и обладает рекордными золотовалютными запасами, а примерно через два десятилетия выйдет на второе после Соединенных Штатов место в мире по объему ВВП. Великобритания и Франция, подобно КНР и России, входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Германия вновь обрела статус крупнейшей европейской экономики и стала первостепенным мировым экспортером. Ее военные играют все более заметную роль за пределами Европы, равно как и дипломаты, отстаивающие свою позицию по иранскому вопросу в рамках европейской «тройки». Япония не только остается второй мировой и ведущей азиатской экономикой, но и проводит активную дипломатию как в Азии, так и за ее пределами. Бразилия, Индия и ЮАР – державы пока еще преимущественно региональные, но в будущем претендуют на статус мировых.
Европейский союз с тройкой лидеров во главе (Великобритания, Германия, Франция) взял на себя функции одного из главных действующих лиц на дохийских переговорах по свободе торговле стран – участниц ВТО. На долю единой Европы приходится до половины официально предусмотренного объема оказания помощи развивающимся странам. В области внешней политики и политики безопасности ЕС неоднократно претворял в жизнь свою общую стратегию – в частности, в составе «квартета» коспонсоров израильско-палестинского урегулирования.
С расширением Евросоюза до 27 членов усугубилась его внутренняя разнородность. Возможность проводить согласованную политику будет зависеть от того, удастся ли принять Договор о реформах, который должен заменить отвергнутый Конституционный договор и возродить институциональную основу для эффективной деятельности. Как бы то ни было, Брюсселю понадобятся годы, чтобы выработать реальную и всеобъемлющую внешнюю политику, а также общую политику в области безопасности. Вместе с тем деятельность европейской «тройки», проводящей консультации с другими странами – членами Европейского союза при участии его верховного представителя по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы, поможет выработать жизнеспособный подход к решению различных вопросов, что наглядно показали переговоры с Ираном.
В многополярном мире Соединенные Штаты остаются самой могущественной державой: американские расходы на оборону примерно равны оборонному бюджету всех остальных стран, вместе взятых. Колоссальное влияние Америки бесспорно, но она больше не может навязывать свою волю. Чтобы убедиться в этом, администрация Буша заплатила слишком высокую цену. Защищая свои интересы в ряде регионов, некоторые державы проводят так называемую «мягкую балансировку», направленную против господства США. Но, несмотря на явное неприятие политики Буша, реальных попыток чем-то уравновесить ее – в соответствии с традициями XIX и XX веков – не предпринималось.
Крупные державы сотрудничают в разных областях на двусторонней и многосторонней основе, в том числе с Соединенными Штатами, особенно теперь, когда Вашингтон стал прислушиваться к мнению партнеров и более охотно идет на взаимодействие с ними. В Белом доме обнаружили, что большинство, если не все стратегические проблемы необходимо решать коллективно. Остальной мир в свою очередь пришел к пониманию того, что решение любой глобальной проблемы требует участия и одобрения США. При этом вовсе необязательно полностью поддерживать курс Америки либо считать, что она, по выражению Майкла Манделбаума, является «лучшим источником всемирного устройства и управления».
Будущее многополярного мира. Маловероятно, чтобы в XXI столетии между крупными державами произошел раскол или чтобы между ними возникло замешанное на шовинизме идеологическое противостояние, которое привело к великим войнам и катастрофам прошлого века. Конфликт интересов неизбежен, но войны между великими державами практически исключены, и уж, конечно, они совершенно невозможны между такими странами, как Великобритания, Германия и Франция. Также трудно представить себе вооруженные конфликты между Европой, США и Японией, которые связаны союзническими обязательствами, основанными на экономической интеграции и политическом сотрудничестве.
Сегодня великие демократии образуют своего рода мировую ось – несколько неожиданный итог необычайно жестокого XX века.
Однако это не гарантирует того, что развязывать войны и применять насилие не будут другие страны либо негосударственные образования. Наднациональные институты и международное право часто не способны предотвратить вооруженные конфликты, этнические чистки и другие формы насилия. Но сегодня, когда мир стал более уязвим для таких угроз, как терроризм, международная преступность или пандемии, потребность в институтах и праве больше, чем когда-либо. Влияния отдельных западных держав недостаточно, чтобы поддерживать в мире даже элементарный порядок. Это относится и к Соединенным Штатам, которые в этом смысле никогда не жалели усилий и служили последней инстанцией в разрешении конфликтов.
Реформа Организации Объединенных Наций назрела давно. За последние годы удалось добиться больших успехов на концептуальном уровне. Например, разработаны важные понятия: «обязанность защищать» и «человеческая безопасность», определяющие ответственность международного сообщества за облегчение людских страданий. По сути, эти понятия вступают в противоречие с безраздельно господствовавшей ранее концепцией государственного суверенитета, который исключал возможность вмешательства международного сообщества. Пути реформирования ООН намечены в рекомендациях Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и изменениям и вытекающих из них предложений Генерального секретаря. На реализацию этих инициатив уйдет немало времени и сил, но даже если их примут, прогресс не будет достигнут до тех пор, пока страны – члены ООН не выразят готовность к сотрудничеству и не предоставят часть полномочий органу международного сообщества. Решающую роль в этом будет играть поведение крупных держав.
Даже в случае неудачи реформирования ООН многостороннее взаимодействие возможно, необходимо и весьма вероятно. Такие производные современных трансграничных контактов и глобализации, как открытость, взаимозависимость и уязвимость, вынуждают правительства объединять усилия для решения проблем, с которыми им не справиться в одиночку. Это борьба с терроризмом, международной преступностью, проблема нераспространения ядерного оружия, не говоря уже о необходимости управления таким важным инструментом процветания, как социально-экономическое взаимодействие между странами.
Установление эффективных многосторонних отношений – одна из главных целей стратегии Европейского союза в области обеспечения безопасности, разработанной в 2003-м. Но такие отношения не могут ограничиваться высокопарными и малоэффективными декларациями вроде тех, что ООН принимала по вопросу о разоружении Ирака до декабря 2002 года. Они должны вести к конкретным результатам.
Экономическая взаимозависимость крупных держав – это еще один фактор, создающий благоприятные условия для установления эффективных многосторонних отношений и способствующий духу сотрудничества и консультаций. Отношения между КНР, с одной стороны, и США и Японией – с другой, характеризуются большой зависимостью от взаимного доступа к рынкам и инвестициям, от поставок комплектующих, от дефицитного финансирования или управления валютными резервами. Экономическая взаимосвязанность Пекина и Вашингтона – мощный стимул для того, чтобы положить конец политическим трениям и разногласиям и не позволить им накалиться до опасного уровня. То же справедливо и для экономических отношений между Китаем и Японией, хотя неспособность обеих стран адекватно относиться к общей истории, а также особое восприятие национализма делают их весьма хрупкими.
Европейцы, воспитанные на горьком историческом опыте, отлично знают, что национализм имеет свойство превращаться в шовинизм, конечным результатом которого нередко становятся военные конфликты. Это в полной мере относится и к Китаю, если он, например, попытается прибегнуть к националистическим лозунгам для преодоления внутреннего кризиса. Споры из-за Тайваня чреваты вооруженным противоборством. Сохранение мира в большой степени зависит от того, продолжит ли Пекин усваивать нормы поведения, подобающие великой державе, которая является одним из гарантов стабильности международной системы. (Подробнее на эту тему см.: Карл Кайзер. Уроки Европы и примирение в Азии // Россия в глобальной политике. 2006. № 4.)
Возрастает роль многосторонних контактов и переговоров с участием великих держав в решении конкретных проблем. Это и шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, и заседания «четверки» международных посредников (ООН, Россия, США, ЕС) по ближневосточному урегулированию, и «иранские» переговоры европейской «тройки» (Великобритания, Германия, Франция), которые идут при поддержке Вашингтона и с участием Москвы в качестве консультанта. В работе всех трех форумов, помимо великих держав, принимают участие и другие страны, и в каждом случае Соединенным Штатам принадлежит решающая роль (она могла бы быть еще более весомой в разрешении иранской проблемы, если бы Вашингтон не упорствовал в нежелании идти на прямой контакт с Тегераном).
Союзы или альянсы – это конкретные проявления многосторонних отношений, когда крупные державы связывают себя обязательствами по взаимопомощи. Из 26 стран – членов НАТО четыре – крупные державы. В Евросоюз входят Великобритания, Германия и Франция. Россия вступила в оборонный альянс с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном (хотя его реальная эффективность довольно сомнительна). США заключили двусторонние договоры о гарантиях безопасности с Японией и Южной Кореей, а также подписали трехсторонний пакт (АНЗЮС) с Австралией и Новой Зеландией (впрочем, в 1996 году Вашингтон приостановил свои обязательства в отношении Веллингтона).
Самым масштабным и активно расширяющимся альянсом является НАТО. Североатлантический союз эволюционировал из оборонного блока по сдерживанию агрессивных устремлений и защите от них в организацию, обеспечивающую безопасность в приграничных областях и стабильность в тех регионах, откуда может исходить угроза, а также всюду, где местное население подвергается опасности насилия. НАТО выполняет стабилизирующую функцию прежде всего на Балканах и в Афганистане.
Действуя по мандату международного сообщества, страны – члены этого блока, среди которых главенствующую роль играют крупные державы, могут на практике применить новаторский и, будем надеяться, успешный подход к решению одной из наиболее острых проблем современности. Речь идет о странах-изгоях – средоточии человеческих страданий и потенциального источника терроризма и преступности. Знаменательно, что более 30 государств стали участниками кампании в Афганистане, и среди них одна крупная держава, не входящая в НАТО, а именно Япония.
Пример Североатлантического альянса иногда приводят в контексте более фундаментального вопроса: как многосторонние отношения могут содействовать предотвращению гуманитарной катастрофы и ее последствий? Ведь современный мир отчаянно нуждается во вмешательстве международных сил в тех случаях, когда ООН не может оказать необходимую помощь. Так, в 1999-м НАТО без санкции Организации Объединенных Наций осуществила военную интервенцию, чтобы положить конец непрекращавшимся этническим чисткам в Косово. Тогда Россия и Китай отказались одобрить применение силы, хотя они сотрудничали с Советом Безопасности ООН и присоединились к требованию прекратить этнические чистки. Формально НАТО действовала незаконно, но ее операция была признана легитимной большинством стран, поскольку соответствовала нормам ряда других международных конвенций.
Косовская кампания положила начало дискуссии о том, следует ли демократическим государствам вмешиваться в случае очевидных гуманитарных катастроф, когда вето (которое обычно накладывают Россия и Китай, принципиально возражающие против любой интервенции) парализует работу СБ ООН. Было выдвинуто предложение расширить роль евро-атлантической организации до «глобальной НАТО», выполняющей вышеупомянутые функции совместно с другими демократиями и при их непосредственном участии. В расширенной трактовке эта концепция требует «согласия демократических стран». Оно объединило бы их в новую всемирную организацию, способную внести неоценимый вклад в совершенствование мирового порядка.
Идея создания организации, объединяющей все демократии мира, вряд ли получит достаточную поддержку. К тому же она может иметь роковые последствия для попыток реформировать ООН. Однако привлекательной альтернативой может стать подход, при котором демократии берут на себя ответственность в случае неспособности ООН предпринять решительные действия при очевидных и недвусмысленных обстоятельствах, будь то гуманитарные катастрофы или террористические угрозы. Подобная практика в рамках альянса и при сотрудничестве с другими странами обретает бЧльшую легитимность и становится более эффективной.

Россия и Китай в зеркале американской политики
Игорь Зевелёв, Михаил Троицкий
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2007
И.А. Зевелёв – д. полит. н., руководитель представительства Российского агентства международной информации «РИА Новости» в Вашингтоне. М.А. Троицкий – к. полит. н., доцент МГИМО (У) МИД России.
Резюме Россия, осознавая свое отличие как внешнеполитического игрока от Китая, могла бы поучиться у него искусному тону публичной дипломатии. Пекин умело снимает беспокойство партнеров по поводу растущей мощи КНР, последовательно выстраивая образ дружелюбного государства, стремящегося к «гармоничному миру».
В представлениях политической элиты США за последние два-три года образы России и Китая сблизились. Этот процесс проходил по двум направлениям.
Во-первых, Российская Федерация и Китайская Народная Республика все чаще рассматривались как крупные страны с рыночными экономиками и авторитарными режимами.
Во-вторых, эти государства объективно препятствуют усилению американского влияния на мировой арене.
Однако содержание и стиль политики, а также риторика Соединенных Штатов существенно меняются в зависимости от того, заходит ли речь о России или Китае. Москва и Пекин объединены сходством во взглядах на систему международных отношений, которую в современном мире пытаются формировать США. И Россия, и КНР не приемлют склонность Вашингтона перестраивать внешний мир на свой лад и последовательно оказывают ему сопротивление. Тем не менее как внутренняя, так и внешняя политика Пекина не вызывают в США столь бурной реакции, как действия России.
Подход Соединенных Штатов к Китаю в целом остается более деловым, выдержанным и конструктивным. Российская же внутриполитическая действительность и деятельность Москвы на мировой арене все больше демонизируются. Американцы оценивают Россию более эмоционально, чем КНР. Причем призывы к сдерживанию в официальных американских документах и докладах экспертных организаций звучат куда более отчетливо и убедительно по отношению к Москве, нежели к Пекину.
В 2001 году российское направление политики Джорджа Буша основывалось на определенном доверии, в то время как Китай рассматривался в качестве стратегического соперника. К концу второго срока пребывания у власти 43-го президента США стало ясно, что частью его внешнеполитического наследия станут неожиданно хорошие отношения с коммунистической КНР и столь же неожиданная напряженность во взаимодействии с Россией.
С 2005-го целью администрации Буша является, как выразился тогда ставший впоследствии президентом Всемирного банка Роберт Зеллик, превращение Китая в «ответственного держателя акций» миропорядка. В то же время американо-российские связи постоянно ставятся в зависимость от прогресса России на пути к либеральной демократии и ее политики на постсоветском пространстве.
Характерны выводы, сделанные влиятельными экспертами Совета по международным отношениям США в последних докладах по России (2006) и Китаю (2007).
Американо-российские отношения предлагается строить по принципу выборочного сотрудничества, а не партнерства, которое открыто объявляется невозможным. Авторы доклада утверждают, что американо-российское «противостояние вытесняет согласие. Сама идея “стратегического партнерства” более не кажется реалистичной».
В отношении КНР, напротив, рекомендуется политика включения этой страны в мировые процессы при определенном сдерживании ее возрастающей мощи. Прямое жесткое сдерживание решительно отвергается. Американской администрации предлагается «сконцентрировать усилия на позитивной программе интеграции Китая в глобальное сообщество, содействуя формированию у КНР таких интересов, которые позволят расширить существующее сотрудничество и создать новые возможности для кооперации на региональном и глобальном уровнях».
Другими словами, Россия в глазах США все больше превращается в несостоявшегося партнера, а Китай – это быстро растущая держава, которую необходимо интегрировать в формируемый американцами миропорядок.
В чем же причины негативных эмоций в одном случае и спокойного прагматизма в другом? Почему паранойя в отношении поднимающейся КНР – удел авторов-непрофессионалов, маргинальной литературы, протайваньского лобби и ультраконсервативных аналитиков, а «вероломно рычащий российский медведь» – обычный образ для вполне респектабельных изданий? Почему официальные американские документы осторожно призывают Пекин продолжать движение в сторону реформ и открытости, а Москву постоянно строго предупреждают, что двусторонние отношения будут зависеть от ее поведения? Самое главное: что делать России в этих условиях, а также насколько возможна и желательна «китайская модель» отношений с Соединенными Штатами?
РОССИЯ И КИТАЙ КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ США
Сравнение традиционных потенциалов России и Китая позволяет сделать вывод о том, что именно последний имеет больше шансов стать основным конкурентом Америки на мировой арене XXI века. Открытым остается лишь вопрос о формах этого соперничества.
КНР значительно опережает Россию по валовым экономическим показателям: в 2006 году китайский ВВП составлял 77 % от американского по паритету покупательной способности против российских 13 %. Даже если измерять ВВП по текущему обменному курсу, к 2027-му Китай, как утверждают эксперты крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs, превзойдет США. Промышленный рост КНР иллюстрирует тот факт, что уже в 2006 году там было выпущено больше автомобилей, чем в Соединенных Штатах. Если даже предположить, что темпы российской экономики и впредь сохранятся на высоком уровне последних семи лет, процентное соотношение российского и американского ВВП в ближайшие десятилетия существенно не изменится. Россия будет все больше отставать от США демографически: к 2050-му ее население может сократиться со 144 до 108 млн человек, тогда как число американцев возрастет с 300 до 400 миллионов.
Если вынести за скобки ракетно-ядерные возможности России, то Китай потенциально опаснее для Вашингтона в качестве глобального соперника. КНР уже в течение 16 лет осуществляет амбициозную программу модернизации своих вооруженных сил, включая космический, военно-морской и ракетный компоненты. В своих ежегодных докладах о китайской армии, публикуемых с 2000 года, Пентагон постоянно высказывает озабоченность в связи тем, что данные о военных расходах и вооружениях остаются непрозрачными.
Особое беспокойство США вызвали учения, проведенные в январе 2007-го, когда китайская баллистическая ракета уничтожила спутник на околоземной орбите. Видный американский эксперт-китаевед директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира Бейтс Джилл и его соавтор Мартин Клейбер высказали на страницах журнала Foreign Affairs опасение по поводу того, что «правая рука Пекина могла не знать, что делала левая. Народно-освободительная армия Китая и ее ракетные силы, скорее всего, проводили испытания противоспутникового оружия, не поставив в известность другие ключевые ведомства КНР, ответственные за национальную безопасность и внешнюю политику».
В последнем официальном обзоре американской военной стратегии, выходящем в Вашингтоне раз в четыре года, Китай назван страной, «в наибольшей степени способной состязаться с Соединенными Штатами в военной сфере и внедрять разрушительные военные технологии, которые со временем могут подорвать традиционные факторы американского военного превосходства при отсутствии встречных мер со стороны США».
Политическая система КНР гораздо менее плюралистична и открыта, чем российская. Американцам в целом ближе процесс принятия решений российскими чиновниками, нежели китайскими: недостатки российской системы государственного управления, присущие самим Соединенным Штатам на определенном этапе их развития, затем были американцами частично или полностью изжиты.
Впечатление, производимое на Вашингтон перспективами роста мощи Китая, усугубляется его непроницаемостью для американского «мягкого» влияния. КНР гораздо менее восприимчива к американским ценностям, нормам поведения и практикам, чем Россия.
В Китае сложился вполне твердый консенсус относительно неприятия американских взглядов на демократию и политический плюрализм. За исключением немногочисленных диссидентов даже те силы, которые считаются относительно либеральными, выступают за осторожные, медленные реформы с учетом китайской специфики. В России «западники» достаточно сильны, если не политически, то, по крайней мере, интеллектуально. Есть и «проамериканская» оппозиция официальному политическому курсу, в отношении которой власти действуют существенно мягче, чем в КНР.
Характерны различия в ощущении общности с западными странами и в том, что касается экологии планеты. Россия присоединилась к Киотскому протоколу, взяв на себя определенные обязательства, и при этом не испытывает проблем с их соблюдением, поскольку выбросы парниковых газов в нашей стране существенно ниже установленных объемов. Китай же исходит из «общей, но дифференцированной ответственности», а выбросы газов там продолжают увеличиваться. Экологическую повестку дня мировой политики Пекин в целом воспринимает как попытку стран Запада «стреножить» развивающуюся китайскую экономику, навязать ей невыгодные модели развития. Разного рода природоохранные стандарты КНР считает несправедливыми и не собирается их применять на практике до тех пор, пока не приблизится по душевым показателям благосостояния к западным государствам.
Даже в начале 2000-х, когда в мире господствовал в целом позитивный образ Соединенных Штатов, Пекин настороженно относился к их роли на мировой арене. Неприятие «американской гегемонии» – одна из наиболее последовательных линий, проводимых Китаем во внешнеполитической риторике. Сближение Пекина с Вашингтоном на волне антитеррористической борьбы было менее тесным, чем Москвы с Вашингтоном. Атмосфера американо-китайских отношений заметно не изменилась после 11 сентября 2001 года.
КНР испытала явное удовлетворение от того, что внимание США переключилось на Ближний и Средний Восток. Напротив, наращивание американского военного присутствия в Центральной Азии вызвало у Китая серьезную обеспокоенность задолго до 2005-го, когда на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане к этой позиции официально присоединилась Россия. Пекин озабочен также и уменьшением собственного влияния в Пакистане, и использованием Японией своих сил самообороны в операциях на Среднем Востоке, и участием Вашингтона в антитеррористической операции на Филиппинах. Все это усилило традиционные опасения Китая оказаться в «окружении».
Вышеперечисленные факторы вроде бы «объективно» делают КНР, а не Россию главным оппонентом Соединенных Штатов на мировой арене. В такой ситуации противоречия между двумя сверхдержавами – нынешней и потенциальной – должны были бы только обостряться. Почему же тогда особое раздражение вызывает у американцев именно Россия? Непропорционально большая роль, которую играют антироссийские этнические лобби в Вашингтоне, а также отсутствие мощных экономических групп влияния, создающих достаточный баланс и кровно заинтересованных в поддержании хороших отношений с Москвой, как это имеет место в случае Пекина, не могут полностью объяснить складывающуюся картину.
Ключ к ответу на поставленный вопрос имеет смысл искать в том, что американское политикоформирующее сообщество не воспринимает Россию в качестве «иной», как КНР.
С одной стороны, имея более тесные исторические, культурные и институциональные связи с Западом, Россия представляет для него гораздо меньшую стратегическую угрозу в перспективе. С другой же стороны, она вызывала у американцев более оптимистичные ожидания, как страна, бывшая в их восприятии на протяжении последних 15 лет более «схожей» с Соединенными Штатами, чем Китай. В начале 1990-х демократическая интеллигенция, включая медиасообщество, полагала, что Россия в обозримой перспективе полностью уподобится Западу и «вольется в его ряды».
Американское политическое и экспертное сообщество надеялось, что Россия, пусть и с некоторым запаздыванием, последует за центральноевропейскими государствами, которые более или менее успешно прошли болезненный путь политических и социально-экономических реформ и присоединились к западным институтам – НАТО и Европейскому союзу. Прием в НАТО стран Центральной Европы в прошлом десятилетии, как предполагалось в некоторых кругах Вашингтона, должен был, в частности, подтолкнуть Россию к сотрудничеству с этой организацией. По американской логике, у Москвы не оставалось иных вариантов, кроме как смириться с подобным геополитическим ударом.
После расширения, считали американские эксперты, Россия была бы вынуждена инициировать полномасштабное взаимодействие с НАТО – «неизбежной реальностью» постбиполярного мира. На деле, однако, расширение нисколько не оправдало подобные надежды и, наоборот, обострило российско-американские отношения, которые улучшились лишь на короткий период после 11 сентября 2001 года. По мнению известного аналитика-международника Алексея Богатурова, если «в первой половине 1990-х годов Москва была поглощена задачей “понравиться” западным партнерам», то «во второй половине этого десятилетия... российская дипломатия была сориентирована на минимизацию ущерба от тех основных международных процессов, в которые Россия была объективно включена, но в регулировании которых она фактически не принимала никакого участия».
Разрыв между ожиданиями и реальностью привел к формированию в США стойкого восприятия России как европейской, но «девиантной» страны, чьи внутренние реалии, а также внешнеполитическая риторика и деятельность не укладываются в привычный стереотип. Россия, как «переходное» государство, по мнению американской общественности, должна была стремиться к укреплению сотрудничества с Соединенными Штатами, активно перенимать американские ценности и практики государственного управления.
Отсутствие такого стремления породило желание «научить» Россию, трансформировать ее из «пока еще иной» в «свою». Это и привело к парадоксу чрезмерно «взыскательного» отношения к Москве по сравнению с Пекином, гораздо в большей степени заслуживающим критику по тем позициям, которые «вменяются в вину» России.
В практической плоскости особенностью американо-российских отношений является постоянно обновляемый список острых проблем, в числе которых перспективы расширения НАТО, внутриполитическая борьба в Украине и в Грузии, пути прокладки трубопроводов, будущий статус Косово, планы размещения элементов американской противоракетной обороны в Польше и Чехии, военное присутствие России и США в центральноазиатских странах. Все узлы противоречий географически сосредоточены на широкой дуге, пролегающей от Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы через Кавказ и Каспий к Центральной Азии. В этих трансформирующихся регионах сталкиваются интересы безопасности глобальной (Соединенные Штаты) и региональной (Россия) держав.
КНР и США также соперничают за влияние в различных регионах Азии. Однако это соперничество носит скорее позиционный характер и редко приводит к кризисным ситуациям в американо-китайских отношениях. Пекин постоянно подчеркивает принцип партнерства в диалоге с соседями, для чего широко используются многосторонние институты («АСЕАН плюс 3», АТЭС, Восточноазиатский саммит, ШОС). Движимый потребностью в энергетических ресурсах для экономического роста, Китай расширяет свое присутствие в Африке и ряде стран Латинской Америки. Это не может не вызывать настороженность американской администрации, однако не толкает Вашингтон и Пекин на путь взаимных упреков и острой словесной полемики на уровне высоких государственных чиновников.
НОВЫЙ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
В поисках партнеров, готовых совместно с Россией сдерживать напор Соединенных Штатов, Москва еще в середине 1990-х годов остановила взгляд на Пекине. Взаимодействие с КНР на этом направлении представлялось весьма перспективным. Лейтмотив китайской внешнеполитической риторики – не допустить чьей-либо «гегемонии» в мире в целом и в Азии в частности – созвучен российскому стратегическому мышлению.
Еще авторы российской Концепции национальной безопасности (2000), формально действующей до сих пор, назвали одной из главных угроз «стремление отдельных государств и межгосударственных объединений принизить роль существующих механизмов обеспечения международной безопасности», то есть действовать в одностороннем порядке. Речь в документе шла, разумеется, о США и НАТО. Поразительно сходство оценок в российской Концепции с тезисами аналогичного китайского документа – Новой концепции безопасности Китая, принятой двумя годами ранее. В Пекине в числе главных угроз назывались гегемония и силовая политика, менталитет холодной войны, расширение военных блоков и укрепление военных союзов.
РФ и КНР выработали особую стратегию ответа Америке. Они не идут на полноценный союз для открытого противодействия Соединенным Штатам, а пытаются создавать противовес, лишь косвенно затрагивающий американское влияние. Москва и Пекин не планируют явно противопоставлять себя Вашингтону, рискуя столкнуться с жесткими ответными мерами. Они лишь стремятся продемонстрировать, что стоящий перед ними выбор в пользу партнерства с Америкой небезальтернативен.
Cвою политику в отношениях с США Россия и Китай строят на представлении о том, что американская мощь в мировой политике и экономике ослабевает, а российская и китайская усиливаются. К такому заключению наблюдателей в Москве и Пекине подталкивает ряд соображений.
Во-первых, темпы роста экономик обеих стран существенно превосходят аналогичные показатели развитых государств, включая Соединенные Штаты.
Во-вторых, трудности, которые испытывают американские войска в Ираке и Афганистане, интерпретируются Москвой и Пекином как признак разрушения однополярной системы международных отношений во главе с США. Учитывая, что совсем недавно способность одновременно вести две крупные войны составляла основу американской военной доктрины, российские и китайские наблюдатели склонны полагать, что во внешней политике Соединенных Штатов эра односторонних действий, как минимум, заканчивается. Это впечатление усиливается неудачами американской дипломатии в поддержании режима нераспространения ядерного оружия, особенно в связи со сложностями на иранском направлении. Например, по оценке Алексея Арбатова, «США утрачивают влияние в Западной Европе, на Дальнем Востоке и даже в своей традиционной “вотчине” – Латинской Америке».
В-третьих, в России и Китае исходят из того, что в 2000-е годы имидж Соединенных Штатов и их способность оказывать «мягкое» влияние серьезно пострадали вследствие нарушений прав человека в тюрьмах «Абу-Грейб», на базе ВМС США в Гуантанамо и секретных следственных изоляторах ЦРУ в Восточной Европе. Многие российские и китайские эксперты считают, что возросший уровень антиамериканизма в мире со времени начала иракской кампании расширяет круг стран, которые охотно присоединятся к усилиям по ограничению всевластия Вашингтона.
Наконец, в-четвертых, внутриполитическая борьба в США вокруг перспектив продолжения иракской кампании и отсутствие единого мнения в американских правящих элитах по этому вопросу нередко интерпретируются российскими и китайскими политиками и экспертами как признак слабости Соединенных Штатов.
В силу указанных обстоятельств, как ожидают в Москве и Пекине, способность Америки добиваться своих целей на мировой арене уменьшится. Это произойдет если не в краткосрочной (через 3–5 лет), то в среднесрочной либо долгосрочной перспективе (по истечении 10–15 лет). Поэтому, не играя на быстрое снижение «американских акций», Россия и Китай четко обозначают свое нежелание идти в фарватере американской политики в качестве «младших партнеров».
Справедливо отмечая, что у обеих стран много общих черт в оценках мировой ситуации и в их отношении к США, российское внешнеполитическое сообщество упускает из виду один значимый факт: Пекин охотно уступает Москве роль «ведущего» в противодействии неприемлемой для обеих сторон политике Вашингтона. Сама же КНР добилась более ровного и прагматичного взаимодействия с Америкой. «Китайская модель» сочетает самостоятельную линию на мировой арене, категорическое неприятие попыток включить внутриполитические проблемы в повестку дня двусторонних отношений и определенное политическое дистанцирование от Запада, чей опыт и рекомендации, по твердому убеждению пекинских руководителей, неприменимы напрямую, учитывая современные китайские реалии.
Исходя из собственных интересов и оценки угроз со стороны Соединенных Штатов, Пекин заинтересован в сохранении высокого уровня противоречий между Москвой и Вашингтоном. КНР выгодна ситуация, в которой Россия воспринимается как главный критик американской политики, принимающий на себя всю силу ответной реакции. Китай еще больше, чем Россия, опасается противостоять американской политике, если результатом окажется его изоляция. Например, китайским представителям в Совете Безопасности ООН отнюдь не свойственно в одиночестве использовать право вето, когда речь идет о важной для США резолюции, если только она не касается проблемы Тайваня. К примеру, Пекин наверняка не стал бы «ветировать» резолюцию СБ ООН, предоставляющую фактическую независимость Косово, если бы Россия воздержалась при голосовании.
В целом сложно представить себе ситуацию, при которой именно Китай прикладывал бы максимум усилий, чтобы блокировать нежелательные для него американские инициативы, а Россия лишь поддерживала бы его жесткую критику в адрес США, часто предпочитая оставаться в тени и предоставляя КНР возможность объяснять логику несогласия с американской позицией. Подобный подход привел бы к гораздо более жесткой ответной реакции Вашингтона в адрес Пекина. Под вопрос была бы поставлена сама стратегия «мирного подъема» – постепенного усиления, не провоцирующего другие великие державы. Еще архитектор китайского «экономического чуда» Дэн Сяопин призывал к тому, чтобы КНР «играла незаметную роль на мировой арене и не стремилась к руководящей роли». Нынешний китайский лидер Ху Цзиньтао подчеркивает, что Пекин еще два десятилетия будет уделять первоочередное внимание вопросам внутреннего развития.
ЧТО ОБЕЩАЕТ РОССИИ «КИТАЙСКИЙ ПУТЬ»?
Под давлением напористой политики Соединенных Штатов, явно не готовых к компромиссам с Россией, Москва продолжает дрейфовать в сторону от Запада. В нашей стране появляются приверженцы перехода к «китайской модели» отношений с Америкой. И все же, прежде чем сделать окончательный выбор, стоило бы задуматься, какие издержки предвещает эта модель.
Не исключено, что Россия, как минимум, должна будет готова отказаться от содержательного диалога с Западом в рамках таких институтов, как «Большая восьмерка», Совет партнерства и сотрудничества с Европейским союзом и Совет Россия — НАТО, а возможно, и в таких многосторонних структурах, как Совет Европы и ОБСЕ. Причем покинуть эти «клубы» пришлось бы по собственному желанию, демонстрируя тем самым уверенность в себе и независимость от Запада.
В Москве уже реализуются или обсуждаются варианты разрыва некоторых договоренностей с участием России и Запада: был введен мораторий на выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года, есть вероятность выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987-м. В то же время подобные меры затрагивают только режимы контроля над вооружениями. Членство в институтах политического диалога с Западом по-прежнему высоко ценится российским руководством. Хотим ли мы в реальности и можем ли себе позволить сократить наше участие в этих структурах?
Вступление в «Группу восьми» и создание институтов взаимодействия России с ЕС и НАТО обоснованно воспринимаются у нас как крупные внешнеполитические успехи последнего десятилетия. В этом заключается одна из немногих схожих черт внешней политики президентов Путина и Ельцина. Их объединяет стремление сидеть за одним столом с западными партнёрами, причем не в качестве «иных, приглашенных по случаю» (подобно Китаю на саммитах с Евросоюзом или в кулуарах «Большой восьмерки»), а как равноправные постоянные участники диалога. Российские лидеры ценят то доверие, которым они пользуются среди западных лидеров.
При всех проблемах, имеющихся в российско-натовских отношениях, партнеры России по Совету Россия — НАТО гораздо больше доверяют российским руководителям, чем китайским, по таким стратегическим вопросам, как нераспространение ядерного оружия, основные параметры российского военного строительства и доктрины использования вооруженных сил. Даже беглое знакомство с документами внешней политики и военной стратегии КНР дает основание полагать, что китайские официальные лица в полной мере реализуют на практике поговорку, согласно которой «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли».
Прошло уже целое десятилетие с момента учреждения структур взаимодействия Россия – НАТО и присоединения России к «Большой восьмерке» и Совету Европы. За это время Москва проделала часто недооцениваемую нами работу по «притирке» к западным партнерам. Россия сумела утвердиться в совместных с Западом институтах, научилась проявлять на их форумах инициативу и изобретательность. Российское председательство в «Группе восьми» вполне укладывалось в принятые там интеллектуальные и организационные стандарты. Опыт выстраивания взаимодействия между союзниками по НАТО в рамках Совета евро-атлантического партнерства наверняка пригодился российским дипломатам, ответственным за укрепление интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Москва научилась находить весомые аргументы и уверенно отстаивать свою позицию даже в диалоге с правозащитниками-фундаменталистами, задающими тон в Совете Европы. Было бы крайне расточительно в одночасье отказаться от обязательств, к которым Россия успешно адаптировалась за десять лет, приобретя дополнительные рычаги воздействия на политику своих западных партнеров.
Транслируемые Западом через совместные с Россией институты претензии к процессу либерализации экономической и политической жизни в нашей стране часто раздражают. Однако надо иметь в виду, что западные страны предъявляют соответствующие требования и к самим себе (например, в сфере соблюдения экологических стандартов) и не избегают самокритики в случае отхода от сложившихся стандартов в том, что касается прав человека.
Влиятельным политикам и средствам массовой информации на Западе не свойственно испытывать священный трепет перед властями предержащими. Они неоднократно нажимали на такие «болевые точки» США и стран Европейского союза, как американская база в Гуантанамо, секретные тюрьмы ЦРУ в Европе, прослушивание американскими властями телефонных переговоров внутри страны и слежка британской полиции за потенциально неблагонадежными гражданами – выходцами из мусульманских стран. Именно постоянное, не останавливаясь на достигнутом, движение вперед являлось бы критерием того, что наша страна стала «своей» в западных клубах, членство в которых Россия высоко ценит. Однако порой она рассматривает свое участие в них исключительно с точки зрения своего статуса и возможности добиваться уступок, а не возрастающей ответственности и поиска компромиссов.
Кроме того, критика со стороны Соединенных Штатов в чей-либо адрес не обязательно подразумевает враждебность по отношению к тому или иному государству и стремление ослабить его как противника. Напротив, она может означать признание фундаментальной общности с объектом этой критики. И наоборот, отсутствие публичной полемики между США и каким-либо государством скорее свидетельствует об отсутствии общих взглядов и нецелесообразности обсуждать с ним разногласия по поводу принципов политического устройства: уж слишком очевидны глубокие расхождения в подходах.
Не порицая друг друга в резкой форме, Вашингтон и Пекин, скорее всего, находятся на пути к реальному взаимному сдерживанию. Открытому проявлению данной тенденции до определенного момента может препятствовать фактор электорального цикла в Соединенных Штатах. Агрессивная риторика в отношении Китая обычно не дает кандидатам в президенты и члены Конгресса США дополнительной спонсорской поддержки либо голосов на выборах. Однако в среде американских военных и разведывательного сообщества, где горизонт планирования превышает четыре года, а сотрудники не испытывают электорального давления, озабоченность политикой Китая серьезнее, чем в политических кругах.
КНР относится к тем странам, которые могут позволить себе отказаться следовать и соответствовать постоянно усложняющимся критериям западных «клубов», но при этом продолжать диалог с этими структурами. Такие государства в глазах Запада могут быть равноправными и сильными, но при всем том они остаются «иными». Пекин не стремится институционализировать политический диалог с Западом. Возьмем, к примеру, конфликт с Вашингтоном по поводу возвращения американского самолета-шпиона с экипажем, совершившим вынужденную посадку в апреле 2001 года на китайском острове Хайнань. В данном случае Пекин мог проявлять жесткость и бескомпромиссность, поскольку не был связан обязательствами обсуждать подобные вопросы в рамках институтов вроде Совета «Россия – НАТО». Китаю также проще сопротивляться давлению США в пользу ревальвации юаня благодаря отсутствию общих институтов, требующих от своих участников готовности к компромиссу.
Наконец, если допустить, что способность Соединенных Штатов к реализации своих целей в мировой политике действительно ослабевает, то Москва вряд ли окажется в первых рядах игроков, которые от этого выгадают. Геополитический нажим США на Россию в соседних с ней регионах, несомненно, снизится. Вопрос включения стран постсоветского пространства в НАТО будет отложен. Однако получит ли Москва какие-либо еще дивиденды от серьезного ослабления и изоляции Соединенных Штатов – неочевидно. В то же время распространение оружия массового уничтожения и возникновение разного рода экстремистских движений на Ближнем Востоке, а также возможно, в Центральной Азии имеют все шансы получить дополнительный импульс.
Для России особенно опасен полный выход из-под контроля ситуации в Афганистане. Если вслед за началом вывода американских войск из Ирака под вопросом окажется целесообразность присутствия США в Афганистане, жизненно важные интересы Москвы, связанные с поддержанием стабильности в Центрально-Азиатском регионе, будут поставлены под угрозу. Япония, не полагаясь более на защиту Америки в той степени, как это было раньше, приступит к наращиванию военного потенциала, толкая Китай на ответные меры. Все это крайне негативно отразится на политике безопасности вдоль всего периметра российских границ и поставит нас перед необходимостью увеличить военные расходы.
Снижение международного влияния Соединенных Штатов будет иметь принципиально иные последствия для Пекина, который извлечет из этого бесспорную выгоду. Перед ним откроются новые возможности в решении главной внешнеполитической задачи – воссоединения с Тайванем на условиях КНР. Китай сможет проявить гораздо большую напористость и в обеспечении собственной энергетической безопасности, а также в разрешении территориальных споров в Южной Азии. Распад СССР, главной сдерживающей КНР силы в Северо-Восточной Евразии, уже позволил Пекину в конце 1990-х заключить выгодные договоры о границе со своими западными соседями – Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. По этим договорам Китаю отошли территории, которые прежде являлись предметом спора. То, чего Пекину не удавалось добиться от СССР, было легко достигнуто после исчезновения Советского Союза с политической карты мира.
Наконец, у КНР есть амбиции и реальные шансы стать ведущей мировой державой, и ослабление США только облегчило и ускорило бы этот процесс. В свою очередь Россия уже преодолела искушение вести «глобальную внешнюю политику» в отрыве от целей внутреннего развития. Сегодня перед нами стоят международные задачи иного плана – обеспечить безопасный режим превращения в одну из ведущих и вместе с тем эффективных экономик мира, способную создать благоприятные условия для достойной жизни населения страны. Ускоренный пересмотр сложившегося международного статус-кво существенно затруднит достижение этой цели.
И БЫТЬ, И КАЗАТЬСЯ
Несмотря на обострение противоречий с Западом, руководство нашего государства сохраняет намерение сближать российские нормы и практики с западными. Высказывание Владимира Путина относительно того, что Россия «будет развиваться так же, как и все цивилизованные страны, на общих принципах» (оно прозвучало в ответ на провокацию радикальной оппозиции во время встречи «Большой восьмерки» в Германии в июне этого года), не могло остаться незамеченным на Западе. Однако для полноценного партнерства с США подобные высказывания необходимы, но недостаточны. Вашингтон требует от Москвы быть «своей» и во внешней политике, что подразумевает согласие России на роль «младшего партнера», признающего логику интересов партнера ведущего. Именно от такой роли Российская Федерация сегодня решительно отказывается, воздействуя на Соединенные Штаты таким образом, чтобы они воспринимали ее как страну, стремящуюся изменить правила игры на мировой арене.
При этом острота и непоколебимость российской внешнеполитической риторики вызывает несоразмерные уровню российско-американских противоречий неприятие и реакцию со стороны руководства США. Архитекторам внешней политики России импонирует имидж сильного, напористого игрока, которого не смущает, что его самоуверенность не всегда подкреплена способностью убеждать партнеров и привлекать их на свою сторону.
К аргументам России Соединенные Штаты, судя по всему, всерьез прислушиваться не собираются. Как и Москва, Вашингтон уверен в своей правоте и моральном превосходстве. На слова и действия России в последние два года оттуда поступает неадекватно жесткая критика в нарушении демократических норм. Безусловная поддержка оказывается антироссийским тенденциям и лидерам на постсоветском пространстве. Ощущается явное нежелание содействовать превращению России в «ответственного держателя акций» миропорядка.
Китай же, который никогда не рассматривался Америкой в качестве «своего» и даже не вел поисков полномасштабного партнерства с США в мировой политике, пока достаточно успешно поддерживает образ страны, совершающей «мирный подъем» в рамках существующего порядка. Поэтому Вашингтону, несмотря на его явную озабоченность стремительно растущей мощью КНР, сложнее оправдать и реализовать жесткий и бескомпромиссный курс на ее сдерживание, как это имеет место в случае России.
Осознавая свое отличие как внешнеполитического игрока от Китая, Россия могла бы поучиться у него искусному тону публичной дипломатии. Не случайно, согласно опросам общественного мнения, проводившимся американским исследовательским центром Pew Research Center в 47 странах, образ Китая в 2007 году расценивался преимущественно как позитивный населением 27 государств, Россия же пользовалась симпатиями лишь 14-ти. Пекин умело снимает беспокойство партнеров по поводу роста китайской экономической и военной мощи, последовательно выстраивая образ дружелюбного государства, стремящегося к «гармоничному миру».
Ведущий американский политолог, автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най недавно отметил, что Китай научился привлекать к себе других международных игроков, подчеркивая свои экономические успехи, культурные достижения и стремление к миру. Несмотря на серьезные внутренние социально-экономические проблемы, КНР излучает на мировой арене спокойствие и уверенность в том, что время на ее стороне. Россия же своей резкой внешнеполитической риторикой иногда производит впечатление игрока (по крайней мере, в США), который торопится ощутить свою растущую мощь, но не слишком уверен в своих перспективах и до сих пор находится в поисках концепции национальных интересов.
У России гораздо больше шансов, чем у Китая, выстроить партнерские отношения с США и с Западом в целом, не утрачивая при этом своей особости и самостоятельности. Хотя КНР пока добилась в данном плане большего, Россия могла бы опередить ее, найдя свой путь между «китайской моделью» взаимодействия с Соединенными Штатами и участью их «младшего партнера», подчиняющего интересы своей безопасности американским. Между этими альтернативами гораздо более широкое пространство для маневра, чем может показаться на первый взгляд.

Преодолевая стереотипы
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2007
РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОД 60-ЛЕТИЯ
А.В. Давыдов – писатель, путешественник, автор путеводителей по Индии.
Резюме Если в книжных магазинах Дели и можно найти книги о России, то это несколько тенденциозных работ западных авторов. Индия и Россия стали смотреть друг на друга через призму западных средств массовой информации и исследований.
Контакты между Россией и Индией завязались еще в Средние века. Одну из первых страниц в этих взаимоотношениях открыл в XV столетии тверской купец и путешественник Афанасий Никитин, автор путевых записок «Хождение за три моря», содержавших достоверные описания политического устройства, культуры, обычаев и природы Индии.
Дипломатические отношения между Москвой и Дели были установлены в апреле 1947 года, сразу после достижения Индией независимости, а уже с середины 1950-х начинается бурное развитие советско-индийских связей. В 1971 году оба государства подписали Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, который установил правовую основу «особых отношений» между ними. Впоследствии в совместной советско-индийской декларации (1982) Советский Союз и Индия «выражают глубокое удовлетворение эффективностью их многогранного сотрудничества, которое представляет собой ценное достояние двух стран».
Однако в 1990-х все изменилось. Развал Советского Союза, курс на либерализацию экономики, взятый в обеих странах, критически понизили уровень взаимодействия. Как Индия, так и Россия стали больше склоняться к контактам с Западом, а в последнее время и с Китаем.
Стереотипы, унаследованные из прошлого и давно не соответствующие действительности, продолжают жить самостоятельной жизнью. Даже такие заядлые путешественники, как бенгальцы, в основном полагают, что у нас в России до сих пор стоят в очередях за хлебом. Россияне же по-прежнему думают об Индии (в частности, о Западной Бенгалии и Калькутте) как стране чрезвычайной бедности и безысходности. Между тем современная Индия – это уже совсем не та страна, какой она была 20 лет назад…
ИНДИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ
Экономика. Еще Джавахарлал Неру предсказывал, что Индия утвердится среди великих держав благодаря своей древней истории и цивилизации, размеру и стратегическому положению. Судя по всему, прогноз оправдается: по мнению большинства экономистов, в ближайшие десятилетия Индия будет стремительно увеличивать свою долю в мировой экономике.
Как утверждает историк всемирной экономики Ангус Мэддисон (автор The World Economy: The Millennial Perspective), индийская экономика была крупнейшей на планете с I века н. э. (когда ее доля составляла 32,9 % мирового валового продукта) по XV столетие (24,5 %). Даже в начале XVIII века на Индию приходилась почти четверть мирового валового продукта (24,4 %), и пальму первенства она уступала лишь Китаю. Беспрестанные войны, стремительный рост населения, ускоренное развитие экономик западных стран (начиная с XIX столетия) и прежде всего британское колониальное владычество снизили долю Индии в мировой экономике до 3,8 % к середине прошлого века.
После обретения страной независимости правительства Джавахарлала Неру, а затем и Индиры Ганди взяли на вооружение реализацию пятилетних планов по образцу советских, осуществление централизованных инвестиций и проведение сельскохозяйственных реформ. Эти меры принесли свои плоды: первоочередные задачи, стоявшие перед страной (выйти на уровень самообеспечения продовольствием и заложить основы промышленного развития), были решены.
Со времени премьерства Раджива Ганди Индия совершила прорыв в области информационных технологий. С 1991 года правительство резко снизило уровень своего вмешательства в экономику, оставив за собой вопросы макроэкономической стабильности и установления общих правил игры. В результате реформ и либерализации внешнеэкономических связей экономика Индии стала расти ускоренными темпами – в среднем на 6 % в год (последние годы рост ВВП был выше 9 %).
Однако, поскольку в ходе либерализации предприятия обрели бЧльшую свободу в выборе объектов для инвестиций, возникли болезненные дисбалансы в региональном развитии. Некоторые штаты, такие, как Бихар и Мадхья-Прадеш, впали в хроническую депрессию из-за оттока капитала и недостатка государственных инвестиций, в то время как приморские южные районы оказались поближе к источникам сырья и рынкам сбыта, а потому и в более выгодном положении.
Интеграция Индии в глобальную экономику пока еще далека от завершения. Объем индийской внешней торговли остается низким (на уровне 3,5 % глобальных потоков товаров и услуг), индийская валюта – рупия – даже формально еще не стала полностью конвертируемой, имеются ограничения на вывоз капитала и прямые портфельные инвестиции, поток прямых иностранных инвестиций был скромен по сравнению с Китаем. Чтобы занять позиции регионального лидера, Индии придется много потрудиться над региональной интеграцией в рамках (Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и улучшением связей со странами Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем.
Политическая система. В Индии, где принята федеративная система правления, львиная доля власти принадлежит не кабинету министров, а региональным правительствам. Во многом это обусловлено сложным конфессиональным, кастовым и этническим составом населения, а также ослаблением в 1990-х позиций Индийского национального конгресса (ИНК) – партии Джавахарлала Неру и Индиры Ганди, доминировавшей на политическом олимпе в течение 40 лет после достижения страной независимости.
Сегодня на первый план вышли региональные и кастовые партии, определяющие состав неустойчивых правительственных коалиций. Правящий ныне Объединенный прогрессивный альянс (ОПА) во главе с партией ИНК состоял в 2004-м не менее чем из 12 партий (2 партии – Маруламарчи дравида мунетра кажагам из штата Тамилнаду и Теленгана раштра самити из штата Андхра Прадеш – с тех пор покинули ОПА). ОПА контролирует 218 мест в 545-местной нижней палате парламента (Лок Сабха); для формирования правительства ему необходима поддержка альянса пяти левых партий, имеющих 60 мест. Оппозиционный Национальный демократический альянс (НДА) под руководством политиков из правой партии Бхаратия Джаната парти (БДП) состоит из 10 партий (187 мандатов); еще 11 региональных партий и 4 независимых парламентария (74 места) не присоединились ни к одной из трех коалиций.
Влияние региональных властей на общественно-политическую и экономическую жизнь Индии очень велико. Так как вопросы налогообложения являются предметом совместного ведения центра и регионов, правительства Атала Бихари Ваджпаи и Манмохана Сингха пока не смогли убедить все штаты заменить налог на оборот более прогрессивным НДС. Северо-восточные штаты Индии (населенные монголоидными народностями) и штат Джамму и Кашмир (где доминируют мусульмане) имеют особый статус, закрепленный в Конституции Индии и особых соглашениях. Обитатели равнинных регионов не вправе переехать в малонаселенные горные штаты и купить там собственность, жители северо-восточных штатов, а также штат Джамму и Кашмир имеют налоговые льготы (в частности, сиккимцы, обитатели штата Сикким, не платят подоходный налог).
Штаты передают в ведение центра лишь четко ограниченные полномочия и имеют различное законодательство. Неся ответственность за социально-экономическое развитие своих регионов и создание благоприятного климата для инвестиций, региональные власти поддерживают тесные связи с крупными финансово-промышленными группами Индии и в последнее десятилетие играют активную роль в сфере коммерческой дипломатии.
Местное самоуправление. Нынешние институты управления индийской общины – панчаяты – зародились в глубокой древности. Такая живучесть объясняется их эффективностью и опорой на демократические принципы, а не закоснелостью индийской экономики и социальной сферы. Уже в первом тысячелетии н. э. панчаяты вместе с общественными корпорациями более высокого уровня (в частности, районными) сложились в эффективную систему местного самоуправления.
Со времени мусульманского завоевания Индии в XII веке эта система начала сдавать свои позиции, а в результате порабощения страны британскими колонизаторами в XVIII столетии она практически исчезла, будучи заменена неуклюжей бюрократической машиной на западный манер. После обретения Индией независимости идею панчаятов стали продвигать левые партии, и сейчас эта система делает большие успехи.
Местные органы самоуправления несут ответственность за благосостояние и нравственность в своем округе, они имеют право определять размер и вид наказаний (обычно это штраф, или порицание, или лишение религиозных, общественных привилегий). Они также могут устанавливать местные налоги, с тем чтобы использовать эти поступления для финансирования общественно полезных работ – от строительства и ремонта храмов до богослужений.
Согласно индийской системе поступенчатых выборов, жители небольших территориальных образований выбирают из своей среды самых честных людей, которые будут руководить ими и станут выборщиками, формирующими органы самоуправления более высокого уровня. Важнейшим звеном пирамиды является самое нижнее: здесь избранники не только известны своим избирателям в лицо, но и несут перед ними ответственность за состав вышестоящего комитета. Поэтому индийские политики всех уровней тесно связаны с народом, и не так сильно зависят от влияния СМИ.
ДРУЖБА НАВЕК?
Несмотря на недостаток информации, отношения между народами России и Индии продолжают оставаться дружественными. Индийцы помнят, как Москва протянула им руку помощи во время индийско-пакистанских войн. Премьер-министр Индии и президент России обмениваются ежегодными визитами, в последнее время министры иностранных дел Индии, Китая и России стали проводить совместные сессии. Президент партии Индийский национальный конгресс Соня Ганди посетила Санкт-Петербург, главный министр союзной территории Нью-Дели Шейла Дикшит – Москву, а главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди – Астрахань. В свою очередь ряд российских региональных чиновников побывали в Индии. 2008 год объявлен Годом России в Индии, а 2009-й – Годом Индии в России, что, безусловно, поспособствует развитию и углублению дружественных отношений между обеими странами.
Однако достаточно ли официальных визитов и помпезных мероприятий для того, чтобы побороть инерцию и охлаждение отношений 1990-х годов? Что можно сделать, чтобы связи между нашими народами и впредь оставались дружественными и союзническими?
Во-первых, необходимо взаимодействие между российскими регионами и индийскими штатами. Речь идет о важнейшем факторе, способствующем обмену делегациями бизнесменов, общественных деятелей, представителей культурных и научных кругов. Российско-индийские отношения не должны зависеть от внутриполитической конъюнктуры в Дели, тем более что, по мнению индийской стороны, экономическая активность региональных властей никак не связана с их сепаратистскими устремлениями. Деятельность федерального и регионального правительств в Индии основана на прочной базе общих ценностей и единых представлений о внешней и внутренней политике, образующих так называемую «коалиционную дхарму» (система взглядов, которой должны руководствоваться политики в своей работе).
Во-вторых, в приоритетную российско-индийскую повестку дня следует также включить стимулирование контактов российских общественных неправительственных организаций, научно-исследовательских институтов с ведущими общественными, религиозными деятелями Индии. Например, такими, как Меда Паткар из штата Гуджарат – защитница прав жителей, переселенных из-за строительства дамб на реке Нармада, или профессор Наджундасмами из штата Карнатака – лидер движения индийских крестьян против засилья западных монополий, патентующих индийские семена, выведенные в результате многовековой селекции, как свои собственные изобретения. Российской общественности наверняка было бы интересно поближе познакомиться с индийским опытом обеспечения мирного сосуществования различных религий, организации общественных движений и местного самоуправления.
О контактах в религиозной сфере говорить не приходится, учитывая настороженное отношение российских религиозных деятелей и политиков к разного рода сектантам. Это в первую очередь связано с элементарной неосведомленностью наших властей о восточных конфессиях, приведшей, в частности, к тому, что в число экстремистских организаций записывается даже Общество сознания Кришны, вероучение которого основано на идеях, выдвинутых еще в XVI веке.
В отличие от западных религий различные направления индуизма и буддизма не предполагают ведения целенаправленной прозелитской деятельности. К сожалению, репутация восточных духовных учений в России подорвана деятельностью доморощенных псевдоучителей тантрических практик и таинств, которые не имеют ничего общего с современным индуизмом или буддизмом.
В-третьих, российская пресса уделяет основное внимание не политической и общественной жизни Индии, а природным либо техногенным катастрофам, время от времени случающимся здесь. Пока российские СМИ представлены в Индии всего лишь одним агентством РИА «Новости».
Индийские журналисты практически не освещают ситуацию в России, и, в частности, перемены, которые произошли в годы президентства Владимира Путина. Лишь одна общеиндийская газета The Hindu, выходящая в городе Ченнаи (штат Тамилнаду), имеет корреспондента в России. Если в книжных магазинах Дели и можно найти книги о России, то это несколько тенденциозных работ западных авторов. Иными словами, Индия и Россия стали смотреть друг на друга через призму западных средств массовой информации и исследований.
В этой связи российским государственным СМИ целесообразно было бы рассмотреть вопрос об открытии корпунктов в Индии. Рост потоков информации обусловит адекватное восприятие этой страны россиянами и послужит делу взаимопонимания между обеими странами.
В-четвертых, безвизовый режим должен стать реальностью для большинства путешественников, включая бизнесменов и студентов. Пока стороны договорились о безвизовом режиме только для лиц с дипломатическими паспортами, то есть для самих себя.
Судя по всему, вопрос зашел в тупик из-за проблемы реадмиссии – обязательства принять назад нелегальных эмигрантов и оплатить их обратный проезд. Индия могла бы согласиться на реадмиссию своих граждан. Опасения, что она будет ответственной за репатриацию граждан соседних стран, с которыми у нее безвизовый режим, на мой взгляд, неоправданны, поскольку приобретение авиабилетов и пересечение российской границы возможно только по паспортам. Можно было бы одновременно упростить чрезвычайно усложненный порядок выдачи индийским гражданам российских виз и принять меры по улучшению обслуживания индийских путешественников в российских консульствах и аэропортах (индийская пресса часто сообщает о проблемах, с которыми те сталкиваются в России).
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ–ИНДИЯ
Состояние экономических отношений между Индией и Россией нельзя назвать удовлетворительным. Уровень товарооборота между обеими странами резко упал до 2,2 млрд долларов в год (2004). Чем же обусловлена эта тревожная тенденция?
Во-первых, негативную роль сыграли исчезновение централизованной политики взаимных закупок товаров, разрыв связей между банковскими сферами обеих стран и затянувшийся процесс урегулирования вопроса долга Индии Советскому Союзу (согласно договоренности, достигнутой в феврале 2006-го, индийский рупийный долг СССР, составляющий от 1 до 2 млрд долларов, будет конвертирован в инвестиции. – Ред.).
Во-вторых, Россию и Индию связывают не так много экономически выгодных транспортных коридоров. Основная торговля идет транзитом через европейские страны, куда грузы доставляются по морю через Суэцкий канал. Сейчас в связи с налаживанием контактов между Дели и Пекином, открытием дороги через перевал Нату Ла (штат Сикким) и строительством железной дороги Голмуд–Лхаса появилась надежда использовать китайско-тибетский коридор в Индию. Китайские товары уже наводнили Восточную Индию, за ними могли бы проникнуть и наши.
Реализация программы развития Дальневосточного региона, возможно, позволит использовать морские перевозки между Владивостоком и индийскими портами (иная проблема, что кроме углеводородов с сахалинских месторождений пока нечего возить). Другой коридор – через Иран и Каспийское море (Северно-южный транспортный коридор) – пока еще не выгоден для транспортировки даже крупногабаритных товаров из-за неразумных цен, установленных российскими монополиями, и индийцы надеются на открытие сухопутного «шелкового пути» через Афганистан и Центральную Азию. Прямые авиаперевозки между российскими регионами, в частности сибирскими и уральскими, и индийскими городами могли бы решить проблему торговли мелкими и легкими товарами, такими, например, как чай и изделия из шелка.
Проблемы российско-индийских экономических взаимоотношений коренятся и в элементарной нехватке знаний об экономических потребностях и возможностях обеих стран, а также в бюрократических препонах, установленных и с той, и с другой стороны. Российское посольство ведет активную работу на этих направлениях, но особого прогресса пока не достигнуто. Стороны планируют к 2010 году вывести ежегодный товарооборот на уровень 10 млрд долларов, однако трудно прогнозировать, удастся ли им взять эту планку.
Москве необходимо переходить от деклараций к конкретным мерам – только такая тактика позволит увеличить товарооборот между обеими странами и обеспечить России в будущем одно из первых мест в списке внешнеполитических приоритетов Индии.
Военно-техническое сотрудничество. Торговля вооружениями между Россией и Индией имеет длительную историю. За минувшие годы Индия приобрела оружие российского и советского производства на сумму 30 млрд долларов.
Пришедшее к власти в Индии в 1998 году консервативное правительство НДА взяло курс на перевооружение индийской армии, продолженный кабинетом ОПА в 2004-м. В ближайшее десятилетие Дели намерен истратить на эти цели 30 млрд долларов.
Индия видит свои приоритеты в импорте технологий, а не техники, а также в научно-техническом сотрудничестве и в совместной разработке новейших образцов вооружений. Россия и Индия нашли в этом вопросе общий язык по геополитическим причинам (страны не имеют общей границы, зато обе являются соседями Китая). Москва получила гарантии индийской стороны о защите российской интеллектуальной собственности. В 2003 году Индия арендовала четыре ядерных бомбардировщика Ту-22М3, две атомные подводные лодки и ввела в строй сверхзвуковые ракеты морского базирования BrahMos, разработанные совместно с россиянами. В 2004-м индийцы приобрели авианосец «Адмирал Горшков», который переименовали в INS Vikamaditya, а также и целый флот истребителей МиГ-29 и противолодочных вертолетов «Камов-31».
Россия надеется, что МиГ-35 выиграет тендер на поставку Индии 126 многофункциональных истребителей. На заводе Hindustan Aeronautics в Насике (штат Махараштра) уже началось лицензионное производство двигателей РД-33 для истребителей МиГ-29, что увеличивает шансы России получить этот крупный (на 2 млрд долларов) заказ.
Энергетика. Индия потребляет почти 3 млн баррелей нефти в день и удовлетворяет свои потребности в основном за счет экспорта энергоносителей из стран Персидского залива (73 % от общего потребления нефти в 2004 году). Бурно развивающаяся экономика требует поиска долгосрочных источников энергии. Пока самым заметным событием было приобретение индийской государственной компанией ONGC 20-процентной доли в проекте «Сахалин-1» в 2001-м за 1,5 млрд долларов. Эта компания, создавшая совместное с «Роснефтью» предприятие, планирует истратить до 5 млрд долларов в различных проектах в России. Речь идет о самых крупных инвестициях Индии за рубежом.
В прошлом году «Росатом» поставил 60 тонн ядерного топлива для АЭС в Тарапуре, а в ходе январского визита в Индию (2007) президента Путина Россия получила контракт на строительство еще четырех энергоблоков АЭС в Куданкуламе (штат Тамилнаду). Стоит отметить намерение концерна Reliance Industries, который возглавляет Мукеш Амбани, построить нефтехимический завод в России, а также интерес «Газпрома» к участию в строительстве газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.
Сотрудничество в области ядерной энергетики осложняется тем, что Индия пока не урегулировала вопросы с Группой поставщиков ядерных технологий (эта организация, в которую входят 45 государств, запрещает поставки ядерных технологий и топлива странам, не подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия, к которым относится и Индия. – Ред.) и не завершила переговоры с МАГАТЭ о проверках ядерных объектов мирного назначения.
Налицо также потенциал развития других направлений экономического сотрудничества России и Индии. Индийцы обладают давними традициями и авторитетом на международном ювелирном рынке – например, в части огранки мелких бриллиантов. По данным на 2004 год, 9,25 % и 8,85 % индийского импорта составляют драгоценные, полудрагоценные камни, золото и серебро. «Алроса» в связи с истечением срока контракта с De Beers уже начала переговоры с индийцами, другие гранильные и добывающие предприятия пока плетутся в хвосте.
Индия экспортирует большое количество фармацевтических и парфюмерных товаров (8,85 % от общего экспорта в 2004-м), а также текстиль (18,86 % от экспорта страны в том же году). Число российских туристов в Индии растет из года в год (с 4 200 человек в 2002 году до 35 200 в 2005-м году).

Грядет ли холодная война?
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март -Апрель 2007
А.Г. Арбатов - член-корреспондент РАН, член редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме В отличие от биполярного мира, в многополярной системе международных отношений противостоянием России и Запада неминуемо и немедленно воспользуются другие «центры силы», чтобы с его помощью добиться собственных целей.
Выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 года стало если не водоразделом, то наверняка заметной вехой в отношениях Российской Федерации с Соединенными Штатами и другими странами Запада. Некоторые эксперты и наблюдатели заговорили даже о наступлении эры новой холодной войны. Но действительно ли все так плохо и дело идет к глобальному противостоянию двух держав и коалиций?
КАК БЫЛО...
Холодная война - политический феномен, продукт особого исторического периода, продолжавшегося с конца 40-х до конца 80-х годов прошлого века. Ее основополагающей чертой была ярко выраженная биполярность структуры международных отношений, расколовшая мир по линии Восток - Запад. В 1950-е СССР и США разделили на сферы влияния Европу и Азию, а в 1960-е и 1970-е - Латинскую Америку и Африку. Центральный разлом расколол несколько стран и народов: Германию, Корею, Вьетнам, Китай (отделив Тайвань), Палестину (современный конфликт между арабами и евреями стал, по сути, результатом геополитических маневров великих держав при переделе палестинских территорий). Мир фактически превратился в арену напряженного соперничества двух сверхдержав, которое с переменным успехом продолжалось вплоть до конца 1980-х годов.
Практически в любом локальном и региональном вооруженном конфликте сверхдержавы оказывались по разные стороны баррикад. Так было в Корее, Индокитае, Алжире, вокруг Кубы, в Южной Азии, в ходе четырех войн на Ближнем Востоке, в странах Африканского Рога, в Анголе, Мозамбике, Никарагуа и Афганистане.
Планета, как минимум, трижды вплотную подходила к Третьей мировой войне (во время второго и четвертого ближневосточных конфликтов в 1957 и 1973 годах, в период берлинского кризиса 1961-го), а однажды (в дни Карибского - ракетного - кризиса в 1962 году) роковую черту чуть было не переступили. Катастрофы удалось избежать, скорее всего, благодаря счастливому стечению обстоятельств и сдерживающей роли ядерных вооружений, накопленных обоими противниками.
Опасаясь прямого военного столкновения, сверхдержавы и их союзники изобрели суррогат военных действий в форме интенсивного соревнования по подготовке к войне - гонку вооружений. В пиковые периоды в строй вводились в среднем по одной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) ежедневно и по одной стратегической ракетной подводной лодке в месяц, в другие времена - по тысяче и более ядерных боеголовок на стратегических ядерных силах (СЯС) ежегодно. Масштабы наращивания и модернизации обычных вооружений были не менее впечатляющими, особенно в 1960-е и начале 1980-х в НАТО и в 1970-1980-е в Организации Варшавского договора (ОВД). Каждая сторона ежегодно вводила в строй сотни боевых самолетов и тактических ракет разного класса, тысячи единиц бронетехники и артиллерии, десятки боевых кораблей и многоцелевых подводных лодок.
В обоснование глобального соперничества и оправдание связанных с ним жертв стороны вели непримиримую идеологическую борьбу, демонизируя противника и приписывая ему самые зловещие заговоры и агрессивные намерения. Это имплицитно снимало необходимость понимать точку зрения другой стороны, считаться с ее интересами и соблюдать по отношению к ней те или иные нормы морали и права.
Холодная война достаточно отчетливо распадается на два этапа. Первый (с конца 1940-х до конца 1960-х годов) - биполярность в «чистом» виде. Второй (конец 1960-х - конец 1980-х) - начало формирования многополярности. Китайская Народная Республика выделилась в самостоятельный «центр силы», конфликт между Пекином и Москвой вылился в вооруженные столкновения на границе в 1969 году, а после вторжения китайских войск во Вьетнам в 1979-м СССР и КНР оказались на грани войны. Биполярность ослабевала и по мере роста политико-экономического влияния Западной Европы (например, «новая восточная политика» канцлера ФРГ Вилли Брандта) и развития Движения неприсоединения во главе с Индией и Югославией.
...И КАК ЕСТЬ
Нынешний рост напряженности в отношениях между Россией, с одной стороны, и США, НАТО, Европейским союзом - с другой, не имеет ничего общего с холодной войной второй половины XX века.
Во-первых, отсутствует ее системообразующий элемент - биполярность. Наряду с глобальными и трансрегиональными центрами экономической и военной силы, такими, как США, ЕС, Япония, Россия, Китай, крепнут региональные лидеры - Индия, тихоокеанские «малые тигры», страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Иран, Бразилия, ЮАР, Нигерия.
Кроме того, традиционные формы межгосударственных отношений размываются мощными течениями глобализации и информационной революции, повсеместным ростом национализма, выходом на авансцену транснациональных экономических, политических и даже военных игроков.
Отношения США - РФ больше не являются центральной осью мировой политики. Они лишь одна из многих ее граней, причем по многим вопросам далеко не самая важная. Наряду с противоречиями у России и Запада есть важнейшие общие интересы, к тому же они конкурируют не только друг с другом. Об «игре с нулевой суммой» не может быть и речи.
В текущих международных конфликтах Россия и Запад стоят по одну сторону баррикад, какие бы разногласия их подчас ни разделяли. В Афганистане они действуют сообща, стремясь не допустить реванша движения «Талибан» и «Аль-Каиды». А такие важнейшие вопросы, как ядерные программы Северной Кореи и Ирана, ситуация вокруг Палестины и Нагорного Карабаха, они решают посредством многосторонних переговоров.
Осталось в прошлом и непримиримое идеологическое противоборство. Истинный идейный разлом пролегает теперь между либерально-демократическими ценностями и исламским радикализмом, между Севером и Югом, между глобализмом и антиглобализмом. И если нынешняя Россия не вполне воспринимает либеральные ценности, то она уж точно никогда не примкнет к радикальному исламу. Не кто иной, как Россия, понесла самые большие потери в борьбе против исламского экстремизма за последние двадцать лет (война в Афганистане, войны и конфликты в Чечне, Дагестане и Таджикистане).
Что касается гонки вооружений, то, несмотря на рост оборонных бюджетов США и РФ, нет ничего даже отдаленно сопоставимого с тем, что происходило во времена холодной войны. За период с 1991 по 2012 год, то есть со дня подписания в Москве Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1) до окончания срока действия московского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор СНП), заключенного в 2002 году, стратегические и тактические ядерные вооружения сторон будут сокращены примерно на 80 % (окончание срока действия московского договора - 31 декабря 2012 года. - Ред.).
Идет медленная модернизация ядерных и обычных вооружений. Так, в России в 2006-м в боевой состав введено 6 МБР, 31 танк, 120 бронемашин, 9 самолетов и вертолетов. Новые корабли и подводные лодки вводятся по одной единице за несколько лет. Все это на один-два порядка меньше, чем в 1970-1980-е годы. В США при гораздо большем военном бюджете основные средства идут на содержание Вооруженных сил и военные операции в Ираке и Афганистане. По сравнению с Россией там вводится в строй больше новых обычных вооружений, но меньше - ядерных.
Есть, конечно, такие возмущающие стратегическую стабильность факторы, как развертывание в США ограниченной системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от единичных ракетных пусков и планы размещения ее элементов в некоторых странах Европы, перспективные проекты Вашингтона по развитию космических вооружений и оснащению стратегических носителей высокоточными обычными боевыми частями.
С подачи Соединенных Штатов популярной стала идея о том, что после падения Берлинской стены исчезла необходимость в соглашениях (а значит, и в переговорах) об ограничении и сокращении вооружений, поскольку их якобы заключают только противники.
Жертвой такого безответственного подхода стали Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО, 1972), не вступивший в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 1996), Договор СНВ-2 (1993) и рамочный Договор СНВ-3 (1997). Не состоялись переговоры о правилах засчета боезарядов и мерах контроля по Договору СНП и о запрещении производства разделяющихся материалов в военных целях (ДЗПРМ). В 2007 году Россия заявила о своем возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД, 1987) и адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, 1999). Из-за политики ядерных и «пороговых» держав под угрозой оказалось самое главное соглашение - Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968).
ПРИЧИНЫ ПОХОЛОДАНИЯ
Хотя речь о новой холодной войне и не идет, обострение взаимоотношений в целом налицо. Чем же обусловлена эта напряженность?
Первое. За последние годы соотношение сил между РФ и Западом изменилось. Россия обрела устойчивый экономический рост и относительную социально-политическую стабильность. Москва консолидировала власть, получила крупные свободные капиталы для внутренних и внешних инвестиций, вчетверо (с 2001-го) увеличила финансирование национальной обороны, подавила массовое вооруженное сопротивление на Северном Кавказе.
На этом фоне Россия стремится изменить сложившиеся еще в 90-е годы прошлого века «правила игры» в отношениях с Западом. Парадигма отношений, при которой Москва вольно или невольно идет в фарватере курса США, а с ее интересами и мнением не считаются, теперь абсолютно неприемлема в глазах всех политических партий и государственных ведомств России. Между тем большинство американских и значительная часть европейских политиков считают модель отношений 1990-х естественной и единственно верной.
Второе. После окончания холодной войны мир не стал однополярным. Наоборот, быстро формировалась новая многополюсная и многоуровневая система международных отношений.
В этих условиях Соединенные Штаты получили уникальную возможность. Они могли утвердить в международной политике верховенство правовых норм, ведущую роль международных институтов (прежде всего ООН и ОБСЕ), примат дипломатии в разрешении конфликтов, принцип избирательности и законности применения силы в целях самообороны либо обеспечения мира и безопасности (согласно статьям 51 и 42 Устава ООН). У Вашингтона появился исторический шанс возглавить процесс созидания нового, многостороннего, согласованного миропорядка.
Однако шанс был бездарно упущен. Неожиданно ощутив себя «единственной глобальной сверхдержавой», США в 1990-е годы все более подменяли международное право правом силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН - директивами американского Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ - акциями НАТО. Наиболее ярким и трагическим образом эта политика получила выражение в военной операции против Югославии в 1999 году.
После смены администрации в 2001-м и чудовищного шока, который нация испытала 11 сентября того же года, эта линия была возведена в абсолют. Вслед за законной и успешной операцией в Афганистане Соединенные Штаты под надуманным предлогом и без санкции Совета Безопасности ООН вторглись в Ирак, намереваясь далее «переформатировать» весь Большой Ближний Восток под свои экономические и военно-политические интересы.
Представление государственными органами США заведомо ложной информации для оправдания вторжения в Ирак, вопиющие нарушения прав человека при оккупационном режиме, в тюрьмах «Абу-Грейб» и Гуантанамо, явно одобренные Вашингтоном предвзятые суды над иракскими лидерами и их варварские казни (вопреки протестам Европы) - все эти скандальные факты густо запятнали моральный облик Соединенных Штатов.
Даже самая сильная держава, самонадеянно бросившая вызов новой системе и вставшая на путь односторонних и произвольных силовых действий, неизбежно должна была встретить сплоченное сопротивление других государств и потерпеть фиаско. И действительно, начался небывалый подъем антиамериканских настроений во всем мире, поднялась новая волна международного терроризма и распространения ядерного и ракетного оружия. Америка увязла в беспросветной оккупационной войне в Ираке, подорвала коалиционную политику ООН и НАТО в Афганистане, связала себе руки в отношении Ирана и Северной Кореи. США утрачивают влияние в Западной Европе, на Дальнем Востоке и даже в своей традиционной «вотчине» - Латинской Америке.
Односторонняя силовая линия оттолкнула от Соединенных Штатов и вынудила перейти в лагерь международной оппозиции столь непохожие государства, как Германия, Франция, Испания, Россия, Китай, Индия, Узбекистан, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, многие страны - члены Лиги арабских государств... Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году как коалиция для борьбы с исламским экстремизмом, превратилась в противовес американскому вмешательству в Азии. Набирает силу оппозиция республиканской администрации внутри США.
Постепенно Америка обостряла отношения и с Россией. После террористических актов 11 сентября Владимир Путин сделал серьезный шаг навстречу Вашингтону, руководствуясь как чувством сострадания, так и стремлением повысить уровень сотрудничества. В ответ Россия получила выход США из Договора по ПРО (прикрытый «фиговым листком» в виде Договора СНП), ликвидацию в Ираке крупнейших российских нефтяных концессий, а также новое расширение НАТО на восток, в том числе на территорию бывших балтийских республик СССР.
При этом обнародуются планы ускоренного втягивания Украины и Грузии в НАТО. А проект строительства объектов американской стратегической ПРО в Польше и Чехии противоречит духу Совместной декларации новых стратегических отношений между РФ и США от 2002 года о сотрудничестве в разработке такой системы и идет вразрез с переговорами в Совете Россия - НАТО о работе над общей ПРО театра военных действий.
Третье. Положение на территории бывшего СССР - важный фактор нынешнего ухудшения взаимоотношений РФ и Запада. Москву возмутило активное вмешательство последнего в «цветные» революции в Грузии (2003) и Украине (2004) в целях поддержки наиболее антироссийски настроенных политиков (что заставило подозревать применение той же модели в Киргизии в 2005-м).
В 1990-е годы Россия сделала немало ошибок, пытаясь превратить постсоветское пространство в зону своего доминирования. Но с ростом своего экономического и финансового потенциала и укреплением независимости Россия перешла к прагматичной линии применительно к каждой конкретной соседней стране. Отойдя от эфемерных имперских «прожектов», Москва поставила во главу угла отношений с соседями транзит энергоэкспорта в Европу, скупку перспективных предприятий и инфраструктур, осуществление инвестиций в разведку и добычу природных ресурсов, сохранение действительно важных военных баз и объектов, сотрудничество в борьбе с новыми трансграничными угрозами и взаимодействие по гуманитарным вопросам.
Конфликты с Украиной и Белоруссией из-за цены на поставки энергоресурсов и стоимости транзита повлекли за собой перебои в экспорте энергосырья в Европу. Это вызвало на Западе взрыв возмущения, на Россию посыпались обвинения в энергетическом империализме и шантаже, зазвучали призывы использовать НАТО как гарантию энергобезопасности стран-импортеров. Возможно, тактика Москвы была грубой, особенно в случае с Украиной. Но переход на мировые цены в поставках энергосырья как раз и означал по сути дела отказ от прежней имперской линии экономических подачек в обмен на политическую или военно-стратегическую лояльность. Что подтвердилось фактом одинаково прагматичного подхода Москвы к столь разным соседям, как Украина, Грузия, Армения и Белоруссия.
Тем не менее эскалация напряженности идет по замкнутому кругу. Ужесточение российской политики в отношении стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) обусловлено перспективой расширения НАТО на их территории. В свою очередь ГУАМ и НАТО отвечают Москве более активным противодействием и еще больше усиливают страх России перед новым «санитарным кордоном».
Четвертое. Важнейшая причина обострения отношений между Россией и Западом - внутриполитические процессы в РФ после 2000 года. В 1990-е в нашей стране было во многих аспектах больше свободы, чем теперь и тем более в предшествовавший советский период. Но эти свободы смог оценить сравнительно узкий круг либеральной интеллигенции в больших городах. Остальная часть граждан воспринимала ветер перемен на фоне шоковых реформ, обнищания большинства населения, невиданных масштабов коррупции, криминального беспредела и разворовывания национальных богатств. В одночасье рухнули системы социального обеспечения, здравоохранения, образования, науки, культуры, обороноспособности. (Как отметил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, «менее чем за десять лет народ пережил два путча, два дефолта и две войны».)
Поэтому большинство населения поддерживает курс президента Владимира Путина на консолидацию государственной власти вокруг Кремля и расширение его контроля над экономикой и внутренней политикой.
Главная проблема путинской «управляемой демократии» и «исполнительной вертикали» состоит в том, что нынешнее экономическое благополучие и политическая стабильность зиждутся на весьма хрупком и недолговечном фундаменте. Экономический рост последних лет в огромной мере обусловлен беспрецедентными мировыми ценами на сырье. Но такая модель не обеспечивает ни широкую занятость, ни научно-техническое развитие, ни социальную стабильность, ни достаточные доходы для удовлетворения всех острых нужд страны. Да и высокие цены на нефть и газ не вечны.
Зарубежные деятели редко задумываются о том, что их глубокое беспокойство по поводу способности России обеспечить энергетические потребности Запада противоречат западной же озабоченности состоянием российской демократии. Ведь демократия несовместима с экспортно-сырьевой моделью экономики, всегда и везде являвшейся базой авторитарно-бюрократической государственно-политической системы.
Перед Западом стоит сложная проблема: какую политику проводить в отношении России в ходе ее длительной, глубокой и крайне противоречивой трансформации? До сих пор США и многие их союзники бросались в этом вопросе из одной крайности в другую: от радужных надежд к горькому разочарованию, от чрезмерной вовлеченности к полному равнодушию и пренебрежению, от восторженности к подозрениям и враждебности.
Крупнейший американский дипломат и политический мыслитель ХХ века Джордж Кеннан еще в 1951 году пророчески предвидел крушение советской империи и оставил мудрое завещание, как будто написанное в наши дни: «Когда советская власть придет к своему концу или когда ее дух и руководители начнут меняться... не будем с нервным нетерпением следить за работой людей, пришедших ей на смену, и ежедневно прикладывать лакмусовую бумажку к их политической физиономии, определяя, насколько они отвечают нашему представлению о "демократах". Дайте им время; дайте им возможность быть русскими и решать внутренние проблемы по-своему. Пути, которыми народы достигают достойного и просвещенного государственного строя, представляют собою глубочайшие и интимнейшие процессы национальной жизни».
По мнению Кеннана, конструктивные отношения и постепенное, но последовательное сближение с Москвой возможно в случае выполнения Россией всего трех, но важнейших условий: быть открытой для внешнего мира; не обращать своих трудящихся в рабов; не стремиться к имперскому доминированию в окружающем мире и не воспринимать всех тех, кто находится вне сферы ее господства, как врагов. Эти качества свойственны современной России, несмотря на ее многочисленные проблемы и ошибки.
На внутренней эволюции нашего государства существенно скажутся его отношения с окружающим миром, и прежде всего со странами Запада. Чем лучше эти отношения, чем глубже взаимодействие в экономике, международной политике, сфере безопасности, гуманитарной и культурной областях, тем прочнее позиции демократических кругов внутри России, тем больше возрастает ценность демократических свобод в глазах общественности и тем более внимательно последняя следит за соблюдением демократических процедур и норм властями всех уровней.
ВЫЗОВЫ МНОГОПОЛЯРНОСТИ
Нынешнее похолодание в отношениях России с США и Евросоюзом - это напряжение в отдельных звеньях многополярной системы, вызванное постоянно меняющимся соотношением сил, калейдоскопической сменой разнородных проблем глобализации и непрерывными «сюрпризами» от третьих стран, освободившихся от контроля прежних сверхдержав.
Несмотря на преобладающие антизападные настроения и давление, исходящее от соответствующих политических кругов внутри страны, российское руководство не желает конфронтации с США и Европейским союзом, не хочет разрыва сотрудничества и не позиционирует Россию как вторую, наряду с Соединенными Штатами, сверхдержаву. Москва формулирует свои интересы в первую очередь в трансрегиональном формате и лишь избирательно заявляет о своих правах на глобальном уровне.
Но при этом Россия стремится к тому, чтобы ее на деле, а не только на словах признали великой державой в ряду других великих держав. Она требует, чтобы уважали ее законные интересы и считались с ее мнением по важнейшим вопросам, даже если оно расходится с позицией США и их союзников. В случае же возникновения подобных разногласий проблемы должны решаться на основе взаимных компромиссов, а не путем «продавливания» американской линии или самонадеянного навязывания Москве точки зрения, будто она якобы неверно понимает собственные интересы.
В этом состоит пафос Мюнхена, и по большей части с ним нельзя не согласиться, хотя есть несколько конкретных моментов, вызывающих возражение, в частности возможный выход России из Договора по РСМД (см.: А. Арбатов. Шаг ненужный и опасный // НВО, 2-15 марта 2007 г., № 7 (513), с. 1-2) и критика в адрес ОБСЕ.
Низкая вероятность новой холодной войны и распад американской монополярности (как политической доктрины, если не реальности) не может, однако, быть поводом для самоуспокоенности. Объективно существующая на разных уровнях многополярность и взаимозависимость таят в себе немало сложностей и угроз.
Например, если противостояние по линии Россия - НАТО продолжится, оно может нанести огромный ущерб обеим сторонам и международной безопасности. Окончательное отделение Косово от Сербии способно спровоцировать аналогичные процессы в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и вовлечь Россию в вооруженный конфликт с Грузией и Молдавией, которых поддерживает НАТО.
Ускорение процесса включения Киева в Североатлантический союз (санкционированное недавно Конгрессом США) угрожает повлечь за собой раскол Украины и массовые беспорядки, при которых России и Западу будет трудно удержаться от вмешательства.
Планы строительства объектов американской ПРО в Центральной и Восточной Европе могут побудить Россию выйти из Договора о РСМД и возобновить программы по производству ракет средней дальности. На это Вашингтон ответит размещением в Европе своих новых ракет средней дальности, что резко повысит уязвимость российских стратегических сил, их систем управления и предупреждения и усилит напряженность ядерного противостояния.
Другие «центры силы» неминуемо и немедленно извлекут выгоду из нарастающего противостояния России и Запада, используют его в своих собственных интересах. Китай получит возможность занять еще более выигрышные позиции в экономических и политических отношениях с Россией, США и Японией, укрепить свое влияние в Центральной и Южной Азии, зоне Персидского залива. Вряд ли упустят свой шанс Индия, Пакистан, страны - члены АСЕАН, экзальтированные режимы Латинской Америки.
Многополярный мир, который не движется по пути ядерного разоружения, - это мир расширяющегося «ядерного клуба». Пока Россия и Запад будут конфликтовать друг с другом, государства, способные разработать собственное ядерное оружие, поспешат с этим. Вероятность его применения в каком-либо региональном конфликте существенно возрастет.
Оборотной стороной процесса глобализации станет резкое повышение активности международного исламского экстремизма и терроризма. Последует дальнейшая дестабилизация Афганистана и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Северной и Восточной Африки. Волна воинственного сепаратизма, трансграничной преступности и терроризма захлестнет также Западную Европу, Россию, США, другие страны.
Рухнут последние договоры по разоружению (ДНЯО, ДОВСЕ, ДВЗЯИ). Как крайний случай, какой-либо авантюристический режим может осуществить провокационный ракетный запуск по территориям или космическим спутникам одной либо нескольких великих держав с целью вызвать между ними обмен ядерными ударами. Вполне вероятной станет и угроза террористического акта с использованием ядерного устройства в одной или нескольких главных столицах мира.
Чтобы избежать неблагоприятного развития событий, необходимо остановить сползание России к противостоянию и соперничеству с США и НАТО, пусть даже оно имеет не глобальный, а региональный геополитический и избирательный военно-технический характер. Те, кто в России и на Западе пытается набрать очки на конфронтации, безответственно превращают важнейшие национальные интересы своих государств в разменную монету внутриполитических игр.
В конкретном плане Москве следует, во-первых, в духе последних заявлений российского президента выдвинуть комплекс предложений как по сокращению вооружений в двух- и многостороннем форматах, так и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия. В отличие от горбачёвских инициатив 80-х годов прошлого века, новый пакет должен основываться не на прекраснодушной утопии, а на радикальном, но реалистическом военно-экономическом и техническом расчете, подкрепляться программой эффективного военного строительства. И не в пример линии последних лет инициативы нужно продвигать не по принципу «хотите - берите, не хотите - не надо», а как твердое требование государства с использованием всех доступных дипломатических и военно-технических рычагов (чему не грех поучиться у американцев). Особую роль будет играть позиция Москвы по иранской и северокорейской ядерным проблемам.
Главный и, видимо, единственный военно-технический козырь России - программа грунтово-мобильных МБР «Тополь-М» и проект их оснащения разделяющимися головными частями. В этой сфере даже США отстают от нашей страны на 10-15 лет. Вялое осуществление данной программы и «размазывание» средств по другим, весьма сомнительным, проектам подчас создает впечатление, будто Россия смирилась с растущим стратегическим отставанием от Америки, не хочет серьезных переговоров и выпускает из рук единственную остающуюся у нее козырную карту.
Во-вторых, вместо того чтобы разрабатывать аморфные («зонтичные») интеграционные планы для всего постсоветского пространства, а потом от них отступать, Москва должна предельно конкретно сформулировать свои интересы применительно к каждому государству - участнику СНГ, отбросив всякий неоимперский идеализм. Но за эти ставки и проекты нужно упорно бороться, используя все рычаги и козыри, в том числе имеющиеся в дальнем зарубежье. Нерасширение НАТО на СНГ следует увязать с гарантиями территориальной целостности соседних стран, а взаимоприемлемое решение их острых проблем - с соблюдением прав этнических меньшинств.
При настойчивой и конструктивной политике Кремля Запад наверняка рано или поздно примет новые «правила игры», поскольку они отвечают его долгосрочным интересам. В перспективе переход России с экспортно-сырьевой на высокотехнологичную инновационную модель экономики, сопровождающийся расширением демократических институтов и норм, естественным образом снимет противоречия вокруг российской внутренней политики и определит европейское направление интеграционного курса России - самой крупной страны и потенциально наиболее сильной экономики Европы.
Конкретные сроки, формы и пути равноправной и взаимовыгодной интеграции России в Евросоюз определит время. А конечным ее продуктом станет формирование самого мощного в экономическом, военном, геополитическом и культурном отношении глобального «центра силы». Центра, который навсегда устранит угрозу как однополярности и произвола, так и биполярности и конфронтации и который возглавит процесс созидания нового правового миропорядка, призванного решить проблемы XXI века.

Новый «новый мировой порядок»
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март -Апрель 2007
Даниел Дрезнер - доцент кафедры международной политики Школы права и дипломатии им. Флетчера в Университете Тафтс; автор книги «All Politics Is Global» («Вся политика носит глобальный характер»). Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 2 (март - апрель) за 2007 год. (c) Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Споры о войне в Ираке и односторонней политике США заслонили собой другой – куда более прагматичный и многосторонний – компонент большой стратегии администрации Джорджа Буша. Речь идет о попытке Вашингтона преобразовать внешнюю политику Соединенных Штатов и деятельность международных организаций с тем, чтобы приспособить их к переменам в глобальной расстановке сил и появлению таких государств, как Китай и Индия. Этот необъявленный курс верен по своим целям и методам реализации, и Вашингтону следует удвоить усилия.
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
На протяжении XX века список великих мировых держав, как это легко увидеть, был коротким: Соединенные Штаты, Советский Союз, Япония и страны Северо-Западной Европы. XXI столетие принесет большие перемены. Экономическими и политическими тяжеловесами становятся Китай и Индия: золотовалютные резервы первого превышают триллион долларов, вторая усиленно развивает сектор высоких технологий. Обе страны, открыто являющиеся ядерными державами, совершенствуют военно-морской флот. Согласно прогнозам Национального совета по разведке (научный центр правительства США), к 2025 году Пекин и Дели выйдут по своему экономическому развитию соответственно на второе и четвертое места на планете. Такие темпы роста знаменуют начало многополярной эпохи в мировой политике.
Подобные тектонические сдвиги станут вызовом международной системе, существующей с 1940-х годов и действующей под эгидой США. Эти многосторонние режимы, лидирующую роль в которых играет Вашингтон, на протяжении шести десятилетий способствовали либерализации торговли, становлению открытых финансовых рынков, нераспространению ядерного оружия. Тем самым они обеспечивали относительный мир и процветание, принося ощутимые преимущества Соединенным Штатам. Но до тех пор пока такие восходящие державы, как Китай и Индия, не войдут в структуру этих международных режимов, будущее последних будет оставаться неопределенным, давая лишний повод для беспокойства.
Принимая во внимание деятельность администрации Джорджа Буша за последние шесть лет, трудно рассчитывать на то, что она успешно справится с этой проблемой. Ведь стремление администрации действовать в одностороннем порядке, ярким свидетельством чего явилась война в Ираке, как раз и стало наиболее серьезным поводом для критики внешнеполитической деятельности США. Но из-за полемики вокруг Ирака в тени осталось другое направление долгосрочной стратегии администрации Буша, имеющее более прагматичный и многосторонний характер: попытка Вашингтона перестроить свою внешнюю политику и международные институты с учетом изменений в мировом раскладе сил. Администрация Буша перераспределяет ресурсы исполнительной власти так, чтобы в центре внимания оказались державы с развивающейся экономикой. Пытаясь добиться от них поддержки в отношении основополагающих принципов миропорядка, созданного Соединенными Штатами, Вашингтон приложил усилия к тому, чтобы поднять авторитет этих государств на различных форумах - от Международного валютного фонда (МВФ) до Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это касается самых разнообразных сфер, будь то распространение ядерного оружия, валютные отношения или окружающая среда. Но поскольку эти усилия сосредотачивались скорее на второстепенных вопросах международной политики, нежели на проблеме глобальной войны с терроризмом, они ускользнули от внимания многих наблюдателей. Фактически Джордж Буш-младший возродил к жизни призыв Джорджа Буша-старшего, который настаивал на установлении «нового мирового порядка», обратившись к созданию, по сути, нового «нового мирового порядка».
Эти, по большому счету, неотмеченные усилия администрации хорошо продуманны и прошли всестороннее обсуждение. Но на пути их реализации возникают два серьезных препятствия.
Во-первых, усиление восходящих государств означает еще бОльшее ослабление стран, переживающих упадок. Не случайно некоторые страны - члены Европейского союза без особого энтузиазма отнеслись к отдельным аспектам стратегии Соединенных Штатов. В ответ на американский унилатерализм Евросоюз не замедлил установить собственные двусторонние отношения и проявил повышенный интерес к сотрудничеству с восходящими государствами. При этом европейские страны вовсе не собирались сократить свое избыточное представительство в многосторонних институтах.
Во-вторых, существует препятствие, созданное самой администрацией Буша из-за склонности Вашингтона к односторонним действиям. Коль скоро считается, что правительство США в последние годы способствовало ослаблению многих структур мирового управления, любые намерения нынешней администрации переписать правила глобальной игры, естественно, рассматриваются как очередная попытка Вашингтона обойти ограничения международного права. Коалиция скептиков, в которую входят такие государства, как Аргентина, Нигерия и Пакистан, приложит усилия к тому, чтобы затруднить действия Соединенных Штатов по упорядоченному включению Китая и Индии в «концерт» великих держав.
Несмотря на все препятствия, в интересах Соединенных Штатов удвоить усилия. Рост антиамериканизма оживил традиционно враждебные Америке группировки государств, такие, например, как Движение неприсоединения. Чтобы преодолеть скептицизм, США должны быть готовы к реальным уступкам. Если Пекину и Дели не дать почувствовать, что им будет оказан радушный прием в существующих международных организациях, они, возможно, создадут новые, предоставив Соединенным Штатам взирать на них со стороны.
PLUS ВA CHANGE (МЕНЯТЬ БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ)
На момент создания в середине 1940-х годов Организации Объединенных Наций, МВФ, Всемирного банка, а в конце того десятилетия - Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) и НАТО, США являлись бесспорным лидером западного мира. Деятельность этих организаций отражала доминирующее положение и предпочтения Америки, она была нацелена на то, чтобы усилить влияние Соединенных Штатов и их европейских союзников. Франция и Соединенное Королевство к тому времени уже много веков имели статус великих держав; действовавшие в 1950-е правила игры еще сохраняли за ними значительные привилегии. На них возлагались обязанности постоянных членов Совета Безопасности ООН. В соответствии с достигнутой тогда договоренностью пост директора-распорядителя МВФ всегда будет принадлежать представителю Европы. В ГАТТ Европе было де-факто предоставлено право голоса наравне с США.
Сегодня разграничение сфер влияния в мире происходит совершенно по-иному. По оценкам банков Goldman Sachs (GS) и Deutsche Bank (DB), к 2010 году ежегодный совокупный национальный доход Бразилии, России, Индии и Китая - так называемой группы BRIC (аббревиатура указанных стран впервые появилась в аналитической записке банка GS в 2003-м. - Ред.) - будет расти быстрее, чем соответствующий показатель США, Японии, Германии, Великобритании и Италии, вместе взятых. К 2025 году темпы его роста вдвое превысят такой же показатель стран G7 (группа высокоразвитых индустриальных держав).
Эти тенденции четко обозначились уже в 1990-х, а с окончанием холодной войны представилась возможность адаптировать международные институты к восходящим государствам. В тот период, однако, Вашингтон сделал ставку на укрепление уже существующих соглашений. ГАТТ превратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО). НАТО расширилась, приняв в свои ряды страны Восточной Европы, и распространила сферу своего влияния на Балканы. Макроэкономические стратегии, известные как «Вашингтонский консенсус», стали чем-то вроде Священного Писания для основных международных финансовых институтов. Кроме создания форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 1989 году и приема Китая в ВТО в 2001-м (что потребовало от него немалых усилий), не произошло сколько-нибудь значительных институциональных изменений, отражающих участие восходящих государств в международных организациях. Многие новые форумы, такие, как, в частности, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), включали в себя все тех же действующих лиц: Соединенные Штаты и их союзников - промышленно развитые страны.
У администрации Билла Клинтона имелись веские основания не предпринимать дальнейших шагов. Реформирование международных институтов - неблагодарный труд, требующий от властей предержащих добровольного отказа от части своего влияния. В 1990-е годы не было острой необходимости идти на такие меры: Китай и Индия набирали силу, но тогда казалось, что время обретения ими статуса великих держав наступит нескоро. Даже незначительные изменения в многолетнем внешнеполитическом курсе США, как, например, сокращение численности американских войск в Германии, вызывали серьезные разногласия. Самое главное, ставка администрации Клинтона на укрепление уже существующих соглашений сработала. Создание ВТО усилило режим международной торговли. НАТО возглавила эффективные операции в Боснии и Косово. Действие Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) было продлено на неопределенный срок. Несмотря на отдельные проявления недовольства в отношении американской гипердержавы, Соединенные Штаты казались способными легитимно продвигать свои интересы, умело используя многостороннюю дипломатию. В целом ничто не подрывало гегемонию США.
Однако за этими достижениями скрывались определенные издержки. Многие из восходящих держав полагали, что международные структуры в недостаточной степени позволяют им отстаивать свои интересы. Поведение МВФ во время азиатского финансового кризиса 1990-х воспринималось как высокомерие и вызвало негодование во всех странах Тихоокеанского бассейна. Дели был разочарован тем, что Вашингтон не одобрил индийские испытания ядерного оружия в 1998 году. Индия также устала от того, что ее рассматривали исключительно сквозь призму безопасности в Южной Азии.
Китай возмущали затянувшиеся переговоры по его вступлению в ВТО. А бомбардировки Косово силами НАТО создали Пекину тройную проблему. Случайный бомбовый удар по китайскому посольству в Белграде вызвал взрыв национализма. Готовность Вашингтона пренебречь границами другого государства для защиты прав человека находилась в вопиющем противоречии с представлениями Пекина о государственном суверенитете, а решение США действовать в обход ООН через НАТО ясно показало пределы влияния Китая на мировую политику. Таким образом, страны с самой быстрорастущей экономикой в мире вступали в новое тысячелетие с чувством недовольства по отношению к Соединенным Штатам.
НОВЫЙ КУРС
Реакция администрации Буша на теракты 11 сентября 2001-го вызвала лавину книг, предлагающих различные рецепты по переосмыслению общей стратегии США. В большей части этой литературы авторы ссылаются на хаос в Ираке и неудачи в войне с терроризмом, осуждается склонность администрации Буша к воинственному унилатерализму и утверждается, что возможен лучший способ действий. Учитывая тот факт, что администрация отвергла многосторонний подход в трактовке Конвенции по биологическому оружию, Женевских конвенций (об обращении с военнопленными. - Ред.) и операции «Свобода Ираку», такая критика вполне обоснованна.
Впрочем, анализ, представленный в этих книгах, нельзя назвать исчерпывающим, хотя, например, риторические атаки высказываний бывшего посла США при ООН Джона Болтона и бывшего американского министра обороны Доналда Рамсфелда могут легко заставить поверить в обратное. Но не все так прямолинейно. Есть множество причин, объясняющих недавние попытки Вашингтона наладить взаимопонимание с восходящими державами и связанные с этим усилия по перестройке системы мирового управления. Отчасти этот сдвиг произошел в результате кадровых изменений. Так, вовсе не случайно, что основная деятельность по налаживанию контактов развернулась в период пребывания Кондолизы Райс на посту госсекретаря и активизировалась после того, как Генри Полсон был назначен министром финансов. Отчасти перемены были навязаны администрации внешним миром. Как отметил в прошлом году Филип Гордон (Институт Брукингса) в журнале Foreign Affairs, неудача в Ираке сделала неоконсерватизм несостоятельной стратегией.
Однако в какой-то мере усилия по наделению законным статусом нового «концерта» великих держав уже давно составляли одно из направлений внешней политики администрации Буша. И многосторонний подход (в понимании Вашингтона) - это прежде всего средство продвижения целей США. Поэтому администрация следует советам институтов, которые считает эффективными (например, ВТО), и последовательно добивается выполнения важных, на ее взгляд, многосторонних норм и решений (будь то соглашения МВФ о займах или резолюции Совета Безопасности ООН). Но Вашингтон пренебрегает мнением многосторонних институтов, которые не способны действовать согласно собственным же нормам (таких, как некоторые другие органы ООН). В Стратегии национальной безопасности 2006 года вновь излагается двоякая позиция Белого дома: консенсус великих держав «должен поддерживаться соответствующими институтами, региональными и глобальными, нацеленными на все более долговременное, эффективное и всеобъемлющее сотрудничество. Там, где существующие институты можно реформировать, сделать их способными к решению новых проблем, мы совместно с нашими партнерами должны их реформировать. Там же, где необходимые институты отсутствуют, мы совместно с нашими партнерами должны их создать».
Глобальные институты перестают соответствовать своему назначению, когда состав их руководящих структур, принимающих решения, уже не отвечает соотношению сфер влияния в мире, а именно так обстоят дела на данный момент. Об этом наглядно свидетельствует пример Совета Безопасности ООН; «Группа семи» - это еще более вопиющий случай. В 1970-е страны «Группы семи» взяли на себя регулирование макроэкономических диспропорций в глобальном масштабе. В 1980-х годах, когда на эти страны приходилось 50 % мировой экономической активности, они добились умеренных успехов. Сейчас же, даже учитывая участие России (в формате «Группы восьми»), их действия не могут достичь эффекта без участия такого экономического тяжеловеса, как Китай.
Учитывать интересы восходящих стран, одновременно успокаивая державы статус-кво, - дело непростое. Но эта задача не покажется столь пугающей, если признать, что успех благотворно воздействует как на Соединенные Штаты, так и на поднимающиеся государства. Последние получат признание и легитимность, соответствующие их новой роли, при условии, что они примут многосторонний порядок, построенный на американских принципах. Но своим ощутимым ростом эти страны - особенно Китай и Индия - как раз и обязаны тому, что признали такой порядок. Поскольку они заинтересованы в сохранении нынешних высоких темпов экономического роста, их связывают с США некоторые общие интересы, в частности в области безопасности энергопоставок и предотвращения глобальных пандемий.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Команда Буша уже приложила немало усилий, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. Несколько лет назад она начала перераспределять ресурсы внутри американского правительства. Позже она возглавила многосторонние усилия по интеграции Китая и Индии в важные международные структуры.
Министерство обороны первым в государственном аппарате США взяло на себя труд осуществить крупные перемены, призванные отразить новый миропорядок. Оно начало с передислокации американских войск, находящихся за границей. В 2004 году войска численностью более 250 тыс. человек размещались в 45 странах; половина из них в Германии и Южной Корее - на фронтах холодной войны. Чтобы повысить мобильность вооруженных сил перед лицом непрерывно изменяющихся угроз, президент Буш в августе 2004-го объявил о сокращении численности вооруженных сил, размещенных за границей, а также о закрытии к 2014 году 35 % заграничных баз США. Значительная часть этих войск будет дислоцирована на собственной территории, зато остальные подразделения будут развернуты в других странах по периферии новой зоны угроз: в Восточной Европе, Центральной Азии и в Тихоокеанском регионе.
Государственный департамент тоже приспосабливается к новым условиям. В своем выступлении на факультете дипломатической службы Джорджтаунского университета в январе 2006-го госсекретарь Кондолиза Райс заявила: «В XXI веке такие поднимающиеся страны, как Индия, Китай, Бразилия, Египет, Индонезия, Южная Африка, все больше определяют ход истории... Наше нынешнее положение на мировой арене в недостаточной мере отражает это обстоятельство. Так, численность сотрудников Госдепартамента, работающих в Германии, где проживают 82 млн человек, почти такая же, как в Индии, стране с миллиардным населением. Сегодня стало очевидно, что Америка должна начать перераспределение наших дипломатических кадров в мире... их перемещение в новые точки, важные для XXI столетия». Райс объявила, что к 2007 году порядка ста сотрудников Госдепартамента будут переведены из Европы в такие страны, как Индия и Китай.
Одновременно Вашингтон занялся укреплением двусторонних отношений с Пекином и Дели. После неудачного начала (первый внешнеполитический кризис команды Буша произошел, когда американский самолет-разведчик столкнулся с китайским истребителем) администрация Буша скорректировала свое отношение к КНР. В сентябре 2005-го тогдашний заместитель госсекретаря Роберт Зеллик объявил: «Пришло время не ограничиваться только лишь открыванием дверей к членству Китая в международной системе. Нам нужно убедить Китай взять на себя роль ее ответственного акционера», с тем чтобы «работать вместе над укреплением международной системы, обеспечившей успех этой страны». С тех пор выражение «ответственный акционер» стало частью всех официальных заявлений США по Китаю, а стоящая за ним теория легла в основу целого ряда инициатив. Прошлой осенью Вашингтон выступил с инициативой проведения американо-китайского диалога по экономической стратегии. В декабре министр финансов Генри Полсон возглавлял делегацию из шести членов кабинета и председателя Федеральной резервной системы в ходе двухдневных переговоров с китайскими коллегами по широкому кругу вопросов - от сотрудничества в области энергетики до финансовых услуг и валютных курсов. Недавно Вашингтон предпринимал попытки вовлечь Китай в «концерт» великих держав путем обсуждения с ним проблем Северной Кореи и Дарфура, а также касаясь таких тем, как возобновление Программы развития, принятой в Дохе, и консультации с Международным энергетическим агентством.
Серьезным компонентом деятельности Соединенных Штатов явилось также укрепление связей с Индией. В 1990-е годы на протяжении почти всего десятилетия главной заботой США было улаживание индо-пакистанских разногласий по поводу Кашмира и предотвращение потенциальных ядерных кризисов. Даже при том что Пакистан - важный союзник Соединенных Штатов в войне с терроризмом, американо-индийские отношения в последние 5 лет значительно потеплели. В ноябре 2006-го Министерство торговли США направило в Индию самую представительную в его истории миссию по экономическому развитию, способствуя расширению торгового диалога между этими странами. В прошлом году Вашингтон и Дели заключили также двустороннее соглашение по сотрудничеству в области гражданского использования ядерной энергии, что означало признание Соединенными Штатами де-факто статуса Индии как ядерной державы. Соглашение подтверждает приверженность Дели нормам нераспространения при осуществлении своей гражданской ядерной программы, но оставляет военную программу Индии за рамками инспекций МАГАТЭ.
Со стороны критиков этого соглашения последовали предостережения о том, что оно угрожает режиму ДНЯО. Администрация Буша выдвинула контраргументы, заявив, что Индия набирает силу как великая держава, что ядерного джина нельзя опять загнать в сосуд, а поскольку Индия - демократическое государство, джин не причинит вреда. Согласно Стратегии национальной безопасности 2006 года, «Индия ныне готова взять на себя глобальные обязательства во взаимодействии с Соединенными Штатами, как и подобает крупной державе».
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Ставя перед собой более амбициозные цели, администрация Буша стремится перестроить международные организации, с тем чтобы привести их в соответствие со структурами восходящих держав. В некоторых случаях преобразования прошли как бы сами собой. Например, создание блока развивающихся стран - «Группы 20» (G20) подвигло США пригласить Бразилию, Индию и ЮАР в «зеленую комнату» для переговоров. Это произошло в сентябре 2003-го на встрече министров стран - членов ВТО по вопросам торговли в рамках Дохийского раунда в Канкуне. С тех пор американские торговые представители настаивают на более активном участии Китая в надежде, что он окажет сдерживающее влияние на наиболее воинственно настроенные развивающиеся страны.
Подобным же образом Соединенные Штаты подбодряли Пекин время от времени принимать участие во встречах министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы семи». Вашингтон преследовал цель добиться признания растущей роли Китая в мировой политике и экономике, рассчитывая, что Пекин в свою очередь согласится с тем, что его политика в области валютных курсов и сдерживание потребления внутри страны способствуют глобальным экономическим диспропорциям. Представители Бразилии, Индии и ЮАР иногда также приглашались на встречи в рамках «Группы семи». Как утверждается в недавно опубликованном документе Министерства финансов США, «решение проблемы глобальных [макроэкономических] диспропорций требует тесного сотрудничества с новыми акторами вне «Группы семи».
Одновременно с целью придания Китаю (а также Мексике, Турции и Южной Корее) большего веса администрация Буша настойчиво добивалась изменения квоты голосов в Международном валютном фонде. Число голосов далеко, официально принадлежащее Пекину, не отражает реальных масштабов его экономики. Отвечая на вопросы The New York Times в августе 2006 года, заместитель министра финансов США по международным вопросам Тимоти Адамс сказал, что, «если реформировать МВФ и увеличить квоту голосов Китаю, последний почувствует себя более ответственным за достижение целей, стоящих перед этой организацией». На встрече в Сингапуре осенью 2006-го Международный валютно-финансовый комитет МВФ согласился перераспределить квоты, с тем чтобы отразить изменения в соотношении сфер мирового экономического влияния. Клей Лауэри, в тот момент помощник министра финансов по международным вопросам, вновь сформулировал позицию Вашингтона: «Достаточно давно мы пришли к заключению, что, если мы не добьемся признания растущей роли развивающихся экономик, МВФ во многом утратит свою значимость и мы все от этого потеряем». Вашингтон также недавно дал понять, что готов к присоединению Китая к Межамериканскому банку развития.
Вместе с тем администрация Буша предприняла шаги по расширению сотрудничества с набирающими силу державами и в других областях, особенно в том, что касается энергетики, охраны окружающей среды и нераспространения ядерного оружия. Вашингтон задействовал Пекин через рабочую группу АТЭС по энергетике. Китай и Индия, которые стремятся получить постоянный доступ к энергоресурсам, призываются к работе с Международным энергетическим агентством по созданию стратегических запасов нефти, чтобы способствовать эффективности энергетики и экологически рациональному развитию. Соединенные Штаты основали вместе с Австралией, Индией, Китаем, Южной Кореей и Японией Азиатско-тихоокеанское партнерство по развитию чистых технологий и климату (Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate). (Поскольку доля членов партнерства в мировой экономике составляет более 50 %, оно по сравнению со странами, присоединившимися к Киотскому протоколу, потенциально обладает бЧльшими возможностями для того, чтобы справиться с глобальным потеплением.) США также рассчитывают, что Китай и Индия помогут остановить распространение ядерного оружия. От Пекина зависит возвращение Пхеньяна к шестисторонним переговорам и соблюдение финансовых санкций, ограничивающих доступ Северной Кореи к твердой валюте. В октябре 2006 года, после ядерного испытания, проведенного северокорейской стороной, Китай впервые поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН относительно санкций против режима. Подобным же образом, обличая с цифрами и фактами в руках иранскую ядерную программу в Совбезе ООН, Вашингтон заручился поддержкой Индии как члена Совета управляющих МАГАТЭ.
ПРЕПЯТСТВИЯ
Еще слишком рано говорить, увенчаются ли успехом действия Вашингтона по привлечению Дели и Пекина в «концерт» великих держав. Некоторые американские инициативы провалились или оказались недостаточными. Первая внутренняя реформа МВФ принесла пока скромные результаты: квота голосов Китая возросла с 2,98 до 3,72 %. Реформа Совбеза ООН забуксовала ввиду кажущейся неосуществимости предложений, исходящих от самих органов ООН, а также из-за того, что ведущие державы не смогли договориться о кандидатурах в постоянные члены Совета Безопасности. Одно из многочисленных препятствий, парализующих Дохийский раунд, - отказ Европейского союза от дальнейшего сокращения сельскохозяйственных субсидий, если страны «Группы 20» не согласятся открыть доступ на свои внутренние несельскохозяйственные рынки. А противники американо-индийского соглашения по ядерным вопросам утверждают, что оно несовместимо с жесткой позицией Вашингтона в отношении Ирана и Северной Кореи.
Но скептикам следовало бы понять, что такие усилия приносят плоды только со временем. Исследования, проведенные независимо друг от друга Робертом Лоуренсом и Айеном Джонстоном (оба - профессора Гарвардского университета), показали, что непрерывное участие Китая в международных режимах в сфере экономики и безопасности постепенно, на протяжении многих лет, превращало Пекин из оплота революции в консервативную державу статус-кво. Стратегический экономический диалог с Китаем, получивший пока средние либо удовлетворительные оценки, уже начал свою работу (открытие состоялось 14 декабря 2006 года, второй раунд диалога намечен на май 2007-го. - Ред.). Как и в случае с американо-японской Инициативой по преодолению структурных препятствий, осуществленной более 15 лет назад и в конечном счете открывшей японский рынок для американских компаний розничной торговли, прогресс в отношениях с Пекином будет нескорым.
Еще одна трудность состоит в том, что переписывание правил функционирования существующих институтов - дело рискованное. Влияние - это игра с нулевой суммой, поэтому любая попытка повысить престиж Китая, Индии и других восходящих государств в международных организациях будет означать частичную утрату авторитета другими их участниками. Можно предположить, что потенциальные проигравшие станут тормозить или саботировать попытки реформ. Хотя европейские страны по-прежнему влиятельны, в экономическом и демографическом отношении они отстают как от восходящих государств, так и от Соединенных Штатов.
Европейские державы, которые во многих основных послевоенных институтах находились в привилегированном положении, рискуют потерять больше других в ходе передела сфер влияния в пользу стран Тихоокеанского региона. А фактически обладая правом вето во многих организациях, они способны пойти наперекор переменам, осуществляемым США. Европейцы утверждают, что они всё еще играют важную роль благодаря Евросоюзу, который позволяет им распоряжаться голосами 27 членов, составляющих единый блок во многих международных институтах. Но если Европейский союз движется в сторону создания Общей внешней политики и политики безопасности, то уместно задать вопрос, почему Брюссель располагает 27 голосами, тогда как 50 штатов, образующие Соединенные Штаты, имеют право только на один голос.
Существует вероятность того, что развивающиеся страны, находящиеся на периферии мировой экономики, поддержат Европу в ее противостоянии реформам, проводимым под эгидой США: они не хотят утратить то, пусть и небольшое, влияние, которым пользуются в международных институтах. Противодействие реформам в будущем, возможно, получит еще большее распространение, поскольку администрация Буша, вследствие склонности к односторонним действиям по ряду вопросов, заставила более пристально рассматривать мотивы ее поведения. Многие страны, скорее всего, будут расценивать реформаторские усилия Вашингтона как использование конъюнктуры, дабы освободиться от ограничений, налагаемых действующими международными соглашениями. Более того, рост антиамериканизма во всем мире стоит на пути тех правительств, которые готовы к сотрудничеству с Америкой.
Внутри страны администрация Буша тоже сталкивается с препонами. Инициатива Белого дома придать Китаю большее влияние в МВФ натолкнулась на сопротивление конгрессменов-демократов, считающих такие действия поощрением игрока, пренебрегающего правилами мировой экономики. Учитывая результаты промежуточных выборов-2006, подобного рода оппозиционные голоса будут звучать все громче. Опросы избирателей «на выходе» продемонстрировали высокую степень поддержки реализма и экономического популизма в геополитике, а такие настроения могут осложнить процесс перестройки институтов мирового управления.
С одной стороны, американцы будто бы склонны одобрить любую многостороннюю инициативу в области безопасности, помогающую снять часть бремени с Вооруженных сил США, которые находятся на пределе своих возможностей. С другой - американцы, похоже, настроены против того, чтобы помочь восходящим экономическим державам обустроиться в международных институтах.
ВНУТРИ ИЛИ ВНЕ?
Может показаться странным, что Соединенные Штаты сегодня стремятся лишить голоса своих давних союзников в Европе, с тем чтобы придать больше веса правительствам, программы которых зачастую отличаются от их собственной. Но альтернатива обескураживает еще больше: оставление этих стран вне интеграции, возможно, подвигнет их на самостоятельные действия и создание международных организаций вразрез с интересами США. В последние годы антиамериканизм вдохнул новую жизнь в практически бездействующие организации, например в Движение неприсоединения. Если Китаю и Индии не дать почувствовать, что они участвуют в управлении международной системой, в будущем это может создать дополнительные проблемы для Америки. Националисты в восходящих державах только и ждут образования малейшей трещины в отношениях с Вашингтоном.
В частности, Китай уже начал создавать новые институциональные структуры вне досягаемости Соединенных Штатов. Например, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которую входят Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан (а также Индия, Иран, Монголия и Пакистан в качестве наблюдателей), содействует военному и энергетическому сотрудничеству этих стран, хотя пока на низком уровне. В июне 2006 года на саммите ШОС в Пекине президент Ирана Махмуд Ахмадинежад предложил вменить в обязанности этой организации «отражение такой угрозы со стороны довлеющих держав, как намерение использовать силу против других государств и вмешиваться в их дела». Такое впечатление, что это мнение нашло отражение в принятой на саммите совместной декларации. В ней отмечается, что «различия в культурных традициях, политических и социальных системах, ценностях и моделях развития, сформировавшиеся в ходе истории, не должны использоваться как предлог для вмешательства во внутренние дела других стран».
Китай также настойчиво обхаживает страны, богатые ресурсами. В октябре 2006-го в Пекине прошел саммит (в котором участвовали более 40 лидеров из Африки), при помощи которого Китай попытался обеспечить себе постоянный доступ на континент, богатый энергоресурсами. Лидеры - участники саммита предложили создать зоны свободной торговли в рамках ШОС и АТЭС. Они продемонстрировали такую готовность приступить к реализации данной идеи, что президент Буш был вынужден снять вопрос о глобальной войне с терроризмом в качестве первого пункта своей повестки дня для форума АТЭС и в ноябре 2006 года призвал к созданию зоны свободной торговли для этой организации.
Усилия Китая необязательно вступают в конфликт с интересами США, но достаточно Пекину пожелать, как это произойдет. С точки зрения Соединенных Штатов, для Китая и Индии предпочтительнее продвигать свои интересы в рамках глобальных структур управления под эгидой США, нежели вне их. В обмен на помощь в определении статуса этих государств в таких организациях, как ООН и МВФ, и обеспечение им признания и престижа, которых они добиваются, Соединенные Штаты могли бы получить определенную компенсацию - обещание Пекина и Дели принять ключевые правила глобальной игры.
Америку ждет многотрудное будущее. Европейские страны остаются ее главными союзниками. По таким проблемам, как защита прав человека и продвижение демократии, голос Европы звучит мощно и убедительно. Ввести Китай и Индию в «концерт» великих держав, не отдаляя при этом ЕС или его членов, потребует огромной воли и искусства дипломатии. Администрация Буша взяла солидный старт. По мере продвижения вперед ее задачу легко сформулировать, но трудно осуществить: сохранить близкие отношения со старыми друзьями и еще больше к себе приблизить новых.

Саммит НАТО в Риге: большой контекст
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2007
Рад ван ден Аккер, Михаэль Рюле – сотрудники подразделения политического планирования личной администрации генерального секретаря НАТО. Статья отражает личное мнение авторов.
Резюме Рижский саммит Организации Североатлантического договора стал важной вехой в трансформации альянса. Он не может больше замыкаться в традиционной сфере своей географической ответственности, и поэтому НАТО приходится находить новые военные и политические ответы на глобальные вызовы.
В конце ноября 2006 года главы государств и правительств 26 стран – членов НАТО собрались в столице Латвии Риге на очередной саммит. За последние десять лет встречи в верхах Организации Североатлантического договора превратились во все более насыщенные двухдневные мероприятия, участие в которых принимают не только страны-члены, но и страны-партнеры. Однако, в отличие от предыдущих форумов, в Ригу партнеров не приглашали. Не проводились ни заседания Совета евро-атлантического сотрудничества, объединяющего членов альянса и 20 государств Европы и Центральной Азии, ни заседания комиссии НАТО – Украина и Совета НАТО – Россия. Встречу решили провести в узком кругу, и она заняла меньше суток.
Почему же саммит в Риге был организован, по выражению британского военного журнала, столь «интровертным» образом? И почему организаторы встречи, проходившей вблизи границ России, даже не попытались привлечь к участию в ней каких-либо высокопоставленных российских представителей? Ответ станет очевидным, если поместить Рижский саммит в контекст расширенной эволюции НАТО из альянса, изначально предназначенного для обеспечения территориальной обороны Западной Европы, в инструмент защиты трансатлантических интересов безопасности всюду, где они подвергаются риску.
ТРИ ФАЗЫ ЭВОЛЮЦИИ
Использование исторических категорий нередко ведет к упрощению сложных явлений. И все же полезно представить себе 58-летнюю историю Североатлантического блока в виде эволюции, которая прошла через три отдельные фазы: холодную войну, десятилетие после окончания холодной войны и период, который начался с терактов в Вашингтоне и Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Для каждой из этих фаз были характерны свои специфические вызовы безопасности, и каждый из них требовал особых способов реагирования. Соответственно менялся облик и самой НАТО.
Первая фаза, холодная война, растянулась на четыре с лишним десятилетия. Все это время роль Организации Североатлантического договора оставалась, по сути, статичной – предотвращение агрессии против стран-членов. Учитывая особые условия конфликта Восток – Запад, НАТО располагала только одним способом решения этой задачи – сдерживанием, то есть обычной угрозой применить силу в ответ на агрессию. Зная о последствиях, обе стороны проявляли значительную осторожность в отношениях друг с другом, и поэтому в Европе эпохи холодной войны использование силы в политических целях было практически исключено.
На второй фазе, в период между падением Берлинской стены и разрушением башен-близнецов в Нью-Йорке, роль НАТО претерпела фундаментальные изменения. Хотя некоторые наблюдатели, не в последнюю очередь в России, и ожидали, что организация прекратит свою деятельность, европейские реалии вдохнули в нее новую жизнь совершенно иного качества. Из трансатлантической рамочной структуры по сохранению стабильности блок превратился в важнейший фактор трансформации постбиполярной Европы.
В политическом отношении новой функции НАТО отвечала установка на создание партнерств буквально со всеми странами Старого Света и Южного Средиземноморья. С военной точки зрения новая роль наиболее отчетливо проявилась на Западных Балканах. Пытаясь остановить насилие и кровопролитие после распада Югославии, организация стала посвящать все больше времени и усилий кризисному менеджменту за пределами зоны своей компетенции.
Эволюция после холодной войны отражала меняющееся понятие безопасности. Поскольку угроза вторжения исчезла, необходимость сосредотачивать все усилия исключительно на территориальной обороне явным образом исчерпала себя. Однако нестабильность по соседству с «расширенной» Европой вполне могла повлиять на безопасность стран – членов НАТО. Подобная ситуация не могла быть исправлена путем одной лишь демонстрации военной силы. Политика безопасности должна была превратиться в стратегию широких политических обязательств, а в случае с Западными Балканами речь шла и о долгосрочном военном присутствии.
Как и предшествующий период, вторая фаза эволюции завершилась на определенной оптимистической ноте. В конце 1990-х Европа, казалось бы, совершила «мягкую посадку» после всех перипетий холодной войны. Успехи европейской интеграции, демократизация России и возникновение общего движения в направлении сотрудничества на континенте ясно обозначили конец последних пережитков идеологической конфронтации. Хотя процесс расширения Североатлантического блока и особенно военно-воздушная кампания в Косово вызвали серьезное неодобрение России, Брюссель получил возможность утверждать, что играет конструктивную и жизненно важную роль в качестве рамочной структуры по управлению послевоенной трансформацией Европы, а также по достижению мира в Западных Балканах.
ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
Теракты 11 сентября 2001 года обозначили начало третьей фазы эволюции НАТО. Стало ясно, что основные угрозы союзникам по Североатлантическому альянсу (как, кстати, и многим другим странам) больше не исходят из Европы, их источники расположены за пределами Старого Света. Перед лицом международного терроризма, несостоявшихся государств и распространения оружия массового уничтожения традиционный «евроцентризм» НАТО, преобладавший в течение двух предшествующих фаз, утратил актуальность. Дальнейшая консолидация Европы как единого демократического пространства по-прежнему занимала верхнюю строку в повестке дня. Однако глобальная природа новых угроз лишала смысла чисто географический подход. Если блок собирался и далее обеспечивать безопасность своих членов в мире «глобальной небезопасности», ему следовало взять на вооружение функциональный подход и быть готовым решать проблемы непосредственно на месте их возникновения.
Случай применить этот новый подход на практике представился, когда впервые в своей истории НАТО пришлось прибегнуть к необходимости выполнить обязательство по коллективной самообороне в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. В период холодной войны считалось, что это обязательство в основном применимо в случае военного нападения стран Организации Варшавского договора. Однако, распространив его на крупномасштабный теракт, совершенный негосударственными акторами, НАТО при молчаливой поддержке России стала организацией борьбы, глобальной по своей сути. В августе 2003-го Брюссель принял на себя командование Международными силами содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, продемонстрировав полную готовность руководствоваться функциональным подходом к вопросам безопасности.
Эта третья фаза эволюции альянса, очевидно, является самой ответственной. Исправное следование логике обязательств означает теперь необходимость брать на себя еще более широкий спектр миссий, начиная с боевых операций и заканчивая гуманитарной помощью. Сегодня это – поддержание мира в Косово, содействие военной реформе в Боснии и Герцеговине, патрулирование Средиземного моря в ходе военно-морской антитеррористической операции, участие в боевых действиях и миротворческих миссиях в Афганистане и воздушная транспортировка войск Африканского союза в кризисный регион Дарфур в Судане. Кроме того, НАТО оказывала гуманитарную помощь Соединенным Штатам после урагана «Катрина» и Пакистану после землетрясения в октябре 2005-го, обучает силы безопасности Ирака как в самой стране, так и за ее пределами. Неудивительно, что многие эти миссии и операции, учитывая их важность для расширенных понятий безопасности и стабильности, пользуются поддержкой Российской Федерации либо через посредство Совета Безопасности ООН, либо путем реального вклада в виде воинских контингентов или материально-технической поддержки.
Расширяя свою повестку дня, Североатлантический альянс сталкивается с целым рядом политических, военных и финансовых проблем. Большинство миссий носят сегодня не просто долгосрочный характер, их успех в конечном итоге зависит скорее от перспектив политического и экономического развития, чем от военного превосходства. Поэтому более чем когда-либо раньше Брюсселю необходимо координировать свои военные усилия с деятельностью гражданских акторов. Долгосрочный характер обязательств также непосредственно связан с вопросом о способе финансирования этих операций, заслуживающем оценки союзников как справедливом и равноправном. Как показали ожесточенные бои на юге Афганистана в течение прошлого года, решение отдельных задач стало требовать весьма значительных военных затрат. Более того, страны альянса ныне преследует призрак человеческих потерь, которые приходится нести при выполнении заграничных миссий, что является беспрецедентным вызовом для демократических обществ.
РОСТ ОПЕРАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В условиях роста оперативных требований возникла проблема военных, политических и финансовых средств, необходимых для надлежащего выполнения Североатлантическим альянсом своих обязательств. В Риге действительно достигнуты существенные результаты. Силы реагирования НАТО находятся в полной боевой готовности, в распоряжении альянса оказывается мощный, более чем двадцатитысячный резерв на случай новых рисков и угроз. Кроме того, союзники достигли договоренности об использовании американских, российских и украинских большегрузных транспортных самолетов для натовских миссий. Страны-члены пришли также к соглашению о новых инициативах в таких областях, как тактическая противоракетная оборона, воздушное наблюдение и сотрудничество между оперативными силами специального назначения. Крупные реформы в оборонном планировании, формировании воинских контингентов и организации обеспечат лучшую подготовку и финансирование миссий в будущем.
Рижский саммит стал серьезным шагом в направлении политического преобразования НАТО. Союзники договорились, например, об углублении сотрудничества со странами-партнерами, включая государства Ближнего Востока и Персидского залива. Начата работа по установлению новых отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, разделяющими с альянсом общие интересы безопасности, а в случае Австралии и Новой Зеландии – уже внесшими ценный вклад в возглавляемые им операции. В свете необходимости развить всесторонний подход к безопасности намечено более тесное сотрудничество с другими международными игроками, такими, как Организация Объединенных Наций, Европейский союз, «Большая восьмерка» и Всемирный банк, а также с неправительственными организациями.
Все эти решения помогут ускорить преобразование НАТО в организацию, более эффективно реагирующую на сегодняшние глобальные вызовы. Ориентируясь на третью фазу эволюции, участники саммита в Риге приняли также ряд решений по выполнению изначальной задачи альянса – способствовать созданию единой, свободной и мирной Европы. Одно из них – приглашение Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии присоединиться к программе «Партнерство ради мира». Главы государств и правительств стран-членов тоже недвусмысленно высказались в пользу того, чтобы на следующий саммит весной 2008-го пригласили государства, способные внести вклад в дело евро-атлантической безопасности и стабильности. Это явный сигнал в адрес таких стремящихся в НАТО стран, как Албания, Хорватия и бывшая югославская республика Македония (официальное название, под которым Македония получила международное признание. Турция признаёт Республику Македония под ее конституционным названием. – Авт.). Отношения альянса с Грузией и Украиной будут развиваться и далее в рамках так называемых индивидуальных диалогов, которые ведутся с этими государствами.
Оперативная направленность встречи в верхах в Риге во многом объясняет, почему она проходила с участием только стран – членов НАТО. Ведь изначально Рижский саммит не планировался как изолированное мероприятие. Еще перед тем как главы государств и правительств собрались в латвийской столице, на весну 2008 года был назначен следующий форум. Более того, 60-я годовщина евро-атлантического альянса, которая будет широко отмечаться в апреле 2009-го, вероятно, предоставит очередную возможность встречи глав государств и правительств. Эти следующие друг за другом встречи на высшем уровне служат показателем ускоренных темпов трансформации, которая требует регулярного политического руководства и принятия решений на высшем уровне.
После саммита в Риге и в преддверии еще одного или даже двух саммитов в ближайшей перспективе Брюссель загружен работой как никогда. В дополнение к выполнению текущих оперативных обязательств, требующих больших затрат сил и средств, альянс продолжит долгосрочные структурные изменения как с точки зрения собственной политической и военной структуры, так и в отношениях с другими странами и организациями.
ВСЕСТОРОННИЙ ПОДХОД И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
Одним из основных признаков третьей фазы эволюции НАТО является тесное взаимодействие с другими крупнейшими организациями. Развертывание сил в районах кризисных ситуаций – незаменимый инструмент в деле разрешения конфликтов и обеспечения безопасной среды для политического и экономического восстановления. Однако такое восстановление – «строительство нации» в самом широком смысле – может быть достигнуто только посредством сотрудничества с другими игроками, включая Европейский союз, Организацию Объединенных Наций и неправительственные организации. Императив сочетания «жесткой» и «мягкой» силы вызвал к жизни проблему установления новых институциональных связей НАТО с теми внешними акторами, которые смогут наилучшим образом обеспечить «мягкую» составляющую. Это осуществимо при условии достижения договоренностей о безопасности на случаи возникновения непредвиденных ситуаций в будущем.
Прежде всего, Североатлантическому альянсу необходимо установить подлинно стратегическое партнерство с Европейским союзом. Хотя сфера текущих отношений между НАТО и ЕС слишком ограниченна, логика практической координации и кооперации в конечном счете должна возобладать над узкими представлениями об уникальности отдельных институтов. Такое объединение «жесткой» и «мягкой» безопасности резко расширит спектр политических, военных и экономических инструментов, находящихся в распоряжении международного сообщества. Более структурированные отношения между НАТО и ООН – это еще одна цель на ближайшее будущее. Обе организации действуют на одних и тех же территориях, однако необходимость изо дня в день сотрудничать на местах находится в вопиющем противоречии с отсутствием политических консультаций на стратегическом уровне.
По мере того как Североатлантический альянс все больше превращается для ООН в основной «инструмент реализации», становится труднее переоценить более согласованные стратегические отношения. В дополнение к непосредственным операционным преимуществам интенсивные контакты помогли бы альянсу организовать эффективную подготовку и наставничество ооновским миротворцам, а также консультации по вопросам планирования и оперативной совместимости. Такого рода содействие будет в значительной мере способствовать возрождению ООН, которая почти исчерпала свои ресурсы в качестве хранителя глобального мира и стабильности.
Еще одной отличительной чертой третьей фазы эволюции НАТО является расширенный и углубленный политический диалог. Наличие постоянной опасности в эпоху холодной войны позволяло относительно легко достичь консенсуса в том, что касалось реагирования на различные угрозы. Но спектр вызовов уже не позволяет спокойно полагаться на неизменный консенсус союзников. Его достижение усложнилось и требует более регулярных и открытых дебатов.
Сейчас, когда традиционные постулаты национальной безопасности подвергаются пересмотру, Североатлантическому альянсу следует стремиться к разрешению спорных вопросов, а не уклоняться от них ради сохранения единства. По мере приобретения новыми игроками, такими, как, например, Евросоюз, собственной роли в сфере безопасности, по мере того как растет значимость других регионов (наподобие «Большого Ближнего Востока»), трансатлантическое сообщество может добиться реального прогресса только путем строгой верификации противоборствующих взглядов в ходе глубокого и откровенного обсуждения.
Более того, альянс должен принимать непосредственное участие в поиске политического решения везде, где его силы осуществляют операции. И это еще один повод для того, чтобы союзники каждый раз детально обсуждали свои политические установки – как между собой, так и со странами-партнерами и ключевыми региональными игроками, а также в рамках международных организаций.
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
За саммитом в Риге должно последовать углубление партнерства с Россией. Российская Федерация – крупнейший игрок в сфере безопасности евро-атлантической зоны, а после последнего раунда расширения в 2004 году шесть стран – членов блока имеют с Россией общие сухопутные и морские границы. Интересы НАТО и России совпадают в таких разнообразных сферах, как борьба с терроризмом или предотвращение распространения оружия массового уничтожения. Постоянное членство России в Совете Безопасности ООН придает ей вес в вопросах, непосредственно затрагивающих интересы безопасности союзников НАТО. Влияние Москвы в Центральной Азии и Северном Афганистане способно серьезно повлиять на успех возглавляемой Североатлантическим альянсом миссии ISAF. В то же время очевидно, что от этой миссии в значительной степени зависит общий уровень безопасности самой России и ее соседей.
За последние десять лет не раз отмечался вклад России в осуществление миссий НАТО на Балканах, в Средиземноморье и в Афганистане. Колебания, преобладавшие в течение большей части 1990-х, уступили место менее настороженному и более прагматическому подходу, особенно после терактов 11 сентября 2001 года. Значительным шагом вперед стала замена в мае 2002-го консервативного и ориентированного на внутренние вопросы Совместного постоянного совета более оперативным Советом НАТО – Россия.
Однако, несмотря на существенный прогресс, потенциал отношений далеко не исчерпан. Например, схема взаимодействия военных структур остается неотработанной: некоторые совместные проекты успешно продвигаются вперед, в то время как другие застопорились. Пятая годовщина Совета НАТО – Россия весной нынешнего года дает альянсу и Российской Федерации прекрасную возможность вновь подтвердить приверженность партнерству на самом высоком политическом уровне и подкрепить ее запуском новых совместных проектов, которые бы финансировались на достаточном уровне. Такие проекты могли бы предусматривать повышение оперативной военной совместимости между российскими и натовскими силами, совершенствование координации в борьбе с терроризмом и организованной преступностью в Афганистане, а также более тесное сотрудничество по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Хотя ни Россия, ни другие партнеры НАТО не присутствовали в Риге, у них есть все основания приветствовать результаты саммита. он явился крупным шагом на пути к превращению альянса в поставщика услуг по обеспечению безопасности внутри и за пределами евро-атлантической зоны. Развиваясь, Североатлантический альянс начнет еще теснее работать с другими странами и организациями над способами противостояния новым глобальным рискам и угрозам. У Москвы нет оснований для беспокойства, но она может многое приобрести в ходе этой эволюции. Залогом станет непосредственная заинтересованность России в том, чтобы сыграть более активную роль в данном процессе. Для этого у нее есть все возможности. И мы надеемся, что так и будет.

Битва за глобальные ценности
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2007
Тони Блэр – премьер-министр Великобритании. Статья о опубликована в журнале Foreign Affairs, № 1 (январь – февраль) за 2007 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Война против терроризма не может быть сведена к решению проблем безопасности или военной тактики. Это битва ценностей, победить в которой можно, только добившись триумфа терпимости и свободы. Афганистан и Ирак были необходимыми отправными точками данного сражения. Но успех там невозможен без решительных, последовательных и продуманных усилий по внедрению глобальных ценностей. Лидером здесь является Вашингтон.
КОРНИ ЭКСТРЕМИЗМА
Наш ответ на теракты 11 сентября на практике приобрел гораздо более весомое значение, чем могло показаться в свое время. Дело в том, что мы могли бы свести всё к вопросам безопасности. Но вместо этого решили отстаивать свои ценности, заявив, что нам не нужно еще что-то вроде «Талибана» или другого диктатора наподобие Саддама Хусейна. Нам хорошо известно, что идеологию фанатизма нельзя победить, лишив свободы либо уничтожив ее лидеров. Необходимо доказать несостоятельность их идей.
Ситуация, с которой мы столкнулись, на самом деле свидетельствует о том, что разразилась настоящая война. Но война особого свойства, в которой невозможно победить обычными средствами. Нам не выиграть кампанию против глобального экстремизма, не доказав, что мы превосходим его не только по своей мощи, но и с точки зрения ценностных ориентиров. Мы сможем победить, только показав всему миру, что наши ценности имеют качественное преимущество по сравнению с альтернативными ценностями, и продемонстрировав наше беспристрастное и открытое стремление сделать их общедоступными. Для защиты нашего образа жизни может понадобиться применение силы, но мы не сможем заручиться реальной поддержкой, если не станем энергично бороться с глобальной бедностью, деградацией окружающей среды и социальной несправедливостью.
Нынешний всплеск глобального терроризма и экстремизма имеет глубокие исторические корни. Причины его кроются в десятилетиях отчуждения, гонений и политических преследований в арабском и мусульманском мире. Однако терроризм подобного рода никогда не был и не является неизбежным. Для меня самое примечательное в Коране – это его прогрессивный характер. Будучи последователем другой веры, я отдаю себе отчет в неполноте своих знаний. Как стороннего наблюдателя Коран поражает меня своим реформаторским духом. В этой книге предпринимается попытка вернуть иудаизм и христианство к их истокам, попытка, во многом похожая на то, что несколькими веками позже пытались сделать в отношении христианской церкви деятели эпохи Реформации. Коран весьма многообразен. В нем восхваляются науки и знания и отвергаются суеверия. Коран практичен и намного опережает свое время в том, что касается вопросов брака, положения женщин и государственного управления.
Под вдохновляющим воздействием Корана ислам и его господство неимоверно быстро распространились на ранее христианских или языческих территориях. За столетия ислам основал империю, которая стала мировым лидером в научных открытиях, искусстве и культуре. В эпоху раннего Средневековья проявления религиозной терпимости чаще можно было встретить в мусульманских, чем в христианских странах.
Но к началу XX века, после того как Запад пережил эпохи Ренессанса, Реформации и Просвещения, мусульманский и арабский мир стал обнаруживать неопределенность, неустойчивость своего положения и перешел на оборонительные рубежи. Некоторые мусульманские страны, например Турция, сделали решительный шаг в сторону светского государства. Другие попали в силки колонизации, зарождающегося национализма, политических преследований и религиозного радикализма. в жалком состоянии своих стран мусульмане стали видеть проявление удручающего состояния ислама. Политические радикалы превратились в религиозных и наоборот.
Власть пыталась приспособиться к исламскому радикализму, привлекая в правящую элиту некоторых его лидеров и отчасти принимая его идеологию. Результат почти всегда был катастрофическим. Религиозный радикализм таким образом становился приемлемым, политический же радикализм подавлялся, и в сознании значительной части населения они слились воедино как свидетельство необходимости перемен. Многие стали думать, что вернуть доверие и стабильность исламу можно путем сочетания религиозного экстремизма и популистской политики, в то время как «Запад» и те исламские лидеры, которые с ним сотрудничали, превратились в их глазах во врагов.
Этот экстремизм, по всей вероятности, начинался с религиозной доктрины и философии. Но вскоре в ответвлениях «Братьев-мусульман», поддерживаемых экстремистами-ваххабитами и рассредоточенных по некоторым медресе Среднего Востока и Азии, зародилась новая идеология, которую начали экспортировать по всему миру.
День 11 сентября 2001 года унес жизни 3 тысяч человек. Но терроризм, о котором идет речь, впервые дал себя знать не на улицах Нью-Йорка. Гораздо больше людей погибло еще раньше, причем не только во время терактов, острие которых было направлено против западных интересов, но и в ходе политических мятежей и волнений по всему миру. Жертвами этого терроризма пестрит недавняя история многих стран, таких, как Индия, Индонезия, Йемен, Кения, Ливия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, список можно продлевать до бесконечности. Более 100 тысяч человек погибло в Алжире. Некогда вполне разрешимые политические проблемы в Чечне и Кашмире превратились под натиском терроризма в категорически неразрешимые. Сегодня в тридцати либо сорока странах разрабатываются планы действий, так или иначе связанные с идеологией терроризма. И хотя численный состав активных приверженцев этой идеологии относительно невелик, им удается эксплуатировать чувство отчуждения, гораздо более широко распространенное в арабском и мусульманском мире.
Теракты, которые мы упоминаем, отнюдь не являются единичными случаями. Это часть ширящегося движения, участники которого убеждены, что единоверцы отошли от правоверной религии и попали под влияние западной культуры. Ими правят те вероломные мусульмане, которые напрямую замешаны в этом перевороте (в отличие от тех, кто понимает, что для восстановления не только истинной веры, но и уверенности и самоуважения мусульман необходимо ополчиться против Запада и всего, что с ним связано).
Борьба с терроризмом в Мадриде, Лондоне либо Париже – это часть той же борьбы против терактов «Хезболла» в Ливане или «Исламского джихада» на палестинских территориях, а также повстанческих группировок в Ираке. Убийство ни в чем не повинных людей в Беслане является плодом той же идеологии, которая сеет невинные жертвы в Йемене, Ливии, Саудовской Аравии. И когда Иран спешит оказать поддержку подобного рода терроризму, он также становится участником этой битвы.
Политическая стратегия может утверждаться сознательно либо подсознательно. В данном движении она возникла, вероятно, инстинктивно. Ему свойственны идеология, мировоззрение, глубокая убежденность и решимость фанатиков. Оно во многом напоминает ранний революционный коммунизм и не всегда нуждается в структурах и центрах управления или даже в прямой коммуникации. Участники и так знают наперечет все свои помыслы.
В конце 1990-х годов стратегия стала достаточно очевидной. Если бы речь шла только о борьбе внутри ислама, движение рисковало столкнуться с тем фактом, что другие мусульмане, которым, как и всем остальным людям, свойственно чувство порядочности и справедливости, предпочтут отвергнуть фанатизм. Битва за ислам – это междоусобная борьба мусульман против мусульман. Экстремисты осознали, что возникала необходимость начать совершенно другую битву – мусульман против Запада.
Меня до сих пор поражает, как много людей уверены в том, что сегодняшний терроризм явился следствием вторжений в Афганистан и Ирак. Эти люди, похоже, напрочь забыли о том, что теракты 11 сентября 2001-го произошли раньше обоих вторжений. Запад не нападал. Он сам подвергся нападению.
ХАРАКТЕР ЗАВЯЗАВШЕЙСЯ СХВАТКИ
Итак, согласно идеологии терроризма, мы олицетворяем собой врага. Однако «мы» – это не Запад. «Мы» – это мусульмане в той же степени, что и христиане, иудеи либо индусы. «Мы» – это те, кто верит в религиозную терпимость, в открытость по отношению к другим, в демократию, в свободу и права человека, которые защищаются в светских судах.
Это не конфликт цивилизаций – это конфликт по поводу того, что такое цивилизация. Это старая как мир битва между прогрессом и реакцией, между теми, кто принимает современный мир, и теми, кто отвергает его: между оптимизмом и надеждой, с одной стороны, и пессимизмом и страхом – с другой.
В любой борьбе главное – правильно оценить природу конфликта, и здесь нам еще предстоит долгий путь. Мне трудно понять, каким образом столь значительная часть общественного мнения на Западе может допускать мысль, что в появлении глобального терроризма каким-то образом виноваты мы сами.
Начнем с того, что терроризм действительно приобрел глобальный характер. Он направлен не только против Соединенных Штатов и их союзников, но и против стран, которые практически невозможно назвать партнерами Запада.
Кроме того, борьба в Ираке и Афганистане явно ведется не за освобождение этих стран от оккупации США. Цель экстремистов – не дать обеим странам превратиться в демократические государства. И не просто «по западному образцу», а по любому образцу. Именно экстремисты, а не мы убивают невинных, и делают это намеренно. Они – единственная причина, по которой мы до сих пор остаемся в Ираке и Афганистане.
Предположение о том, что исламский терроризм – продукт бедности, просто нелепость. Конечно, бедность используется им для оправдания своих действий. Но его фанатичных последователей трудно назвать приверженцами экономического развития.
Более того, цель террористов не в том, чтобы способствовать созданию Палестины, мирно сосуществующей с Израилем, а скорее в том, чтобы этого не допустить. Они борются не за становление палестинского государства, а за исчезновение Государства Израиль.
Террористы строят свою идеологию на религиозном экстремизме, и не просто на религиозном экстремизме, а конкретно – на его мусульманском варианте. Террористы отвергают модернизацию. Они надеются, что дуга экстремизма, которая протянулась сегодня через весь регион, сметет первые, хотя и нетвердые попытки, которые современный ислам предпринимает, чтобы устремиться в будущее. Они хотят возвращения мусульманского мира назад под управление полуфеодальной религиозной олигархии.
И всё же, несмотря на все эти достаточно очевидные факты, многие в западных странах прислушиваются к пропаганде экстремистов и принимают ее. (И надо отдать должное: экстремисты используют наши собственные СМИ с мастерством, которому могут позавидовать многие политические партии.) Ссылаясь на массовые убийства в Ираке, они говорят, что это – причина для того, чтобы уйти из страны. Каждый кровопролитный теракт почему-то служит указанием на нашу ответственность за беспорядки, а не на степень зла, присущую тем, кто его совершил. То, что было сделано в Ираке в 2003 году, для многих настолько неправильно, что они неохотно принимают и то, что, безусловно, правильно сейчас.
Некоторые верят, что теракты целиком лежат на совести Запада из-за того, что он-де подавляет мусульман. Другие всерьез полагают, что достаточно нам покинуть Ирак и Афганистан, как теракты прекратятся. Наконец, не могут не настораживать разделяемое многими пагубное мнение, что мы, мол, платим слишком высокую цену за поддержку Израиля, а также тот факт, что многие сочувствуют тем, кто осуждает еврейское государство.
Осознай мы истинный характер ведущейся сегодня борьбы, мы были бы, как минимум, на пути к победе. Однако огромная часть общественного мнения на Западе еще очень далека от этого.
Идеологии терроризма должен быть брошен вызов – причем повсюду, где она только появляется. Исламский терроризм нельзя победить, пока мы не осознаем необходимость противостояния не только методам, но и идеям экстремизма. Я не намерен объяснять экстремистам, что террористическая деятельность – это зло. Я хочу, чтобы они поняли: их отношение к Соединенным Штатам абсурдно, их концепция государственной власти из дофеодальных времен, а их взгляды на положение женщин и на другие религии реакционны. Не только варварские теракты, но и ложное чувство обиды на Запад, попытки убедить нас в том, что ответственность за насилие должны нести другие, а не сами экстремисты, достойны всяческого осуждения.
В эпоху глобализации наше будущее определяет исход столкновения между экстремизмом и прогрессом. Мы больше не можем игнорировать эту борьбу, так же как не можем не принять меры в связи с изменением климата. Бездействовать, то есть перекладывать ответственность на Соединенные Штаты или пытаться обмануть себя, полагая, что терроризм – это череда изолированных эпизодов, а не глобальное движение, глубоко ошибочно.
ДВА ФРОНТА
Именно поэтому ошибается тот, кто игнорирует значение выборов в Ираке и Афганистане. Остается фактом, что народ, если ему дать шанс, предпочитает демократию. С того момента, как афганцы пришли и проголосовали на первых в своей истории выборах, миф о том, что демократия – это концепция Запада, окончательно развенчан. Точно так же и в Ираке, несмотря на разгул насилия и запугивание, голосование было представительным, причем количество людей, которые пришли к избирательным урнам, могло бы сконфузить многие западные демократии.
Указанные избирательные кампании продемонстрировали, что люди не хотят диктатуры, ни теократической, ни светской. Когда сторонники Саддама или муллы Мухаммада Омара решают выдвинуть свои кандидатуры на выборах, им не удается собрать сколько-нибудь значительное число голосов. Иракские и афганские мусульмане открыто заявили: у нас не меньше прав на демократию, чем у вас. Принимая демократию, они тем самым демонстрируют, что тоже стремятся жить в обществе, в котором мирно сосуществуют представители разных культур и религий. Эта и наша борьба.
В чьих интересах заблокировать прогресс демократии? В Ираке это пестрая смесь из иностранных джихадистов, бывших сторонников Саддама и отвергающих сотрудничество повстанцев; в Афганистане – объединение наркобаронов, талибов и «Аль-Каиды». Они утверждают, что демократия – западная идея, которую силой навязывают сопротивляющейся исламской культуре. Вспоминают о всех мыслимых теориях заговора, начиная с намерения Запада захватить иракскую нефть и кончая его планами по установлению империалистического господства. Кое-кто на Западе даже соглашается с ними.
В чем же причина столь яростного сопротивления этих реакционных элементов? Очевидно, что они с самого начала осознали важность победы или поражения. Конечно, с нашей стороны тоже допускались ошибки и имели место случаи неприемлемого нарушения прав человека. Однако мы не можем не признать, что именно здесь, в этом регионе, в наиболее чистом виде проявилась борьба между демократией и насилием
Наверняка найдутся аргументы в пользу того, что процесс дебаасизации Ирака (отстранение партии Баас от власти) протекал слишком быстро и без разбору, особенно в вооруженных силах. Однако при этом забывается тот факт, что основную тревогу в 2003-м вызывал гуманитарный кризис, который удалось преодолеть, и что в тот момент насущной необходимостью было ускорить отстранение Баас от власти.
Но после убийства сотрудников ООН в августе 2003 года в качестве главной предстала четко обозначенная задача – обеспечение безопасности. Реакционные элементы стремятся подорвать процесс восстановления и демократизации страны путем насилия. Снабжение электроэнергией превратилось в проблему отнюдь не вследствие халатности, проявленной иракцами либо коалиционными силами, а по причине саботажа. Люди испытывали страх в обстановке террора со стороны криминальных группировок, многих членов которых Саддам намеренно выпустил из тюрем накануне своего падения
Подобные акции не были случайностью, они составляли и продолжают составлять часть стратегии. Когда, действуя в рамках такой стратегии, экстремисты потерпели неудачу в попытке досрочно вытеснить коалицию из Ирака и не смогли остановить голосование, они перешли к отдельным убийствам, актам грубого насилия и вандализма. Наиболее вопиющим является варварское и кощунственное разрушение шиитской мечети в Самарре.
Экстремисты знают, что если им удастся добиться успеха – в Ираке, Афганистане, Ливане или любой другой стране, желающей следовать демократическим путем, – то демократическое будущее арабского и мусульманского мира, как перспектива, потенциально подвергнется смертельному удару. И наоборот, если эти страны превратятся в демократии и станут успешными, будет нанесен мощный удар по всей антизападной пропаганде экстремистов, а также и по их системе ценностей.
В каждом из этих случаев Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие государства помогают подготовке местных сил безопасности, оказывают поддержку демократическому процессу и служат оплотом против терроризма, угрожающего подорвать его. Все это происходит в полном соответствии с мандатом ООН.
Дебаты о правильности изначально принятых решений, особенно в отношении Ирака, будут продолжаться. Оппоненты станут говорить, что Ирак никогда не представлял собой угрозы, что там не было оружия массового уничтожения, что торговля наркотиками в Афганистане продолжается. Я же отмечу, что Ирак в действительности представлял собой угрозу, о чем свидетельствуют две войны в регионе, 14 резолюций Совета Безопасности ООН и заключительный доклад наблюдательной группы. Я также напомню, что после окончания войны в Ираке мы добились крупных успехов в ограничении распространения ОМУ, установили новые взаимоотношения с Ливией и настояли на прекращении деятельности нелегальной ядерной сети пакистанца Абдул Кадира Хана. Подчеркну, что именно талибы управляли наркоторговлей и давали приют «Аль-Каиде» и ее тренировочным лагерям.
Но чем бы ни завершились дебаты, если они вообще завершатся, какими бы правильными или неправильными ни были действия по устранению Саддама и талибов, остается фактом, что сейчас существует очевидная, ясная и чрезвычайная причина для поддержки народов указанных стран в их стремлении к демократии. Начиная с июня 2003 года многонациональные силы находятся в Ираке на основании резолюции ООН и по мандату первого в истории этой страны избранного правительства. В Афганистане все действия с самого начала осуществлялись в соответствии с решением ООН.
Ключевым моментом в деле устранения Саддама в Ираке и талибов в Афганистане является отнюдь не смена режимов, а стремление изменить систему ценностей, господствовавшую в этих странах. Лозунгом на самом деле была не «смена режима», а «смена ценностей». Именно поэтому я настаиваю на том, что сделанное в результате подобного вмешательства может иметь гораздо более весомое значение, чем это представлялось в свое время. Горькая ирония состоит в том, что экстремисты не в пример многим на Западе отдают себе более ясный отчет в том, что поставлено на карту.
БИТВА ЗА СЕРДЦА И УМЫ
В конечном счете это битва за прогрессивные ценности. Отчасти ее можно вести и выигрывать только внутри самого ислама. В этой связи полезно вспомнить, что экстремизм – это не подлинный голос ислама. Миллионы мусульман по всему миру хотят того же, что и все люди: свободы для себя и для всех остальных. Они считают терпимость добродетелью, а уважение к вере других – частью своей собственной веры.
Речь идет о битве ценностей, битве за прогресс. Следовательно, она не должна быть проиграна. Если мы хотим защитить наш образ жизни, у нас нет другой альтернативы, кроме как сражаться за него. Это может означать только одно – отстаивание наших ценностей не только у себя стране, но и во всем мире. Нам необходимо построить глобальный альянс в защиту глобальных ценностей и действовать через него. Бездействие тоже политика, дающая соответствующие результаты. Но она ошибочна.
Вся стратегия исламистского экстремизма базируется на необоснованном чувстве обиды, которое разделяет людей. В ответ мы должны предложить систему ценностей, которые в достаточной степени привлекательны, чтобы послужить целям объединения. Речь здесь идет не только о безопасности или военной тактике. Все дело – в сердцах и умах людей, в том, чтобы вдохновить и убедить их, продемонстрировав им все то лучшее, что символизируют наши ценности. Почему мы пока не добились успеха? Потому что мы недостаточно энергичны, последовательны и основательны в борьбе за те ценности, в которые верим.
Сказанного достаточно, чтобы стало очевидно, как много предстоит сделать. Убедить западную общественность, в чем природа настоящего конфликта, – задача трудная уже сама по себе. Но нам еще нужно помочь современным умеренным, центристским силам исламского мира нанести поражение реакционным оппонентам.
Нам предстоит доказать, что наши ценности – не западные, и тем более не американские или англосаксонские; они принадлежат всему человечеству, носят универсальный характер и должны стать правом для гражданина мира.
На нас ополчились целые отряды ярых ненавистников. Но гораздо больше людей, которые не испытывают к нам ненависти, но сомневаются в наших мотивах, доброй воле и беспристрастности. Именно они могли бы разделить с нами наши ценности, однако им кажется, что мы и сами придерживаемся этих ценностей лишь избирательно. Следовательно, нам предстоит переубедить их, довести до сведения этих людей, что дело касается в равной степени правосудия и справедливости, безопасности и процветания.
Вот почему целый ряд ключевых вопросов не только ждут своего решения в важной для нас сфере национальных интересов, но и являеются для нас серьезным тестом на приверженность глобальным ценностям. Если мы верим в справедливость, как мы можем допускать, чтобы ежедневно погибали 30 тысяч детей, хотя их смерть можно предотвратить? Если мы верим в нашу ответственность перед будущими поколениями, как мы можем быть равнодушны к деградации планеты? Как мы можем быть сопричастны к глобальной торговой системе, которая основана на несправедливом товарообмене? Как мы можем принести мир на Ближний и Средний Восток, не решив палестино-израильскую проблему?
Везде, где люди живут в страхе, оставив надежду на продвижение вперед, нам следует принять их сторону, солидаризируясь с ними, будь то в Мьянме, Северной Корее, Судане или Зимбабве. Нам следует протянуть руку помощи всем тем странам, которые находятся в процессе демократического развития.
Во имя достижения указанных целей необходимо вести активную внешнюю политику, направленную на привлечение к сотрудничеству, а не на изоляцию. Это недостижимо без прочного альянса с Соединенными Штатами и Европой в его основе. Но на необходимом нам альянсе дело не заканчивается, все только начинается.
Позвольте мне высказаться без обиняков. Я не всегда соглашаюсь с Соединенными Штатами. Иногда наша дружба переживает трудные моменты. Однако распространение антиамериканских настроений кое-где в Европе является безумием, особенно в свете долгосрочных интересов будущего мироустройства, в которое мы верим. Опасность не в том, что США слишком активно вовлечены в мировые проблемы. Опасность в том, что Вашингтон может развести мосты и отдалиться от этих проблем. Мир нуждается в их вовлеченности. Мир хочет их вовлеченности. Реальность такова, что без Соединенных Штатов нельзя ни решить, ни даже приблизиться к решению ни одной из тех проблем, которые нас одолевают.
НЕ ТОЛЬКО БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня очень важно понять, что наши злободневные темы не ограничиваются вопросами безопасности. Существует риск разделения глобальной политики на «жесткую» и «мягкую», при котором «жесткие» меры принимаются в отношении террористов, а с бедностью и социальной несправедливостью ведется борьба главным образом с помощью «мягких» кампаний. Такой разрыв опасен, поскольку взаимозависимость уравнивает все эти проблемы в правах. В том-то все и дело, что они взаимозависимы. Ответ терроризму – в универсальном применении глобальных ценностей; при этом на бедность и социальную несправедливость можно ответить тем же самым способом. Вот почему отстаивание глобальных ценностей следует осуществлять не избирательно, а вникая во все вопросы глобальной повестки дня.
Нам необходимо с новой энергией взяться за мирное урегулирование между Израилем и палестинцами – и сделать это решительно и углубленно. Его значение для более широкой проблемы Ближнего и Среднего Востока и борьбы внутри ислама выходит за пределы исправления бедственного положения палестинцев. Урегулирование могло бы стать реальным, ощутимым доказательством того, что различные религии и культуры способны сосуществовать и в регионе, и в мире. Это не только отнимет у реакционного ислама один из его наиболее эффективных и взрывных лозунгов, но и окончательно подорвет основы его идеологии.
Мы должны бороться с губительными последствиями бедности, голода, болезней и конфликтов путем наращивания гуманитарной помощи и активных действий, особенно в Африке. До председательства Великобритании в группе ведущих индустриальных держав «Большой восьмерки» в 2005 году проблемы Африки и изменения климата не входили в число первоочередных в политической повестке дня Лондона, тем более на международной арене. Теперь же положение изменилось. Этим в немалой степени мы обязаны усилиям миллионов людей, вдохновленных кампаниями «Make Poverty History» («Пусть бедность уйдет в прошлое») и «Live 8» (благотворительные концерты, прошедшие в ноябре в странах «Большой восьмерки». – Ред.), которые сыграли чрезвычайно важную роль в деле мобилизации гражданского общества. Но то, что данные темы занимают сейчас верхние строчки повестки дня, не означает, что они не рискуют снова легко переместиться вниз.
Нам следует позаботиться о том, чтобы этого не произошло. Наш долг – продолжать мобилизацию ресурсов и прикладывать усилия к тому, чтобы превратить обязательства 2005-го в реальные действия. Могу засвидетельствовать: когда африканские правительства по-настоящему проявляют приверженность делу прогресса, народы континента вполне поддерживают их усилия. Именно поэтому, каким бы отчаянным ни выглядело положение и какими бы непреодолимыми ни казались препятствия, мы должны сохранять оптимизм и верить, что прогресс реально достижим.
Следует активизировать торговые переговоры. Очевидно, что на кон поставлена наша решимость бороться с бедностью на планете и оказывать поддержку развитию. Кроме того, на чашу весов брошена сама идея многосторонних действий для достижения общих целей. Если мы окажемся неспособны обеспечить на должном уровне проведение раунда торговых переговоров, когда этого, безусловно, требуют и наши долгосрочные национальные, и широкие международные интересы, это может привести к провалу с многочисленными неблагоприятными последствиями. Политика сельскохозяйственного протекционизма в Европе – порождение прошлой эпохи, и пришло время положить ей конец. Однако перемены в рамках одной лишь Европы ни к чему не приведут. Соединенные Штаты также должны раскрыть свои возможности. То же самое касается Японии. Чтобы сделать более доступными несельскохозяйственные рынки, мы рассчитываем на лидерство со стороны Бразилии и Индии. Нам следует также договориться о пакете мер развития для беднейших стран, который включает 100-процентный доступ к рынкам и помощь в развитии торговли.
Наконец, мы взываем ко всему миру о необходимости сосредоточить усилия на угрозе изменения климата. Будущие поколения не простят нас, если мы не обратим внимание на деградацию и загрязнение нашей планеты. От нас зависит, будет ли выработана четкая и стройная система действий с измеряемыми результатами, в которой примут участие все основные игроки и которая будет направлена на то, чтобы стабилизировать концентрацию парниковых газов и температуру планеты. Убежден, что четко поставленная цель и отлаженная система действий помогут стимулировать столь необходимую нам технологическую революцию. Жизненно важно также вселить в бизнес чувство уверенности для инвестиций в более чистые технологии и сокращение выбросов в окружающую среду.
Соединенные Штаты стремятся к созданию низкоуглеродной экономики, осуществляют крупные капиталовложения в чистые технологии, заинтересованы в существенном росте Китая и Индии. Мир готов к новому старту. Вашингтон призван возглавить этот процесс.
За девять лет на посту премьер-министра я не стал меньше идеалистом или больше циником. Просто я все больше убеждаюсь в том, что различие между внешней политикой, движимой ценностями, и внешней политикой, движимой интересами, некорректно. Глобализация порождает взаимозависимость, а последняя влечет за собой необходимость общей системы ценностей, без которой она не будет работать. Идеализм, таким образом, превращается в реальную политику.
Само по себе это не означает, что принятие решений в нашем суровом мире временами не будет приводить к неудачам, недочетам, противоречиям и лицемерию. Но что действительно важно, так это то, что духовное начало человека, от которого зависит прогресс человечества, таит в себе надежду на будущее человечества.
Именно в этом смысл моего утверждения, что эта борьба – борьба за ценности. Наши ценности служат нам ориентиром, олицетворяющим прогресс человечества на протяжении веков. На каждом этапе нам приходилось отстаивать их. И в преддверии новой эры наступило время снова вступить за них в схватку.

Виражи переходного периода
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2006
Л.М. Григорьев – президент Института энергетики и финансов. М.Р. Салихов – старший эксперт Института энергетики и финансов.
Резюме За пятнадцать лет независимости страны, возникшие на месте СССР, добились различных результатов. Отчасти это было связано с неодинаковыми стартовыми условиями, однако решающую роль играло поведение национальных элит. Именно на них лежит ответственность за сегодняшнее состояние бывших союзных республик.
После распада Советского Союза и образования пятнадцати новых государств миновало не просто 15 лет, а целая эпоха.
Развитие вновь образовавшихся республик определялось не только стартовым уровнем экономики и структурой активов. Какие цели были поставлены, какими ресурсами страны располагали, что из мирового опыта было воспринято, какие инструменты применялись – все это повлияло на характер политических и социально-экономических процессов. За решение ключевых национальных проблем – по сути, за успех и благосостояние своих народов – ответственность несут новые элиты. Очень многое зависело от их способности обеспечить социальный мир, стабильность и предсказуемость макроэкономической политики, создать адекватные правовые институты и – в особенности – гарантировать права собственности. То есть речь шла о мерах, способных снизить внутренние политические, правовые, административные издержки трансформации и развития.
Полутора десятилетий достаточно, чтобы судить о первых итогах. Мы пытаемся создать рамочный подход, который помог бы осмыслить результаты, критически важные события периода, проанализировать причины успеха или трудностей развития, поставленные и достигнутые цели трансформации, преимущественно в сфере экономики.
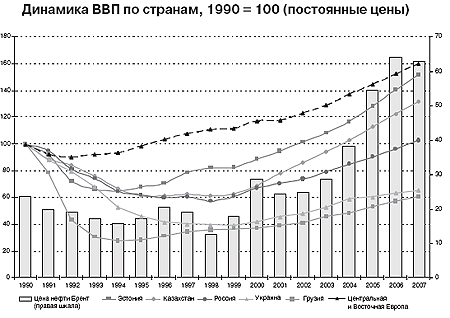
Источник: UNSD, IMF (прогноз ВВП), EIA (прогноз цен на нефть)
СЛОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
Все республики, выделившиеся из состава СССР, столкнулись с проблемой тройного перехода. Во-первых, от советского государства к демократии, во-вторых, от плана к рынку и частной собственности и, в-третьих, от пребывания в составе большой страны к самостоятельной государственности.
Сейчас уже очевидно, насколько несхожими были пути пятнадцати стран и сколь различными оказались их результаты на конец 2006 года (см. график). Общей проблемой стали распад хозяйственных связей, появление таможенных границ, исчезновение гарантированного спроса на продукцию. Естественно, пострадала торговая сфера – тем значительней, чем менее диверсифицированным было хозяйство страны. Однако нельзя утверждать, что для всех новых постсоветских государств крах СССР явился одинаковым по силе и характеру ударом.
Даже внутри Российской Федерации стремительный распад хозяйственных связей весьма по-разному сказался на регионах. Острый кризис обусловил и конвульсивный характер формирования новых правил, и неблагоприятный фон для собственно базисных реформ общества и экономики. В начале 1990-х в основном и произошло стремительное формирование комплекса институтов частной собственности, появились конкуренция и другие ключевые институты рынка, как формальные, так и неформальные. Эти качественные различия в институтах – критический элемент трансформации, во многом определивший последующий ход реформ и поведение экономических агентов.
В короткий (примерно 1991–1994 годы) промежуток времени новые страны одновременно пережили несколько разрушительных параллельных процессов. Распад «плановых связей» предприятий, нанесшее серьезный ущерб внешнеторговой системе (второй подобного рода шок после исчезновения Совета экономической взаимопомощи). Тяжелейший бюджетный кризис. Очень глубокий спад в промышленных республиках и регионах постсоветского пространства – России и Украине. Экономический кризис сопровождался гиперинфляцией, дезориентацией и сужением возможностей хозяйственных руководителей, что стимулировало последних к фактическому установлению контроля над предприятиями в своих интересах. На этом фоне и в обстановке повышенных эмоций, связанных с обретением независимости и формированием элит, произошли вооруженные конфликты, появились беженцы – первые кандидаты в трудовые мигранты.
В начале 1990-х во всех странах, образовавшихся на территории бывшего СССР, фиксируются и резкое падение экономических показателей, и утрата части производств. Наиболее глубоким падение ВВП оказалось в Грузии, что, видимо, связано с особенностями экономической политики и территориальными конфликтами, так как, судя по начальным показателям этой страны, она имела хорошие возможности.
Во второй половине 1990-х почти во всех бывших союзных республиках наметилась слабая экономическая стабилизация. Все государства Балтии перешли к фазе роста вместе со странами Центральной и Восточной Европы еще к 1995-му, тогда как Россия и большинство других постсоветских стран задержались в развитии до конца века. Важнейшим фактором поддержки был экспорт в Россию, рост которого во многом определялся искусственно завышенным курсом рубля, служившим достижению «магической» макростабилизации.
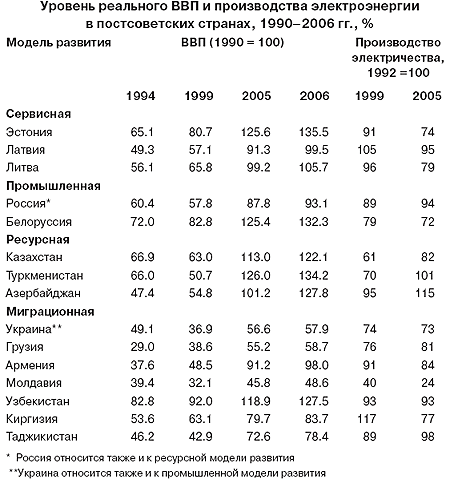
Источник: Статистический комитет СНГ, МВФ
Практически все бывшие республики Советского Союза унаследовали от него довольно высокий уровень грамотности населения, массового образования и здравоохранения. Исследование, проведенное ооновским Комитетом по политике в области развития в 2002 году в отношении восьми стран СНГ, показало, что эти страны не соответствуют статусу «наименее развитых» только по социальным показателям. Но почти все они могли быть включены в эту группу по уровню ВВП на душу населения (менее 800 долларов) и индексу неустойчивости (концентрация экспорта).
Транзиционный кризис имел различную структуру и глубину, неоднозначно воздействовал на экономику предприятий и население соответствующих стран. Требуется специальный анализ, чтобы определить, в какой мере глубина транзиционного кризиса объективно определялась стремительными темпами распада, а в какой – субъективными ошибками элит новых государств.
Характер промышленного кризиса был задан исходной отраслевой структурой экономики. Больше других пострадали обрабатывающая промышленность и регионы, где она концентрировалась. Быстрый и глубокий спад переживали машиностроение (особенно оборонного характера), легкая промышленность.
Ситуация в сырьевых отраслях складывалась несколько лучше. Ожидаемыми жертвами бюджетного кризиса стали образование, здравоохранение и наука. В силу острой (и зачастую субсидированной) конкуренции из-за рубежа и снижения уровня технической оснащенности сельскохозяйственного сектора не произошло существенного подъема в аграрном секторе. Развитие торговли, транспорта, связи и жилищного строительства по мере роста экономики было предсказуемо. Фактически во время переходного периода резко изменилась структура экономики: выход из кризиса определялся конъюнктурой и способностью к развитию сохранившихся отраслей хозяйства, а также развитием сферы услуг.
На большинство стран СНГ значительное положительное влияние оказали доходы гастарбайтеров. Их средства, переводившиеся из РФ и государств – членов Европейского союза на родину, использовались для целей экономического развития. Роль России поддерживалась свободным доступом на ее внутренний рынок и свободным движением капиталов на постсоветском пространстве.
Судя по динамике ВВП, тяжелый транзиционный кризис так и не преодолен полностью на всей территории бывшего СССР, хотя начало XXI века ознаменовалось значительным ростом в большинстве стран региона (см. таблицу 1). Производство и потребление электроэнергии как контрольный показатель развития указывает на аналогичную динамику. После тяжелого кризиса большинство стран с переходной экономикой вышли на траекторию роста, хотя не все восстановили даже прежний уровень ВВП.
Сам по себе рост ВВП не обязательно свидетельствует об успехе экономической трансформации. Вопрос в том, как скоро и за счет чего страна этого достигает: переходит ли она к модернизации, может ли задействовать свои основные конкурентные преимущества, свой человеческий капитал? В какой-то степени это проблема цели – что, собственно, элита и общество видят в конце туннеля. Россия представляет себя не столько экспортером энергоресурсов, сколько интеллектуальной державой. Так что можно смело сказать: в нашем случае кризис позади, а модернизация еще только начинается.
РОЛЬ РОССИИ И ЕС
Все эти пятнадцать лет Российская Федерация остается для большинства стран на постсоветском пространстве важным рынком сбыта, источником как сырья и энергоносителей, так и частных капиталовложений, сферой приложения избыточных трудовых ресурсов. Из Европейского союза поступали промышленные товары; туда же мигрировала рабочая сила: из СНГ в целом преимущественно «синие воротнички», а из России – интеллигенция.
Перепады в российской экономической политике оказали большое влияние на соседей. Некоторая стабилизация в России в середине 1990-х завершилась финансовым крахом. Для торговых отношений со странами СНГ, Балтии и бывшего Совета экономической взаимопомощи последствия дефолта были чрезвычайно тяжелыми. Финансовые потрясения и четырехкратная номинальная (двукратная реальная) девальвация рубля поставили соседей в весьма трудное положение. Они были вынуждены переориентироваться на другие рынки, в первую очередь Евросоюза. Крупные западные экспортеры (например, мяса) смогли удержаться на российском рынке, только радикально снизив цены. Доля России в региональной торговле уменьшилась.
Время после дефолта характеризуется растущим объемом российской экономики и ее импортных возможностей за счет как общего роста, так и нового укрепления рубля, который в 2006 году превзошел уровень июля 1998-го. Быстрый экономический рост в России в 2003–2005 годах создал новую ситуацию для экспортеров товаров и особенно труда из стран СНГ. За семь лет в России поднялся спрос на рабочую силу и товары, происходит поиск сфер приложения российского капитала, не находящего себе применения внутри страны.
В ЕС застой 2001–2003-х сменяется в последние годы оживлением, позволяя увеличить экспорт в этот регион и повысить спрос на внешнюю рабочую силу, что закрепляет переориентировку экономических связей. Вступление 10 государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в Европейский союз в 2004 году предоставило им более благоприятные условия для конкуренции на европейском внутреннем рынке.
Структура экономических связей в Восточной Европе буквально за семь лет претерпела еще один значительный поворот. При затяжном кризисе в России логика развития толкала страны ЦВЕ и СНГ к наращиванию товарного экспорта в государства – члены Евросоюза, вступлению в ЕС для улучшения позиций своей рабочей силы (легализация мигрантов), притока капиталов. Россия оставалась важным рынком для промышленности невысокой степени обработки и источником не слишком дорогих энергоресурсов.
Взлет энергетических цен является важной проблемой для стран ЦВЕ и СНГ, точнее, для их торговых балансов, бюджетов, администрирования внутренних энергосистем, особенно в части сбора платежей за энергию. Оказалось, что экспорт этих государств должен вновь переориентироваться на Россию для покрытия платежных балансов, так как переводов гастарбайтеров не всегда хватает. Отсюда «энергетическая» и политическая напряженность в отношениях соседей с Россией, чего не наблюдается, скажем, при импорте теми же странами нефти по высоким мировым ценам.
ГРУСТНАЯ ДЕМОГРАФИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Тройная трансформация составляла главное содержание прошедшего пятнадцатилетия. Второй по значимости (и столь же драматический) фактор социальной жизни – массовые обеднение и отрыв людей от мест проживания, семей и работы, что привело в целом ряде стран к масштабной трудовой миграции и эмиграции. Мигранты теряли в социальном статусе, сужали сферу культурного развития в своей стране и, как правило, не могли найти работу по специальности на чужбине. Огромные пласты человеческого капитала были потеряны так же, как и производственные активы.
Мировая экономическая и социальная наука бессердечно отнеслась к миллионам простых людей, сорванных с насиженных мест распадом СССР и крахом советской системы. Если на положение малых народов в черте их традиционного обитания распространяются международные конвенции и условия кредитования стран, то миллионы перемещенных граждан в результате социально-политических катаклизмов воспринимаются лишь как трудовые мигранты.
Образование и квалификация выходцев с постсоветского пространства превышали уровень, свойственный традиционным трудовым мигрантам. Интеллигенция, рабочие со средним образованием в целом понимали характер процессов, приведших их в положение гастарбайтеров. Однако едва ли они предполагали, что великое трудовое перемещение восточноевропейцев в Европейский союз и с постсоветского пространства в Россию коснется жизни, как минимум, одного-двух поколений, причем для многих – без возврата на историческую родину.
Транзиционный кризис 1990-х совпал со вступлением большей части стран в этап сокращения рождаемости. (Данное явление характеризует сегодня демографическое состояние всей Европы, в то время как, к примеру, в центральноазиатских странах и Азербайджане численность населения, напротив, быстро возрастает.) Россия смогла поддержать общий уровень численности своего населения за счет миграции, хотя ее демографические показатели «плохи, как в Италии». Общее сокращение количества жителей РФ к 2005 году оказалось по абсолютной величине немногим выше, чем в Украине (5,5 млн против 4,9 млн). За пятнадцать лет Украина потеряла каждого десятого, а Грузия – каждого пятого (!) жителя (см. таблицу 2).
Разумеется, сокращение численности населения несколько способствовало снижению уровня безработицы, но увеличивало нагрузку на работающих, тем более что массы работоспособных лиц, в том числе молодежи, мигрировали. Статистику работающего населения из республик бывшего СССР следовало бы вести по трем категориям: на родине, в Евросоюзе и в России. Наша страна почти сохранила экономически активное население: утрата 2 миллионов по переписям, скорее всего, с избытком компенсирована нелегальной иммиграцией. Молдавия и аграрные районы Украины, Азербайджан и Грузия потеряли огромные массы активной рабочей силы. Здесь сказались большие возможности миграции из Молдавии в страны ЕС через Румынию, тогда как грузинская миграция более ориентирована на Россию. Украинская миграция, видимо, районирована внутри страны: западные области Украины – на Запад, центральные и восточные – в Россию.
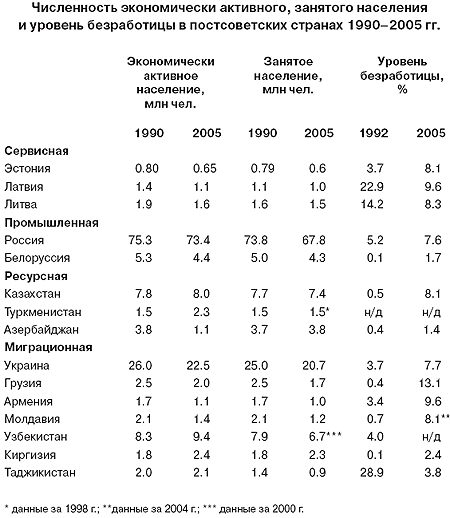
Источник: ILO, Euromonitor, Статистический комитет СНГ, расчеты ИЭФ
В странах Европейского союза выходцы из бывшего СССР конкурируют с избыточной польской, литовской рабочей силой, выходцами с Балкан, из Африки и пр. Заработок выше, но куда серьезнее языковой и административный барьеры и трудности адаптации. Более образованная рабочая сила, в меньшей степени обремененная языковыми проблемами, зачастую стремится остаться на постоянное жительство. Страна-донор тем самым навсегда теряет человеческий капитал, незаменимый для дальнейшего развития.
Для Евросоюза такая ситуация выгодна, поскольку издержки предприятий и государства по найму этой рабочей силы все равно намного ниже, чем при найме коренных жителей. В России ситуация несколько иная: благодаря открытой границе гастарбайтеры могут сохранять более тесные связи с родными местами, а реинвестирование заработков дома не представляет собой большой проблемы.
Положительные макроэкономические последствия трудовой миграции для ряда стран СНГ ощутимы. На первом этапе денежные переводы просто являются средством борьбы с нищетой семьи, поддерживают уровень личного потребления. Они же позволяют покрывать платежный баланс и обеспечивают приток иностранной валюты для домашней банковской системы. Постепенно гастарбайтеры приходят к тому, чтобы направлять эти доходы не только на поддержку своих родных, но и на жилищное строительство или запуск собственного бизнеса на родине.
Важным элементом миграции стало переселение русских и русскоязычных, а также смешанных семей в Россию. Из многих стран СНГ уехала значительная часть этнических немцев, греков, евреев, что вылилось там в сокращение численности населения и убыль квалифицированной рабочей силы. В ряде новых государств русскоязычное население в первую очередь вытеснялось из государственного аппарата, из сфер промышленности и образования, особенно если новые элиты считали русскую культуру угрозой формированию титульной нации. Нетитульные меньшинства по возможности исключались из приватизации советских активов.
Поскольку и в России население было в основном отстранено от получения долей в советской собственности, контраст оказался не слишком разительным. Проблема потери собственности при переезде в Россию свелась к «квартирному» вопросу, так как другие активы практически нигде не были доступны на сколько-нибудь широкой основе. Там, где экономические условия оказывались лучше (страны Балтии), чем в остальном поле транзиционного кризиса, меньшинства несли политические и статусные потери (лишение права на участие в голосовании и запреты на профессии), но уезжали не так активно.
Демографические перспективы России на период до 2030 года выглядят не слишком оптимистично, но и не безнадежно с учетом способности привлекать рабочую силу на постоянное жительство или на временную работу (см. таблицу 3). Наихудшие прогнозы касаются Украины, тогда как численность населения центральноазиатских стран и Азербайджана будет расти, создавая потребность в рабочих местах и ресурсы для эмиграции. Балтийские государства уже сейчас начинают испытывать нехватку рабочей силы в силу того, что многие местные жители уезжают в страны ЕС, прежде всего в Великобританию и Ирландию.
России в этой связи важно обеспечить надлежащие (в особенности в культурном и административном аспекте) условия существования приезжей рабочей силы из соседних государств. Если наша страна не сможет в обозримом будущем платить мигрантам так же много, как государства – члены Европейского союза-15, то она могла бы стать для них хотя бы нормальным местом для жизни и работы, а не просто временным источником средств к существованию. При продолжении экономического роста одновременно в Евросоюзе и России – особенно при высоких ценах на энергоносители – конкуренция за рабочую силу из стран СНГ будет обостряться в течение нескольких лет.
МОДЕЛИ ВЫХОДА ИЗ ТРАНЗИЦИОННОГО КРИЗИСА
Итоги пятнадцатилетнего переходного периода не слишком впечатляют. Россия выйдет на 100 % ВВП 1990 года только в 2007-м, так что 17 лет развития потеряно. После тяжелейшего кризиса, длившегося десять лет, стало очевидно, что невозможно быстро интегрироваться в мировую экономику, сохраняя все основные отрасли хозяйства (особенно промышленность), прежний уровень жизни.
В большой степени выбор модели дальнейшего развития уже определен, вопрос состоит в том, чтобы проводить последовательную и эффективную политику по реализации целей и фактических возможностей страны (см. таблицу 4). Разумеется, все классификации условны и все страны обладают существенными индивидуальными особенностями, однако мы считаем возможным выделить на постсоветском пространстве четыре сложившиеся модели вхождения в рыночную (мировую) экономику:
а) миграционную,
б) промышленную,
в) ресурсную,
г) сервисную.
Миграционная модель хорошо известна из истории раннего капитализма: 100–150 лет назад она привела крестьян в город и превратила их в промышленных рабочих. Модель имеет несколько особенностей: доходы мигрантов поступают прямо в семьи, минуя государственные бюджеты, но заработанная валюта используется для поддержания платежного баланса. Привлечение иностранного капитала – при дешевизне рабочей силы – ограничено проблемами делового климата, а также оттоком квалифицированных кадров. Проблемы данной модели – как перейти к развитию дома при ограниченных финансовых возможностях и потере человеческого капитала. Экономический прогресс постепенно обеспечивает рост благосостояния и снижение уровня бедности, но медленно восстанавливает уровень развития страны.
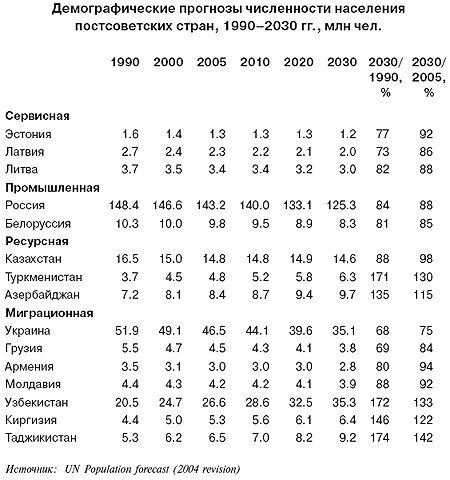
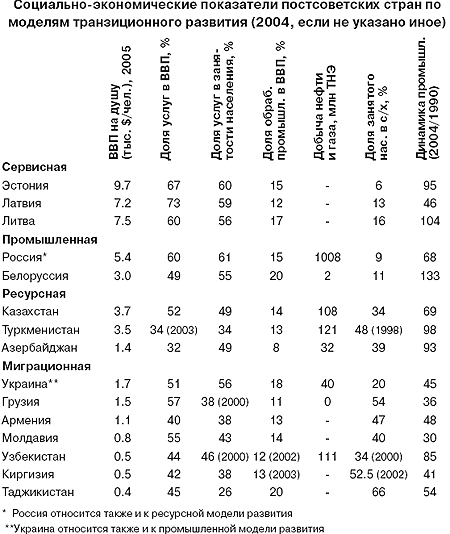
Источник: Статистический комитет СНГ, WDI, WEO IMF, Eurostat, расчеты ИЭФ
Возврат к миграционной модели связан с внезапной деиндустриализацией и ростом конкуренции с иностранным импортом, обеднением населения и поиском возможностей трудоустройства за границей.
Данное явление широко распространено на постсоветском пространстве. Внутри России граждане, как правило, перемещаются с востока страны в столичные либо южные регионы (в частности, в Краснодарский край). Миграция рабочей силы в основном идет в Россию и Казахстан из Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Молдавии, а также из западных и центральных областей Украины.
Средняя оценка денежных переводов из России в страны СНГ колеблется в пределах 10–12 млрд долларов, хотя легально переводится небольшая часть средств. Россия выступила для них таким же источником средств, как США для Латинской Америки, Германия для Балкан и Турции, Франция для Северной Африки, а Саудовская Аравия и другие страны-нефтеэкспортеры для Египта, Пакистана, Палестины и др. Именно эти мелкие, но бесчисленные переводы денежных средств, честно заработанных сорванными с места людьми, а не финансовая поддержка правительств или даже капиталовложения бизнеса оказали решающее влияние на стабилизацию экономической ситуации и переход к росту на постсоветском пространстве.
Грузии и Молдавии, а также части Украины сохранить конкурентоспособные промышленные активы в основном не удалось. Большая часть доходов поступает от гастарбайтеров, услуг, транзита и пр. Программа интеграции этих стран в мировую экономику заключается в том, чтобы, во-первых, за счет транзитных доходов, грантов, займов поддерживать устойчивость государственных расходов (и правящей элиты). Во-вторых, развивать первичный сектор, услуги, простейшую переработку и малый бизнес,
привлекать иностранный капитал, постепенно улучшать деловой климат в расчете на средних инвесторов и реинвестирование денежных переводов гастарбайтеров.
Промышленная модель предполагает более высокий предшествующий уровень индустриализации и попытки (обычно безуспешные) сохранить промышленность. Она означает, что были предприняты хотя бы какие-то усилия с целью сохранить часть крупных предприятий как средоточие человеческого, управленческого и производственного капитала, необходимого для возрождения экономики.
Такая модель, строго говоря, подразумевает «сопротивление деиндустриализации» и позволяет обеспечить несколько бЧльшую устойчивость рынков и сохранить основные советские производственные активы. Она наиболее трудна для реализации, но дает шанс сохранить человеческий капитал, а не экспортировать его. Основная трудность – реструктуризация предприятия, адаптация к открытой экономике и конкуренции. Максимальную остроту приобретают проблемы приватизации, прав собственности, формирование системы корпоративного контроля и управления.
Этим путем следовали часть развитых российских регионов, восток Украины, Белоруссия, а также Приднестровье, оказавшееся анклавом между аграрной частью Украины и аграрной Молдавией.
Ресурсная модель имеет свои преимущества и недостатки. При высоких ценах на экспортные ресурсы государство и отдельные отрасли получают большие доходы. Азербайджан очевидным образом вынужден идти по пути использования доходов от нефти и транзита. Казахстан предпринимает огромные усилия, чтобы сохранить науку и промышленность, адекватно использовать нефтяные доходы и войти в мировую экономику как развитая страна.
Трудности использования нефтяных доходов для нужд развития хорошо известны, с этой задачей справились всего несколько стран, причем это развитые государства с мощными рыночными институтами (Норвегия, Великобритания, Нидерланды). «Голландская болезнь» порождает серьезные трудности для обрабатывающих отраслей и для несырьевых регионов, а также создает зависимость от мировой ценовой конъюнктуры. Эта модель решает проблемы выхода из кризиса, но сама является источником проблем для модернизации экономики.
Сервисная модель характерна для стран, имевших на момент распада СССР сравнительно высокий уровень экономического развития, а также обладавших естественными конкурентными преимуществами (в первую очередь географическими), которые позволили развиваться сервисным секторам и привлекать иностранный капитал. Так, балтийские страны сохранили и эффективно используют старые активы: достаточно упомянуть Таллинский порт, латвийские транзитные мощности и пр. На базе схожих моделей начинают развиваться некоторые российские регионы, особенно в прибрежных областях.
Четыре модели экономического развития сосуществуют, взаимодействуя на широком транзиционном поле бывшего СССР как друг с другом, так и с огромным рынком Европейского союза. Зачастую мы наблюдаем комбинацию элементов различных моделей. Попытка опереться на производственный и человеческий капитал предполагает создание крупных и конкурентоспособных компаний. Они выходят далеко за пределы локальных рынков, сталкиваются с полноценной и беспощадной конкуренцией. Конкурентоспособность в их случае означает не только и не столько снижение издержек производства, повышение качества продукции и дисциплины выполнения контрактов. Требуется то, что приходит с десятилетиями опыта: понимание процессов на глобальных рынках, осознание стратегий развития отраслей, логики финансирования, слияний и поглощений.
В условиях мирового и регионального подъема неизбежно возникает конфликт между реальным состоянием экономики и общества и устремлениями граждан. Если в первое десятилетие переходного периода общий кризис экономики исключал большие надежды на будущее, а новые элиты только осваивались во главе независимых государств, то в начале XXI века ситуация изменилась.
Подъем в Европе и эффект присутствия массы гастарбайтеров в странах ЕС и в России, активность российского бизнеса контрастируют с ситуацией во многих странах – бывших республиках СССР. На 2006 год экономические институты этих стран устоялись в рамках сложившихся моделей, перспективы вступления в Евросоюз в обозримом будущем невелики, ускорение темпов роста возможно, только если сохранятся рынки сбыта либо в случае поступления существенных финансовых ресурсов извне, в том числе и за счет денежных переводов от гастарбайтеров. Это трудная задача, которая предполагает соответствующее внешнеполитическое обеспечение, поддержание высокого качества институтов собственности и делового климата.

Что значит быть британцем
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2006
Гордон Браун – министр финансов Великобритании. Данный материал представляет собой сокращенный текст выступления автора на новогодней конференции Фабианского общества, посвященной теме «Кем мы хотим быть? Будущее британства» (январь 2006 г.).
Резюме Чем определяется британская идентичность – общими ценностями либо только национальной принадлежностью? Но если понимать, что именно общие ценности определяют, что значит быть британцем в современном мире, то можно строить новые отношения между государством, сообществом и индивидом.
Что означает британство? Нужно ли его сохранять и почему? Какая цель сплачивает нас как нацию? Ответы на эти вопросы необходимы, чтобы решить практически любую существенную проблему, стоящую сегодня перед Великобританией.
Хотя мы были и остаемся страной разных народов и тем самым множественных идентичностей (уроженец, к примеру, Уэльса может быть и валлийцем, и британцем, и англичанином, и к тому же мусульманином – скажем, выходцем из Пакистана либо из какой-то африканской страны), но всегда существует опасность того, что из-за неуверенности в себе люди будут стремиться сузить собственную идентичность до рамок, которые уходят корнями в типичные для XIX столетия представления о происхождении, расе и территории. В действительности же мы, британский народ, должны черпать огромную силу в гордости за нашу британскую идентичность и за наш союз, который силен благодаря нашим общим ценностям и их воплощению в нашей истории и наших институтах.
Британство – это не просто предмет академических споров, значимый лишь для историков, комментаторов и «пустозвонов» в СМИ. Если несколько лет тому назад лишь меньше половины наших граждан (46 %) отчетливо ассоциировали себя с британством, сегодня таких насчитывается уже две трети (65 %). При этом жители Британии относятся к своей стране с бЧльшим патриотизмом, чем население практически всех остальных европейских стран. Едва ли не половина британцев уверена: если не будет пропагандироваться британство, обществу грозит раскол.
СВОБОДА, СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Из волн завоеваний и миграций, сменявших друг друга на протяжении двух тысячелетий британской истории, из ассимиляционных процессов и разнообразных торговых партнерств, из уникально богатой, открытой и устремленной вовне культуры возник четкий набор ценностей, которые повлияли на британские институты.
Необходимость найти способ сосуществования в многонациональном государстве породила терпимость, а затем и стремление к свободе. Британия, писал Вольтер, подарила миру идею свободы. В XVII веке Джон Мильтон утверждал в поэме «Потерянный рай»: «Если не все равны, то все рЗвно свободны». Вспомните стихи поэта Уильяма Вордсворта о «потоке британской свободы»; убежденность критика и публициста Уильяма Хэзлитта в том, что у нас нет и не должно быть «никаких привилегий или преимуществ перед другими нациями, кроме свободы»; Джорджа Оруэлла, для которого главными понятиями при определении Британии являлись «справедливость», «свобода» и «порядочность». Парламент мы можем взять где угодно, сказал [ирландский политический деятель] Генри Граттан, а свободу – только в Англии.
Золотая нить свободы тянется сквозь все время существования Британии – начиная с того далекого дня в 1215-м, когда король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей на лугу Раннимид. Потом были Билль о правах (1689), утверждение – впервые в истории человечества – власти парламента над королем, формирование способности индивида твердо противостоять тирании, зарождение идеи о подотчетном народу правительстве, развившейся в идею наделения граждан правом контролировать собственную жизнь.
В XIX веке Британия возглавила мировое движение за уничтожение работорговли, в 40-е годы прошлого столетия она твердо – вновь во имя свободы – противостояла фашизму.
В эту драгоценную нить вплетены также бесчисленные волокна обычных и повседневных усилий жителей наших деревень, поселков и городов, действия и достижения простых людей, объединенных общим чувством долга и ответственности. Людей, которые своекорыстию предпочитают солидарность (на чем, собственно, и зиждется лейбористское движение), строят Британию гражданской ответственности, гражданского общества и народовластия, положив в основу фундамента идеи долга и ответственности.
Мы восхищаемся Британией множества добровольных ассоциаций, Британией обществ взаимопомощи, цеховых профсоюзов, объединений и кооперативов взаимного страхования; Британией церковных организаций и религиозных групп; Британией муниципальных служб – от библиотек до парков; Британией общественных услуг. То есть взаимопомощью, сотрудничеством, социальной ответственностью и сильным гражданским обществом – всем тем, что возникало, как правило, благодаря прогрессивному направлению жизни и мысли Британии. Не своекорыстный индивидуализм, а идеи «активной гражданственности», «добрососедства», гражданской гордости и народовластия лежат в сердце британской истории.
Именно поэтому две трети населения непоколебимо убеждены в том, что британство связано не только с правами граждан, но и с их обязанностями.
В XX столетии пришло осознание того, что в демократической Британии, где население обладает и политическими, и социально-экономическими правами и обязанностями, свобода и ответственность должны и могут существовать только бок о бок со всеобщей справедливостью.
Призыв к справедливости пронизывает всю историю Британии, начиная с первых протестов против введения подушного налога в 1381 году (имеется в виду антифеодальное крестьянское восстание под предводительством Уота Тайлера. – Ред.). Деятель английской революции Томас Рейнборо заявил на Патнейской конференции в 1647-м, что «последний бедняк в Англии имеет те же права прожить свою жизнь, что и великий человек». Согласно опросу общественного мнения, проведенному YouGov в 2005 году, до 90 % британцев считают, что справедливость и честная игра – это очень важные или довольно важные составляющие британства. Более 70 % британцев гордятся нашей терпимостью, ответственностью и справедливостью, вместе взятыми.
В глазах современных британцев справедливость – не только формальное равенство перед законом, но и равенство возможностей. Не случайно 90 % британского населения считают Государственную службу здравоохранения (National Health Service, NHS) положительным символом истинной Британии наряду с монархией, армией и [вещательной корпорацией] BBC. В основе деятельности NHS лежит ключевая ценность – справедливость, что в данном случае подразумевает следующее: граждане должны иметь доступ к медицинским услугам, исходя из своих потребностей, а не из материальных возможностей. Британия, следовательно, добивается наибольших успехов именно тогда, когда у нас есть и сильное гражданское общество, и правительство, приверженное народовластию и действующее на основе принципа справедливости.
Таким образом, современная прогрессивная концепция британства нисколько не сводит его к своекорыстному индивидуализму. Ответственность ассоциируется не с разновидностями патернализма, а с приверженностью максимально сильному гражданскому обществу; справедливость представляется как расширение прав вследствие расширения максимальных возможностей.
Поэтому самым верным средством обеспечения экономического, социального и культурного роста в нынешнем столетии окажется опора (применительно к грядущим проблемам) на ценности свободы, ответственности и справедливости.
Оруэлл правильно высмеивал убеждение старых левых в том, что патриотизм свойствен только правому крылу политического спектра: патриотизм как проявление реакционности, как защита неизменных, никогда не модернизирующихся институтов, как защита чинопочитания и иерархии и, наконец, как неприязнь к иностранцам и своекорыстный индивидуализм.
Но в действительности ценности, на которых основано британство, гораздо в большей степени базируются на прогрессивных идеях, чем на «правой» идеологии. Более того, они являются ключом к следующему этапу нашего прогресса как нации. Поэтому членам нашей партии следует гордиться британским патриотизмом и патриотическими целями, основанными на всеобщих свободе, ответственности и справедливости. Когда нам придется реагировать на глобальные вызовы, эти великие ценности помогут нам осуществить перемены, реформы и модернизацию в согласии с дорогими сердцу британского народа идеями.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА БРИТАНСТВА
Почему же нам так необходимо осознать сущность британства?
Во-первых, оно помогает нам выбрать верный внешнеполитический курс. Например, понимая, что означает британство на нынешнем, постимперском, этапе, мы сможем наладить более тесные связи с развивающимися странами, в частности африканскими.
То же самое относится и к нашим отношениям с Европой. Столкнувшись в 1945 году с относительным экономическим упадком и распадом империи, Британия утратила уверенность и в себе, и в своей роли в мире; она больше не имела твердого представления о том, какой на самом деле должна быть постимперская Британия. В результате слишком многие стали считать, что на европейском направлении нам следует сделать ставку либо на полное слияние, либо на гордую самоизоляцию. И забывали при этом, что отстаивать интересы Британии, будучи членом Европейского союза, можно точно так же, как и в составе НАТО.
Во-вторых, в стремительно меняющемся мире людям, не чувствующим себя в безопасности, необходимы прочные корни, что заставляют нас выработать бЧльшую определенность в отношении того, что есть «британство». Вопрос, по сути, в том, чем определяется наша национальная идентичность – общими ценностями либо только национальной принадлежностью? Поставь мы во главу угла последнюю, и мы окажемся пред лицом риска возвращения к злополучной «проверке крикетом» на лояльность (Норманн Теббит, министр в правительстве Маргарет Тэтчер, придумал печально известный «крикетный тест». В соответствии с ним людей небританского происхождения обязывали приветствовать национальную сборную по крикету в игре против их исторической родины как доказательство того, что они «действительно» принадлежат Британии. – Ред.).
Но если мы ясно понимаем, что именно общие ценности (а не цвет кожи или институты) определяют, чтЧ значит быть британцем в современном мире, мы можем установить куда более высокую планку для обязанностей гражданина в нынешнюю эпоху и более амбициозно формировать новые и современные отношения между государством, сообществом и индивидом. Это облегчит решение непростых проблем, в совокупности связанных с понятием «мультикультурализм». Речь идет о том, каким образом разнообразные культуры, неизбежно отличающиеся друг от друга, могут найти общую цель первостепенной важности, без которой не может процветать ни одно общество.
Реакция британцев на события 7 июля 2005 года была выше всяких похвал. Но нельзя забывать: нашлись же британские граждане – рожденные в Британии и, по-видимому, интегрированные в наши сообщества, – которые были готовы искалечить или убить своих сограждан! Этот факт должен привести нас к вопросу о том, насколько нам удалось уравновесить стремление к этническому разнообразию с очевидной необходимостью интеграции представителей различных народов и культур в наше общество.
В-третьих, если мы хотим добиться успеха Великобритании, обрести способность принимать и преодолевать не только вызовы глобальной экономики, но и грядущие международные, демографические, конституционные и социальные проблемы, в том числе и в сфере безопасности, необходимо возвратиться к нашей истории и вновь отыскать в ней, возродить и применить с учетом требований нашего времени те общие ценности, которые объединяют нас и ставят общую цель.
Британия, очевидно, должна встретить глобализацию, будучи стабильной страной, ориентированной вовне, приверженной научному прогрессу и ценностям образования. Принимая правильные долгосрочные решения, она способна наряду с Китаем, Индией и Америкой явить миру пример грандиозных достижений в эпоху наступающей глобализации.
Но безусловно и то, что лучше справиться с глобальными переменами удастся не тем странам, правительства которых примут правильные долгосрочные решения. Преуспеют прежде всего государства, чьи народы сумеют объединиться и сформировать (на основе общих представлений о вызовах и о том, что необходимо делать) единый и общий взгляд на цель, ради которой они готовы приносить жертвы, и на главные составляющие национального успеха.
Современное чувство патриотизма и осмысление патриотических задач способны мобилизовать и вдохновлять людей в мирное время точно так же, как во время войны осознание общей патриотической цели воодушевляет нацию на трудовой и боевой подвиг. Британский патриотизм, на мой взгляд, основан не на принадлежности к той либо иной национальности или расе и не только на общих для нас институтах, а на непреходящих идеалах, которые формируют наше представление о себе и наших сообществах, – на ценностях, в свою очередь влияющих на развитие наших институтов.
Но как писал в своей книге «Bring Home the Revolution» («Верните революцию домой») обозреватель газеты The Guardian Джонатан Фридленд, в отличие от Америки и большинства других стран, у нас нет Конституции или декларации, где были бы зафиксированы наши задачи как нации. Нет сформулированной миссии, определяющей нашу цель. И нет выраженного словами представления о нашем будущем.
Поэтому нам следует облекать наши цели и приоритеты в более четкую словесную форму. Мы должны яснее формулировать следующую мысль: решение стоящих перед нами проблем зависит от того, сумеем ли мы увидеть общую цель в непреходящих британских идеалах, которые суть творческий дух, изобретательность, предприимчивость, интернационализм, а также приверженность всеобщей свободе, справедливости и ответственности.
ВПЕРЕД ПОД ЗНАМЕНЕМ БРИТАНСТВА!
Я верю, что дебаты, ведущие, надеюсь, к установлению широкого консенсуса относительно сущности британства, станут отправной точкой преобразований, необходимых для того, чтобы привести жизнь в Британии в соответствие с краеугольным камнем этого понятия – принципом всеобщих свободы, ответственности и справедливости. Насыщенная повестка дня таких перемен должна включать в себя следующее:
изменить систему управления страной;
перестроить гражданское общество;
усовершенствовать местное самоуправление;
сформировать серьезное отношение к гражданству;
приступить к работе по интеграции меньшинств в современное британское общество;
всегда и во всем быть интернационалистами.
Если мы допустим чрезмерную централизацию власти, нам не удастся воплотить в жизнь наш идеал свободы для всех. Мы не достигнем ответственности каждого, если не будем поощрять и развивать сильное гражданское общество, и не добьемся справедливости по отношению ко всем, если слишком многие будут чувствовать себя исключенными из процесса принятия решений.
Чтобы идти вперед, Британия во имя свободы должна распустить централизованные институты, которые слишком дистанцированы друг от друга, и передать их полномочия. Во имя ответственности следует поощрять создание сильных местных институтов. Новые способы привлечения британских граждан к принятию жизненно важных решений станут важнейшим фактором обеспечения и свободы, и ответственности, и справедливости. Поэтому нам абсолютно необходимо вновь поставить на повестку дня вопрос о конституционной реформе, которую начали в 1997 году.
В первый же день своего пребывания в должности министра финансов я ограничил исполнительную власть, передав полномочия правительства по установлению процентных ставок Банку Англии. Во время всеобщих выборов я заявил, что есть основания для дальнейших шагов в этом направлении, а именно для рассмотрения новой роли парламента в вопросах объявления войны и заключения мира. Полагаю, что надо ограничить практику патроната, например, при церковных и тому подобных назначениях, чтобы предотвратить любые обвинения в произвольном употреблении власти.
В ходе следующего этапа нашей дискуссии о правах человека необходимо более основательно учитывать типично британскую концепцию о том, что права индивида уходят корнями в понятия ответственности и сообщества. В течение двух столетий характерным для Британии было наличие огромного числа местных клубов, ассоциаций, обществ и предприятий. Нам – и нынешнему, и будущему поколениям – следует наращивать усилия по стимулированию и расширению полномочий новых британских организаций, которые воплощают в себе эти британские ценности.
Современным проявлением британства и нашей приверженности будущему является создание Британской национальной службы общественных работ. Речь идет о вовлечении молодежи в служение своим сообществам и о его вознаграждении. Британия может оказаться первой в мире страной, создавшей современную службу общественных работ. Ответственность всех в сегодняшней Британии означает также вовлеченность бизнеса в благотворительную деятельность, что позволяет трансформировать озабоченность социальными проблемами, присущую и работодателям, и работникам, в эффективные действия, направленные на общественное благо.
Учитывая, что, как я считаю, британский путь заключается в возрождении и укреплении инициативы на местах и взаимной ответственности в гражданских делах, нам нужно упорнее работать над усилением местных институтов. При этом наше правительство уже сделало больше для передачи полномочий, чем любое другое (как, я надеюсь, могут подтвердить Шотландский парламент, Уэльсская ассамблея и Лондонская мэрия).
Подлинно британский подход к представительной демократии, демократии участия должен включать в себя поиск новых способов вовлечения населения в принятие решений. Местные, региональные и даже государственные власти уже экспериментируют в этой сфере: создаются объединенные группы граждан, призванные обсуждать важные вопросы государственной политики.
Необходимо рассматривать дальнейшую передачу полномочий Вестминстера с целью оздоровления местного самоуправления. Важно делать акцент на расширении прав школ, больниц и местных служб. Усиление контроля над собственной жизнью будет способствовать реализации индивидами и сообществами их потенциала и устремлений.
Приверженность британским ценностям свободы, ответственности и справедливости предполагает также серьезное отношение к гражданству. Важную роль здесь играют и качество преподавания соответствующих курсов в школах, и церемония вступления в гражданство, и четкое определение обязанностей граждан наряду с их правами, и соблюдение баланса между правом каждого индивида на свободу и необходимостью обеспечения всеобщей безопасности, и, разумеется, установление правильного соотношения между разнообразием и интеграцией.
События 7 июля справедливо прозвучали для всех британцев, включая умеренных членов исламского сообщества, как призыв к борьбе с экстремизмом. С учетом того, что террористы-самоубийцы имеют сообщников в других странах и могут пользоваться Интернетом либо получать инструкции по мобильным телефонам, мы понимаем, что победы над экстремизмом, прибегающим к насильственным акциям, невозможно добиться усилиями на территории лишь одной страны или даже одного континента. Успех придет только в результате глобальных действий с использованием всех возможных средств.
Потребуются меры как в военной сфере, так и в области безопасности; не обойтись и без таких шагов, как обсуждения в СМИ, дискуссии между деятелями культуры и искусства. Придется много поработать над тем, чтобы отделить в глобальном масштабе экстремистов от лиц, придерживающихся умеренных взглядов, при этом многое будет зависеть не только от правительственных структур, но также и от фондов, трастов, организаций гражданского общества и гражданской культуры в целом.
Проникновение в нашу среду терроризма означает, что дебаты о британстве и нашей модели интеграции приобретают сегодня особую злободневность. Я убежден, что наши политики осознаюЂт необходимость уделять больше внимания объединяющим факторам. Вместе с тем они понимают: приветствуя различия, британство не должно превращаться в нечто размытое и невнятное и подразумевать исключительно терпимость к расхождениям, оставляя за скобками национальную идентичность.
Избежать этой опасности мы сможем, опираясь на свою приверженность свободе, ответственности и справедливости. Именно она продиктует меры, способные объединить все группы общества на основе общей цели и взаимосвязанных судеб. Очевидно, на этом пути нам придется преодолевать предрассудки, фанатизм и разжигание ненависти, значительно активизировать усилия как в борьбе с дискриминацией, так и по содействию процессу интеграции в общество. Очень важно уделять больше внимания проблеме нарушения прав при приеме на работу, обеспечить доступ к образованию и активнее бороться с недопустимо высоким уровнем безработицы в районах, населенных преимущественно этническими меньшинствами.
Особый подход требуется к тем, кто не может найти работу либо продолжить профессиональный рост по причине языковых трудностей. Необходимо общенациональное движение волонтеров и профессионалов, выступающих в качестве наставников новых членов нашего общества. И конечно, надо стремиться к расширению обязательного обучения английскому языку.
Что еще способно крепче связать нас друг с другом? Может, стоит подумать о британском эквиваленте американского национального праздника – Дня независимости (4 июля) или, скажем, французского – Дня взятия Бастилии (14 июля)? Возможно, День перемирия либо Поминальное воскресенье наилучшим образом подходят для Дня Британии? (В день перемирия, 11 ноября, Великобритания празднует окончание Первой мировой войны в 1918 году; в ближайшее к нему воскресенье отмечается Поминальное воскресенье. – Ред.). Именно тогда во всех уголках нашей страны с особой силой проявляются память, единство и верность идеям свободы, ответственности и справедливости.
Когда левоцентристы отвернулись от национальной символики, присвоить Юнион Джек попыталась Британская националистическая партия (БНП). Но наш флаг не может быть использован как знак расового деления – он должен, наоборот, символизировать единство, служить средством выражения современного патриотизма. Поэтому надо решительно заявить, что флаг Содружества – знамя толерантности и интеграции; он принадлежит не БНП, а Британии, и его надлежит чтить, а не игнорировать всему Соединенному Королевству.
И нельзя отворачиваться от нашей национальной истории. История Британии должна занять более заметное место в учебных планах – не просто даты, имена и названия, не просто набор разрозненных фактов, а связный рассказ о развитии нашей страны в целом.
Если наша идентичность будет питаться нашими убеждениями, то мы почувствуем себя более уверенными пред лицом сложных проблем в отношениях с остальным миром. Определимся мы с нашими ценностями – и та Британия, которая все еще колеблется в определении своей глобальной роли и по-прежнему подвергает сомнению необходимость интеграции в европейский торговый блок, уйдет в прошлое. Не будет Британии, которая видит свой путь как борьбу против, а не в составе Европы и которая представляет европейский выбор как альтернативу между неучастием и полным поглощением. Вместо Британии, не способной распознать свою лидирующую роль на новом этапе европейского развития, появится новая, глобальная Британия – лидер в мировой экономике. Страна, для которой членство в объединенной Европе будет имеет первостепенное значение, которая поможет реформированной, более гибкой, более ориентированной вовне Европе начать играть более важную роль в глобальном сообществе и (не в последнюю очередь) окажет содействие улучшению отношений между Европой и США.
И разумеется, это будет Британия, указывающая путь к превращению нашей планеты в более защищенное, безопасное и справедливое место. Базируясь на своих ценностях, она станет продвигать не просто списание долга, удвоение гуманитарной помощи и, отражая свою открытость как нации, всемирную свободу торговли. Она предложит новый глобальный подход – универсальное бесплатное школьное образование для каждого ребенка, универсальное бесплатное здравоохранение для каждой семьи, чтобы наиболее богатые государства наконец-то выполнили свои обязательства перед беднейшими.

Глобальная НАТО
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2006
Айво Даалдер – старший научный сотрудник Института Брукингса. Джеймс Голдгайер – профессор политических наук Университета Джорджа Вашингтона и адъюнкт-старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. Данная статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 5 (сентябрь – октябрь) за 2006 год. © Council on Foreign Relations Inc.
Резюме Возрождение глобальной политики после завершения холодной войны заставляет НАТО расширить свое географическое
присутствие и зону операций. На глобальные вызовы современности в состоянии ответить только по-настоящему глобальный альянс.
НОВЫЕ РУБЕЖИ
Превращение Cевероатлантического альянса в глобальную организацию прошло без особой помпы и практически осталось незамеченным. Созданный после Второй мировой войны для защиты Западной Европы от угрозы со стороны Советского Союза, сегодня он призван нести стабильность в другие регионы. При этом расширяются и география, и спектр его деятельности. В послужном списке НАТО за последние годы – миротворческая операция в Афганистане, подготовка иракских сил безопасности, материально-техническое обеспечение миссии Африканского союза в Дарфуре (провинция в Судане. – Ред.), помощь пострадавшим от цунами в Индонезии, жертвам урагана «Катрина» и землетрясения в Пакистане.
Расширение сферы деятельности НАТО – результат новой политической ситуации, сложившейся в мире после холодной войны. Сегодня террористы, взращенные в Эр-Рияде и обученные в Кандагаре, способны где-нибудь в Гамбурге планировать смертоносные атаки на Нью-Йорк. Происходящее в одном конкретном месте может оказать влияние на безопасность, благополучие, жизнь и здоровье людей в любой точке планеты. Альянс пришел к выводу, что лучший, а при определенных условиях и единственный способ защиты от угроз из отдаленных регионов мира – это обезвредить сам источник. Подобная концепция активной обороны зачастую подразумевает комплексное применение силового ресурса: доставку гуманитарной помощи и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов, деятельность по управлению, сдерживанию и разведке в рамках миротворческих операций, профессиональную подготовку местных сил безопасности опытными офицерами. В качестве ведущей международной военной организации, объединяющей целый ряд преуспевающих стран, глубоко заинтересованных в глобальной стабильности, НАТО идеально приспособлена для того, чтобы справляться с такого рода задачами.
С учетом количественной нехватки живой силы США в Ираке и недостаточного участия Европы в операциях, проводимых на удаленных территориях, НАТО с трудом выполняет даже свои текущие обязательства. К тому же при том, что альянс постепенно осознаёт настоятельную потребность силового и гуманитарного вмешательства за пределами Европы, круг его потенциальных членов до сих пор ограничен требованием, чтобы участниками были североамериканские и европейские страны. Это проблема, которую предстоит обсудить на ноябрьском саммите НАТО в Риге. Ее лидеры рассмотрят предложение о переосмыслении роли организации с точки зрения углубления отношений с государствами, не входящими в трансатлантическое сообщество, начиная с таких партнеров альянса, как Австралия, Новая Зеландия и Япония. В основе предстоящих усилий лежит инициатива США и Великобритании по установлению «глобального партнерства» между НАТО и неевропейскими странами в целях расширения диалога с другими крупнейшими демократиями мира. Но это лишь первый шаг. Следующей инициативой должно стать открытие доступа в НАТО всем демократическим странам, готовым и способным помочь организации в выполнении ее новых обязательств. Только глобальный союз государств будет в состоянии справиться с насущными глобальными проблемами.
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
В качестве центральной внешнеполитической задачи на протяжении всего XX века Соединенные Штаты преследовали цель не допустить чьей-либо гегемонии в Европе. Ради этого Америка участвовала в двух мировых войнах на европейском континенте и продолжала стоять на страже в период холодной войны. Трансатлантический альянс, созданный в 1949 году, когда коммунизм представлял реальную угрозу безопасности и стабильности в Европе, сыграл ключевую роль в решении этой задачи. Подписание Североатлантического договора имело двоякую цель. С одной стороны, оно являло собой конкретное обязательство, взятое на себя США, прийти на помощь Европе в случае советских посягательств, а с другой – это был способ убедить шаткие правительства континента противостоять распространению коммунистической идеологии внутри своих стран.
Европейская направленность этого договора подкреплялась статьей 10, согласно которой только европейские страны могут быть членами НАТО. Кроме того, статья 6 ограничивала географию деятельности альянса. Последняя распространялась на территории договаривающихся сторон в Европе либо Северной Америке, алжирские департаменты Франции, территории или острова, находящиеся под юрисдикцией какой-либо из договаривающихся сторон и расположенные в североатлантической зоне севернее тропика Рака, а также на вооруженные силы, суда и летательные аппараты договаривающихся сторон, находившиеся на этих территориях или над ними. В рамках Североатлантического договора было создано сообщество, носящее строго трансатлантический характер; обязательства коллективной обороны не распространялись на колонии и другие подконтрольные территории, расположенные за пределами Северной Атлантики. В период холодной войны число членов организации выросло с 12 до 16: в 1950-х к НАТО присоединились Греция, Турция и Западная Германия, а в 1982 году их примеру последовала Испания.
Спустя 40 лет после основания альянса «железный занавес» пал, и началось воссоединение Европы. НАТО сыграла существенную роль в ее консолидации: инкорпорировала воссоединенную Германию, способствовала завершению кровопролитной войны на Балканах и открыла двери бывшим противникам – странам-членам Организации Варшавского договора. В 1999-м году число членов блока увеличилось до 19 за счет Венгрии, Польши и Чехии, а пять лет спустя достигло 26 после вступления в организацию семи молодых демократий Центральной и Восточной Европы. По мере своего расширения НАТО способствовала сплочению исторически разобщенного континента, установлению на нем мира и демократии.
МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
С возникновением в 1990-х годах новой, единой и свободной Европы стратегическая цель европейской политики США была в основном достигнута. Поэтому бЧльшую часть десятилетия Америка посвятила решению вопроса о том, как правильно распорядиться своей мощью. В Вашингтоне анализировали, какую роль США могут сыграть в предотвращении этнических конфликтов и геноцида, обсуждали вариант использования военного потенциала преимущественно для гуманитарного вмешательства и стабилизации постконфликтных ситуаций. Теракты 11 сентября 2001 года разом положили конец дискуссии. Глобальный характер проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, со всей очевидностью предстал как перед лидерами страны, так и перед обществом в целом.
Эта новая реальность не только радикально повлияла на внешнюю политику Вашингтона, но и коренным образом изменила роль саЂмого успешного в мировой истории альянса. Уже 12 сентября члены НАТО предприняли беспрецедентный шаг, обратившись к положениям договора, касающимся коллективной обороны. В соответствии с ними нападение на одну из стран альянса приравнено к нападению на всех его участников. Сначала администрация Буша отвергала любое непосредственное участие НАТО в военных операциях в Афганистане, но затем сочла его целесообразным, сталкиваясь с необходимостью решения проблем глобальной эры. Обязательность такого участия особенно усилилась после размещения войск в Ираке, когда Америке понадобилась помощь в поддержании безопасности и восстановлении Афганистана. В августе 2003-го в освобожденном от талибов Афганистане под официальный контроль НАТО перешли Международные силы содействия безопасности (МССБ). Действуя поначалу в Кабуле, а также на прилежащих к нему территориях и не подвергаясь особому риску, МССБ постепенно расширяли зону ответственности на «горячие» области юга страны. Военное присутствие НАТО в Афганистане выросло с пяти тысяч в начале операции до сегодняшних девяти тысяч человек. К концу 2006 года планируется довести эту цифру до 15 тысяч.
На данный момент командование операцией в Афганистане далеко не единственный пример деятельности Североатлантического альянса за пределами Европы. Несмотря на внутренние разногласия по поводу Ирака, НАТО обеспечила подготовку 1 500 иракских офицеров и доставку необходимого военного снаряжения местным силам безопасности. Блок организовал воздушный мост для переброски пяти тысяч военнослужащих стран Африканского союза в Дарфур и способствовала ротации размещенных там войск. Альянс также взял на себя подготовку офицеров и техническое содействие миссии Африканского союза в его штаб-квартире в Аддис-Абебе. Соединенные Штаты и их европейские союзники «пришли к пониманию того, что фокус деятельности альянса смещается из Европы в сторону остального мира. Американо-европейские отношения все больше зависят от событий на Ближнем Востоке, в Азии и Африке» – так сказал в декабре прошлого года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бёрнс.
С расширением географии НАТО расширяются и масштабы ее деятельности; сегодня альянс осуществляет операции, которые уже не связаны напрямую с целостностью и безопасностью конкретной территории, но проводятся в более широком контексте международной стабильности. К примеру, в прошлом году НАТО переправила по воздуху в пострадавший от землетрясения Кашмир 3 500 тонн припасов, предоставленных участниками альянса и прочими странами, а также оказала населению медицинскую и иную помощь. Приходящая в себя от последствий цунами Индонезия получила стройматериалы для сооружения четырех новых мостов, а жертвы «Катрины» в США – продукты питания, водоочистительные установки, электрогенераторы и вертолеты.
БОЛЕЗНИ РОСТА
Совершенно очевидно, что НАТО меняется, но, возможно, этих изменений недостаточно. Если главная цель альянса отныне не территориальная оборона, а объединение стран с общими ценностями и интересами во имя решения глобальных проблем, ему нет необходимости оставаться строго трансатлантическим. Демократические страны, включая Австралию, Бразилию, Индию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию, разделяют ценности НАТО и во многом преследуют одинаковые интересы. Все они способны внести значительный вклад в дело альянса, предоставив дополнительную военную или материальную помощь для противостояния глобальным угрозам и решения глобальных проблем. Операции на Балканах и в Афганистане значительно выиграли от участия в них стран, не входящих в Североатлантический блок. Австралия, Южная Корея и Япония направили достаточно крупные контингенты в поддержку усилий членов альянса по стабилизации обстановки в Ираке. Вместе с другими демократиями, не связанными Североатлантическим договором, такими, как Бразилия, Индия и ЮАР, они немало сделали в рамках миротворческих операций по всему миру.
НАТО постепенно приходит к осознанию необходимости укреплять и формализовать отношения со странами вне трансатлантического сообщества. Лидеры альянса подняли этот вопрос на апрельской встрече министров иностранных дел. «Поскольку НАТО осуществляет операции на стратегическом удалении, необходим диалог с другими заинтересованными странами», – заявил генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер. Он выступил с инициативой по превращению Организации Североатлантического договора в «альянс с глобальными партнерами».
Подобное предложение – долгожданное свидетельство того, что НАТО постепенно склоняется к глобальной модели. Но партнеры – не то же самое, что союзники, и ведение диалога нельзя приравнять к межнациональному планированию, тренировкам и операциям. Глобальное партнерство – не самоцель, а первый шаг к официальному членству. Альянс уже использовал подобного рода многоступенчатый подход в середине 1990-х, на заре сотрудничества с бывшими странами – членами Организации Варшавского договора. На начальном этапе, в рамках программы «Партнерство во имя мира», воинские контингенты указанных стран получили право участвовать в учениях и отдельных миротворческих операциях совместно с членами НАТО. И хотя некоторые изначально воспринимали такое партнерство как альтернативу членству, вскоре оно превратилось в средство вступления в альянс. Новый проект глобального партнерства должен сыграть схожую роль, подготовив альянс к переходу от трансатлантической модели к глобальной. Нет необходимости заранее определять, кого пригласят в НАТО, – нужно лишь решить принципиальный вопрос о доступности альянса неевропейским странам.
Постепенное расширение НАТО более предпочтительно по сравнению с созданием коалиций специально для решения конкретно возникающих проблем. Во-первых, европейских воинских контингентов едва хватает для осуществления целого ряда новых миссий в Афганистане, а также в Судане, Конго и других частях африканского континента. В условиях роста потребности в военной силе чем более многочисленны – и более квалифицированны – союзники, тем лучше. Во-вторых, формальное членство облегчит сотрудничество в рамках военных операций. Именно отлаженность взаимодействия внутри альянса – результат совместного планирования, проведения учений и участия в боевых действиях – позволяет его членам эффективно сотрудничать в кризисных ситуациях. США значительно опережают своих союзников с точки зрения принятых на вооружение технологий, однако потенциал американских подразделений максимально раскрывается именно в операциях с теми воинскими частями, которые знакомы им по регулярным совместным учениям.
В новом, расширенном альянсе обязанности Верховного главнокомандующего мог бы по-прежнему выполнять представитель американского генералитета, а генерального секретаря НАТО – его коллега из любой другой (возможно, даже не европейской) страны. Вероятность расширения НАТО в будущем поможет обеспечить принятие ряда промежуточных мер наподобие тех, что предшествовали вступлению в альянс восточноевропейских государств. Такие меры могут включать в себя уже упомянутое глобальное партнерство, а также установление официальных контактов между военными стран-партнеров и Штабом ОВС НАТО в бельгийском Монсе. Полезно создать Совет по глобальному партнерству НАТО подобно уже существующему Совету евроатлантического партнерства, который обеспечивает регулярный диалог между всеми членами НАТО и 20 странами-партнерами из Европы и Центральной Азии.
Глобализация альянса не требует изменения основных параметров структуры, хорошо зарекомендовавшей себя на протяжении многих лет, однако в текст Североатлантического договора следует внести поправки. В особенности это касается статьи 10, допускающей расширение НАТО лишь за счет европейских государств. В настоящее время действие данной статьи распространяется на целый ряд стран, не проявляющих достаточной приверженности принципам демократии и прав человека, например на Белоруссию, тогда как кандидатуры подлинно демократических держав, таких, как Австралия и Япония, в соответствии с этой статьей даже не рассматриваются. Приверженность общим ценностям следует считать более значимым критерием членства в организации, нежели географический. Любая страна, разделяющая цели альянса, должна обладать таким же правом претендовать на вступление, каким наделены центрально- и восточноевропейские государства со времени крушения коммунизма.
Некоторые опасаются, что в расширенной НАТО – по мере расширения пространства ее ответственности – станет труднее достичь консенсуса относительно того, когда и как действовать в каждом отдельном случае. Возможно, опасения справедливы, однако не стоит преувеличивать риск. Вопреки прогнозам скептиков, вступление в альянс 10 новых членов не повлияло на его готовность к действию. Отчасти это объясняется тем, что в НАТО была разработана особая процедура принятия решений, при которой совместные действия возможны и без всеобщего согласия. Вместо того чтобы заблокировать резолюцию, те члены организации, взгляды которых расходятся с общепринятым мнением, могут снабдить ее комментариями или воздержаться от участия в соответствующей операции. Если состав НАТО расширится и приобретет более глобальный характер, подобная практика продолжится и, скорее всего, получит дальнейшее развитие. Достижение консенсуса станет еще более вероятным, если основные державы, начиная с США, приложат достаточно сил и терпения, чтобы прийти к согласию. Вместо того чтобы пускать процесс на самотек и полагаться только на собственные силы, лидеры должны неустанно стремиться к сплочению альянса.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Помимо вопросов, связанных с эффективностью организации, расширение состава и сферы деятельности НАТО вызовет вопросы о самой сущности альянса. Подобно тому как в 1990-х, когда организация расширялась в восточном направлении, самыми острыми окажутся опасения относительно того, ослабнут ли гарантии безопасности, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора.
Нынешние, и в особенности недавние, члены альянса, вероятно, обеспокоены мыслью о том, что по мере географического расширения организации обязательства по коллективной обороне утратят былую силу. Однако в настоящее время ни одна из стран альянса не сталкивается с военной угрозой со стороны другого государства, не говоря уже о тех угрозах, которые привели к созданию НАТО в 1949 году. Если же подобная опасность (весьма маловероятная) все же возникнет, факт расширения нисколько не повлияет на выполнение коллективных обязательств.
Суть организации по-прежнему должен составлять принцип, положенный в основу статьи 5: агрессия против одного из членов альянса рассматривается как нападение на каждого из них. Что касается Соединенных Штатов, то следование этому принципу не должно составить для них серьезную проблему – даже по сравнению с принятым в свое время обязательством предоставить защиту Латвии и Польше, которые не могли рассчитывать на нее до вступления в НАТО. В конце концов, официально или неофициально США уже являются гарантом безопасности таких государств, как Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Но захочет ли Испания либо Эстония взять на себя подобные обязательства в отношении, скажем, Австралии или Японии? Возможно, нет. Но не исключен и другой ответ.
При том, что в статье 5 агрессия против одного из членов альянса расценивается как нападение на всех остальных, каждый из членов организации обязан оказать потерпевшему такую помощь, какую сочтет необходимой. Следовательно, применение силы не является автоматическим. Более того, статья 5 применялась всего единожды – после событий 11 сентября, и лишь несколько членов НАТО участвовали в военной операции (которая проводилась под американским, а не натовским командованием). Статья 5 применяется только в исключительных случаях, когда налицо вооруженное нападение. Можно надеяться, что в такой ситуации любой член альянса придет на помощь дружественному государству, даже если их не связывают официальные союзнические отношения. Вспомним август 1990-го, когда страны НАТО единодушно вступили в большую коалицию по освобождению Кувейта, который не является даже демократическим государством.
Расширение альянса не приведет к ослаблению позиций ООН или ЕС, которые не имеют силового потенциала, сравнимого с натовским. НАТО, будучи прежде всего военной организацией, пусть и основанной на демократических политических режимах, даже расширившись, не станет второй ООН. Скорее всего, она превратится в еще одно, но более эффективное и разумное дополнение Организации Объединенных Наций, поскольку будет способствовать обеспечению исполнения и проведению в жизнь ее решений.
В случае отказа ООН санкционировать действие в ответ на угрозу международному миру и безопасности, как это произошло в период косовского кризиса 1998–1999 годов, НАТО, возможно, пришлось бы действовать самостоятельно. В подобной ситуации глобальный характер альянса и поддержка ведущих демократических стран обеспечат ему бЧльшую легитимность, что в свою очередь должно развеять страхи сторонников строгого международного порядка. Нет повода для беспокойства и относительно того, что расширение состава и географии НАТО помешает нынешнему усилению глобального присутствия Европейского союза. Евросоюз не располагает военным потенциалом для проведения операций далеко за пределами Европы. Более того, в том, что касается постконфликтной реконструкции и поддержания порядка, значительную часть усилий Евросоюз способен приложить скорее для оказания всякого рода дополнительных услуг, нежели выступая в качестве альтернативы глобальной НАТО.
Глобальная НАТО необходима не в целях обновления альянса и не потому, что без расширения сферы деятельности он утратит свои позиции. Ведущая международная военная организация планеты должна найти способ адаптироваться к требованиям времени так, чтобы это отвечало не только ее собственным интересам, но и потребностям мирового демократического сообщества в целом, само существование которого зависит от глобальной стабильности. Региональная организация не способна противостоять глобальным угрозам. Успехи НАТО в прошлом объясняются тем, что державы-участницы были связаны обязательством верности как политико-экономическим принципам демократии, так и общим целям в сфере безопасности. Было бы неразумно закрыть двери для стран, готовых взять на себя подобные обязательства и помочь ей в решении новых глобальных задач.

Экономическая свобода и международный мир
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2006
Эрик Гартцке – профессор Колумбийского университета (США), исследователь вопросов происхождения войн и конфликтов в современном мире. Данный материал представляет собой выдержки из главы II «Обзора экономической свободы в мире: доклад за 2005 год». Текст любезно предоставлен интернет-порталом www.cato.ru, где публикуется полный вариант обзора.
Резюме Свободный рынок так формирует сферу межгосударственной конкуренции, что возникающие конфликты могут быть урегулированы без обращения к военной силе. Преобразование торговли, как результат экономической свободы, также ведет к трансформации международных отношений.
Период сравнительно мирного существования продолжается на большей части нашей планеты уже довольно давно – с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Чтобы и впредь избежать губительных войн, необходимо выяснить причины, по которым сегодняшние державы менее склонны к конфликтам, чем их предшественники.
ЧТО ДВИЖЕТ МИРОМ?
Классическая либеральная теория обуславливает состояние мира между государствами двумя факторами. Первый из них связан с формой и практикой правления. Он был выявлен еще Иммануилом Кантом, который ошибочно считал, что республиканской форме правления свойственна наименьшая степень воинственности. Современные исследователи установили, что демократические страны, как правило, не воюют друг с другом, но в целом их готовность применить оружие не уступает боевому настрою других государств. Более того, оказалось, что развивающиеся демократические страны и развивающиеся диктаторские режимы одинаково воинственны. Политика, призванная сделать бедные страны демократическими, не может гарантировать ни политической стабильности, ни мира между народами.
Второе условие установления мира — наличие свободного рынка и частной собственности. Именно экономическая свобода является одним из немногих факторов, в целом препятствующих межгосударственным конфликтам. Капитализм позитивно сказывается на межгосударственном сотрудничестве, поскольку формирует ситуацию, когда война становится малопривлекательной или ненужной. Свободный рынок создает такую сферу межгосударственной конкуренции, в которой возникающие конфликты могут быть урегулированы без обращения к военной силе. Преобразование торговли, ставшее возможным благодаря экономической свободе, также ведет к трансформации международных отношений. Вооруженный захват становится делом дорогостоящим и неприбыльным: не так-то просто «присвоить» силой изобилие, порождаемое современной экономикой.
Ричард Кобден (британский политик XIX века, лидер движения за свободу торговли. – Ред.) называл торговлю «великой панацеей, которая, подобно благотворному медицинскому открытию, позволит привить здоровый и спасительный вкус к цивилизации всем странам мира». Кант верил, что «дух торговли, несовместимый с войной, рано или поздно возобладает в любом государстве». По мнению Джона Стюарта Милля, «именно торговля быстро делает войну ненужной, поддерживая и приумножая личные интересы, находящиеся в естественной оппозиции к войне». Проблема, конечно, заключается в том, что Милль был неправ. Многочисленные войны и локальные конфликты отделяют сегодняшний день от XIX столетия – эпохи целомудренного оптимизма либеральных политэкономистов.
Идеи приходят и уходят в зависимости от имеющих место событий. Когда на рынке царит изобилие, легко утверждать, что капитализм делает государства менее воинственными. Государственные деятели и мыслители конца XIX века связывали свободный рынок с миром между народами, но в результате в 1914 году Европу охватила война. Когда же миру угрожают экономические и политические кризисы, несложно принять точку зрения Томаса Гоббса («война всех против всех»).
Несмотря на свидетельства того, что свободные и трудолюбивые нации обычно оказываются менее воинственными, ученые времен холодной войны, сторонники так называемой «реалистической школы» в международных отношениях (такие, как Кеннет Уолтс и Джон Меерсхеймер) утверждали, что всемирные экономические связи не играют большой роли в делах государства. Гораздо более правдоподобной выглядит идея о том, что связи между экономической свободой и миром между народами и странами не носят абсолютного характера, а представляют собой тенденцию, которая осложняется вероятностной природой социальных явлений и которой противостоят многочисленные стимулы, побуждающие к войне.
На сегодняшний день существует множество доказательств того, что наличие стран со свободной экономикой содействует сокращению числа международных конфликтов. Разработана методология, позволяющая установить относительно прочную корреляцию между этими явлениями. Применяя статистический анализ к мировой политике, мы можем избавиться от постоянных столкновений между различными теориями, основанными лишь на многочисленных, не подтвержденных фактами гипотезах. Более глубокое понимание того, как свободный рынок освобождает государство от необходимости вступать в войну, способно упрочить и даже приумножить мир между развитыми капиталистическими государствами.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И МИРОВЫЕ ВОЙНЫ
Норман Энджелл, горячий сторонник либерализма, удостоенный Нобелевской премии мира (1934. – Ред.), полагал, что международный мир является результатом экономического прогресса. Мол, развитие приводит к таким изменениям в производственном процессе, которые делают вторжение и завоевание неприбыльным, а значит, и непривлекательным.
«За последнюю четверть X века, – писал Энджелл, – викинг Анлаф трижды вторгался в Эссекс и каждый раз хорошо на этом наживался. […] Помня о том, что движущие силы истории и мотивы человеческих поступков остались неизменными, я попытался представить себе британцев […] тысячу лет спустя: и вот наши моряки нагружают корабли сельскохозяйственными и промышленными товарами Скандинавского полуострова».
Трудно, однако, вообразить моряков британского военно-морского флота в роли мародеров-викингов. Гораздо легче представить себе на их месте Гитлера, Муссолини и Хидэки Тодзио. Эти лидеры заглядывались на эпохи, когда государственная мощь усиливалась благодаря территориальному росту. И все же можно утверждать, что в ходе Второй мировой войны экономическое развитие в определенных ситуациях удерживало страны от конфликтов. Война с Западной Европой была задумана из стратегических соображений — для запугивания Франции и Великобритании, а не для захвата ресурсов. Что касается территориальных претензий стран «оси», то они касались бедных государств на экономической периферии Европы.
За исключением Финляндии, ни одна из Скандинавских стран не была атакована с целью захвата территории. Германское вторжение в Норвегию имело целью прежде всего предотвратить запланированную высадку войск Англии и Франции. Последние со своей стороны стремились защитить северные морские пути и отрезать Германии доступ к сырьевым ресурсам, что приобретало смысл только в широком военном контексте.
Гитлер не ударил по Швеции – богатейшей стране и ключевому поставщику железной руды. Это не значит, что ее не затронула война. Нацистские чиновники использовали значительный дисбаланс сил, чтобы оказывать давление на шведское правительство по самым разным вопросам, особенно таким, как перемещение припасов и передвижение людей по нейтральной территории. Швеция сохранила независимость не только потому, что благоразумно и дипломатично смирилась, когда была покорена Норвегия. Гитлер не нападал на Швецию, поскольку торговля с ней приносила больше выгод, чем ее оккупация. Речь шла о простом расчете: покупать необходимые шведские ресурсы было дешевле, чем захватывать их силой.
Еще одно явление, на которое Энджелл указывает как на обстоятельство, усиливающее неприятие развитыми странами вооруженных действий, – это либерализация экономики. Растущая интеграция мировых рынков приводит к тому, что приобрести товары и услуги посредством торговли становится проще, а отделаться от беспокойных инвесторов путем ведения войны — сложнее.
Энджел задается вопросом о том, что случилось бы, если б Германия оккупировала Лондон. Какие бы преимущества ни получил германский бюджет от захвата британского золота, ущерб вследствие беспощадных шагов германского правительства все равно оказался бы гораздо более серьезным. Страна, которая способна прикарманить чужие банковские резервы, вряд ли привлечет иностранных инвесторов: сущность кредита заключается в доверии, а те, кто его не оправдывает, дорого платят за свои действия. Может быть, немецкий генералиссимус вел бы себя в Лондоне не более цивилизованно, чем сам Анлаф, но он быстро увидел бы, в чем различие между ним и его норманнским предшественником. Анлафу не было нужды беспокоиться о банковской процентной ставке и тому подобных вещах. Немецкий же генерал, попытавшийся присвоить резервы Английского банка, в один прекрасный день может обнаружить, что его собственный счет в Немецком банке опустел, а стоимость даже самых удачных его инвестиций снизилась.
На первый взгляд Энджелл ошибается – ведь Первую мировую войну, в конце концов, ничто не остановило. Однако вспомним: та война разразилась на Балканах – в наиболее отсталом в экономическом плане регионе Европы, тогда как серия кризисов в экономически взаимозависимых западных державах, длившаяся вплоть до 1914-го, не вылилась в вооруженные действия. Таким образом, балканский конфликт легко объяснить с точки зрения отсутствия экономической свободы. Быстрое распространение локальной войны, начатой Австро-Венгрией против Сербии, произошло благодаря налаженной системе союзных договоров.
В 1914 году проблема Европы состояла как раз в том, что процессы либерализации и интеграции шли неровно, а политические союзы сводили на нет значение экономической взаимозависимости стран Запада. Наиболее развитые нации активизировали свою политику на балканском направлении, чтобы получить дополнительные рычаги давления друг на друга. Пока соблюдались договоры о военном союзе, решения по мобилизации оказывались в руках тех самых стран, действия которых не были обусловлены принципами экономической взаимозависимости. Хотя эта взаимозависимость оказалась неспособна погасить вспыхнувшую войну, ей удалось отсрочить ее начало.
Послевоенные события, по-видимому, подтверждают правоту Энджелла: современная экономика уже не предрасположена к военным завоеваниям. Однако энджелловская теория мотивов возникновения межгосударственных конфликтов нуждается в расширении. Государства конкурируют на мировой арене не только за обладание ресурсами, но и по политическим и стратегическим соображениям. Важную роль играет географическое положение государства, особенно в случае, если оно находится между двумя протагонистами кризисной ситуации.
Имеют значение и притязания той или иной страны (независимо от ценности ее собственной территории или ресурсов), поскольку исходя из ее претензий другие государства решают, как ей противостоять и не стоит ли даже объявить ей войну.
«КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ» МИР
Экономическая свобода подразумевает, что ее можно взять с собой. Когда внутренние условия ухудшаются, капитал может покинуть страну, что приводит к экономическому, а следовательно, и политическому истощению общества. Ясно, что государство не желает оттока денег. Однако, поскольку суверены не могут остановить утечку капитала, им приходится создавать условия, благоприятствующие добровольному нахождению денег в пределах страны.
Либеральная теория об экономической свободе как факторе отсутствия войны утверждает, что у капитализма есть немало возможностей для поддержания международного мира. Вероятно, наиболее универсальное обоснование этой идеи состоит в том, что экономическая взаимозависимость создает одинаково ценные условия для развития различных стран, и государства в дальнейшем не склонны воевать из-за опасения потерять имеющиеся у них экономические выгоды. Это объяснение выглядит убедительно, но оно предполагает, что эти общие ценности, как таковые, не разжигают войну и не способствуют конфликтам.
Томас Шеллинг рассказывает притчу о двух альпинистах, связанных одной веревкой, от которой зависит их общая судьба. Ученый показывает, как с помощью этой общей ценности один из партнеров манипулирует другим. Так и государства, связанные экономическими взаимоотношениями, могут использовать их для оказания давления друг на друга, для своеобразной «игры в гляделки»: чем более ценны связи, тем эффективнее и показательнее игра. Даже если государство не хочет поставить под удар потенциальные выгоды от благоприятных экономических связей, это не означает, что межгосударственного конфликта не будет. В уклонении от «драки» иные страны могут усмотреть уязвимость. Чтобы восторжествовал мир, все участники должны отказаться от «игры в гляделки» или, другими словами, отказаться от потенциального использования своей военной силы.
Индивиды, социальные группы и страны нередко расходятся во мнениях, но имея разные интересы, они, как правило, находят способы договориться, чтобы избежать более дорогостоящих или взрывоопасных последствий. От чего же тогда зависят дипломатические успехи и провалы?
Одна из основополагающих проблем в международных отношениях — распознать, когда оппонент говорит правду, а когда лукавит. Подобно тому как игроки в покер скрывают друг от друга свои карты, политические лидеры порой притворяются для того, чтобы выиграть, и часто блефуют, заявляя о готовности применить силу. Если оппонент решит, что война — это слишком затратный метод решения спора, он предпочтет ей переговоры. Но из-за стремления игроков к блефу и, следовательно, неопределенности ситуации дипломатические усилия могут оказаться неудачными, и тогда разгорается конфликт. Военные действия вынуждают игроков «раскрыть карты» (т. е. предоставить информацию об относительных возможностях государства и его намерениях).
Что в этих условиях может дать экономическая свобода? Во-первых, свободный рынок играет роль резонатора политической активности. Действия, вызывающие обеспокоенность рынка, отпугивают инвесторов, приводят к ухудшению экономических условий в стране, и поэтому ее лидеры, скорее всего, будут избегать подобных шагов. Использование военной силы за пределами страны часто ассоциируется с сокращением объема инвестиций в экономику и оттоком капитала. Исходя из того, насколько глава государства готов выступать с внешнеполитическими заявлениями, способными напугать фондовый рынок, и в какой мере сохраняется денежная политика, мешающая правительству влиять на потоки капитала, международное сообщество может делать выводы о действительных намерениях того или иного лидера. Представление об истинных помыслах оппонента позволяет проводить переговорный процесс более эффективно, так что обращение к силовым действиям становится все менее необходимым. Таким образом, свободный глобальный рынок создает механизм, посредством которого лидеры смогут добиться признания собственного авторитета (собственной надежности) без обращения к военной силе.
Во-вторых, страны, обладающие интеллектуальным и финансовым капиталом, в меньшей степени заинтересованы или нуждаются в оккупации чужих территорий. Как показали действия американской армии в Ираке, одержать военную победу — это самая легкая часть завоевания. Военные, нацеленные на быстрый и легкий разгром врага на современном поле сражения, всё в меньшей степени способны взять на себя трудоемкую работу по поддержанию общественного порядка в густонаселенной стране, особенно когда ее жители неоднозначно относятся к иностранной оккупации.
Исторически богатство создавалось за счет обладания плодородными землями. Страны, занимавшие обширные территории, считались богатыми. Быть другом короля означало иметь землю, а значит, и власть. Современные общества устроены иначе. Земля уже не является основным источником благосостояния. Теперь деньги делаются или сохраняются благодаря новаторским идеям и духу предпринимательства. Содержать оккупационную армию дорого, а доходы от использования завоеванных ресурсов падают. То есть при том что экономическая свобода препятствует завоеваниям, ее воздействие на другие виды конфликтов, в том числе в сфере международной политики, может оказаться незначительным или вообще отсутствовать. Экономическое развитие приводит к снижению вероятности военных действий на данной территории, но это же самое развитие способствует росту экстратерриториальных споров. Либеральные демократические режимы, как правило, не воюют друг с другом, но они не менее других склонны применять военную силу по отношению к тем, кого они называют «врагами демократии».
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В наступившем столетии страны со свободной и процветающей экономикой имеют хороший шанс сохранить и даже упрочить международный мир, характерный для второй половины XX века. Переход к постиндустриальному производству здесь уже произошел и снизил выгоды от ведения войны. Капитализм и свободный рынок также укрепили свои позиции. Но есть и серьезные проблемы, например существование коммерческих и финансовых систем, не отвечающих современным «глобальным» реалиям. Окончательно не изжит протекционизм. Соединенные Штаты должны удержать лидирующую роль в развитии глобального капитализма.
Перемены в природе производства, стимулирующие экономически благополучные страны к отказу от завоевательных войн, могут быть обращены вспять или сведены к минимуму последующими технологическими, социальными, военными или экологическими факторами. В настоящее время развитые страны обладают эффективными военными средствами, но находят задачу охраны правопорядка и государственного управления на завоеванной территории слишком трудоемкой и неприбыльной. Выгадать от захвата чужих территорий могут развивающиеся страны, но они зачастую оказываются не в состоянии содержать или развертывать достаточно мощные военные силы. Саддам Хусейн хотел оккупировать Кувейт, но не смог удержать его. Соединенные Штаты и их союзники по коалиции смогли овладеть Кувейтом, но он оказался им ненужен, по крайней мере в качестве недвижимого имущества. Если кража ресурсов вновь станет прибыльным делом, как это бывало в прошлом, мы снова увидим, как богатые государства завоевывают территории других стран.
Однако стоит помнить, что сырая нефть, как бы высоко ни поднималась ее цена, по-прежнему значительно дешевле соответствующего объема бутилированной воды, потребляемой солдатами оккупационных армий. Пентагон недавно подсчитал, что стоимость содержания одного солдата в течение его жизненного цикла превышает 4 миллиона долларов США. Снижение затрат на оккупацию решает только половину задачи. Главное, что страны с информационной экономикой будут в обозримом будущем оставаться малопривлекательной целью с точки зрения расширения территории; распространение глобальной информационной экономики само по себе способствует упрочению мира.
Перспективы развивающихся стран видятся не в столь радужном свете. Чтобы повлиять на их политический курс или стратегию, крупнейшие экономически развитые державы по-прежнему готовы взяться за оружие. Войны не исчезнут до тех пор, пока государства не перестанут по-разному вести себя на международной арене. Страны-«изгои» будут по-прежнему проявлять непокорность. Экономический и политический рост Китая делает вполне вероятным столкновение идеологий и сфер влияния в Азии. Опыт показывает, что курс на либерализацию экономики выбран верно. Политическая свобода должна прийти в Поднебесную, и это непременно произойдет, но сама по себе демократизация вряд ли сделает Китай более миролюбивым. В реальности рост националистических чувств в странах, ставших на путь демократизации, связан с их возрастающим военным авантюризмом.
«Капиталистический» мир не будет оказывать никакого воздействия на войны между развивающимися странами, пока экономика последних скована государственным контролем. Кроме того, без экономического развития не возрастет роль интеллектуального и финансового капитала, который не так-то просто приобрести с помощью силы. Проблемы возникают по мере того, как рост изобилия и внутренней политической стабильности дает развивающимся странам возможность действовать силовыми методами за пределами своих границ. БОльшая часть территории Африки и Южной Америки поделена на страны по прихоти давно умерших европейских дипломатов, и существующие границы не отражают ни исторических, ни современных этнических, лингвистических или культурных реалий. Экономическое развитие может обеспечить развивающиеся страны оружием, которое они будут использовать друг против друга.
Но Южное полушарие не обязательно превратится в очаг напряженности. Этого не случится, если повышение благосостояния совпадет как с относительным снижением ценности, приписываемой территории, так и с ростом зависимости Юга от всемирного капитала. Преимущество поздно индустриализовавшихся стран состоит в том, что они могут перескочить через самые опасные стадии индустриализации. Ранняя индустриализация формирует потребность в естественных ресурсах и в средствах их присвоения; в ходе войны ценные активы и ресурсы могут стать объектом мародерства. Затраты на рабочую силу низки, что позволяет укомплектовать оккупационную армию. Информационная экономика требует уже бОльших инвестиций капитала и человеческой изобретательности, но мало что в ней может быть присвоено захватчиками. Аутсорсинг (перенос производства за границу), вызывающий немало беспокойства в развивающихся странах, способствует созданию в них экономики, обуздывающей склонность к агрессии.
Конфликт между Индией и Пакистаном не раз приводил к кровопролитию, но лидеры обеих стран в конце концов поняли, что активные военные действия причиняют значительный ущерб их достаточно открытым экономикам. Растущая зависимость от международного капитала и снижение ценности спорных территорий по сравнению с ценностью технологических инноваций означают, что стимулы к мирному существованию возросли, а привлекательность войны снизилась. На Кипре на смену тридцатилетней напряженности постепенно пришло понимание того, что доступ к информационной экономике Европы гораздо более важен для процветания страны, чем владение садами и пастбищами.
У демократии много очевидных преимуществ, и текущие политические инициативы Соединенных Штатов и других стран по поддержанию — и даже принудительному установлению — демократии в принципе могут быть оправданы только внутриполитическими выгодами.
редставляется, что гораздо эффективнее мирное существование можно упрочить с помощью свободного рынка: во-первых, укрепляя, а во-вторых, используя его для поддержки распространения демократии. Предполагающие демократизацию усилия по укреплению мира на Ближнем Востоке и в других находящихся под властью автократических правительств регионах обладают весьма спорной эффективностью. Еще нет ясности в том, реально ли установить стабильную демократию в Ираке, но и успех такого предприятия вряд ли приведет к серьезному снижению накала и числа межгосударственных конфликтов, если параллельно не будут проведены значительные и действенные экономические реформы.
Учитывая ограниченность ресурсов, внимание развитых стран должно быть направлено на укрепление и пропаганду принципов свободного рынка и тех практик, которые уже привели к установлению мира на большей части Северного полушария. Соединенные Штаты чаще других в современной истории использовали свой статус мировой державы для продвижения капитализма и поощрения экономического развития. Эти усилия не должны ослабнуть в наши дни, когда терроризм и завершение холодной войны сделали ненужной политику сдерживания Советского Союза и подвигли Вашингтон к более активным шагам на международной арене. Демократию нужно поддерживать, но опыт свидетельствует о том, что, как таковая, она не обеспечивает мир на планете, а народное правление оказывается нестабильным при отсутствии определенного уровня экономического благосостояния. Короче говоря, если развитые страны хотят достигнуть мира и свободы, они не могут себе позволить прекратить спонсировать распространение капиталистических институтов и практик.
***
Мир во всем мире нельзя установить посредством одной только экономической свободы. Глупо разделять оптимизм либералов XVIII–XIX веков и верить, будто свобода во всех сферах – ключ к международному миру. Уже давно признано, что свобода позволяет проявляться не только лучшему, но и всему худшему, что есть в человечестве. Тем не менее не следует сбрасывать со счетов явные возможности экономической свободы способствовать усилиям по поддержанию мира.
Политика, направленная на распространение капитализма и свободного рынка, не «подкладывала бесчисленные мины под здание международного мира», как утверждают и утверждали многие критики. Напротив, глобализация капитализма и распространение свободного рынка создали условия, при которых применение силы перестало быть наиболее эффективным средством достижения цели.
На первый взгляд принцип «капиталистического мира» кажется парадоксальным. Фирмы конкурируют между собой, и эту конкуренцию часто сравнивают с военными действиями. Студенты в бизнес-школах буквально проглатывают такие книги, как «Искусство войны» Сунь Цзы и «О войне» Карла Клаузевица, в надежде поднабраться опыта в делах соперничества. Западная интеллектуальная традиция и борцы за мир привыкли видеть в своекорыстии один из главных корней мирового зла. Казалось бы, жизнь на Земле может стать лучше только благодаря альтруизму, но его, к сожалению, часто оказывается недостаточно. Утопические взгляды не могут быть воплощены в жизнь именно потому, что они рассчитаны на изменение индивидуальной и социальной природы человека. Современные исследователи, особенно те, кто отождествляет себя с неолиберальной школой, особо указывали на национальные и наднациональные институты как на возможные лекарства против межгосударственных конфликтов. Их логика мало отличается от логики сторонников расширения полномочий государства ради решения внутренних социальных проблем. Хотя мы не в силах изменить врожденную склонность людей (или стран) к неблаговидным поступкам, мы можем изменить поведенческие стимулы или ограничения. Можно показать, что международные институты способствуют миру, хотя эффект и невелик.
Двести лет назад Адам Смит сделал великое открытие: своекорыстие, т.е. личный интерес, не стесненный бюрократическими ограничениями, служит общему благу лучше, чем государственный контроль. Рыночные силы действуют как «невидимая рука», освобождающая производственный потенциал народов. Сегодня у нас накапливается все больше данных в пользу того, что «невидимая рука» также воздействует на внешнюю политику государств. Процветание экономической свободы, которую иные насмешливо именуют «погоней за наживой», начало приводить к снижению военной агрессии, которая казалась многим вечным и неотъемлемым элементом самой цивилизации.

Эволюция успеха
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2006
Роберт Блэкуилл в течение многих лет работал на ответственных должностях в Государственном департаменте США и администрации Белого дома, занимался проблемами Ближнего Востока и Южной Азии. Данный материал основан на лекции, прочитанной автором в Государственном университете – Высшей школе экономике в Москве в январе 2006 года.
Резюме В Белом доме считают, что с 2001 года на Большом Ближнем Востоке наметились благоприятные тенденции, обусловленные продвижением трансформационной демократии. Они, конечно, не являются заслугой исключительно Америки, но без лидирующей роли США были бы невозможны.
Когда в начале 1970-х годов я начинал работать в команде Генри Киссинджера, термин «Большой Ближний Восток» (ББВ) еще не вошел в употребление. Вместе с новым геополитическим понятием пришли новые реалии и новое видение ближневосточной проблематики. Сегодня речь идет о регионе, включающем в себя, помимо традиционного Ближнего Востока, Афганистан и неразрывно связанный с ним Пакистан, зону Персидского залива и часть Северной Африки. Общими для многих стран, входящих в этот регион, являются вызовы радикального ислама и терроризма, некоторые из государств обладают или стремятся обзавестись оружием массового уничтожения (ОМУ). Кто-то, возможно, склонен относить к данному региону даже Центральную Азию с ее богатыми запасами энергоресурсов и проблемами, аналогичными тем, что наблюдаются на Ближнем Востоке.
В повестке дня американской администрации ББВ занимает, несомненно, первое место. Причем сегодняшний подход к этому региону существенно отличается от того, каким он был в период от арабо-израильской войны 1967-го до трагических событий 11 сентября 2001года.
СМЕНА СТРАТЕГИИ
Во-первых, все эти годы Америка продвигала свои интересы в регионе за счет сближения с консервативными, или, как их тогда называли, умеренными, арабскими режимами, не обращая внимания на их преимущественно антидемократический характер.
Во-вторых, в центре ближневосточной политики Вашингтона находился арабо-израильский конфликт, поскольку именно он порой раздувал пламя региональных войн. Более того, так как Соединенные Штаты действовали не в пустом пространстве (значительным влиянием пользовались также Советский Союз и ряд других государств), противостояние между израильтянами и палестинцами угрожало конфронтацией двух сверхдержав, что особенно отчетливо проявилось в 1973-м. (Как США, которые поддерживали Израиль, окруживший египетскую армию, так и СССР, который требовал возвращения израильских Сил самообороны на исходные позиции, заявили тогда о готовности открытого военного вмешательства. – Ред.).
В-третьих, предметом озабоченности Вашингтона являлось обеспечение бесперебойных энергопоставок из района Персидского залива.
В те годы почти не обсуждались только две темы: отсутствие демократии в большинстве стран региона и оружие массового уничтожения, которое имелось лишь у Израиля. Некоторые арабские режимы, возможно, хотели заполучить ОМУ, но им мешало значительное технологическое отставание.
Не случись событий 11 сентября 2001 года, мы, возможно, и по сей день придерживались бы прежней линии поведения, которая не менялась на протяжении десятилетий. В рамках привычного видения ситуации американцам не удавалось в полной мере оценить степень радикализации отдельных частей арабского мира, но это послужило уроком на будущее. Исламский радикализм можно преодолеть не с помощью пушек, а противопоставив ему конкурентоспособные идеи.
Одной из таких идей стала предложенная президентом США Джорджем Бушем-младшим и его командой концепция трансформационной демократии, которая предполагает, что демократизация осуществляется дипломатическими средствами с учетом особенностей каждой страны и с опорой на местные силы. Отныне наша конечная цель – рост демократии и терпимости, уважение к законности и правам человека на Большом Ближнем Востоке. Страны региона должны отказаться от терроризма и агрессивных намерений, обрести мир и стабильность и прийти к открытой рыночной системе. Все это коренным образом отличается от принципов, которыми Америка руководствовалась на протяжении десятилетий.
Взявшись за выполнение этой задачи, Америка взвалила на свои плечи тяжелое дипломатическое бремя. Ведь каждое государство региона уникально, у каждого – своя история и культура, своя внутренняя политическая динамика. Чтобы добиться демократических перемен на этом обширном многоликом пространстве, нужно осознавать, что придется отказаться от заранее подготовленных сценариев, полагаясь на инициативу, исходящую изнутри, в соответствии с условиями и потребностями конкретных стран.
Есть ли альтернатива этому новому подходу? Не лучше ли, например, возвратиться к поддержке умеренных арабских режимов, не являющихся демократическими? Кое-кто из арабских союзников США наверняка отдает предпочтение такой тактике, но она уже невозможна: джинн вырвался из бутылки. Еще один вариант действий – разработка и реализация планов практических шагов применительно к каждой из стран региона в отдельности – едва ли поможет добиться позитивного эффекта. Не причисляю себя и к тем американским деятелям, которые выступают за радикальную демократическую трансформацию. Я – приверженец именно эволюционного процесса, поскольку не верю в мгновенное торжество демократии в регионе. Вопрос в том, удастся ли обеспечить гражданам арабских государств более широкую свободу выбора, не подрывая при этом основ национальной культуры.
Наконец, остается насильственная демократизация. Мы пошли этим путем в Афганистане, но давайте не будем забывать, что тогда нам пришлось отвечать на нападение. Мы были уверены, что режим Саддама Хусейна представляет смертельную угрозу для Соединенных Штатов, и атаковали Ирак. Но я твердо убежден в том, что установление демократии силой – это не наш подход.
Развитие демократии не способствует росту терроризма. Не исключено, конечно, что свободные выборы могут привести к власти силы, глубоко враждебные Соединенным Штатам. Но если мы верим в демократию как принцип миропорядка, мы должны принять и ее последствия, устраивают они нас или нет.
ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ
В президентской администрации считают, что с 2001 года на Большом Ближнем Востоке наметились благоприятные тенденции, обусловленные продвижением трансформационной демократии. Они, разумеется, не являются заслугой исключительно Америки, но без ее лидирующей роли были бы невозможны.
В Афганистане, который в плане демократии, бесспорно, является примером для всего региона, состоялись президентские и парламентские выборы, а также, что самое главное, был уничтожен оплот «Аль-Каиды». Фабрики террора прекратили свою работу, что с геополитической точки зрения является огромным достижением Соединенных Штатов. В Афганистане установился политический плюрализм, хотя, безусловно, пройдут десятилетия, прежде чем он превратится в нормальное демократическое государство.
В Саудовской Аравии впервые в истории прошли местные выборы. В Египте оппозиционным политикам отныне позволено выступать на телевидении с критикой в адрес президента Мубарака. Нельзя не упомянуть также о выводе сирийских войск из Ливана и мирном разрешении конституционного кризиса в Кувейте.
Обнадеживают и перемены, наметившиеся в жизни Ирака. Согласно данным Всемирного банка, Ирак занимает второе место в мире по объему доказанных нефтяных ресурсов. Его достаточно стабильная национальная валюта растет по отношению к доллару. Обладая высокоэффективным банковским законодательством, Багдад контролирует инфляцию, привлекает иностранные инвестиции и уже в этом году ожидает 40-процентного увеличения экспорта. Реальный прирост ВВП Ирака составит в 2006-м 17 %, значительно вырастет доход на душу населения. За последние полтора года в Ираке появилось 1,5 млн абонентов сотовой связи, в одном только минувшем сезоне в стране было зарегистрировано 30 тыс. новых компаний.
По окончании войны в 2003 году Ирак не имел собственной армии, а спустя год его вооруженные силы насчитывали порядка 100 тыс. военнослужащих. Сегодня эта цифра превышает 200 тыс., а к концу нынешнего года составит 300 тыс. человек. На двух третях иракской территории установились мир и спокойствие. Тихо и в северной курдской зоне, и в южной шиитской – в тридцати километрах от Багдада. Уверенно развивается деловая активность крупных шиитских городов, особенно Наджафа и Кербелы, где жизнь течет, как в любой мирной стране. Сунниты, получившие по результатам декабрьских выборов-2005 более 50 мест в новом парламенте, вовлечены в политический процесс.
Однако проблемы остаются. Экономика восстанавливается крайне медленно. В отдельных районах Багдада и трех суннитских провинциях, голосовавших против новой Конституции, насилие не ослабевает, причем 90 % погибших в ходе мятежей и терактов – местные жители. Значительная часть суннитов до сих пор поддерживает мятежников. Органы правопорядка катастрофически слабы и неукомплектованы. Ситуация все еще может серьезно ухудшиться, однако, я уверен, рано или поздно следует ожидать благоприятного исхода. Через два-три года Ирак будет единой, в целом спокойной и стабильной страной (хотя нельзя исключить вероятность отдельных, но все же крайне редких терактов). Политический процесс придет в норму, экономику ждет постепенное выздоровление. Добыча нефти продолжится. Ирак перестанет представлять угрозу для соседей и поддерживать террор.
Каково будущее иракских курдов? В ходе опросов 99 % из них обычно высказываются за отделение, причем молодежь требует независимости немедленно. Сказываются последствия саддамовского правления и применения отравляющего газа. Арабский язык практически исчез из программы курдских университетов, а многие предпочли бы вообще никогда не иметь дела с арабами. Но будь у курдов возможность провозгласить независимость в нынешних условиях, им, скорее всего, пришлось бы иметь дело с турецкими войсками, размещенными на территории Курдистана. Со стороны Сирии и Ирана также последовала бы реакция. Похоже, что нынешнее курдское руководство это осознаёт, и потому провозглашения независимости не предвидится.
ИРАНСКИЙ ВЫЗОВ
Что касается иранской проблемы, то на сегодня у нее нет очевидного решения. Стремление Ирана обзавестись ядерным оружием может отчасти объясняться тем, что оно есть у Израиля. Но, скорее всего, дело в том, что иранцы – представители, бесспорно, великой цивилизации – спрашивают себя: «Почему другим странам позволено иметь ядерное оружие, а нам нет?» Я бы ответил им так: «Это слишком опасно для всех нас, и ваша цивилизация, какой бы древней она ни была, здесь ни при чем». Очевидно, такой аргумент их не убеждает. Но и израильтяне не откажутся от своих ядерных запасов, особенно учитывая намерение иранского президента стереть их государство с лица земли.
Если Иран обзаведется ядерным оружием, его региональное влияние возрастет и в распоряжении Тегерана окажутся дополнительные рычаги. Вслед за этим, вероятно, будет расти поддержка, оказываемая им террористическим организациям. Все это вызовет тревогу в суннитском мире, где, как известно, и без того с опаской относятся к «шиитскому полумесяцу» (в географическом смысле речь идет о территории, простирающейся от Ливана через Южный Ирак вплоть до Ирана. – Ред.). Как только у шиитов появится бомба, сунниты обзаведутся точно такой же. Примеру Ирака последуют Египет, Саудовская Аравия, Турция и другие страны. Режим нераспространения будет ослаблен во всех аспектах.
Страны региона крайне обеспокоены стремлением Ирана обладать ядерным оружием, но они точно так же не желают американского военного вмешательства, подозревая, что оно приведет их к катастрофе.
Америке трудно найти общий язык с новым иранским руководством. Мы имеем дело с президентом, чья риторика противоречит нормам международной этики и дает мало оснований для оптимизма. Однако за время работы в должности госсекретаря Кондолиза Райс значительно продвинулась в решении иранской проблемы, придавая особую важность переговорам и горячо поддерживая деятельность европейской «тройки» в составе Великобритании, Германии и Франции. Райс способствовала активизации на иранском направлении дипломатической деятельности России, выступившей с соответствующей инициативой. Получил дальнейшее развитие переговорный процесс с Китаем по вопросу ядерной программы Ирана. Совместно с администрацией президента госсекретарю удалось убедить Индию поддержать США в ходе осенней сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). И конечно, важную роль сыграл лауреат Нобелевской премии и генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи, горячо выступающий против превращения Ирана в ядерную державу.
Но, несмотря на все эти меры, убедить Тегеран отказаться от ядерных амбиций пока не удается. Какие же варианты поведения существуют на сегодняшний день? Во-первых, мы можем позволить Ирану обзавестись ядерным оружием и в дальнейшем осуществлять попытки сдерживания. Но это повлечет за собой негативные последствия, о которых упоминалось выше.
Во-вторых, можно продолжить работу по сплочению мирового сообщества и наращивать дипломатические усилия, в которых именно России предстоит сыграть ключевую роль. Мы могли бы обратиться в Совет Безопасности ООН. Однако не исключено, что в таком случае Москва наложит вето на введение санкций против Ирана. Но даже если Россия этого и не сделает, санкции едва ли повлияют на политику Ирана. Поведение Тегерана в последние месяцы не дает оснований надеяться на то, что предпринятые дипломатические шаги побудят Иран отказаться от полного ядерного цикла.
Третий вариант – военное вмешательство. Те, кто не верит в его эффективность, не правы. Действительно, разрушить все ядерные объекты Ирана невозможно: часть из них скрыта или находится глубоко под землей. Но уничтожение основных из них отбросит ядерную программу Тегерана на годы назад.
Силовой вариант чреват многими опасностями. Во-первых, наши данные о расположении ядерных объектов Ирана могут быть неточны. Во-вторых, нападение на Иран способно ударить по ситуации в Афганистане и Ираке, вызвать крайне негативную реакцию в арабских странах. Да и остальной мир в большинстве своем отреагирует отрицательно.
Применение военной силы против Ирана в Белом доме рассматривают как последнее средство, к которому следовало бы прибегнуть. Есть все основания считать, что администрация Буша возлагает большие надежды на возможность дипломатического решения этой проблемы и по мере сил ведет его поиски в сотрудничестве с Европейским союзом, Россией и другими странами. Но если деятельность международного сообщества зайдет в тупик, то Америке придется решать, что делать дальше.
В ближайшие десять лет предстоит учитывать действие на Ближнем Востоке двух новых мощнейших факторов – Индии и Китая. Эти страны набирают здесь всё больший вес и влияние. В районе Персидского залива проживают 3 млн индийцев, перелет из Дели в Дубаи занимает чуть более трех часов. Китай строит свои отношения с государствами Персидского залива на основе соблюдения законов свободного рынка и стремления обеспечить себе доступ к источникам энергопоставок; его стратегические и энергетические мотивы пока неясны.
***
Большой Ближний Восток является одним из самых проблемных регионов мира. Никогда еще за последние тридцать лет ситуация здесь не была столь нестабильной, а с учетом иранской ядерной программы – и столь угрожающей. И все же, как это ни парадоксально, сегодня регион предоставляет нам больше возможностей, чем в последние десятилетия.
Очень многое будет зависеть от качества американской дипломатии. В разные периоды ее отличали то высокий профессионализм и стратегическое видение, то полное их отсутствие. Это тяжкое испытание и для нынешних, и для последующих лидеров Америки, поскольку развивающийся на Большом Ближнем Востоке политический процесс обещает быть очень долгим.
Примириться с идеей ядерного Ближнего Востока невозможно: ее воплощение в жизнь грозит ядерной войной. Режимы зачастую незнакомы с понятием переговорного процесса, и если в их распоряжении окажется ядерное оружие, они, скорее всего, пустят его в ход. Это коренным образом изменит облик нашей планеты. Соединенным Штатам и Советскому Союзу понадобилось тридцать лет, чтобы наработать багаж знаний и опыта, необходимый для недопущения ядерной войны. У стран Ближнего Востока такого багажа нет. Поэтому США и Россия должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия в этом регионе.

Леонид Заико
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2006
Л.Ф. Заико – к. э. н., председатель совета аналитического центра «Стратегия» (Белоруссия).
Резюме Официальные представители Белоруссии и России говорят о необычайных успехах, «как никогда, тесной» интеграции. Однако на самом деле в 2005 году стало очевидно, что в реальности идет процесс дивергенции экономик обеих стран, а Минск переориентируется на западных торговых партнеров.
В пламенных речах, прозвучавших в сентябре прошлого года на экономическом форуме Белоруссии и России, говорилось о необычайных успехах, «как никогда, тесной» интеграции. Однако именно в 2005-м стало очевидно, что в реальности идет процесс дивергенции экономик обеих стран. Геоэкономическая ориентация Минска меняется. По существу, Белоруссия уходит от России.
НА МЕРТВОЙ ТОЧКЕ
Самым точным индикатором степени готовности России и Белоруссии к интеграции является торговля. В 2005 году белорусские субъекты экономики купили российских товаров на 12,7 % меньше, чем годом раньше. Белорусский экспорт в Россию (а это теперь лишь около трети всего белорусского экспорта) упал в физическом объеме на 10,9 % и постепенно замещается поставками из других стран.
Множество нерешенных проблем на общем транспортном «поле» (в частности, вопросы, связанные с транзитными перевозками) являются отражением роста протекционизма с обеих сторон и свидетельствуют об отсутствии общего экономического пространства в данном сегменте рынка. Защитные меры, особенно со стороны правительства Белоруссии, затрагивают и такие сферы хозяйствования, как производство пива, макаронная и мукомольная промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, легкая промышленность. Минск всерьез стремится к вытеснению российских товаров, вводя квотирование и ограничения по ассортименту. По существу, 80 % розничной торговли в Белоруссии составляют отечественные товары. Кроме того, и белорусские предприятия, действующие на российском рынке, и российские компании, работающие в Белоруссии, всё в большей степени ощущают неравенство условий хозяйствования.
Прямое и скрытое субсидирование белорусским государством промышленности и сельского хозяйства не просто продолжается, а переходит в активную фазу. Так, программа возрождения села обойдется бюджету примерно в 10 млрд долларов. Практика предоставления косвенных субсидий крупным предприятиям, препятствующая здоровой конкуренции, является нарушением обязательств, оговоренных в соглашениях с Россией.
Имея асимметричную структуру торговли с Россией, правительство Белоруссии, вопреки расчетам Кремля, ведет себя крайне неадекватно. Эта асимметрия, равно как и нервная реакция на нее белорусской стороны, и обусловила торговые войны на рынке пива, сахара, муки, хлебобулочных изделий и готовых пищевых продуктов в целом. При ухудшении политических отношений кризис белорусского экспорта на восточном направлении неизбежен, особенно в том случае, если снизится интенсивность поставок нефти на перерабатывающие заводы Белоруссии. А ведь именно российский рынок – основной гарант текущей экономической безопасности Белоруссии.
Не сдвинулся с мертвой точки и проект создания общей валюты. Детально продуманный план, предполагавший введение в Белоруссии российского рубля, оказался, по сути, неприемлемым для Минска в силу идеологической и ценностной несовместимости экономической политики обеих стран. Государственная собственность Белоруссии системно не способна интегрироваться с частной собственностью в России. Минск же вообще исключает саму идею взаимного проникновения капитала. Наличие проблем, связанных с расчетами за энергоресурсы, уплатой НДС, участием российского капитала в приватизации целого ряда белорусских предприятий, – признак того, что текущее состояние торговли во многом определяется не столько политикой правительств, сколько традиционными экономическими связями субъектов хозяйствования двух государств.
НОВАЯ ДИНАМИКА-2005
Если в 2004 году экспортная ситуация в Белоруссии складывалась в пользу российского экономического пространства (диаграмма 1), то в 2005-м она существенным образом изменилась (диаграмма 2).
Одни аналитики пытаются объяснить это переходом с 1 января 2005 года на новый принцип взимания НДС (по стране назначения. – Ред.). По мнению иных экспертов, причина в том, что для Минска более выгодными и перспективными стали другие рынки – западные. Западный «империализм», который подвергается ожесточенным атакам со стороны официального Минска, закупает все больше белорусской продукции, причем стратегической – нефтепродукты. На сегодняшний день второй и третьей экспортной площадкой Белоруссии являются Нидерланды и Великобритания – страны, которые, как и весь Европейский союз, осуждают политический режим Лукашенко. В 2005-м Нидерланды закупили в 3,3 раза больше белорусской продукции, чем годом раньше. Не отстает и Франция, покупая в Белоруссии в 3,8 раза больше товаров по сравнению с 2004 годом. Только за первую половину 2005-го голландские потребители (хотя и не только они – сказываются офшорные потоки) заплатили за бензин и дизтопливо свыше 1 млрд долларов, а англичане – 500 млн долларов. За счет разницы цен на нефтепродукты по сравнению с 1999 годом Белоруссия дополнительно получает около 3 млрд долларов в год. Чистая прибыль, естественно, меньше, но сопоставима с 1 млрд долларов. Удивительно, но Соединенные Штаты – «заклятый враг» белорусского руководства – увеличили импорт из Белоруссии почти на 50 %.
Когда ряд стран Восточной Европы вступили в мае 2004-го в Европейский союз, большинство экспертов с пессимизмом оценивали перспективы развития белорусского экспорта. И действительно, начало «новой экономической истории» региона оказалось чревато негативными последствиями для тех, кто оказался за пределами Новой Европы. Вариант некоего «нового соседства», предложенный западными странами в качестве замысловатого педагогического хода (по сути, суррогат полноценной интеграции), не может восприниматься экономистами всерьез. Решающим фактором развития остается международная и региональная конкуренция.
С течением времени, однако, экономические реалии изменили ситуацию к лучшему. Теперь Белоруссия, продавая более дорогие нефтепродукты, может вообще не принимать в расчет роль западных инвестиций. Фиксируется устойчивый рост белорусского экспорта в страны СНГ и другие регионы, находящиеся за экономическими границами объединенной Европы. За первое полугодие 2005 года объем белорусского экспорта вырос на 19,7 %, а объемы внутренних и внешних продаж достигли показателя примерно 20 %.
Формирование нового геоэкономического качества в Белоруссии налицо. Пошли даже разговоры об «автоматической интеграции Белоруссии» в Европейское экономическое пространство.
В то же время в результате сокращения экспорта в Россию на складах белорусских предприятий стал накапливаться экспортный товар, в частности машины и оборудование. По ряду позиций россияне в два раза сократили закупки белорусской техники и комплектующих.
В этих условиях восстановление Белоруссией своих экспортных позиций на восточном фланге становится не только оперативной, но и стратегической задачей. Есть, правда, и альтернатива – вообще отказаться от активности на российском рынке и заняться более далекими и интересными для нас рынками Латинской Америки и Африки.
ЭКСПОРТНОЕ ЛИЦО БЕЛОРУССИИ
Что представляет собой структура экспорта нашей малой открытой экономики? Белоруссия получает значительные доходы от переработки российской нефти, выемки из своих недр калийной соли и производства качественной металлопродукции (Жлобинский металлургический завод, пожалуй, единственный перспективный во многих отношениях потенциальный экспортер). При этом экспортный потенциал нефтепродуктов и калия явно превышает потенциал всех остальных вывозимых товаров. За счет продажи нефтепродуктов и калия за пределами СНГ Белоруссия получает около 4 млрд долларов.
Между тем ни чужая нефть, ни собственные ресурсы не могут быть признаны в качестве ведущей, ударной силы белорусского экспорта. Проходящее под «знаком» нефтепродуктов, повышение объемов белорусских продаж на рынках Европейского союза может в любой момент прекратиться. Следует быть готовыми к такому повороту событий и уже сейчас принимать меры по поиску новых и стимулированию старых рынков.
В первой десятке белорусских товаров нет ни одного обладающего прорывным потенциалом. Технический уровень нефтеперерабатывающей промышленности, равно как и производства черных металлов, возможно, достаточно высок. Но это не отрасли high tech, не новейшие направления мировой экономики, которые могли бы придать мощный импульс развитию экспорта.
В стране отсутствуют сегменты экономики, способные содействовать интенсификации продаж новой белорусской продукции на мировых рынках, где лидируют фармацевтические фирмы, информационные и телекоммуникационные транснациональные корпорации. Нет и эффективных проектов сотрудничества Белоруссии и России по этим направлениям. По существу, происходит столкновение корпоративных интересов лоббистских групп. Два государства борются (не всегда открыто) друг с другом, вместо того чтобы направить свои усилия на выполнение общей системной задачи – создание плацдарма для движения вперед.
СБЛИЖЕНИЕ ИЛИ РАЗРЫВ?
Наше общее движение по пути экономической интеграции отличается низкими темпами и значительной неопределенностью целей. Российское руководство в последнее время ведет себя более эгоистично и уделяет меньше внимания ситуации на постсоветском пространстве, на котором начались дивергентные процессы и усилилось влияние США и стран – членов Евросоюза.
Ситуацию осложняет появление нового вызова и для самой России – необходимость расстаться с привычкой рассматривать свои политические и экономические интересы на постсоветском пространстве как «внутренние». В ближнем зарубежье России стоило бы развивать именно внешнеполитическую активность, формируя вокруг себя новое экономическое и политическое пространство. При таких задачах партнерство с Минском должно медленно, но верно переместиться на более низкий уровень. Конечно, необходимо выдерживать определенный темп, добиваться знаковых успехов, не растрачивать имеющихся ресурсов, но не следует концентрировать усилия на быстрейшей и полнейшей интеграции только с Белоруссией. Союз обеих стран немногого будет стоить, если станет разваливаться СНГ, а стратегические партнеры России уйдут в НАТО и ЕС.
Размежевание если и не произошло окончательно, то с каждым годом все более ощутимо. Бессмысленные информационные атаки на Россию, несколько нервозные, придают больше политического веса белорусским политическим элитам, провинциальным по духу. Россия же по необъяснимой причине отмалчивается, сохраняя традиционно советскую многозначительность, а по сути, проявляя боязнь выступить в качестве сильной державы.
К чему может привести нынешняя белорусско-российская интеграционная действительность? Еще в 2003 году, когда президент Белоруссии однозначно взял курс на суверенность и сохранение государственности, одобренный значительной частью национальной элиты, включая оппозицию, стало очевидно: полноценное единое российско-белорусское государство будущего не имеет. Возможны следующие варианты развития отношений между Минском и Москвой.
1. Инерционный путь. Процесс объединения продолжается, однако принципиальные вопросы и проблемы по-прежнему не входят в повестку дня. Вместе с тем не затихает интеграционная суета и лихорадка, особенно в связи с приближающимися в обеих странах президентскими выборами. Игра в интеграцию лишь запутает партнеров и сделает их заложниками сиюминутных интересов.
2. Новаторская стратегическая модель «четверка». Российская Федерация и Белоруссия развиваются в Едином экономическом пространстве на основе учета интересов всех членов этой организации. Если данный процесс окажется конструктивным, то не исключена и активизация участия в нем Украины.
3. «Постсоветское увядание». Отношения между Белоруссией и Россией как членов Содружества Независимых Государств развиваются в контексте эволюции СНГ. В данном случае, особенно в условиях действия инерционной модели, следует ждать фактического разрушения интеграционных процессов, возникает перспектива длительной исторической неопределенности.
Самой действенной стратегией Минска в этих условиях является использование всех механизмов сотрудничества в целях защиты собственных национальных экономических интересов и приведение их в соответствие с сегодняшними реалиями. Мы уже не можем требовать от России каких-либо привилегий на рынке – в частности, чтобы она продавала нам ресурсы по своим внутренним ценам.
Развитию отношений с Москвой препятствует не только отсутствие политической воли, но также и наличие серьезных формальных барьеров при осуществлении прав граждан обеих стран. Хотя и подписан ряд соглашений о равных возможностях белорусов и россиян в виртуальном «едином государстве», но в реальности их права расходятся. Давно пора менять устаревшие политические традиции. Наша важнейшая общая задача – формирование новой среды обитания граждан двух государств. В этой связи важнейшими являются следующие приоритетные направления белорусско-российского взаимодействия:
- обеспечение действительно свободного движения рабочей силы, товаров, капиталов и ресурсов. Для этого, в частности, необходимо уравнять права белорусов и россиян в таких важнейших вопросах, как регистрация при посещении страны (отмена регистрации), получение экстренной медицинской помощи, лечение в государственных медицинских учреждениях, покупка жилья и земельной собственности, получение высшего образования за счет средств из национального бюджета (по национальным сертификатам или ваучерам);
- совместная добыча нефти и газа за счет образования новых хозяйствующих субъектов, использующих акционерный капитал Белоруссии и ее рабочую силу. Белорусская сторона может сформировать некую местную народную акционерную компанию, которая занялась бы разработкой газовых и нефтяных месторождений для Белоруссии. Такая компания послужила бы моделью нового экономического взаимодействия обеих стран. А приход белорусских АО на российский монополизированный рынок стал бы мощным фактором устранения одиозного олигархата в сырьевых отраслях России. Российский капитал в свою очередь мог бы участвовать в создании в Белоруссии перерабатывающих комплексов на основе действующих химических и нефтехимических заводов. Транспарентные российско-белорусские корпорации имели бы шанс стать совершенно новым экономическим феноменом, способным снизить роль эгоистичных монопольных субъектов и собственников, появившихся на первой стадии неэффективной приватизации;
- создание системы стратегического партнерства в социальных сферах России и Белоруссии (а возможно, и других стран – членов СНГ), предполагающей унификацию или простую совместимость страховых институтов двух государств. Например, следует обеспечить универсальность страховых полисов гражданской ответственности, а в области социального страхования разработать механизм национальных трансфертов в соответствии с индивидуальными страховыми планами. Требуется также универсализация налогового законодательства для физических лиц обеих стран, а впоследствии и для хозяйствующих субъектов.
В результате реализации этих и иных мер исчезнут разделяющие два государства экономические и социальные барьеры. Если это не произойдет, белорусские граждане предпочтут интегрироваться в другое социальное и экономическое пространство – европейское.
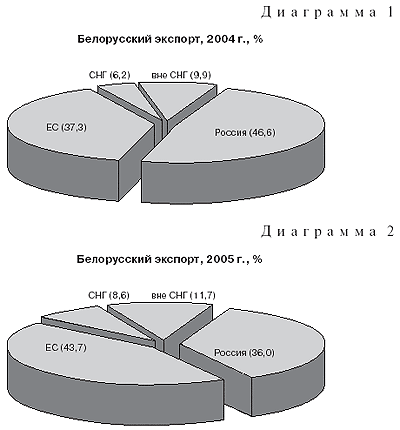
|
Экспортные товары Белоруссии, 2004 г. (первая десятка) |
|||
|
№ |
Товарная группа (экспортный товар) |
Объем продаж, млн дол. США |
Стратегический покупатель |
|
1 |
Нефтепродукты |
3295 |
Страны вне СНГ (89 %) (Великобритания, Нидерланды – |
|
2 |
Калийные удобрения |
752 |
Бразилия, Китай, Польша (98 %) |
|
3 |
Черные металлы |
629 |
Россия (41 %), Италия (6 %), |
|
4 |
Грузовые автомобили |
532,5 |
Россия (73,5 %), Украина (6,7 %), |
|
5 |
Одежда (по видам продукции) |
415 |
Россия (40–68 %), страны вне СНГ (58–31 %) |
|
6 |
Молоко и молочные продукты |
368 |
Россия (99 %) |
|
7 |
Тракторы |
339,8 |
Россия (55 %), Украина (11 %), |
|
8 |
Холодильники |
320 |
Россия (86 %), Украина (9 %), |
|
9 |
Запасные части |
298 |
Россия (80 %), Польша (6,4 %), |
|
10 |
Мебель |
277 |
Россия (76 %), Германия (6,4 %), |

Турция: привычка управлять
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2005
С.Б. Дружиловский – к. и. н., профессор кафедры востоковедения МГИМО(У) МИД РФ.
Резюме Идеи пантюркизма и проявления крайнего национализма уходят корнями в эпоху Османской империи. Стремление к созданию единого тюркоязычного пространства под патронатом Анкары в сочетании с исламским мессианизмом формирует специфическую идеологическую атмосферу.
Нынешней осенью Европейский союз приступил к официальным переговорам с Турецкой Республикой о ее вступлении в это объединение. Решение далось руководителям стран – членов ЕС с большим трудом: большинство жителей единой Европы не хотят видеть Турцию в составе главного клуба Старого Света. Брюссель уже пообещал жестко добиваться неукоснительного соблюдения всех многочисленных условий членства. По сути, от страны требуется прорыв, который по своему историческому масштабу был бы сопоставим с тем, что совершил в свое время Мустафа Кемаль Ататюрк – создатель новой турецкой государственности на обломках Османской империи. На пути в Европу XXI века Турции придется окончательно преодолеть имперское наследие, до сих пор накладывающее отпечаток на политическое сознание. Не случайно одной из самых болезненных проблем, которые придется решить туркам, станет переосмысление событий 1915 года. Европейский союз требует четко и недвусмысленно признать их геноцидом армянского народа, Анкара же от этого категорически отказывается.
Нежелание пересмотреть собственное прошлое – не единственное напоминание о былом великодержавном статусе. Идеи пантюркизма, которые до сих пор разделяет часть турецкого политического класса, и проявления крайнего национализма уходят корнями именно в эпоху Османской империи. Стремление к созданию единого тюркоязычного пространства под патронатом Анкары, с одной стороны, и исламский мессианизм – с другой, формируют специфическую идеологическую атмосферу.
ИСТОРИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Распад Османской империи после Первой мировой войны явился тяжелым испытанием для турок, привыкших рассматривать себя ядром и титульной нацией огромного государства, перед мощью которого некогда склонялись крупнейшие европейские державы. Однако в отличие, например, от коллапса СССР, это событие не стало неожиданностью. Об Османской империи как о «больном человеке» заговорили в Европе еще в начале XIX века, а к середине этого столетия появились первые планы ее раздела.
Все это время турецкие правящие круги предпринимали многочисленные попытки спасти агонизирующее государство. Им даже удалось осуществить ряд радикальных реформ – от ликвидации янычарского корпуса в 1826-м до принятия первой на Востоке Конституции в 1876 году.
Свои рецепты сохранения империи предлагали и турецкие интеллектуалы. Так, в середине XIX века возникло несколько тайных обществ, которые после своего объединения стали называться «Новые Османы». Они предлагали упразднить деление населения на различные этнические и конфессиональные группы и объединить народы империи в единую «османскую» нацию. В 1908 году к власти пришли младотурки (европейское название членов организации «Единение и прогресс», основанной в 1889-м. – Ред.). Осознавая неизбежность распада империи, они призвали объединить все тюркоязычные народы в единое государственное образование с центром в Анатолии. Именно эта идея во многом толкнула Турцию к вступлению в Первую мировую войну на стороне германского блока. Надежда воспользоваться ослаблением России и прибрать к рукам принадлежавшие ей территории с тюркоязычным населением рухнула с поражением в войне. Оно не только положило конец правлению младотурок, но и девальвировало саму идеологию пантюркизма.
Основатель Турецкой Республики (провозглашена в 1923 году) Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк) отказался от имперской политики. Он выдвинул лозунг турецкого национализма – концепцию создания государства на территориях, исторически принадлежавших туркам. Политика Кемаль-паши способствовала сохранению государственности, а положение национальных меньшинств, оказавшихся включенными в состав Турецкой Республики, или было слишком ослабленным, или не входило в противоречие с выдвинутой Ататюрком концепцией. Даже курды, восставшие в 1925-м под предводительством шейха Саида, действовали скорее по указке Англии, чем руководствуясь собственным стремлением к независимости.
Руководство страны не поддерживало имперскую ностальгию. Выработке экспансионистских планов во внешней политике препятствовал провозглашенный Ататюрком принцип «Мир в Турции, мир во всем мире». Так, урегулирование кемалистами территориальных споров с Советской Россией позволило приступить к нормализации отношений и заключить Договор о дружбе и братстве (1921), заложивший основы добрососедства между давними непримиримыми противниками.
Тем не менее деятельности пантюркистов не был положен конец. Известный теоретик Зия Гек-Альп опубликовал в 1923 году свою работу «Основные принципы тюркизма», которая на долгие годы стала манифестом его сторонников и последователей. После смерти Ататюрка (1938) в условиях фашистской экспансии правительство страны стало отходить от внешнеполитических принципов, провозглашенных основателем Турецкой Республики. Нападение гитлеровской Германии на СССР всколыхнуло пантюркистские настроения. Анкара стояла на грани вступления в войну на стороне Германии, и только победы советских войск в сражениях под Москвой, а затем под Сталинградом удержали ее от этого шага. Лишь в 1944-м деятельность пантюркистской организации была запрещена, а ее руководители отданы под суд. Впрочем, все они в конечном итоге были оправданы и вскоре вышли на свободу.
Передача власти в Турции. Художник Мим Уйкусуз. 1966 г.
Возросшая военно-политическая мощь СССР даже теоретически не оставляла туркам шансов на ревизию послевоенного мирового устройства. Вступление в 1952 году в НАТО, а также присоединение спустя 11 с половиной лет к Европейскому экономическому сообществу в качестве ассоциированного члена превратило Турцию в младшего партнера европейских держав без права решающего голоса.
Почти с полным подчинением западному влиянию Анкару в какой-то степени должна была примирить ее лидирующая роль в СЕНТО (Организация центрального договора, до 1959-го известна под названием «Багдадский пакт») – антисоветской мусульманской военно-политической группировке из арабских стран, входивших ранее в состав Османской империи. Полностью эту идею реализовать не удалось, поскольку в Багдадский пакт (учрежден в 1955 году) кроме Ирака и Турции, а также Великобритании, принимавшей в нем формальное участие, вошли только два, причем не арабских, государства, никогда не имевших ничего общего с Османской империей, – Иран и Пакистан. Антимонархическая революция в Ираке способствовала его выходу из блока (1958), и штаб-квартира СЕНТО с 1959-го до распада этой организации в 1979 году находилась в Анкаре.
Активное участие в военном блоке вряд ли можно напрямую соотнести с проявлениями имперских амбиций Турции, но оно подчеркивает сложившуюся за века привычку турок управлять, а не быть управляемыми. Несомненно, стремление к господству и почитание «старых добрых времен» стало чертой национального характера, которая культивируется в послевоенной Турецкой Республике. Так, манифестации по случаю государственных праздников непременно возглавляет колонна солдат, одетых в янычарскую униформу, а ежегодно отмечаемая годовщина взятия Константинополя оформляется как костюмированное шествие.
Выйти из-под контроля своих западных союзников Анкара попыталась в период кипрского кризиса 1974 года. Несмотря на протесты Запада, Турция оккупировала северные области Кипра под предлогом оказания помощи тюркскому меньшинству, якобы притесняемому греческим большинством. Несколько десятков тысяч турецких добровольцев были перемещены на Кипр для «выравнивания» пропорции в этническом составе населения острова. Анкара единственная признала самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и оказала ей всю возможную, в том числе военную, помощь и поддержку в последующие годы. Сегодня судьба ТРСК является еще одним камнем преткновения на пути Анкары в Евросоюз.
НОВЫЙ «СТАРШИЙ БРАТ» ВМЕСТО СТАРОГО
С исчезновением СССР роль Турции в качестве южного фланга НАТО существенно снизилась. Это сопровождалось как сокращением экономической и военной помощи, так и болезненным для Анкары отказом ЕС ускорить принятие Турецкой Республики в свои ряды. Зато впервые с момента крушения Османской империи туркам представилась возможность распространить свое влияние за пределы собственных границ. С возникновением новых независимых тюркоязычных государств Центральной Азии и Закавказья перед Анкарой замаячил новый шанс на возрождение былого величия и повышение своей значимости в мировых делах. В начале 1990-х вновь возрождаются традиционные пантюркистские идеи о создании Великого Турана.
Турецкие руководители всерьез заговорили о новой тюркоязычной общности от Адриатического моря до Великой Китайской стены. При этом Анкара не сомневалась в своей способности не только заменить Москву в роли «старшего брата» тюркских народов, но и исключить возможность прямого влияния Запада в регионе. На страницах турецких СМИ стала настойчиво проводиться мысль об историческом шансе «восстановить тюркское единство». Вместо слов «узбек», «киргиз», «татарин» и прочих для обозначения этнической принадлежности стали употребляться такие словосочетания, как «узбекский турок», «киргизский турок», «крымский турок». В обращение вошел термин «внешние турки», под которыми стали подразумеваться тюркские народы, проживающие за пределами Турции.
Прогресс по-турецки: дополтопные орудия уступают место современной американской технике. Журнал "Стрышел" (Болгария), 1954 г.
В декабре 1991 года Анкара первой поспешила признать новые тюркоязычные государства Центральной Азии вскоре после провозглашения ими независимости. А уже в январе 1992-го премьер-министр Турции Сулейман Демирель на встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим заявил об изменении регионального статуса своей страны ввиду открывающихся перед ней возможностей определять политическое будущее мусульманских республик Содружества Независимых Государств (СНГ). В этой связи Турции, по мнению Демиреля, предстояло взять на себя решение двуединой задачи: обеспечить необходимый уровень контактов Запада с этими республиками и убедить их руководителей в том, что Анкара способна служить проводником интересов мусульманских стран СНГ на Западе.
В результате переговоров была достигнута очень важная для Турции договоренность: на нее возлагалось оказание материальной и финансовой помощи тюркоязычным республикам бывшего СССР, при этом понесенные затраты компенсировались Соединенными Штатами и другими западными странами, в том числе через предоставление торговых льгот. При турецком МИДе было создано Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТIКА) с целью координации на государственном уровне всех видов деятельности, направленных на единение тюрок, а в правительстве появилась должность министра по связям с тюркоязычными республиками СНГ.
В октябре 1992 года по инициативе президента Турции Тургута Озала в Анкаре состоялась встреча на высшем уровне, в которой участвовали тогдашний президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Аскар Акаев, президент Туркменистана Сапармурат Ниязов и президент Узбекистана Ислам Каримов. Уже в самом начале переговоров обнаружились серьезные разногласия. Анкара ставила во главу угла вопрос о наднациональном тюркском экономическом пространстве, включая формирование общего рынка, единой региональной энергосистемы и системы транспортировки энергоресурсов, учреждение регионального банка развития, создание условий для безвизового передвижения граждан и капиталов, а также определение общего языка для тюркских государств. Лидеры же центральноазиатских республик видели главную задачу лишь в координации совместной деятельности с упором на развитие двусторонних отношений. Так, Назарбаев недвусмысленно заявил, что «создание обособленного национального сообщества по этническому и языковому принципу не сближает, а лишь разъединяет народы».
Анкара, тем не менее, не отказалась от политики, нацеленной на объединение тюркоязычных народов под своим патронатом. Особая роль возлагалась на так называемые курултаи братства и сотрудничества, которые с 1993-го постоянно проводились как в самой Турции, так и за ее пределами, включая субъекты Российской Федерации. Уже на первом таком форуме в Анталье, на котором кроме президента Озала и премьер-министра Демиреля присутствовали руководители других тюркоязычных государств и представители многочисленных общественных организаций, Турция добилась принятия решения о создании наднациональной общественной организации – Высшего совета тюркских республик. На шестом курултае в Бурсе в 1998 году, на котором Сулейман Демирель был провозглашен «отцом тюркского мира», присутствовало 550 делегатов; на восьмом, состоявшемся в марте 2000-го в Самсуне, зарегистрировалось уже 900 делегатов.
ЭКСПОРТ ТУРЕЦКОЙ МОДЕЛИ
С 1992 года на все тюркоязычные республики бывшего СССР транслируются передачи турецкого спутникового телевидения. Кроме уже упомянутого ТIКА свою деятельность в тюркских регионах активизировали Турецкий директорат по религиозным вопросам (TDRA), Образовательный центр религиозной общины Фетхуллаха Гюлена, Турецкий международный исследовательский центр Турана Язгана, фонд «Аврасия Бир» и др.
В активе этих организаций – пропаганда турецкой модели развития, противостояние арабским и иранским исламистам и, пожалуй, самое главное – подготовка кадров различного профиля для центральноазиатских и закавказских республик. Например, Турецкий директорат по религиозным вопросам ставит своей целью укрепление позиций Анкары в тюркоязычных республиках, а также противодействие экспансии здесь шиитского и ваххабитского толков ислама. В противоположность им тип ислама, пропагандируемый TDRA, включает аполитичность, секуляризм, ограничение религии рамками частной жизни граждан. Эта организация занимается также распространением исламских знаний, подготовкой священнослужителей, ремонтом и строительством культовых сооружений.
Из всех неправительственных организаций с наибольшим размахом действовал религиозный центр Фетхуллаха Гюлена. (В конце 1990-х годов Гюлен был вынужден покинуть родину, вскоре против него возбудили уголовное дело за пропаганду исламских взглядов, выходившую за рамки закона.) В Турции общине Гюлена принадлежат 88 фондов, 20 обществ, 128 частных школ, 218 фирм, а также 17 печатных органов, телестанция, две радиостанции, беспроцентный исламский банк и страховое общество. «Асия Финанс банк» с капиталом в 125 млн дол., которым Гюлен владеет с начала 1990-х, инвестировал в различные проекты в республиках Центральной Азии и в Азербайджане: было построено более 80 школ и 4 университета, где преподавание ведется по программам турецких учебных заведений. Турецкий аналитик Шахин Алпай указывает, что в последующем их выпускники, как правило, занимали видное положение в общественной и политической жизни своих республик. Вообще же Анкара ежегодно выделяет несколько тысяч стипендий для обучения студентов и преподавателей из тюркоязычных республик в высших учебных заведениях и научно-исследовательских центрах Турции.
Большую активность по консолидации тюркоязычных народов проявлял турецкий министр по связям с тюркоязычными республиками СНГ Абдульхалюк Чай. Российский МИД, а также руководство отдельных республик неоднократно критиковали его высказывания как вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Однако какая-либо реакция со стороны турецкого правительства долгое время практически отсутствовала.
И все же политика Турции по созданию единого тюркского политического и культурно-идеологического пространства постепенно стала заходить в тупик. Руководители тюркоязычных республик открыто заговорили о нежелании менять русского «старшего брата» на турецкого и стали дистанцироваться от попыток Турции сблизиться на этой основе. Нурсултан Назарбаев в своей книге «На пороге XXI века», изданной в 1996 году, писал: «Многим казалось, что Турция сможет решить все наши проблемы… Но что это означало на деле? Это значило отказаться от только что обретенной независимости, разорвать традиционные отношения с соседями, вместо одного “старшего брата” посадить себе на шею другого». Приблизительно тогда же президент Азербайджана Гейдар Алиев заявил, что определенные круги в Турции поддерживают некоторых лидеров и их вооруженные группы, пытающихся дестабилизировать обстановку в Азербайджане. Как бы в подтверждение предъявленного обвинения турецкая пресса вслед за провалом попытки государственного переворота в Баку, предпринятого 17 марта 1995-го, сообщала, что отдельные министры и сотрудники Службы национальной безопасности Турции были осведомлены о готовившихся событиях.
Признаки охлаждения отношений между Ташкентом и Анкарой появились позже, но зато в более радикальной форме. В 2000 году правительство Узбекистана закрыло все школы, открытые религиозными организациями Турции, и прежде всего учебные заведения, опекаемые Фетхуллахом Гюленом. Из страны власти выслали турецкого атташе по образованию, а все узбекские студенты, обучавшиеся в Турции, были отозваны на родину.
Анкара осознала, что политическая и культурная близость, приверженность новых независимых тюркоязычных республик исламу и тюркизму были преувеличены, а реальностью является государственный национализм, глубоко укоренившийся в самосознании узбеков, туркмен, киргизов и казахов. Ни правящая элита, ни простые граждане не захотят жертвовать своей идентичностью во имя сверхнациональной общности, тюркской или исламской.
В конце 2000 года новый президент Турции Ахмет Неджет Сезер совершил поездку по тюркоязычным республикам и, как свидетельствовала пресса, с пониманием отнесся к предложению развивать дальнейшие отношения на принципах «равноправного партнерства». Конкретным проявлением готовности Анкары скорректировать политическую линию стала отставка в начале 2002-го Абдульхалюка Чая. Несмотря на возражения многих влиятельных членов правительства, он организовал в конце 2001 года очередной курултай тюркских народов, на котором фигурировали лозунги, не созвучные новой политической линии Анкары.
С начала 1990-х Турция пыталась проводить пантюркистскую политику не только в отдельных республиках, но и в других регионах на постсоветском пространстве с компактным проживанием тюркоязычного населения. Ярким примером тому явилось ее отношение к развитию ситуации на Крымском полуострове, куда к концу 1993 года вернулись около 250 тысяч крымских татар, депортированных во время Второй мировой войны. Созданный ими неправительственный орган крымско-татарского народа Меджлис потребовал провозглашения Крымско-татарской республики в составе Украины.
В 1995-м председатель этого Меджлиса Мустафа Кырымоглу опубликовал в Турции статью, в которой обвинил Россию в шовинистической, империалистической политике и попытках добиться контроля над полуостровом методом «демократического фашизма», призывами к русскоговорящему большинству населения провести референдум о дальнейшей судьбе Крыма.
Крымские татары с самого начала стали получать политическую и материальную поддержку. Анкара с пониманием относилась к их призывам возвратить на историческую родину 5 миллионов проживающих в Турции беженцев с целью изменить демографическую ситуацию на полуострове.
В 1994 году тогдашний президент Турции Сулейман Демирель побывал в Киеве, где впервые официально заговорил о российской угрозе на Черном море и предложил в целях «сдерживания» России предоставить всем, имеющим татарские корни, возможность возвратиться в Крым. По мнению Демиреля, число желающих могло достигнуть порядка 600 тысяч. При благоприятном решении данного вопроса Украине была обещана экономическая помощь и политическое содействие для ее утверждения на международной арене.
Как бы то ни было, пантюркистский натиск на Восток забуксовал, и наиболее оголтелые сторонники создания Великого Турана как в самой Турции, так и за ее пределами ушли в тень. Но от своих целей они отказываться не собираются. Об этом красноречиво свидетельствует статья в выходящем в Лондоне журнале «Тюркоман» за декабрь 1998-го под названием «Пантюркизм: прошлое, настоящее и будущее». «Пантюркизм неизбежно встречает враждебность и злобу в окружающих тюркский мир странах, – говорится в статье. – В России, Китае, Иране, Болгарии, Греции и Афганистане проживает значительное число тюркских меньшинств, всякое движение которых к единению эти страны склонны рассматривать как угрозу своей территориальной целостности. Над большинством государств Запада тяготеют исторические предрассудки в отношении тюрков. Учитывая данную ситуацию, развитие пантюркизма должно происходить поэтапно и скрытно. Россия и Запад всегда относились с подозрением к турецкому экспансионизму, поэтому было бы уместно ослабить политический аспект лидерства Турции на начальной стадии тюркской интеграции и за счет этого усилить культурный аспект».
ФАКТОР ИСЛАМСКОГО МЕССИАНСТВА
Немаловажным компонентом имперского прошлого, до сих пор оказывающим влияние на самосознание турецкого общества, является исламское мессианство. Авторы фундаментального труда «Турция между Европой и Азией» справедливо считают, что Османское государство, по сути, было теократическим. Критерием самоидентификации для подданных являлась принадлежность к последователям Мухаммеда, во-первых, и к приверженцам дома Османов, во-вторых. На протяжении столетий на территориях, вошедших затем в состав Турции, слово «мусульманин» напрямую ассоциировалось со словом «свой», и антитеза «мы – они» строилась по конфессиональному признаку. При этом прилагательное «турецкий» в европейской литературе того времени зачастую соответствовало понятию «мусульманский».
Проведение кемалистами секуляристской политики в начале ХХ века способствовало упразднению халифата, отделению мечети от государства и ограничению религии сферой частной жизни. Однако после смерти Ататюрка завещанные им принципы светского государства постепенно подверглись эрозии.
Вскоре после окончания Второй мировой войны создаются первые политические группировки исламистов, которые в 1960-е основывают Партию национального спасения во главе с Неджметтином Эрбаканом. Год от года его сторонники усиливали свое влияние, получая все больше голосов избирателей и неоднократно входя в правительственные коалиции. В 1995-м партия Эрбакана, называвшаяся в то время Партией благоденствия, впервые победила на парламентских выборах. Сам он возглавил правительство и в течение года (1996–1997) руководил государством. Предвыборная программа Партии благоденствия, привлекшая к ней симпатии турецких избирателей, ориентировалась на исламские ценности. На предвыборных митингах лидер партии призывал к объединению исламского мира от Казахстана до Марокко, к созданию исламского общего рынка, исламских НАТО и ООН. Кроме того, он требовал пересмотреть курс Турции на ее присоединение к Евросоюзу.
Впрочем, после прихода к власти Неджметтину Эрбакану пришлось отказаться под давлением военных от многих лозунгов. В результате по-прежнему выдерживался курс на интеграцию с Европой, оставались тесными союзнические отношения с США и НАТО и даже не изменился характер стратегического сотрудничества с Израилем. Вместе с тем Эрбакан добился создания «исламской восьмерки» в составе Турции, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Малайзии, Индонезии, Египта и Нигерии, предлагая рассматривать ее в качестве альтернативы «семерке» развитых капиталистических государств. После этого турецкий генералитет объявил деятельность правительства Эрбакана несовместимой со светским характером государства. Кабинет был отправлен в отставку, Партия благоденствия распущена, а сам экс-премьер подвергся судебному преследованию.
Но политический ислам в Турции не утратил свои позиции. Напротив, в 2002 году вновь созданная происламская Партия справедливости и развития во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом победила на очередных парламентских выборах, получив абсолютное большинство в Великом национальном собрании. Это позволило ей сформировать однопартийное правительство и уже без особой оглядки на конкурентов проводить избранную политическую линию.
Нынешние турецкие исламисты извлекли урок из прошлого и отказались от экстремистских подходов. Главной своей задачей правительство Эрдогана видит полноправное членство Турции в Евросоюзе. Успешное решение поставленной задачи позволит Анкаре превратиться в одну из ведущих столиц Старого Света. 70-миллионное мусульманское население Турции единовременно вольется в состав пока еще не до конца интегрированной Европы, где уже проживает 20-миллионное мусульманское меньшинство (насчитывающее порядка 4 млн турок). Преодолев остатки старого имперского мышления, Турция имеет шанс выйти на новый уровень влияния.

Северная Корея: выйти из тупика
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2005
А.В. Воронцов – к. и. н., заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН. В.В. Евсеев – к. т. н., координатор программы «Проблемы нераспространения оружия массового уничтожения» Московского центра Карнеги.
Резюме На фоне бурного развития Восточной и Юго-Восточной Азии ситуация на Корейском полуострове выглядит анахронизмом. В последнем очаге противостояния, унаследованном от эпохи холодной войны, время как будто остановилось. Может ли территория постоянного конфликта стать зоной развития и процветания?
На фоне бурного развития Восточной и Юго-Восточной Азии, регионов, выдвигающихся в число мировых лидеров не только экономического роста, но и политического влияния, ситуация на Корейском полуострове выглядит анахронизмом. В последнем очаге противостояния, унаследованном от эпохи холодной войны, время как будто остановилось. Есть ли выход из корейского тупика и способна ли территория постоянного конфликта стать зоной развития и процветания?
РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
В феврале 2005 года Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) официально заявило о наличии у страны ядерного оружия и о временном выходе из шестисторонних переговоров по урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Такое заявление не стало неожиданностью. Еще в январе заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван на встрече с заместителем председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Куртом Уэлдоном сообщил, что Пхеньян обладает ядерным оружием, но намерен применять его «исключительно в целях самообороны». Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предполагали, что КНДР объявит себя ядерной державой в годовщину своего создания – 9 сентября 2004-го.
Реакция международного сообщества на демарш Пхеньяна была негативной. США в очередной раз отвергли возможность прямых двусторонних переговоров с Северной Кореей, как и выдвинутое КНДР еще в ноябре 2002 года предложение о подписании пакта о ненападении. Вашингтон призвал также Китай и Южную Корею не идти на уступки, чтобы заставить Пхеньян возобновить прерванные им переговоры по ядерной программе. По мнению госсекретаря США Кондолизы Райс, любые гарантии безопасности КНДР могут предоставляться только на многосторонней основе.
Прежде чем обсуждать ядерную проблему, необходимо понять, что представляет собой сегодняшний северокорейский режим. С начала 1990-х руководство страны начало отходить от марксистско-ленинской идеологии. Возрождались конфуцианские ценности и национальные традиции, в частности культ предков. Основой новой легитимации КНДР стал тезис о том, что она является продолжением древних корейских государств.
Ким Чен Ир, возглавивший страну после смерти Ким Ир Сена, не только скрупулезно выполнял большинство конфуцианских обычаев и правил поведения в течение трехлетнего периода траура по скончавшемуся отцу, но и разрешил религиозную деятельность. Это усилило его власть и укрепило политическую стабильность, которую не поколебали ни голод, ни экономический кризис во второй половине 1990-х годов.
Новый руководитель, судя по всему, выбрал китайский путь, основанный на постепенных экономических реформах под жестким контролем государства. С июля 2002-го в Северной Корее резко сократили сферу действия карточно-распределительной системы, в 15–20 раз повысили зарплату рабочим и служащим (правда, цены на товары и услуги выросли еще больше). На предприятиях теперь применяются различные формы материального стимулирования. Существенно увеличены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и расширены возможности членов кооперативов заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Введена ограниченная конвертация местной валюты, и дано разрешение на хождение иностранной.
После первого в истории межкорейского саммита в Пхеньяне в июне 2000 года существенно улучшились отношения между двумя Кореями. В конце 2002-го Пхеньян санкционировал совместное создание в непосредственной близости от границы со своим южным соседом Кэсонского индустриального района и Кымганской зоны туризма. Южная Корея видит в этих проектах начало формирования единого экономического пространства и готова выделять на них значительные средства. Обе страны намерены соединить свои железные дороги с выходом на российскую Транссибирскую магистраль.
Одной из ключевых проблем северокорейской экономики остается острая нехватка электроэнергии. От способности режима решить энергетическую проблему во многом будет зависеть его устойчивость. Самостоятельно обеспечить себя электроэнергией страна может только путем создания собственной атомной энергетики. Ввиду ограниченности экспорта северокорейской продукции закупка, например, в России готовой электроэнергии или энергоносителей для тепловых электростанций возможна только за счет бесплатных поставок.
Другая проблема экономики состоит в ограниченности инвестиций извне. В 2002 году Пхеньян рассчитывал на более благоприятную перспективу: тогда Европейский союз установил дипломатические отношения с КНДР и был готов активно участвовать в политике «вовлечения» и модернизации Северной Кореи. Наметились контуры нормализации отношений с Токио, сулившей привлечение «компенсационных» (за ущерб, понесенный во Второй мировой войне) денег, а также с Вашингтоном. Но позднее под давлением США ситуация изменилась. Сейчас все международные финансовые институты отказывают Пхеньяну в предоставлении кредитов. Поэтому исключительно важную роль играют инвестиции со стороны Китая и Южной Кореи.
Есть ли шанс на мирную эволюционную трансформацию северокорейского общества? По мнению многих наблюдателей, да. Наиболее вероятная модель – это создание на основе постепенной приватизации структур, подобных южнокорейским «чэболям», но, конечно, с большей ролью государства. Иностранные, прежде всего южнокорейские, инвестиции способны содействовать модернизации промышленности и сельского хозяйства. Следуя таким путем, Северная Корея через 10–15 лет, вероятно, сможет построить экономику смешанного типа с высокой долей государственного сектора и тесно связанную с Южной Корей. Постепенное экономическое и политическое сближение создаст предпосылки для формирования на Корейском полуострове единого государства, вначале на основе конфедерации.
Но это – весьма отдаленная перспектива. Сегодня Северная Корея по-прежнему живет «в условиях военного времени». В Вооруженных силах страны служит каждый пятый мужчина трудоспособного возраста, от 30 до 50 % экономики работают на военные нужды. Серьезность продовольственной проблемы стала ощущаться сразу после распада Советского Союза, который оказывал всестороннюю поддержку КНДР, в частности ежегодно поставляя 200 тыс. тонн удобрений и основную часть нефтепродуктов. В середине 1990-х в Северной Корее разразился голод, приведший, по американским оценкам, к гибели одного – двух миллионов человек. Жертв могло бы оказаться и больше, если бы не масштабная помощь международного сообщества.
Внешнеполитическое положение КНДР остается крайне сложным. Корейская война формально не закончена: Северная Корея не имеет дипломатических отношений ни со своим южным соседом, ни с США, ни с Японией. Влиятельные правые круги Южной Кореи резко критикуют пхеньянский режим. А республиканская администрация США и вовсе причислила КНДР к «оси зла» и «оплотам деспотии», предупредив о возможности силовых действий со своей стороны и включив страну в список целей превентивного ядерного удара. Нерешенный вопрос с похищенными северокорейским режимом японцами мешает нормализации взаимоотношений с Токио. Все это, а также разработка Южной Кореей военной ядерной программы в 1960–1970-е годы толкнуло руководство КНДР к созданию собственного ядерного оружия.
ИСТОРИЯ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Северная Корея располагает вполне достаточным для развития атомной энергетики количеством природного урана: запасы месторождений оцениваются в 26 млн тонн руды, из них более 4 млн пригодны для промышленной разработки. В 1950–1960-е там с помощью СССР и КНР была создана научно-экспериментальная база атомной промышленности.
В 1970-х годах КНДР вела активные исследования в области создания собственного ядерного топливного цикла, а в 1974-м вступила в МАГАТЭ с целью получения широкого доступа к материалам, необходимым для создания инфраструктуры ядерно-энергетического комплекса. В то же время она обратилась к Пекину с просьбой об оказании помощи в создании ядерного оружия. В 1977 году Пхеньян подписывает соглашение о гарантиях с МАГАТЭ – и тогда же посылает своих специалистов в район испытаний китайского ядерного оружия.
В 1980-х в КНДР было закончено создание полного ядерного топливного цикла, который включает: урановые шахты в Пакчхоне и Пенгансане, специальную лабораторию в Университете им. Ким Ир Сена в Пхеньяне, завод по производству топливных стержней и хранилище; исследовательский ядерный реактор мощностью 5 МВт (реактор двойного назначения: производство электроэнергии и оружейного плутония), а также радиохимическую лабораторию Института радиохимии (для выделения плутония из отработанного ядерного топлива, ОЯТ) в атомном научно-исследовательском центре в Ёнбёне.
Созданная инфраструктура позволяет получать плутоний оружейного качества. Американские спецслужбы исходят из того, что Пхеньян обладает несколькими ядерными зарядами и может быстро довести их количество до восьми. МАГАТЭ предполагает, что Северная Корея способна ежегодно вырабатывать до 10 кг плутония оружейного качества, что достаточно для изготовления одного-двух ядерных зарядов. По сведениям агентства, КНДР запустила две промышленные линии по производству плутония на полную мощность и получила в 2003–2004 годах 25–30 кг плутония из 8 тыс. отработанных топливных стержней. Специальный представитель генерального секретаря ООН по проблемам Корейского полуострова Морис Стронг считает, что Пхеньян располагает пятью – восемью ядерными устройствами, но в силу значительных размеров и веса их невозможно использовать в качестве боеголовок имеющихся ракет. Среди российских экспертов преобладает мнение, что КНДР накопила некоторое количество плутония оружейного качества и изготовила несколько ядерных устройств, но их работоспособность сомнительна. Северной Корее, скорее всего, так и не удалось собрать ни одного ядерного боеприпаса.
Первоначально ядерное оружие планировалось создать на основе плутония, поскольку такие боеприпасы более эффективны и удобны для размещения на авиационных и ракетных носителях, чем боеприпасы на основе высокообогащенного урана. К тому же работы над плутониевой ядерной программой легче держать в тайне, что являлось существенным фактором ввиду того, что с 1985 по 2003 год КНДР входила в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако из-за слабой технической базы «плутониевый» путь оказался для Северной Кореи труднореализуем. Возможно, что позднее Пхеньян запустил урановую ядерную программу (в этом его обвиняла Америка в октябре 2002-го), которая, скорее всего, была основана на использовании центрифуг, закупленных в Пакистане. Однако и здесь потребовались значительные экономические и технические ресурсы. По мнению российских специалистов, Северной Корее пока не удалось накопить достаточное количество высокообогащенного урана для сборки ядерного устройства.
Ряд российских экспертов полагают, что КНДР не проводит ядерных испытаний по политическим мотивам, например потому, что руководству страны важно сохранить возможность опровергать сделанные ранее заявления Министерства иностранных дел. Другие объясняют это стремлением Пхеньяна не допустить рассмотрение северокорейского ядерного вопроса в Совете Безопасности ООН, грозящее серьезными последствиями – от международных санкций и политической изоляции вплоть до применения силы. (Однако КНДР и так подвергается санкциям со стороны многих государств и сама себя изолирует во внешней политике, да и пример Индии и Пакистана показал ограниченность возможностей ООН по решению подобного рода проблем.) Кроме того, неудачное испытание ядерного оружия, выявленное по данным разведки или агентуры, может спровоцировать США на превентивный удар. Возможно, испытание откладывается до момента создания компактных боезарядов для развернутых баллистических ракет среднего радиуса действия «Нодон-1», способных поразить объекты на территории Южной Кореи и Японии.
ПЕРЕГОВОРЫ НА ДВОИХ
В последние десятилетия ведущие мировые державы неоднократно пытались остановить работы над северокорейской военной ядерной программой – в основном путем двусторонних переговоров. Вначале ведущую роль в решении этой назревшей проблемы играл Советский Союз. В середине 1980-х он потребовал от КНДР подписать ДНЯО как обязательное условие оказания ей помощи в развитии атомной энергетики. Только после этого Москва поставила и смонтировала в Ёнбёне исследовательский газографитовый ядерный реактор мощностью 5 МВт, который был введен в эксплуатацию в 1986 году после того, как МАГАТЭ распространило на него свои гарантии. Еще в 1991-м, до распада СССР, полным ходом шла подготовка к строительству АЭС с четырьмя легководными реакторами.
Переговоры по соглашению между Северной Кореей и МАГАТЭ о применении полномасштабных гарантий продолжались с 1985 по 1992 год, а в 1992–1993 годах было проведено шесть инспекций и обнаружено два незаявленных хранилища ядерных материалов. 11 февраля 1993-го генеральный директор МАГАТЭ Ханс Бликс потребовал «специальной инспекции». Северокорейцы в марте того же года заявили о выходе из ДНЯО. В ответ Россия полностью прекратила сотрудничество с КНДР в ядерной области и выступила инициатором проведения международной конференции по безопасности и безъядерному статусу Корейского полуострова.
США активизировали свои действия в этом регионе после распада Советского Союза. По итогам двусторонних американо-северокорейских переговоров в июне 1993 года Северная Корея заявила о приостановлении своего выхода из ДНЯО в обмен на обязательства Соединенных Штатов не вмешиваться в ее внутренние дела и не угрожать применением силы. Однако ситуация обострялась, и в июне 1994-го Пхеньян вышел из МАГАТЭ.
В октябре того же года Пхеньян и Вашингтон подписали Рамочное соглашение, согласно которому первый обязался остановить свою ядерную программу, а второй – бесплатно поставлять в Северную Корею 500 тыс. тонн мазута ежегодно, а также способствовать улучшению ее дипломатических и экономических отношений с внешним миром. Администрация Билла Клинтона согласилась на эти условия, будучи уверена в том, что Ким Чен Ир, сменивший Ким Ир Сена в июле 1994 года, не удержится у власти.
В соответствии с Рамочным соглашением США планировали к 2003-му построить в Северной Корее АЭС на основе двух легководных ядерных реакторов общей мощностью 2 гВт, а КНДР – ликвидировать графитовые реакторы, способные нарабатывать плутоний. К этому времени Пхеньян обязался возобновить выполнение предъявляемых к ней требований по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В период действия Рамочного соглашения агентство не имело права проводить инспекционные проверки, что значительно сокращало возможности международного сообщества.
В марте 1995 года Южная Корея, США и Япония учредили международный консорциум «Организация энергетического развития Корейского полуострова» (КЕДО), призванный объединить усилия по строительству в КНДР АЭС. Позднее к деятельности консорциума подключился Евросоюз. В 1997-м были начаты работы по строительству АЭС в северокорейском районе Синпхо.
Рамочное соглашение предусматривало улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном вплоть до полной нормализации. Для этого предполагалось по возможности устранить барьеры в сфере торговли и инвестиций, создать в обеих столицах структуры по поддержанию контактов между двумя государствами, рассмотреть возможность обмена послами в будущем. США обязались предоставить КНДР официальные гарантии, исключающие угрозу применения ими ядерного оружия, а Северная Корея – последовательно двигаться к созданию на Корейском полуострове безъядерной зоны.
Пришедшие к власти в Соединенных Штатах в 2001 году республиканцы значительно ужесточили позицию. Они считают КНДР самым тоталитарным и «репрессивным» государством в мире. По данным Государственного департамента США, в северокорейских тюрьмах и лагерях содержатся от 150 до 200 тыс. человек. Вашингтон уверен, что руководство Северной Кореи знает о нелегальном экспорте наркотиков и ядерных материалов со своей территории и не препятствует этому.
Фактически Америка взяла курс на отказ от принятого предыдущей администрацией соглашения. В дальнейшем планировалось создать условия для смены режима. Заместитель госсекретаря США Джеймс Келли, посетивший КНДР в октябре 2002-го, обвинил Пхеньян в существовании тайной программы обогащения урана и потребовал проведения инспекций МАГАТЭ. Северокорейские власти понимали, что уступка Вашингтону неизбежно ведет к развитию ситуации по иракской модели, и поэтому решили придерживаться двусмысленной линии, с тем чтобы вынудить Вашингтон согласиться на переговоры. Они заявили, что, дабы противостоять исходящей из США угрозе, «могут обладать не только ядерным, но и более мощным оружием».
По мнению Вашингтона, Северная Корея тем самым призналась в осуществлении секретной ядерной программы. Поэтому вследствие грубого нарушения Пхеньяном Рамочного соглашения США, ЕС, Южная Корея и Япония прекратили как бесплатные поставки в Северную Корею мазута, так и строительство АЭС. А в ноябре 2002 года Совет управляющих МАГАТЭ предупредил КНДР о недопустимости нарушения ею международных обязательств. В ответ Пхеньян заявил о возобновлении военной ядерной программы и предложил инспекторам МАГАТЭ покинуть страну, а в январе 2003-го официально уведомил председателя Совета Безопасности ООН и участников Договора о нераспространении ядерного оружия о своем выходе из него ввиду необходимости защиты высших национальных интересов в условиях враждебности и давления со стороны США. В апреле того же года Северная Корея объявила о намерении создать ядерное оружие; в мае она в одностороннем порядке вышла из соглашения с Южной Кореей от 1992-го о провозглашении Корейского полуострова безъядерной зоной.
ПЕРЕГОВОРЫ НА ШЕСТЕРЫХ
В период с 1997 по 1999 год одновременно с двусторонними переговорами было проведено шесть четырехсторонних встреч с участием США, КНДР, Южной Кореи и Китая. Существенного прогресса достичь не удалось: позиции США и Северной Кореи оказались несовместимы, отсутствовали и реальные рычаги влияния на Пхеньян. Постепенно инициатива в проведении многосторонних переговоров перешла к Китаю, более активную позицию заняла и Россия.
В январе 2003-го, сразу после выхода КНДР из ДНЯО и в условиях отказа США от диалога, специальный представитель президента РФ Александр Лосюков передал Пхеньяну и Вашингтону (а затем и остальным заинтересованным сторонам) предложения о пакетном решении северокорейской ядерной проблемы. Оно предусматривает обеспечение безъядерного статуса Корейского полуострова, соблюдение ДНЯО и выполнение всеми сторонами обязательств, оговоренных Рамочным соглашением и другими международными договорами. По мнению России, двусторонний и многосторонний диалог должен привести к предоставлению Северной Корее гарантий безопасности, а также к возобновлению гуманитарных и экономических программ. Стремясь покончить со взаимным недоверием США и Северной Кореи, Москва предложила, чтобы вовлеченные в урегулирование страны – соседи Северной Кореи (Россия, Китай, Южная Корея и Япония) осуществляли строгую координацию и контроль в отношении предпринимаемых шагов. На основе российских предложений Пхеньян сформулировал собственные предложения по решению существующей проблемы. По его инициативе число участников последующих переговоров выросло до шести: Россия, КНДР, Южная Корея, США, Китай и Япония. Первый раунд таких шестисторонних переговоров прошел в августе 2003-го, к настоящему времени состоялось четыре раунда переговоров.
В 2003–2004 годах прогресса достичь не удалось. США и Япония предполагают, что КНДР обладает ядерным оружием, рассматривая его в качестве фактора ядерного сдерживания. Они требуют ликвидации как ядерного оружия, так и научно-промышленной инфраструктуры его создания. В противном случае Америка готова к силовому решению. КНР, Россия и Южная Корея пытаются предотвратить силовую акцию против Северной Кореи, чреватую непредсказуемыми последствиями для всего региона.
Пхеньян умело использует ситуацию в своих целях, стараясь максимально затянуть переговорный процесс и получить дополнительное время для разработки ядерного оружия или наращивания ядерного арсенала. Чтобы усилить свою позицию, КНДР потребовала исключить из переговоров Японию, которая якобы действует по подсказке из США да к тому же пытается внести в повестку дня вопрос о японских гражданах, похищенных северокорейскими спецслужбами.
Вначале Вашингтон выступал против участия в переговорах России, считая ее «слабым звеном» и проводником политики Северной Кореи. Между тем Москва заняла исключительно реалистичную позицию, стремясь удержать КНДР от выдвижения завышенных требований, провокационных шагов и неуступчивого поведения, а также не допустить, чтобы компромисс воспринимался как поражение. В дальнейшем Соединенные Штаты стали требовать от Китая и Южной Кореи прекратить оказание помощи Пхеньяну, однако, несмотря на давление, те отказались участвовать в экономической блокаде.
Сближение позиций обеих частей Кореи на шестисторонних переговорах явилось полной неожиданностью для Вашингтона и, по-видимому, стало одной из основных причин годичного перерыва в переговорах.
Локомотивом переговорного процесса постепенно становится Китай. Пекин не может и не хочет допустить смены режима Ким Чен Ира, способного, по мнению руководства КНР, при благоприятных внешнеполитических условиях осуществить в Северной Корее преобразования. В случае же силового решения и падения там нынешнего режима миллионы беженцев могут хлынуть в северо-восточные провинции Китая. Пытаясь избежать экологических, гуманитарных и военных проблем, Пекин оказывает Пхеньяну дозированное экономическое содействие, которое, по оценкам экспертов, составляет от 30 % до 70 % всей международной помощи. КНР стремится ускорить экономический рост своих северовосточных провинций на основе создания единого экономического пространства с Южной Кореей, Японией и Северной Кореей. В результате товарооборот между Китаем и КНДР в 2004-м достиг 1,4 млрд дол., что на 35 % выше аналогичного показателя 2003 года.
Южная Корея выступает против экономических санкций в отношении КНДР. Она по-прежнему готова оказывать своему северному соседу гуманитарную помощь и участвовать в совместных экономических проектах. Сеул согласен выделить Пхеньяну 2 млн кВт электроэнергии, если тот откажется от своей военной ядерной программы. По мнению Южной Кореи, США следует перестать видеть в Северной Корее «очаг зла» и перейти к подготовке условий для мягкой смены режима.
Россия имеет экономические интересы в Северо-Восточной Азии и стремится усилить здесь свои позиции. В августе 2001-го в Москве президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ир приняли решение об организации прямого железнодорожного сообщения между КНДР и Россией. Прорабатываются планы продления железнодорожной колеи от Хасана (Приморский край) в северокорейский порт Раджин, где находится нефтеперерабатывающий завод «Сынри», построенный при техническом содействии СССР. Ряд российских инвесторов заинтересованы как в поставках нефти из России на переработку в КНДР, так и в транзите грузов из европейских стран в Южную Корею и обратно.
Пхеньян неоднократно обращался к Москве с просьбой о поставках электроэнергии, что стало бы возможно в случае строительства АЭС в российском Приморском крае. Таким образом удалось бы решить ряд проблем, связанных с возможным строительством АЭС в Северной Корее: снизится опасность утечки ядерных технологий, отпадет потребность вывоза из страны отработанного ядерного топлива. Однако Приморский край относится к сейсмоопасным районам, и, поскольку сооружение здесь АЭС может быть осуществлено только за счет иностранного финансирования в объеме около 2,5 млрд дол., завершить строительство возможно не ранее 2013 года.
Прогресс на шестисторонних переговорах – возврат Пхеньяна в ДНЯО, применение полноохватных гарантий МАГАТЭ, демонтаж ядерной инфраструктуры двойного назначения, ликвидация оружейных ядерных материалов и взрывных устройств – возможен лишь в случае, если КНР, Россия, США, Южная Корея и Япония выработают единую позицию. А это, в свою очередь, требует обязательного отказа Соединенных Штатов и Японии от силового решения северокорейской ядерной проблемы. Далее было бы целесообразным возобновление в том или ином виде действия Рамочного соглашения в отношении строительства легководных реакторов, а до ввода их в строй – поставок топлива. Следует рассмотреть перспективы участия России в консорциуме КЕДО: в частности, она могла бы поставлять ядерное топливо для строящейся АЭС, а затем вывозить ОЯТ.
Активное вовлечение Северной Кореи в общемировые экономические процессы придаст необратимый характер положительным тенденциям в ее экономике и создаст условия для постепенной трансформации. Военный же вариант смены режима неприемлем из-за угрозы гуманитарной и экологической катастрофы, огромных человеческих жертв и чрезмерного материального ущерба сопредельным странам.
Требование КНДР исключить Японию из шестисторонних переговоров носит пропагандистский характер и направлено на ослабление позиции США. Несмотря на текущее ухудшение отношений Японии с Китаем и Южной Кореей, а также на ее предложение о передаче северокорейского ядерного вопроса на рассмотрение в СБ ООН, изменение шестистороннего формата переговоров, по-видимому, нецелесообразно. Япония является наиболее последовательным союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обладает большими финансовыми ресурсами и расположена в непосредственной близости от Корейского полуострова.
Учитывая значительную опасность, которую представляет для международного сообщества экспорт Северной Кореей радиоактивных и ядерных материалов оружейного качества, ракет и ракетных технологий, необходимо заключить с ней соответствующее соглашение и осуществлять постоянный мониторинг экспортируемых товаров. В крайнем случае могут быть задействованы возможности, имеющиеся в рамках Инициативы по безопасности в борьбе с распространением ОМУ.
Кроме этого, необходимо пересмотреть нынешний международно-правовой режим поддержания мира на Корейском полуострове, основанный на Соглашении о военном перемирии в Корее от 1953 года. Режим не обеспечивает нормального диалога между КНДР, с одной стороны, и США и Южной Кореей – с другой. Установление дипломатических отношений и вывод из приграничной зоны тяжелой военной техники позволит снизить остроту проблемы безопасности на Корейском полуострове. В таком решении заинтересован и Китай, поскольку оно позволит ему не учитывать своих обязательств по защите Северной Кореи от военного нападения.
В период с 26 июля по 6 августа 2005 года в Пекине прошел первый этап четвертого раунда шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР, однако достичь значительного прогресса не удалось. Пхеньян не соглашался на ликвидацию своих ядерных программ до тех пор, пока другие участники переговоров не предоставят Северной Корее гарантии безопасности и экономической помощи. Кроме этого, Пхеньян настаивал на своем праве на мирную ядерную деятельность под контролем МАГАТЭ, и его позицию поддержали Китай, Россия и Южная Корея. В ходе второго этапа четвертого раунда шестисторонних переговоров (13–19 сентября) Соединенные Штаты смягчили свою позицию и согласились на предоставление КНДР энергоресурсов в обмен на прекращение ею своей военной ядерной программы, высказав намерение рассмотреть в ближайшем будущем возможность достройки северокорейской АЭС на основе двух легководных ядерных реакторов.
Вашингтон заявил, что не собирается нападать на Северную Корею. Со своей стороны та пообещала вернуться в ДНЯО, допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ и принять меры для улучшения двусторонних отношений с США и Японией. По-видимому, смягчение американской позиции обусловлено желанием Вашингтона сконцентрироваться на таком более важном, по его мнению, вопросе, как обострившаяся иранская ядерная проблема.
Тем не менее пятый раунд шестисторонних переговоров, который планируется провести в ноябре 2005 года в Пекине, ожидается не легким. Вопрос о праве Северной Кореи на мирную ядерную деятельность пока отложен, так как Соединенные Штаты по-прежнему не собираются возвращаться к обязательству о поставках легководных ядерных реакторов, требуя сначала ликвидировать военную ядерную программу Пхеньяна. Для урегулирования ситуации необходимо принятие всеми участниками «дорожной карты», определяющей обязательства сторон и сроки проводимых мероприятий. Как бы то ни было, прогресс, уже достигнутый в ходе шестисторонних переговоров, демонстрирует важность совместных действий и необходимость поиска компромиссов, а также усиление влияния Китая и, возможно, России на Корейском полуострове.

Ключи от счастья, или Большая Центральная Азия
И.Д. Звягельская – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН
Резюме Государства Центральной Азии, без сомнения, нуждаются в свободных выборах, искоренении коррупции и реальном демократическом представительстве. Но когда за стимулирование реформ в присущем им стиле берутся Соединенные Штаты, то возникает вопрос: действительно ли их целью является установление демократии, или же ими движут иные мотивы?
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2005
В последнее время стало модным чертить новые границы привычных регионов. В построениях политологов появился Большой Ближний Восток, некоторые заговорили о расширяющемся Дальнем Востоке, а теперь «подоспела» и Большая Центральная Азия. Именно так будет выглядеть новый регион, если, как следует из статьи Фредерика Старра (см. сс. 72–87), присоединить к нему Афганистан и создать под эгидой Соединенных Штатов Партнерство по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии (ПБЦА). Трудно сказать, чего больше в этой идее – реальной озабоченности слишком хрупкими и неустойчивыми изменениями в Афганистане, стремления любым путем закрепить американское влияние в регионе, искренней заинтересованности во внедрении демократических ценностей и обеспечении стабильного развития расположенных здесь государств, намерения стимулировать развитие торговли?
Любая из перечисленных задач могла бы заслуживать самого серьезного внимания и обсуждения, если б не сама постановка вопроса. Как известно, Центральная Азия – регион далеко не однородный: расположенные здесь государства отличаются друг от друга по уровню экономического и политического развития, по особенностям культуры. Утверждение, будто Афганистан и его соседи – страны в равной степени аграрные, изолированные и не имеющие развитого промышленного производства, выглядит, по меньшей мере, абсурдно. Несмотря на разгром талибов, а также на успехи США и их союзников по выстраиванию новой политической системы и по оказанию помощи Афганистану, он все еще остается в ряду «провальных государств». Потребуется много лет и усилий, чтобы поднять страну до уровня любого самого бедного государства Центральной Азии, прошедшего в составе СССР длинный и необратимый путь модернизации.
Что же может причисление Афганистана к данному региону принести расположенным здесь государствам и международному сообществу? Оказывается, прежде всего – выгоды от торговли, причем не только за счет новых торговых путей из Центральной Азии в Афганистан и далее в Пакистан (что в принципе логично, если только можно будет их проложить и обеспечить сохранность грузов), но и за счет региональной торговли. Развитие внутрирегиональных торговых связей позволит афганским крестьянам появиться на рынках с легальным товаром. Неизвестно, правда, где они смогут его взять. Несмотря на международное присутствие, в Афганистане наблюдается устойчивый рост производства наркотиков: в 2003 году – 3 600 тонн, а в 2004-м – 4 200 тонн. Более удобными стали и средства доставки: уже не надо пробираться караванами через границу, можно перевозить зелье самолетами. Что ж, представим себе трудолюбивых афганских крестьян, напрямую сбывающих свой товар. Перспектив замены опиумного мака на репу и морковь не наблюдается, а если кто-то все же решится сажать легальные агрикультуры в промышленных объемах, то неясно, кто в Центральной Азии купит эту продукцию. Конкуренты в сфере сельскохозяйственного производства тоже никому не нужны. Разве что по новым транспортным путям что-то удастся перебросить в Европу, но в это почему-то не верится.
Кстати, о торговых путях. Выясняется (опять же из статьи), что в течение 2,5 тысяч лет торговля здесь процветала, пока южная граница СССР не разрезала регион на две части. По поводу того, как именно она процветала во второй половине ХIХ века, когда в этом регионе столкнулись интересы Российской и Британской империй и были установлены политические границы, можно и поспорить. Но в столь глубоком экскурсе в историю нет надобности. Автору важно доказать, что необходимо разрушить нынешнюю российскую монополию (sic!) на экспорт центральноазиатскими государствами углеводородов, электроэнергии и хлопка за счет открытия торговых путей на юг. Так бы сразу и сказали, что причисление Афганистана к Центральной Азии должно нанести удар по торговым интересам России, которая мешает вернуться к золотым временам 2 500-летней давности, когда торговать газом и электроэнергией было куда вольготнее.
Американские стратегические цели в регионе, как их видит автор статьи, – это война с терроризмом, построение ориентированных на Соединенные Штаты инфраструктур безопасности, продвижение демократических институтов. Попробуем разобраться с этими тезисами.
Продолжая борьбу с терроризмом (который, кстати сказать, не является первостепенной угрозой в Центральной Азии), США должны укрепить Национальную армию Афганистана, а также обеспечить основные права населения Узбекистана и Киргизии. Радует, что в Афганистане проблема прав уже решена и осталось лишь решить вопрос с армией. А то ведь терроризм, идущий из этой страны, захлестнет наивное ПБЦА, включая и его американский штаб, который для начала будет располагаться в Кабуле, а затем каждые два года перемещаться в столицу одного из центральноазиатских государств. Впрочем, планами предусмотрено укрепление границ, хотя непонятно чьих. Если границ внутри ПБЦА, то зачем его создавать, а если по периметру, то только обустройство границы с Пакистаном предоставит постоянную работу многим поколениям партнеров.
Но не будем придираться, поскольку дальше нам терпеливо разъясняют, как именно станет укрепляться безопасность. Речь идет о соглашениях о «стратегическом партнерстве», в рамках которых будет сохраняться военное присутствие США в Узбекистане и Афганистане, а также передовое базирование в других частях региона. Американские базы появились в Центральной Азии, когда Соединенные Штаты нуждались в тыловой поддержке операции «Несокрушимая свобода». Теперь, судя по всему, в Афганистане порядок наведен. В этой стране «Вашингтону удалось укрепить и модернизировать правительственные институты во всех 34 провинциях и 360 округах страны, создав благоприятную среду для гражданского общества и реализации гражданских прав». Комментировать здесь нечего – лучше просто принять на веру, но тогда возникает законный вопрос: «Против кого будете дружить?»
Зачем тратиться на военные базы и иные объекты, если причина их появления ликвидирована с поистине революционным размахом, если в Афганистане на глазах растут неправительственные организации, а граждане уже получили шанс для выражения своей гражданской позиции? Ответ очевиден: для сдерживания Китая, а возможно, и России, путающейся под ногами со своими СНГ, Организацией Договора о коллективной безопасности, прочими структурами и мешающей реализации планов по строительству светлого будущего. А планы эти действительно громадные. Это и подготовка кадров, и общественная дипломатия, и образовательные программы – иными словами, все то, что должна была и не стала делать Россия. Что ж, свято место пусто не бывает, и хотя проекты слишком амбициозны и вряд ли реализуемы в полном объеме, по российскому влиянию может быть нанесен чувствительный удар.
Автор не исключает, что Партнерство по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии вызовет озабоченность у России и Китая, которые могут воспринять его как «подрыв их устремлений… в той мере, в какой эти устремления идут вразрез с укреплением суверенитета и жизнеспособности государств региона». Действительно, что полезного сделала Россия для того, чтобы укрепить суверенитет расположенных здесь государств? Всего-то предоставила им независимость вопреки их собственной воле. Ну да США не проведешь! Они хорошо знают, как обращаться с чужими суверенитетами, и для них не составит труда определить, у кого какие устремления есть на этот счет. А если Россия и Китай будут вести себя прилично и не станут мешать созданию у своих границ новых структур под патронатом заокеанской державы, то смогут воспользоваться преимуществами ПБЦА – транспортными артериями и результатами борьбы с терроризмом и сепаратизмом, которые и не снились какой-то там Шанхайской организации сотрудничества.
Партнерство должно, по замыслу Старра, привлечь и другие региональные силы. Неофициальными гарантами нового форума смогут стать Индия и Турция, а в дальнейшем и Пакистан (насчет последнего сомнения есть и у самого автора, но он с ними успешно справляется). Рассматривается даже потенциальное членство Ирана в ПБЦА, как призванное стимулировать укрепление позиций умеренных сил в этой стране. Таким образом, в довершение всего Партнерство сможет также сыграть роль исправительного учреждения.
Порядком разработан в статье и вопрос о демократизации, а пассаж о том, что «нигде в регионе, включая Афганистан, демократические институты пока не пустили глубоких корней», способен привести в экстаз. Представляете, даже в племенном обществе Афганистана дела с демократическими институтами обстоят неважно. Корней нет – вот в чем беда. Ну а заодно и в Казахстане не лучше. Неужели США совершили чудо и дали такой мощный политический толчок Афганистану, что он, выбравшись из средневековья, в которое его ввергли гражданская война и талибы, сразу оказался в первых рядах строителей демократии, да еще каких строителей? Соединенным Штатам рекомендуется заняться продвижением в регион представительных политических систем, «способных служить образцом для других стран с многочисленным мусульманским населением». Действительно, почему не сделать Афганистан примером, скажем, для Индии или Турции? Пусть учатся на лучших образцах, коли сами не доросли…
Но не стоит ограничиваться Афганистаном, когда в регионе и без него непочатый край работы по части демократии. Общества центральноазиатских государств на самом деле нуждаются в свободных выборах, в искоренении коррупции, в реальном представительстве во властных структурах. Автор статьи признаёт, что путь к этому будет нелегким, и предлагает облегчить его, проведя при помощи США реформу министерств внутренних дел. Нет спору, МВД везде надо серьезно реформировать, но какой лидер, не замеченный в склонности к суициду, позволит иностранной державе свободно действовать на этом поле?
Защита прав человека также один из больных вопросов, и, как отмечает Старр, здесь есть место для критики центральноазиатских правительств, начиная с узбекского. Да, правительство Узбекистана заслуживает многих упреков, но почему же надо начинать именно с него? Почему ничего не говорится, например, о Туркменистане? Потому, что Туркменистану предназначена роль поставщика газа в обход России и не стоит его раздражать по всяким демократическим пустякам?
Можно согласиться с некоторыми тезисами. Среди них и утверждение, что Соединенным Штатам нельзя бросать Афганистан на произвол судьбы. Однако этот вывод не имеет ничего общего с главной идеей – предложением убедить центральноазиатские государства в том, что они экономически почти ничем не отличаются от Афганистана, а политически даже уступают этой стране, в которой успешно строится гражданское общество, и смело могут с ней объединяться в единую региональную организацию. Государства Центральной Азии устали от бесконечных экспериментов. Они – суверенные субъекты международных отношений. Дайте им возможность сделать собственный выбор.

Очень своевременный противник
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2005
В.Л. Иноземцев – д. э. н., главный редактор журнала «Свободная мысль-XXI».
Резюме «Война с террором» не могла не начаться, потому что политики во всем мире крайне нуждались в «правильном» враге. Такого противника нельзя увидеть; борьба с ним должна продолжаться бесконечно долго.
В хронике разворачивающейся антитеррористической кампании 6 июня 2005 года – примечательный день. Не менее знаменательный, чем 29 июля 2005-го или 12 сентября 2007-го. Неужели между тремя этими датами существует связь? Да, существует. Первую отделяют от 11 сентября 2001 года столько же дней и ночей, сколько минуло за период от нападения Японии на Перл-Харбор до подписания ею акта о безоговорочной капитуляции на борту американского линкора «Миссури». Вторая дата отстоит от сентябрьских событий на такой же отрезок времени, который прошел между вторжением германских войск на территорию СССР и взятием Берлина. Третья же придется на окончание промежутка в шесть лет и один день – ровно столько продолжалась самая кровавая в истории Вторая мировая война.
При этом, к сожалению, ничто не свидетельствует о том, что агрессия в отношении «свободного мира», совершенная осенью 2001-го, отражена столь же эффективно, а противник разгромлен столь же убедительно, как в войне, закончившейся 60 лет назад. Устойчивого сокращения числа террористических атак в мире не наблюдается. Практически невозможно подсчитать, сколько средств расходуется в мире на борьбу с террористической угрозой. Но если предположить, что государства, противостоящие террору, тратят на эти цели 40 % прироста своих военных бюджетов, то соответствующие расходы за 2001–2004 годы составят не менее 400 млрд долларов. При этом события в данной исторической драме развиваются таким образом, что «все прогрессивное человечество» начинает сомневаться: действительно ли необходимо доводить до конца «правое дело», инициированное «коалицией решительных», и так ли уж искренни намерения составляющих ее государств?
К сожалению, сегодня дело зашло слишком далеко. Тем важнее осознать, с чем мы все столкнулись, на что решились, каковы в сложившейся ситуации шансы на успех и у нас самих, и у тех, кого мы поспешно назвали (и стремительно сделали) своими врагами. Это необходимо всем нам.
ПОКАЖИТЕ МНЕ ВРАГА
Понятие «терроризм» не имеет однозначного толкования. Обычно его определяют как любые насильственные действия против гражданского населения, направленные на провоцирование паники и нагнетание чувства страха и незащищенности в обществе, дестабилизацию социальных институтов. По мнению экспертов Государственного департамента США, терроризм – это «предумышленное, политически мотивированное насилие, осуществляемое группировками субгосударственного уровня или нелегальными агентами против невоенных целей, чтобы воздействовать на соответствующую аудиторию». Между тем такое определение крайне редко применяется при оценке происходящих событий; намного чаще за терроризм выдаются преступные действия, которые, строго говоря, не могут и не должны рассматриваться в качестве проявлений террористической активности.
Так, ежедневно в репортажах из Ирака или с Северного Кавказа сообщается о таких «терактах», как подрыв автомобиля у ворот военной базы или расстрел из засады автомашины с военнослужащими. Подобные действия, однако, нельзя считать террористическими в прямом смысле слова, как, скажем, никогда не считались терроризмом вылазки партизан против оккупационных войск. Почему, например, убийство президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова 9 мая 2004 года считается террористическим актом, а убийство германского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха 27 июня 1942-го – успешной операцией сил Сопротивления? И если стало привычным говорить об убийстве народовольцами российского императора Александра II (1881) как об успехе террористов, то почему никто не рассматривает таким же образом убийство президента США Авраама Линкольна в 1865-м? И это далеко не все возможные вопросы.
Как правило, к террору прибегают три типа политических сил, каждый из которых преследует свои цели.
Во-первых, это социальные движения, не имеющие широкой общественной поддержки; они применяют террористические методы, чтобы вызвать своими действиями бЧльший общественный резонанс. Примерами могут служить «Народная воля» в России конца XIX века, а в XX столетии – итальянские «Красные бригады» в 1970-е годы, «Тупак Амару» в Перу в 1990-е и т. д. В большинстве случаев террористические вылазки не прибавляли этим группировкам симпатий граждан, и правительства успешно их подавляли.
Во-вторых, это движения меньшинств или угнетенных народов, стремящихся к независимости и самоопределению. Посредством террористических актов они пытаются заставить колонизаторов уйти с земли, которую считают исконно своей. Так действовали алжирские террористы во Франции в 50-е годы прошлого века, палестинские террористы в международном масштабе в 1960–1990-е, чеченские боевики в российских городах на протяжении последнего десятилетия. История показывает, что правительства в конце концов вынуждены идти на удовлетворение требований таких группировок.
В-третьих, это религиозные или квазиидеологические движения, целью которых является добиться либо невмешательства в дела тех или иных государств, регионов или религий, либо доминирования своих верований и идеологий над другими религиозными и общественными принципами. От первого, тоже идеологизированного типа они отличаются прежде всего масштабом деятельности и социальной поддержки, а также глубиной идеологических корней. К подобным движениям относятся исламские террористы, объединенные в организованные группы, такие, как, «Аль-Каида», ХАМАС, «Хезболла», «Ансар-аль-Ислам». В первую очередь «война с терроризмом» объявлена именно этим группам и организациям.
Противодействие каждому из названных типов терроризма обеспечивается по-разному. В первом случае это прежде всего максимально эффективное использование сил правопорядка и обычных механизмов борьбы с тяжкими правонарушениями. Террористическая организация, задумавшая, например, убийство известного политика, мало чем отличается от преступной группировки, замышляющей устранение лидера конкурентов. Второй случай более сложен, в частности потому, что Организация Объединенных Наций подтвердила «легитимность использования народами колоний, равно как и народами, находящимися под иностранным владычеством, любых имеющихся в их распоряжении методов борьбы за самоопределение и независимость» (резолюция Генеральной Ассамблеи № 2908 от 2 ноября 1972 года «О применении Декларации о предоставлении независимости странам и народам, находившимся под колониальным владычеством»). Строгое же разграничение легитимной борьбы за самоопределение и того, что сегодня предпочитают называть сепаратизмом, вряд ли возможно. Поэтому основным «оружием» в борьбе с терроризмом второго типа оказываются переговоры со стоящими за ним политическими силами. В свое время ставку на переговоры делал и французский президент Шарль де Голль, решая алжирскую проблему, и английский премьер Тони Блэр в поисках мира в Северной Ирландии. Заметные успехи достигнуты в Испании: в Стране Басков уровень насилия за последние годы понизился в несколько раз. Активизировался и ближневосточный мирный процесс, что связано с приходом к власти нового палестинского лидера Махмуда Аббаса.
И наконец, борьба с третьим типом терроризма, наименее изученным и осмысленным, должна, очевидно, строиться прежде всего на глубоком анализе целей и задач террористов, который, между тем, отсутствует у большинства «борцов против террора».
Итак, вооруженная борьба за самоопределение и национальную независимость, если даже в ней применяются методы, не предусмотренные конвенциями о способах ведения войны (как, например, на Западном берегу реки Иордан, в Чечне или Ираке), не может считаться террором. Не являются примерами терроризма и нападения на военнослужащих оккупационных армий. К террористической активности неправильно относить также отдельные насильственные акции, объектом которых оказываются военные или политические руководители «противника» (к примеру, обстрел багдадской гостиницы, где остановились американские чиновники). Ведь терроризм направлен против гражданского населения, то есть против тех, кто не причастен к политике, спровоцировавшей действия террористов.
Таким образом, война с терроризмом – это скорее миф, созданный современными политиками с целью найти оправдание своим агрессивным стремлениям. Мир нуждается не в объявлении войны непонятному врагу, а в первую очередь в изучении природы террористических движений, мотивов действий террористов, наконец, в определении того, каковы предпосылки устранения этого явления.
Сегодня главную угрозу западный мир усматривает в мусульманском терроризме. Атакуя 11 сентября 2001 года здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне, боевики «Аль-Каиды», весьма вероятно, стремились тем самым восславить Аллаха и нанести удар по тем символическим центрам, откуда осуществлялось экономическое и военное вмешательство в дела «правоверных». Более конкретных целей они перед собой, скорее всего, не ставили. (Во многом именно поэтому службы безопасности США и других западных стран не смогли воспрепятствовать нападавшим. Не понимая намерения противника, нельзя предположить, где и каким образом будет нанесен удар.)
Однако последствия террористических актов 11 сентября оказались куда более масштабными, чем те, на которые надеялись их организаторы, движимые только слепой ненавистью к западному миру. Вторжение войск антитеррористической коалиции в Афганистан и – еще в большей мере – американская агрессия в отношении Ирака позволили лидерам «Аль-Каиды» представить «войну с терроризмом» как войну Запада с исламским миром, на что, заметим, имелись веские основания. Как отмечает Джордж Сорос, «объявив войну терроризму и вторгнувшись в Ирак, президент Буш сыграл на руку террористам», и если террористы «ждали от нас той реакции, которая в действительности последовала, то, по-видимому, они понимали нас лучше, чем мы сами понимаем себя». Не менее крупной ошибкой развитых стран стала их готовность рассматривать происходящее на Северном Кавказе и палестинских территориях как битву на фронтах глобальной антитеррористической войны. Тем самым фактически оказались смешаны «в одну кучу» два совершенно разных процесса: с одной стороны, бескомпромиссная борьба исламских фундаменталистов с фундаменталистами западными, а с другой – очевидные, хотя и спорные с политической точки зрения, попытки чеченского и палестинского народов повысить степень своей автономии и суверенитета. Собственно говоря, не столько трагедия 11 сентября, сколько ответные действия Запада создали – практически из ничего – ту глобальную «террористическую коалицию», которой развитой мир мало что может сегодня противопоставить. Эта аморфная структура, а точнее, масса слабо связанных между собой полуавтономных группировок и движений, и есть тот «враг», против которого идет нынешняя «война».
Отсюда возникает, пожалуй, наиболее важный вопрос, которого всячески избегают апологеты «войны с терроризмом»: кто в этой «войне» выступает субъектом, а кто – объектом агрессии? Даже в наиболее сложном случае, ближневосточном, любой непредвзятый наблюдатель засвидетельствует, что Израиль подвергался нападениям со стороны своих арабских соседей, но в отношении палестинцев он сам оказывался агрессором. Следствие очевидно: еврейское государство борется сегодня не с египетскими или иорданскими, а с палестинскими террористами. В случае с Чечней дело обстоит так же: декабрьский указ 1994 года санкционировал ввод российских войск на территорию Чеченской Республики, что привело к многотысячным жертвам с обеих сторон. В ситуации с «Аль-Каидой» вряд ли правомерно вести речь об агрессивных действиях США, однако в то же время нельзя не признать, что с середины 1970-х американские военные базы находятся в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и многих других странах региона, а никак не арабские – вблизи Вашингтона. При этом большая часть нападений на граждан США в странах Ближнего Востока направлена против военнослужащих или работников официальных представительств Соединенных Штатов.
Таким образом, современный всплеск терроризма обусловлен тем, что арабский мир все сильнее ощущает враждебное отношение к исламу со стороны западной цивилизации, прежде всего в американской ее версии. Причем реакция западного мира на события 11 сентября 2001 года лишь способствовала появлению «единого антитеррористического фронта», подтолкнув экстремистов к сплочению.
ПРИЧИНЫ АКТИВИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТОВ
После террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне западные политики и эксперты незамедлительно принялись искать причины, побудившие «Аль-Каиду» к столь внушительной демонстрации собственной силы. Практически сразу же прозвучали мнения о том, что активизация терроризма связана с усиливающимся экономическим разрывом между Севером и Югом; начались поиски корней терроризма в характере и специфических чертах ислама.
Однако истоки современного терроризма – не в экономическом неравенстве. Это становится очевидно при сравнении западного мира с наименее развитыми африканскими государствами: тропическая Африка в последнее время более известна кровопролитными внутренними войнами и этническими чистками, чем террористическими организациями. Из 261 террористической или военизированной организации только 64 приходится на этот регион, причем 30 из них действуют в Судане, Эфиопии, Эритрее, Сомали и Демократической Республике Конго, где продолжаются гражданские войны. Ни одна африканская террористическая организация не осуществляет терактов за пределами своей страны. Бедные страны Латинской Америки, где в 1970-е и 1980-е годы происходило наибольшее число террористических вылазок, также практически не участвуют в современном международном терроре.
В то же время исламский мир, который сегодня признан основным источником террористической угрозы, остается весьма богатым регионом, а наиболее известные международные террористы – это выходцы из вполне благополучных в материальном отношении слоев населения. Более того, сама террористическая деятельность обеспечивает ее участникам серьезные доходы (по некоторым оценкам, размеры так называемой новой экономики террора (the New Economy of Terror) составляют до 1,5 трлн дол., или 5 % мирового валового продукта.
Точно так же современный терроризм не обусловлен политическим противостоянием двух частей мира. Под политикой сегодня, как правило, понимают активность, в той или иной мере связанную с действиями государственных институтов. Напротив, террористические движения всегда возникали как негосударственные структуры, и именно государства, как наиболее значимые символы власти, обычно оказывались объектом их агрессивных действий. Как подчеркивает, например, профессор Нью-Йоркского университета Ной Фелдмен, уже сами разговоры о «государственном терроризме» «решительно наводят на мысль и наглядно свидетельствуют о том, что употребляемое нами в обычном смысле понятие “терроризм” включает лишь негосударственное насилие». Эту точку зрения разделяет ныне большинство экспертного сообщества. Достаточно уверенно можно утверждать, что подобная ситуация сохранится и впредь: в условиях начавшейся «войны с террором» негосударственный характер террористических группировок обеспечивает им серьезные преимущества. Вместе с тем отождествление террористической организации с неким государством, напротив, грозит тому самыми тяжелыми последствиями (как произошло с Афганистаном).
На мой взгляд, основные причины современной волны терроризма кроются не столько в объективной реальности нашего времени, сколько в восприятии ее широкими массами населения, в частности, в мусульманском мире. Западная цивилизация, несомненно, доминирует на планете, но доминирует весьма специфическим образом – минимизируя свои контакты с теми, кто к ней не относится. Торговля со странами Африки, Ближнего Востока и Азии (исключая Китай и других азиатских «тигров») обеспечивает не более 9 % товарооборота Соединенных Штатов и государств Европейского союза. Более 2/3 стоимостного объема этой торговли приходится на нефть и нефтепродукты. Инвестиции США и ЕС в эти регионы поддерживаются на минимальном уровне: не более 1,8 % совокупного американского и около 4 % совокупного европейского объемов.
Сами арабские государства, начав в 1960-е бурную модернизацию, вскоре столкнулись с перспективой более «легкого» существования за счет экспорта нефти; те из них, которые недавно считались наиболее развитыми – Египет и Сирия, оказались в новой ситуации аутсайдерами. Запад, и в первую очередь США, ничего не сделал для поддержки своих сторонников в этом регионе, предпочитая использовать тактику грубого нажима. В то же время культурное проникновение Запада шло в регионе не менее активно, чем повсюду в мире. Поэтому неудивительно, что местное население постепенно стало видеть в Америке враждебную силу – такую, которая поддерживает Израиль, укрепляет свое военное присутствие в регионе, проповедует образ жизни, всегда казавшийся недоступным большинству арабского населения, наконец, находится на стороне полуфеодальных режимов, не пользующихся большой поддержкой собственных подданных. Запад в глазах мусульман непобедим в военном отношении, недостижим по экономической мощи, но при этом пользуется их богатствами и сбивает их с пути, указанного предками. Сегодня часто цитируют знаменитую фатву Усамы бен Ладена от 23 февраля 1998 года, в которой говорится: «Убивать американцев и их союзников – гражданских и военных – личный долг каждого мусульманина», – но при этом забывают о том, что война американцам была объявлена «для того, чтобы их армии, потерпевшие поражение и неспособные угрожать мусульманам, убрались со всех земель ислама». В такой атмосфере людям проще пойти за толпой, чем сделать разумный индивидуальный выбор.
Население большинства государств арабского мира, безусловно, ставит коллективную самоидентификацию выше свободы индивидуального выбора. Связано ли это с исламскими традициями, на чем настаивают многие исследователи, для данного анализа не играет большой роли. Важнее то, что здесь Запад выступает в качестве той «чуждой» силы, противостояние которой сплачивает народы Ближего Востока, еще не имеющие подлинной национальной идентичности. Более того, чем активнее западый мир (и в первую очередь США) будет насаждать в этом регионе принципы личностной автономии и политической демократии, тем сильнее будет укрепляться исламская оппозиция и тем меньше останется шансов для того, чтобы западные ценности овладели умами и сердцами местного населения.
Современный терроризм, разумеется, не сможет навязать западному миру пересмотр его основополагающих принципов; он, конечно же, не приведет к возникновению «всемирного халифата», о чем для красного словца заявляют некоторые исламские проповедники. Собственно говоря, террористы и не ставят перед собой таких задач и целей. Их стремления намного скромнее: они прежде всего хотят, чтобы Запад перестал устанавливать свои порядки за пределами собственных границ. И эти требования, по сути, трудно не признать справедливыми.
ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На сегодняшний день Запад во главе с Соединенными Штатами, государством, превосходящим по мощи величайшие империи прошлого, пока не добился ощутимых результатов в борьбе с противником, который применяет против него «оружие слабых», то есть террор.
Способен ли Запад победить в этой так называемой «войне с терроризмом»? Какие последствия для всего мира будет иметь взаимная эскалация «террористического» и «антитеррористического» насилия? Сохранятся ли нынешние международные институты, или они станут жертвами (пусть даже случайными) этой схватки?
Эти вопросы, весьма актуальные, практически никогда не поднимаются идеологами «войны с террором». Во-первых, глобальный террор – новое, неисследованное явление для западных политологов и социологов. Кроме того, западные эксперты настолько уверовали в неизбежность распространения демократии в мире, в преобладание в человеческом сознании индивидуалистических стремлений, в торжество рационального начала над иррациональным, что это мешает им охватить весь комплекс проблем, порождающих современный мусульманский терроризм.
Во-вторых, сегодня не видно особой потребности найти ответы на многие актуальные вопросы. Для современной политики, предельно инструментализированной и в значительной мере лишенной стратегического видения, всплеск терроризма оказался, как ни кощунственно это звучит, весьма кстати. Политики, мыслящие «от выборов до выборов» формулами типа «кто не с нами, тот против нас», охотно воспользовались террористической угрозой для «дисциплинирования» населения, а также для манипуляции сознанием и симпатиями избирателей. Борьба с абстрактным «международным терроризмом» является для них превосходным средством продемонстрировать своему народу сложность решаемых задач, собственную активность и ответственность.
Если глубоко задуматься над перечисленными проблемами, окажется, что поводов для оптимизма немного.
У Запада очень мало шансов на победу. В первую очередь потому, что ему приходится иметь дело не столько с экстремистскими вылазками единичных бандитов, сколько с феноменом, за которым прежде всего стоит стремление народов к самоопределению или обретению собственной идентичности, то есть определенные цивилизационные ценности. Но история свидетельствует, что на протяжении второй половины ХХ столетия Запад проигрывал все войны, в которых противная сторона боролась за свою независимость или за возможность состояться как культурная общность.
Помимо этого население западных стран сегодня убеждено в том, что «демократия» (то есть западные представления о свободе и справедливом обществе) должна укорениться повсюду. Однако смириться с навязанными извне представлениями о свободе – значит перестать быть свободным самому, и этого на Западе, похоже, не понимают и не хотят понимать. Утверждая, что террористы – это враги свободы, западные лидеры безнадежно заблуждаются и вводят в заблуждение тех, кто следует за ними. Нет, террористы борются не против свободы, а за свободу своих народов не прислушиваться к чужим советам.
Здесь на память приходит один пример, прекрасно показывающий всю примитивность мышления американского политического класса, выступающего ныне лидером в «войне с террором». В 60-е годы прошлого века чернокожие американцы начали масштабную кампанию борьбы за отмену расовой сегрегации, утверждая, что ничем не отличаются от белых. Однако сорок лет спустя те же афроамериканцы настаивают на своей «особости» и требуют квот в университетах и налоговых поблажек, дополнительного финансирования социальных программ и т. д. И что? Правительство вводит систему affirmative action (речь идет о принятом в 2003-м решении Верховного суда США оставить в силе Программу позитивных действий, предоставляющую льготы, в частности, расовым меньшинствам. – Ред.), прямо противоречащую, как отмечают многие социологи, фундаментальным принципам либерализма. В 1960-е годы новые независимые страны тоже хотели быть «такими, как все». Но они потерпели неудачу и теперь апеллируют к собственной исключительности. Почему же американские политики, соглашаясь с претензиями собственных чернокожих на «особость», игнорируют аналогичные претензии со стороны арабского мира?
Кроме того, противодействуя Западу, террористы используют заимствованное у него же оружие. Так, главная, как считается, трудность борьбы с террористами обусловлена «сетевым» характером их структур, успешно противостоящих традиционной тактике армий и спецслужб. Но на самом деле террористы ничего не изобрели. Они лишь взяли на вооружение средство, с помощью которого стремящийся к экономической экспансии Запад не первый год повышает эффективность деятельности своих транснациональных корпораций. Разве не говорили в США и Европе с придыханием о долгожданном приходе «сетевого общества»? Оно пришло.
Таким образом, не осмыслены в должной мере ни цели террористов, ни их методы. Однако существует и гораздо более сложная проблема – мотивация террористического движения. Дело в том, что отдельные террористические акции, как правило требующие от их исполнителей самопожертвования, нередко являются не жестом отчаяния и не проявлением мужества, а актом личного спасения! Будучи религиозным фанатиком, террорист-смертник действует рационально – ведь убийство десятков «неверных» открывает ему прямую дорогу в рай, что для него гораздо важнее, чем деньги, которые могли быть обещаны его семье или близким. Тем удивительнее, что большинство «борцов с терроризмом» не устают говорить о гигантских суммах, идущих на финансирование террора, о множестве наемников, проникающих в Ирак или Чечню, а также о своих успехах в перекрытии каналов финансирования террористов. Между тем разрушение башен-близнецов вкупе с атакой на Пентагон обошлось его исполнителям не более чем в 500 тыс. дол., в то время как объемы возрожденной торговли опиумом в Афганистане исчисляются миллиардами, а российская помощь «законному» чеченскому правительству – сотнями миллионов долларов. Так что террористы борются отнюдь не за финансирование...
Современные террористы либо воспитаны в обстановке перманентной незащищенности и неуверенности в будущем, либо добровольно обрекли себя (что относится прежде всего к их лидерам) на жизнь в подобных условиях. Еще в 1993-м известный палестинский экстремист Абу Махаз пояснил: «Мы – террористы, да, мы – террористы, потому что это наша судьба». Усиление «лобовой» атаки на террористическое движение может только расширить его ряды и ожесточить его участников, возбуждая в них чувство религиозной и этнической солидарности. Большинство же граждан западных стран не намерены лишаться ни личных свобод, ни материального благополучия и потому будут поддерживать борьбу с терроризмом только до тех пор, пока она не окажется чревата серьезными политическими и экономическими потрясениями. Поэтому удары террористов будут разваливать антитеррористическую коалицию; удары же по террористам – лишь укреплять их ряды.
Прошедшие с начала «войны с террором» почти четыре года показывают, что для поддержки этой войны населением западных стран необходимы весомые доказательства достигнутого прогресса. Пока еще такими свидетельствами могут служить свержение режима «Талибан», разгром лагерей «Аль-Каиды» и освобождение Афганистана, отстранение от власти Саддама Хусейна и оккупация Ирака войсками союзников. Однако эти достижения обошлись США и присоединившимся к ним странам в сотни миллиардов долларов, а дальнейшие перспективы туманны. Поток наркотиков из Афганистана растет, положение в Ираке не стабилизировалось, агрессивность США вызывает вполне понятное стремление других стран обеспечить себе доступ к ядерному оружию. Ситуация в Саудовской Аравии и в Пакистане, единственной мусульманской стране, обладающей оружием массового поражения, остается взрывоопасной. «Война с террором» приводит и к косвенным издержкам – от роста цен на нефть до кризиса на рынке авиаперевозок и туризма. Через некоторое время западный бизнес, пока еще радующийся новым военным заказам и увеличению государственных расходов на безопасность, ощутит, что инициированная американцами авантюра просто никому не выгодна. И террористам сегодня достаточно лишь поддерживать на Западе истерию, запущенную самими же западными лидерами, чтобы со временем увидеть крах их политики.
Кроме того, «война с террором» наносит ущерб единству западного мира. Так, американское вторжение в Ирак начиналось весной 2003 года в условиях беспрецедентного раскола мира на два лагеря – сторонников и противников кампании Соединенных Штатов. Давно назревшая реформа ООН, можно предположить, провалится именно по причине того, что в Соединенных Штатах, России и отчасти Великобритании к нынешним угрозам и вызовам относятся иначе, чем в континентальных европейских странах. Восприятие собственного государства в качестве «осажденной крепости», а остальных стран как звеньев разного рода «осей зла» непродуктивно и ведет лишь к расширению поля для конфликтов и противоречий.
Таким образом, новый раунд «войны с террором» закончится поражением Запада.
ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ И НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
«Война с террором» не могла не начаться. Прежде всего потому, что политики во всем мире крайне нуждались во враге, отвечавшем ряду критериев. «Правильный», с точки зрения современных деятелей, враг – это тот, кто представляет собой опасность, кто не связан с ведущими западными странами. Его место там, куда можно наносить безответные удары; его нельзя увидеть; борьба с ним должна продолжаться бесконечно долго, а мера ее успешности – оставаться неопределимой; наконец, необходимость войны с ним должна оправдывать серьезные ограничения демократических прав собственных граждан, а увеличение расходов на нее не должно вызывать возражений у населения.
Все эти критерии идеально воплощены в «международном терроризме». В политике последних лет данное понятие сыграло ту же роль, что и понятие «глобализация» – в хозяйственной практике последних десятилетий. Если вспомнить историю, окажется, что до середины ХХ столетия взаимодействие между Европой и США, с одной стороны, и остальным миром – с другой, именовалось «вестернизацией», которая, как считалось, универсальна по своему временнЧму характеру и географическому охвату. Причем модель технологического общества со всеми его атрибутами – от массового потребления до либеральной демократии – оценивалась как в принципе легко воспроизводимая и поэтому всеобщая. Однако эта «всеобщая» модель предполагала и ответственного за ее повсеместное насаждение – Запад. Тот факт, что именно в последние десятилетия зафиксирован невиданный рост мирового неравенства, не волнует адептов глобализации. Гораздо важнее иное: любую экономическую проблему можно сегодня объяснить объективным процессом глобализации и, как говорится, «умыть руки». Понятие «международный терроризм» дало политикам такой же инструмент ухода от реальности (и от ответственности), какой получили экономисты с появлением термина «глобализация». Было бы наивно полагать, что политики не воспользуются этой новой возможностью.
«Война с террором» – это то, в чем кровно заинтересованы правящие элиты и руководители всех без исключения вовлеченных государств – Соединенных Штатов и России, Великобритании и Польши, многих других. Им необходимо раздувание террористической угрозы и уничтожение все новых и новых террористов. (Причем именно уничтожение, как мы видели это на примере Аслана Масхадова, а не предание их гласному и справедливому суду, о чем так много говорится.) Им требуется наращивание военных расходов и, как отмечалось выше, ограничение гражданских прав, а также многое другое... Так что этой войне не суждено завершиться быстро. Даже если антитеррористическая коалиция в ее нынешнем виде и прекратит свое существование (а в этом у меня практически нет сомнений), то сама «борьба» в разных ее формах будет продолжаться.
Но кровавые акции террористов, конечно же, не должны оставаться безответными. При этом в борьбе с террористической угрозой необходимо соблюдать несколько очевидных и неоспоримых правил.
Во-первых, нужно провести четкую грань между вооруженными формированиями, сражающимися за самоопределение и независимость своих народов, и террористами, действующими во имя идеологических и религиозных целей. Если в первом случае, как уже было сказано, наиболее эффективным средством решения проблем являются переговоры, то во втором переговорный процесс вряд ли возможен. Да в нем и нет необходимости – ведь требования террористов из «Аль-Каиды» или «Исламского джихада» не предусматривают политических договоренностей. Исламские экстремисты не представляют собой той политической силы, с которой возможны переговоры. Они не могут взять на себя внятных обязательств. Нет никакой возможности оказать на них давление при несоблюдении ими достигнутых договоренностей. В общем, все они – не сторона на переговорах.
Во-вторых, даже признавая необходимость отказаться от переговоров, нельзя утверждать, что конечной целью войны с террористами является их истребление. Чем активнее ликвидируются отдельные террористы, тем больше весь народ проникается целями и задачами их движения; примером тому может служить обстановка на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также в Чечне.
Поэтому подходы к борьбе с терроризмом должны различаться в зависимости от того, где проходит «линия фронта». Если противостояние террору происходит на территории западных стран, теракты следует квалифицировать как тяжкое преступление – убийство или покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами. Соответсвенно террористов надлежит обезвреживать, а в их организации – внедрять агентов; следует перекрывать каналы поступления к ним денег и оружия, а приток иммигрантов из стран, где расположены «основные силы» главных террористических организаций, – ограничивать. Мониторинг иммигрантов и выходцев из таких стран необходимо на определенный период времени признать хотя и неприятной, но вынужденной, а потому допустимой мерой. Об эффективности таких мер говорит пример США, где после 11 сентября 2001 года не зафиксировано ни одного террористического акта. И причиной тому – усилившиеся меры внутренней безопасности, а отнюдь не сокращение числа боевиков «Аль-Каиды».
Если же борьба с террором ведется за пределами Запада, требуется выработать и принять жесткие правила отношений с государствами, на территории которых активно действуют террористические группировки. Эти государства (а к ним, несомненно, относятся многие ближневосточные страны) должны быть лишены всякой помощи со стороны развитого мира; следует полностью отказаться от практики продажи им любых систем вооружения; предупредить о недопустимости обладания оружием массового поражения (причем, например, к Пакистану это относится даже в большей степени, чем могло бы относиться к Ираку), ограничить торговое и экономическое сотрудничество с ними и т. д. Если народы этих стран предпочитают сохранять свой образ жизни, традиции и религиозную «чистоту», им не нужно препятствовать. Напротив, показательное «отступление» Запада из данного региона при жестком недопущении перенесения исламского джихада на территорию развитых стран вызовет проблемы у самих мусульманских экстремистов, не имеющих никакой позитивной программы. Как показывает пример отстающих государств, наиболее эффективный способ дискредитировать популистские движения – позволить последним добиться провозглашаемых ими целей. «Бросив исламский мир на произвол судьбы», мы отнюдь не предадим идеалы свободы и гуманизма. Западные ценности будут усвоены не там, куда Западу хватит сил их донести, а там, где на них возникнет реальный и осмысленный спрос. Свобода важна не сама по себе – гораздо важнее завоеванная и выстраданная свобода. Пока мусульманские народы не ощутят потребность в западных ценностях, не возжелают свободы, навязать им их будет невозможно да и, замечу, не нужно.

Ядерный подход к сегодняшней реальности
Джон Дейч – профессор Массачусетского технологического института. Занимал посты заместителя министра обороны, председателя Совета по ядерным вооружениям и директора ЦРУ в администрации президента Билла Клинтона, а также заместителя министра энергетики в администрации президента Джимми Картера. Данная статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 1 (январь/февраль) за 2005 год. © 2005 Council on Foreign Relations Inc.
Резюме После окончания холодной войны характер ядерной угрозы изменился, однако ядерный подход Вашингтона не претерпел необходимой трансформации. Соединенным Штатам следует сократить свой арсенал, но при этом дать согласие на ограниченные ядерные испытания и перестроить свои ядерные силы так, чтобы стимулировать нераспространение и не подрывать сдерживание.
ВИДОИЗМЕНЕНИЕ УГРОЗЫ
Распад Советского Союза повлек за собой радикальные геополитические сдвиги, которые должны были привести к существенным изменениям в ядерной доктрине Соединенных Штатов. Пересмотр политики администрацией Клинтона в 1994 году и администрацией Буша в 2002-м, привел, однако, лишь к незначительным изменениям. В результате Соединенные Штаты не могут убедительно обосновать ни наличие нынешней структуры своих ядерных сил, ни ту политику, на которую опирается руководство отраслью ядерных вооружений.
Окончание холодной войны не означало, что Соединенные Штаты могут полностью отказаться от ядерных вооружений. Их существование – это реальность, а знания, необходимые для их производства, широко распространены. Но за последнее десятилетие фундаментально изменилось лицо ядерной угрозы: теперь речь идет не о широкомасштабном нападении, а об использовании одного или нескольких устройств страной-изгоем или субнациональной группой против Соединенных Штатов или против одного из их союзников. Создание препятствий на пути распространения ядерного оружия — путем замедления роста числа государств, обладающих ядерным потенциалом, усилия по предотвращению попадания ядерных устройств в руки террористических группировок, а также посредством защиты существующих запасов — превратилось в не менее важный приоритет, чем сдерживание масштабных ядерных нападений.
К сожалению, сегодняшняя ядерная доктрина США не отражает этого сдвига. Вашингтон все еще содержит большой ядерный арсенал, созданный в период холодной войны, и пренебрегает тем, какое воздействие его ядерная политика оказывает на политику других государств. На самом деле, учитывая огромное преимущество Соединенных Штатов в обычных вооружениях, они не нуждаются в ядерном оружии ни для ведения войны, ни для сдерживания обычной войны. Таким образом, им следовало бы значительно сократить масштаб своих ядерных программ. Политическому руководству США следовало бы резко уменьшить количество развернутых боеголовок, находящихся на вооружении регулярных войск, и сделать более прозрачной деятельность по накапливанию ядерных запасов (действующих и списанных боеголовок и ядерных материалов), установив тем самым стандарт безопасности для других стран. Соединенным Штатам, однако, не следует отказываться от ядерных сил, которыми они располагают в настоящее время, и нужно даже оставить открытой возможность проведения некоторых видов ограниченных ядерных испытаний. Короче говоря, новая ядерная доктрина США должна стимулировать международные усилия по нераспространению, не жертвуя при этом способностью Соединенных Штатов сохранять свой ядерный подход, сдерживающий нападение.
ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В прошлом политические лидеры США обсуждали множество возможных способов использовать ядерное оружие, в том числе массированное возмездие, минимизацию ущерба при обмене ядерными ударами или установление контроля над эскалацией при более ограниченных сценариях. Но при этом они всегда понимали, что назначение ядерного оружия состоит в сдерживании войны, а не в том, чтобы ее вести. Однако для действенного сдерживания необходимо, чтобы угроза превентивного или ответного применения этого оружия была вполне убедительной. Отсюда следует, что независимо от количества или состава вооружений в ядерном арсенале они должны поддерживаться в состоянии готовности, а не храниться как «деревянные пушки».
В период холодной войны набор ядерных сценариев определял задачу стратегического сдерживания Советского Союза. Количество вооружений в соответствии с Единым комплексным оперативным планом (SIOP) – стратегией ядерного нападения, разработанной военными и одобренной президентом, – зависело от числа способов нападения, числа целей (как военных, так и городских и промышленных) и желательного уровня «ожидаемого ущерба», наносимого каждой цели. «Ожидаемый ущерб» зависел от «прочности» цели, ее вероятной досягаемости, а также от взрывной мощности и точности программируемого боевого средства. Не требуется особого воображения, чтобы понять, что расчеты такого рода практически оправдывали приобретение нескольких тысяч единиц стратегического оружия, что и произошло. В 1970-е и 1980-е годы в арсеналах Соединенных Штатов и Советского Союза накопилось также несколько тысяч единиц тактического ядерного оружия, менее крупных устройств, предназначенных для регионального или боевого применения.
Хотя природа сегодняшних угроз и ставит под вопрос смысл для Соединенных Штатов содержать большие ядерные запасы, но ядерные вооружения продолжают играть в безопасности США одну из ключевых ролей. В конечном счете нет никаких гарантий, что геополитическая обстановка не изменится радикально и новоявленный более воинственный Китай или возвращение России к тоталитаризму не вынудят Соединенные Штаты больше полагаться на свои ядерные силы. Более того, роль Вашингтона, как ведущей ядерной державы, по-прежнему способствует ограничению ядерных амбиций других государств. Союзники США, в первую очередь Германия и Япония, отреклись от создания собственных ядерных программ в обмен на защиту под прикрытием системы безопасности Соединенных Штатов. Если бы США ликвидировали свой ядерный арсенал, другие страны могли бы поддаться искушению начать работу над созданием собственного.
Сам факт обладания ядерными державами таким оружием не оказывает прямого влияния на устремления тех стран и террористических групп, которые уже решили им обзавестись. Правильно оценивая ситуацию или заблуждаясь, они считают, что приобретение ими ядерного оружия повысит их безопасность. Изменение ядерной доктрины США, безусловно, не разубедило бы никого из новейших членов ядерного клуба – Израиль, Индию или Пакистан – в их стремлении заполучить атомную бомбу. А между тем Северная Корея и Иран гораздо больше озабочены обычным военным потенциалом Соединенных Штатов, чем ядерными силами. Они, вероятно, стремились бы к обладанию ядерным оружием и в том случае, если бы у Америки его не было, а возможно, даже более решительно.
Вместе с тем для достижения целей нераспространения Соединенные Штаты опираются на сотрудничество многих стран, и в этом отношении ядерный потенциал США имеет существенную значимость. Достижение успеха в деле нераспространения требует введения ограничений на передачу ядерного сырья и технологий, поощрения эффективных инспекций Международного агентства по атомной энергии и укрепления стандартов защиты ядерных материалов и установок. Сотрудничество существенно необходимо также для того, чтобы установить международные критерии, препятствующие ядерным устремлениям неядерных государств. (Эта цель на самом деле поднимает вопрос об изначальном лицемерии ядерных держав: они сохраняют собственные арсеналы, одновременно отказывая в этом праве другим. Это противоречие побудило Вашингтон неудачным образом взять на себя обязательства по статье 6 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чтобы «в духе доброй воли вести переговоры» о полном разоружении, хотя он и не стремится к этой цели.)
В конечном счете Вашингтон должен добиться примирения конфликтующих целей: поддержание адекватного ядерного подхода, соответствующей современным угрозам, с одной стороны, и обуздания распространения ядерных вооружений, с другой. Администрации Буша не удалось достичь сбалансированного решения этого вопроса. Некоторые официальные лица выступили с неудачными политическими заявлениями об упреждении, намекая на то, что правительство США фактически допускает возможность нанесения ядерного удара первыми. Доклад о состоянии ядерных сил на 2002 год, представленный нынешней администрацией, опрометчиво рассматривает потенциалы неядерного и ядерного ударов как часть единого континуума возмездия. Политическое руководство использовало техническую и геополитическую неопределенность в качестве довода в пользу модернизации комплекса вооружений и сохранения сильных испытательных и производственных мощностей. Особенно достойно сожаления, что администрация Буша предложила вести работу над новой боеголовкой – «боеголовкой для поражения сильноукрепленных заглубленных целей» малой мощности. Хотя и можно оправдать ведение определенных исследовательских работ над боеголовками общего типа, необходимостью сохранения компетенции разработчиков вооружений, но вместо этого администрация обосновала работу над данным боезарядом его военной пользой, подразумевая возможность его будущей разработки и производства. Тон этого предложения игнорирует косвенное воздействие новых исследовательских программ США по боеголовкам на отношение международного сообщества к нераспространению.
ДО КАКОГО УРОВНЯ МОЖНО ОПУСТИТЬСЯ?
Сегодня в том, что касается управления ядерным арсеналом США, следует иметь в виду решение двуединой задачи: удерживать от ядерного нападения на Соединенные Штаты или на их союзников посредством сохранения превосходящих ядерных сил с высокой «выживаемостью», а также гибко и с точностью реагировать на широкий спектр чрезвычайных ситуаций, включая нападение с применением химического или биологического оружия. Цель заключается в том, чтобы заставить любую страну или субнациональную группу, замышляющую использовать оружие массового поражения для осуществления теракта, грозящего катастрофическими последствиями, учитывать возможность ядерного возмездия со стороны США и полного уничтожения ее физических объектов или убежища.
Сегодняшняя постановка задачи не слишком отличается от ее постановки в прошлом, но новый характер угрозы означает, что для решения этой задачи требуется значительно меньше вооружений. В мае 2001 года президент Джордж Буш-младший, выступая в Национальном университете обороны, заявил: «Я твердо придерживаюсь курса на надежное сдерживание с помощью минимально возможного количества ядерных вооружений, соответствующего нуждам нашей безопасности, включая наши обязательства перед союзниками». Но что именно является «минимально возможным количеством»?
Расчет не может быть произведен с помощью классической методики SIOP: не существует соответствующих списков целей, аналогичных тем, которые составлялись во время холодной войны. Но даже приблизительный подсчет требуемого количества дает представление о том, насколько меньше мог бы стать ядерный арсенал США.
Флот из девяти атомных субмарин «Трайдент» с баллистическими ракетами на борту – половина от ныне имеющегося флота из 18 подводных лодок, способных нести 3 000 боеголовок, – мог бы представлять собой силу для ответного удара и обладать достаточной «выживаемостью». В каждый данный отрезок времени постоянное боевое дежурство будут нести три частично оснащенные субмарины – каждая с 16 ракетами D-5, укомплектованными 8 ядерными боеголовками (W76 и W88), общее число которых, таким образом, составит 384 единицы в состоянии боевой готовности. Еще три субмарины в это время будут находиться в пути (неся дополнительные 384 боеголовки стратегического резерва), а еще три – на техническом осмотре (следовательно, без вооружения). (Поскольку каждая «Трайдент» способна нести 24 ракеты, при таком развертывании их общее число сводилось бы к 1 728 подотчетным боеголовкам – в полном соответствии с «правилами арифметики» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (имеется в виду START-II, или СНВ-2. – Ред.), и это наводит на мысль, что данные правила становятся неактуальными ни для Соединенных Штатов, ни для России.) Еще 200 оперативных ядерных боеголовок дополнительно укомплектуют ядерный флот, обеспечивая возможность гибкого реагирования. Они будут размещены на других средствах доставки, таких, как наземные межконтинентальные баллистические ракеты и крылатые ракеты на морских и воздушных платформах, что упрощает управление и контроль.
Такое развертывание – в сумме менее 1 000 боеголовок – окажется еще меньше предложенной Бушем цели сокращения в рамках Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (имеется в виду SORT, или СНВ-3 иногда его называют Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, СНП. – Ред.), то есть от 1 700 до 2 200 развернутых стратегических боеголовок к 2012 году. Однако этих более скромных ядерных сил будет достаточно и для сдерживания, и для реагирования. Предполагается, что у Китая, страны, которая с наибольшей вероятностью может попытаться сравняться с ядерной мощью США, в целом на вооружении имеется 400 боеголовок, включая небольшой, но растущий арсенал баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов.
В прошлом все сокращения ядерных сил проводились в рамках российско-американских соглашений о контроле над вооружениями. При сегодняшних геополитических реалиях нет необходимости ждать официального заключения соглашений для того, чтобы перейти к сокращению ядерных сил. Разумеется, темп сокращения должен учитывать уровень ядерных сил России, а также политическую ситуацию в этой стране. Но озабоченность Вашингтона в отношении ядерных запасов Москвы не в меньшей, если не в большей степени связана с безопасностью и угрозой «бесконтрольных бомб», чем с угрозой нападения со стороны России.
Беспокойство по поводу безопасности ядерных запасов одновременно влечет за собой необходимость изменить способ подсчета ядерных боеголовок. В прошлом Вашингтон учитывал только оперативные боеголовки и средства их доставки, то есть то вооружение, которое представляло непосредственную угрозу. Однако сегодня для предотвращения распространения необходимо сосредоточиться не только на развернутых ядерных силах той или иной страны, но и на безопасности ее ядерных материалов и на намерениях тех, кто их контролирует. Соответственно, все ядерное оружие и материалы, включая развернутые боеголовки в процессе обслуживания или модификации, списанные боеголовки и весь оружейный высокообогащенный уран и выделенный плутоний, следует учитывать как часть ядерного резерва страны.
Такой пересмотренный способ учета позволит отменить устаревшее разделение на стратегическое оружие дальнего действия и тактическое оружие ближнего радиуса; в настоящее время все ядерное оружие требует одинакового внимания. Это также приведет к осознанию того факта, что необходимо обеспечивать безопасность всех ядерных средств, включая списанные боеголовки и радиоактивные материалы (такие, как отработанное топливо и низкообогащенный уран). Снятие боеголовки с вооружения должно означать перевод ее в другую категорию, а не полное исключение из общего списка, поскольку и само устройство, и содержащийся в нем ядерный материал будут по-прежнему требовать тщательного надзора.
При этом Соединенные Штаты должны подать пример другим государствам, обнародовав весь совокупный состав собственного ядерного резерва и сообщив число боеголовок и количество материала в каждой категории. В период холодной войны имелись веские основания держать эту информацию в секрете. Однако сегодня повышение прозрачности, соответствующее задачам нераспространения, укрепит безопасность США тем, что успокоит союзников и еще раз заставит задуматься потенциальных распространителей. Страны, противящиеся раскрытию информации, привлекут особо пристальное внимание международной общественности к своему потенциалу и своим намерениям.
СКРОМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление ракетно-ядерным комплексом США находится в ведении Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики. Запрошенный NNSA бюджет на 2005 финансовый год составил 6,6 миллиарда долларов, и предполагается, что к 2009-му эта сумма вырастет до 7,5 миллиарда. Учреждение, в котором работают около 35 000 человек, сталкивается с серьезными трудностями, в том числе с точки зрения возможности гарантировать компетентность своих сотрудников. То поколение ученых и конструкторов, которое разрабатывало, строило и испытывало ядерное оружие, давно ушло в отставку. У нынешних сотрудников трех основных военных лабораторий – в Лос-Аламосе (Нью-Мексико), Ливерморе (Калифорния) и Сандии (Нью-Мексико) – мало непосредственного опыта в деле разработки и испытания вооружений. А недавняя суровая критика в их адрес со стороны Министерства энергетики по поводу достойных сожаления упущений в обеспечении безопасности серьезно повлияла на моральный климат в лабораториях.
В 1992 году благодаря принятию поправки Эксона – Хэтфилда – Митчелла были запрещены все ядерные испытания за исключением тех, которые могут быть оправданны соображениями безопасности и надежности уже существующих запасов оружия. С тех пор сложилось единодушное мнение, что в них нет необходимости (что подтверждалось ежегодными отчетами Министерства обороны о состоянии безопасности и надежности ядерных вооружений), и Соединенные Штаты все это время соблюдали мораторий на ядерные испытания.
В отсутствие программы испытаний Министерство энергетики утвердило «программу обслуживания ядерного арсенала», направленную на сохранение знаний и технологий, необходимых для продления срока службы имеющихся в наличии боеголовок. Передовые компьютерные технологии позволили создать – благодаря Ускоренной стратегической инициативе в области компьютерных технологий (ASCI) Министерства энергетики – виртуальные модели и симуляторы, способные частично заменить лабораторные испытания, требующие использования сложного оборудования. Программа предусматривает также проведение субкритических лабораторных экспериментов, связанных с ядерным оружием, например, с помощью рентгенографической испытательной установки в Лос-Аламосе и установки для лазерной детонации в Ливерморе.
Программа обслуживания ядерного арсенала основана на допущении, что компьютерное моделирование последовательности фаз ядерного взрыва (начиная с первичной – детонации химического взрывчатого вещества и заканчивая вторичной – делением и термоядерным горением), подтвержденное данными экспериментальных испытательных установок, позволит техническим специалистам доверять новым или модифицированным вооружениям. Однако не все ученые согласны с этим допущением. Некоторые утверждают, что текущей программы достаточно для подтверждения безопасности и надежности существующего арсенала. Но единственный способ доказать эффективность данной стратегии – это продемонстрировать, что компьютерные коды действительно способны предсказывать результаты ядерного взрыва, как предполагает программа. Отсюда следует необходимость проведения «научных подтверждающих испытаний», но не для того, чтобы удостовериться в безопасности запасов или разрабатывать новые вооружения, а чтобы доказать, что фундамент практической физики, которая служит обоснованием для данной ядерной программы, остается прочным. Поэтому научное подтверждение тоже должно считаться приемлемым обоснованием для проведения испытаний, помимо необходимости контроля за решением проблем безопасности или надежности, который невозможно осуществить другими средствами. В действительности в прошлом состояние ядерных запасов в основном определялось с помощью доводочных испытаний, а не путем испытаний, специально предназначенных для подтверждения надежности вооружений.
Программа Национальной администрации по ядерной безопасности включает также несколько крупных и дорогостоящих установок, предназначенных для модернизации производственной инфраструктуры. В их числе – новое оборудование по извлечению трития в Лос-Аламосе, предприятие по разборке и конверсии ядерных зарядов в Саванна-Риверской лаборатории в Южной Каролине и планы по строительству современного оборудования по производству ядерных зарядов. Реализация каждого отдельного проекта может быть оправданна, но количество, размер и график этих разработок создают впечатление, что военный комплекс США расширяется и что Соединенные Штаты фактически не озабочены снижением роли ядерных вооружений.
Более реалистичный ядерный подход США нуждается в менее масштабной, но при этом высококачественной программе по исследованиям и проектированию вооружений, а также в укреплении производственного комплекса. Предложения, содержащиеся в действующей программе обслуживания ядерного арсенала, вполне разумны, но чтобы подтвердить адекватность имеющихся физических научных знаний, может потребоваться (а с технической точки зрения в идеале должно потребоваться) периодическое проведение «научных подтверждающих испытаний». Тщательный выбор времени и надежное управление такими испытаниями могли бы ослабить неблагоприятную международную реакцию, которую они неизбежно вызовут. Кроме того, хотя и не следует целиком препятствовать концептуальным разработкам новых боеголовок, но если проект таких разработок будет предложен и исполнен, не должно оставаться никаких сомнений в том, что касается продолжения работы над таким проектом. БЧльшая прозрачность по отношению к деятельности Национальной администрации по ядерной безопасности поможет также убедить американскую и международную общественность в том, что Вашингтон добивается установления четкого баланса в управлении своими ядерными вооружениями.
ПЕРЕСМОТР КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ
Новая ядерная доктрина США должна учитывать текущие и предстоящие шаги в области контроля над вооружениями. Самым спорным из таких шагов является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен навсегда запретить все будущие ядерные испытания и не предусматривает возможности выхода из него. Соединенные Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ (так же как Израиль, Индия, Иран, Пакистан и Северная Корея), но 109 стран (включая Великобританию, Китай, Россию и Францию) его ратифицировали.
Сторонники ДВЗЯИ видят в нем жизненно важное средство укрепления международных норм, направленных против ядерного оружия и способствующих его нераспространению. Сторонники ДВЗЯИ настаивают на том, что этот договор заслуживает особого внимания ввиду того, что при наличии программы обслуживания ядерных запасов Соединенным Штатам нет необходимости проводить испытания для подтверждения безопасности или надежности их арсенала. Противники договора заявляют, что существуют проблемы с проверкой соблюдения ДВЗЯИ, что испытания не влияют непосредственно ни на темпы, ни на вероятность успешного продвижения к цели таких решительно настроенных распространителей, как Северная Корея и Иран, и что, учитывая неопределенность в том, что касается будущих требований к новым вооружениям, было бы ошибкой навсегда отказаться от возможности проведения новых испытаний.
Аргументы обеих сторон в этой дискуссии имеют как сильные так и слабые стороны. Противники ДВЗЯИ правы в том, что испытания следует разрешить, если это требуется для обеспечения безопасности и надежности ядерных запасов. Однако они преувеличивают проблемы с проверкой соблюдения договора: только испытания очень маломощных зарядов (или испытания, при которых взрыв изолируется от окружающего грунта) имеют некоторый шанс избежать обнаружения. В то же время, хотя и правы сторонники ДВЗЯИ в том, что договор упрочит международные нормы нераспространения, вызывает сомнение их убежденность в том, что для обеспечения безопасности ядерных запасов больше никогда не понадобятся никакие испытания. (В действительности некоторые сторонники ДВЗЯИ, возможно, выступают против испытаний именно потому, что считают, будто без них уверенность в надежности ядерного оружия постепенно ослабнет и в конечном счете ядерные вооружения утратят свою сдерживающую ценность, а вместе с ней и свое значение.) Те, кто пытается обойти острый вопрос, заявляя, что будущий президент мог бы отказаться от договора во имя высших национальных интересов, исходят из мнения, что лучше принять договор, несмотря на серьезные оговорки, чем продолжать усилия по выработке такого договора, который мог бы разрешить все сложные проблемы.
К счастью, в этом споре существует разумная середина – заключить ДВЗЯИ на ограниченный срок. Бывшие помощники президента по национальной безопасности Брент Скоукрофт и Арнолд Кантер предлагали вступить в Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на пятилетний срок (поскольку все согласны с тем, что в ближайшем будущем у США не будет необходимости проводить ядерные испытания), связывая это с возможностью продления участия в договоре на новые пятилетние сроки после его ратификации Сенатом. Преимуществом такого компромисса было бы наращивание усилий по нераспространению (что предпочтительнее отсутствия ДВЗЯИ вообще), при этом сохранится возможность не продлевать договор в случае изменения геополитической обстановки или по соображениям, связанным с состоянием ядерных запасов. Аналогичный подход оказался эффективным в отношении ДНЯО, который был ратифицирован в 1969 году на 25-летний срок и предусматривал проведение через каждые пять лет конференций по его обсуждению и продлению и который в 1995-м был объявлен бессрочным. Оппоненты утверждают, что на данном этапе будет слишком трудно или невозможно изменить условия ДВЗЯИ, выработанные на международном уровне. Однако Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступит в силу, пока его не ратифицируют 44 страны, и в их числе Соединенные Штаты, так что для США выбор состоит в том, что предпочтительнее: возобновляемый каждые пять лет ДВЗЯИ или его отсутствие вообще.
Второй до сих пор еще не ратифицированный договор о контроле над вооружениями – это Договор о прекращении производства расщепляющихся материалов, с инициативой которого изначально выступил в ООН президент Билл Клинтон в 1993 году; согласно данному договору было бы запрещено новое производство выделенного плутония и высокообогащенного урана. Это привлекательная мера, поскольку Соединенные Штаты и другие ядерные державы обладают значительными запасами оружейных материалов. Запрет воспрепятствовал бы началу нового производства в любой стране, что послужило бы основным целям нераспространения и ограничило бы общее количество материалов, безопасность хранения которых требуется обеспечивать.
В рамках Конференции ООН по разоружению Договор о прекращении производства расщепляющихся материалов обсуждался в течение нескольких лет. 4 августа 2004 года постоянный представитель США при ООН Джон Дэнфорт заявил, что, хотя администрация Буша и поддерживает запрет, она не считает эффективный контроль за его соблюдением осуществимым. Смысл этого и более ранних заявлений администрации Буша состоит в том, что имеющиеся недостатки проверки, дескать, могут стать препятствием для заключения договора. Но при новой ядерной доктрине противодействие этому договору становится необъяснимым. Ни один договор по контролю над вооружениями не поддается идеальной проверке; всегда остается риск того, что его нарушение останется необнаруженным. Осуществление проверок может оказаться более успешным, если страны, подписавшие договор, согласятся на инспекции. Обычно ни Соединенные Штаты, ни другие ядерные державы не соглашались на такие инспекции, но сейчас у США очень мало причин им сопротивляться. В данном случае прозрачность опять-таки оказывается в интересах Соединенных Штатов. Страна, подписавшая договор и нарушившая его, будет заклеймена в глазах международного сообщества как распространитель. А государство, отказавшееся подписать договор, тем самым обнаружит свой интерес к получению материалов, пригодных для изготовления бомбы.
Сторонники контроля над вооружениями предложили внести еще два существенных изменения в ядерную политику США: обязательство «неприменения ядерного оружия первыми» и снижение боеготовности ядерных сил. Однако даже с учетом изменившейся ядерной доктрины такие реформы не представляются убедительными.
В 1978 году Вашингтон принял на себя обязательство не использовать ядерное оружие против неядерных государств, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия, если только они не совершат нападение на Соединенные Штаты при поддержке ядерной державы. Однако последующие администрации Соединенных Штатов также придерживались политики «стратегической неопределенности», отказываясь исключить возможность ядерного ответа на нападение с применением биологического или химического оружия. Сторонники усиления политики «неприменения первыми» утверждают, что стратегическая двойственность делает ложный посыл другим правительствам, у которых создается впечатление, что, дескать, даже Соединенные Штаты с их подавляющим преимуществом в обычных вооружениях видят резон в том, чтобы оставить открытой возможность применить ядерное оружие первыми. И это впечатление, утверждают они, подрывает процесс нераспространения. Однако они недооценивают, до какой степени стратегическая двойственность помогает сдерживанию, оставляя потенциальных противников в неуверенности относительно реакции США.
Снижение боеготовности ядерных сил означало бы увеличение интервала между принятием решения о запуске ядерного оружия и его фактическим запуском для того, чтобы предотвратить случайные или несанкционированные атаки, избежать недоразумений и дать больше времени на переговоры в случае кризиса. В период холодной войны способность произвести немедленный запуск была продиктована необходимостью обеспечить выживаемость сил наземного базирования. Сторонники снижения боеготовности ядерных сил США справедливо утверждают, что теперь такая необходимость отпала. Однако они недооценивают практические препятствия для снятия с боевого дежурства подводных лодок, оснащенных боеголовками. Если убрать боеголовки с субмарин, постоянное развертывание сил морского базирования станет невозможным; суда придется держать ближе к портам, рядом с боеголовками, где они будут более уязвимы. Вместо этого в процессе управления связью с субмаринами можно увеличивать время до запуска, однако не вполне понятно, каким образом такая мера способна укрепить доверие и как ее соблюдение можно проверить. В любом случае прежнее положение было бы легко восстановить, что весьма ограничивает полезность такой меры.
Наконец, Соединенные Штаты должны дать ясно понять, что любое сокращение американских ядерных сил не является первым шагом к их ликвидации. Ядерная доктрина США должна соответствовать прогнозируемым интересам безопасности страны. В более отдаленной перспективе, в зависимости от положения в мире, могут оказаться оправданными как переход к понижению, так и возможный возврат к повышению уровня ядерных сил.
Даже после завершения холодной войны ядерное оружие остается далеко не пустым символом; его нельзя просто ликвидировать вопреки надеждам некоторых защитников контроля над вооружениями и заявленным целям ДНЯО. Тем не менее ядерная доктрина США должна претерпеть изменения, чтобы соответствовать изменившейся ядерной угрозе. Ядерные силы США должны быть достаточно мощными, чтобы сдержать нападение или сохранить выживаемость и при этом максимально способствовать продвижению целей Вашингтона по нераспространению. Вместо того чтобы рассматривать нераспространение и ядерное сдерживание как взаимоисключающие цели, Соединенные Штаты должны формировать свои ядерные силы и управлять ими таким образом, чтобы они выполняли обе задачи.

Между Бушем и Бушером
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2005
А.З. Винников – аспирант факультета политики и международных отношений Оксфордского университета и стипендиат им. сэра Эдварда Хита в Бэллиол-колледже, сотрудник Женевского центра политики безопасности. В.А. Орлов – директор ПИР-Центра, профессор Женевского центра политики безопасности, главный редактор журнала «Ядерный Контроль». Полная версия данной работы под заголовком «Россия, многосторонняя дипломатия и иранский ядерный вопрос» будет опубликована в «Научных записках ПИР-Центра».
Резюме Теряясь в догадках по поводу истинных ядерных намерений Тегерана, Москва пытается балансировать между очевидными стратегическими соблазнами и «нераспространенческой» осторожностью в отношении своего «трудного» соседа и партнера. При всем при том, однако, она явно склоняется к стимулированию сотрудничества и политике «оправданного риска».
В неформальной беседе осенью 2003 года высокопоставленный иранский чиновник задал одному из авторов этих строк вопрос примерно следующего содержания: «А что, собственно, будет Ирану, если он выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия и Международного агентства по атомной энергии? Вот ведь Северная Корея вышла – и что?» Ответ, конечно, последовал незамедлительно: это, мол, вызовет международное осуждение, и дело может дойти и до изоляции, и даже до применения военной силы…
На этом вопрос был исчерпан, но тон вопрошавшего, его стремление прощупать такого рода возможность произвели-таки эффект: на несколько секунд воцарилась, как говорят, неловкая пауза.
Сегодня, оглядываясь назад, понимаешь, какой нелегкий путь удалось пройти с тех пор, маневрируя между Сциллой и Харибдой, а именно склонностью администрации Джорджа Буша-младшего к конфронтационным решениям, с одной стороны, и пристрастием иранцев к постоянной недосказанности и сталкиванию лбами США, Европейского союза и России – с другой.
Вмешательство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), постоянные визиты инспекторов этого агентства в Иран и неослабевающее внимание его Совета управляющих к «иранскому досье» доказали свою действенность. Как справедливо отметил в ноябре 2004 года генеральный директор МАГАТЭ Мухаммед эль-Барадеи, «мы делаем успехи. Вначале было трудно, но с декабря 2003-го мы наблюдаем значительный прогресс в области сотрудничества, допуска к объектам и к информации».
22 ноября 2004 года по соглашению с европейской «тройкой» (Великобритания, Германия, Франция) Иран временно заморозил свою программу по обогащению урана. А 29 ноября Совет управляющих МАГАТЭ, оговорившись, что закрывать «иранское досье» еще рано, поскольку некоторые вопросы к Тегерану остаются, принял резолюцию по иранской ядерной программе, в которой не содержалось и намека на необходимость передачи имеющихся документов Совету Безопасности ООН. В марте 2005 года после долгих колебаний и подчас противоречивших друг другу заявлений Соединенные Штаты приняли решение об «ограниченном присоединении» к усилиям европейской «тройки».
На фоне столь мощной дипломатической активности особенно бросается в глаза тот факт, что Москва оказалась в тени. А ведь с середины 1990-х именно Россия, будучи единственным государством, открыто сотрудничавшим с Ираном в области атомной энергетики, упоминалась чуть ли не в каждом сообщении средств массовой информации, касавшемся иранской ядерной программы. Что может значить это дистанцирование России? Является ли оно вынужденным спонтанным шагом, или же это тщательно отрепетированная «домашняя заготовка»?
«НАШ ДАВНИЙ, СТАБИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
Несколько лет назад в кулуарах научно-практической конференции арабский тележурналист спросил у высокопоставленного российского чиновника, доверяет ли Москва Ирану в вопросе о его истинных ядерных намерениях. «Конечно доверяет, – на ходу бросил собеседник. – Со времен Грибоедова только и делает, что доверяет». В эфире появилась только первая часть фразы, авторы репортажа явно споткнулись на фамилии, не фигурирующей в списке действующих российских политиков и дипломатов. А если бы журналисты приложили некоторые усилия, смысл ответа оказался бы несколько другим: в 1829 году русский дипломат и писатель Александр Грибоедов был растерзан озверевшей толпой в Тегеране.
В действительности Россия относилась и относится к Ирану с большой долей настороженности, если не сказать – подозрительности. Доверительными эти отношения не были никогда. Как-то на встрече с американскими бизнесменами тогдашний российский премьер Виктор Черномырдин похвастался: «Россия никогда не позволит, чтобы Иран создал свое атомное оружие. Иран – наш сосед, и мы хорошо знаем, что там происходит». Но так ли это на самом деле?
Комплексный подход к формированию российско-иранских отношений Москва выстраивала долго и болезненно. Достаточно вспомнить, что в декабре 1996-го, когда Россия уже приступила к сооружению в Иране Бушерской АЭС и защищала этот контракт от давления со стороны США, Министерство обороны России причислило Иран к одной из «потенциальных угроз» безопасности России по причине «резкого наращивания» Тегераном «наступательного потенциала». Лишь начиная с 2000–2001 годов атомное сотрудничество стало рассматриваться в более широком контексте стратегического диалога с Тегераном, а сам Иран превратился в глазах Москвы в ключевого стратегического партнера России на Большом Ближнем Востоке. Президент Владимир Путин охарактеризовал Иран как «давнего, стабильного партнера» России.
Тогда же было заявлено: все разногласия России и США из-за Ирана обусловлены не расхождениями во взглядах на его ядерную программу (наши позиции здесь хотя и не совпадают, но в целом близки), а разными представлениями о том, какой должна быть общая политика в отношении Исламской Республики Иран. США выступают за изоляцию Ирана, Россия – за сотрудничество с ним. Кроме того, Россия, в отличие от США, полагает, что «Иран – это не государство, которое является почему-то пораженным в правах, мы не видим для этого никаких оснований» (интервью президента России В.В. Путина телеканалу «Аль-Джазира». Куала-Лумпур. 2003. 16 окт.).
Как писал российский специалист, ответственный в МИДе РФ за «иранское направление», Иран является сегодня чуть ли не единственным на всем Большом Ближнем Востоке государством, которое успешно и поступательно наращивает свой экономический, научный, технологический и военный потенциал. По мнению дипломата, Иран с его грамотным населением, высоким интеллектуальным уровнем элиты, обществом, консолидированным вокруг исламских ценностей, огромными природными ресурсами (11 % нефтяных и 18 % газовых мировых запасов) и выгодным геостратегическим положением просто «обречен» на то, чтобы занять место регионального лидера и важного международного игрока в регионе от Ближнего Востока до Южного Кавказа, да и за его пределами. Таким образом, «партнерство с Ираном... становится одной из ключевых задач внешней политики России (выделено нами. – Авторы)» (Г. Ивашенцов. Россия – Иран. Горизонты партнерства // Международная жизнь. 2004. № 10. С. 22).
ОЦЕНИВАЯ РИСКИ
Еще в конце 1980-х многие российские эксперты по нераспространению начали с тревогой поглядывать в сторону Тегерана, интерес которого к военным ядерным исследованиям становился очевидным. Ядерные амбиции, вероятнее всего, были вызваны успехами главного врага Ирана – Саддама Хусейна в деле создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. После поражения Саддама в войне 1991 года, установления международного контроля над иракскими ядерными, химическими и биологическими программами и их последующего демонтажа интерес Ирана к ядерному оружию, казалось, ослаб. Тем не менее еще в 1993-м Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации предположила в своем открытом докладе, что в Иране «имеется программа военно-прикладных исследований в ядерной области. Однако без внешнего научного и технического содействия появление ядерного оружия у Ирана в этом тысячелетии маловероятно. Даже если внешняя помощь будет поступать беспрепятственно, а в саму программу будут вложены соответствующие финансовые средства – 1–1,5 млрд дол. ежегодно, – то и в этом случае создание ядерного оружия достижимо не ранее, чем через 10 лет» (СВР РФ. Новый вызов после «холодной войны»: распространение оружия массового уничтожения. Москва, 1993). В докладе не упоминался Пакистан как вероятный источник той самой «внешней помощи», но присутствовал явный намек на то, что при серьезном содействии извне мир может столкнуться в 2003 году с новой реалией – ядерным Ираном.
Больше того, примерно в это же время Россия предложила США в конфиденциальном формате обсудить беспокоившую ее информацию об активности Тегерана в ядерной области. Насколько известно, эта инициатива Соединенные Штаты не заинтересовала. А уже в 1995-м администрация Билла Клинтона начала системную атаку на Москву в связи со строительством Бушерской АЭС. Американцы обвиняли Россию в ядерном партнерстве со страной, которая, как теперь говорили в Вашингтоне, ведет, согласно разведданным, разработку ядерного оружия. Это давление не ослабевало практически на протяжении всего срока клинтоновской администрации; иранская тема занимала важное место (отнимая немало времени) в повестках дня саммитов Россия – США.
После принятия в 2001 году в России закона, разрешающего ввоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ), в речах американских экспертов то и дело стало звучать предложение, увязывающее два обстоятельства. Россия, мол, отказывается от ядерного сотрудничества с Ираном, а США снимают ограничения на импорт в Россию ОЯТ из Японии, Южной Кореи и Тайваня. Пойди Москва на это, получила бы в денежном выражении куда больше дивидендов, чем от контрактов с Ираном.
Но нельзя не учитывать, что ключевой национальный интерес состоит для России не в получении еще нескольких сотен миллионов долларов, заработанных на контрактах с Ираном, а в том, чтобы ее сосед, имеющий масштабные ракетные проекты, сохранял свой неядерный статус.
Поэтому неудивительно, что Путин, которого в уже упоминавшемся интервью «Аль-Джазире» спросили о его отношении к иранской ядерной программе, начал не с сотрудничества, а с нераспространения: «Я лично считаю, что проблема возможного распространения оружия массового уничтожения в ХХI веке является ключевой. Это одна из самых главных проблем современности».
Во второй половине 1990-х в Москве действительно был зафиксирован рост интереса иранцев к российским предприятиям и институтам – прежде всего ракетостроительным, а также и ядерного топливного цикла (ЯТЦ). В ответ из России стали высылать иранских вербовщиков и были предприняты шаги по отлаживанию системы внутрифирменного экспортного контроля на собственных предприятиях. Это, однако, не остановило утечку в Иран чертежей, информации, умов, а иногда и контрактов российских предприятий в обход действующего законодательства и внедренного в 1998 году экспортно-контрольного правила «всеобъемлющего экспортного контроля» (catch-all).
К тому же в Москве уже в те годы с еще большим беспокойством начали приглядываться к треугольнику Пакистан – Иран – Северная Корея. В 1999-м руководитель «нераспространенческого» управления российской Службы внешней разведки публично предупреждал: «Со стороны стран риска <…> на острие этой работы [по обходу национальных систем экспортного контроля] находятся спецслужбы, которые обладают прекрасно отработанными методами добывания той самой закрытой технологии и материалов из секретных, прежде всего оборонных, отраслей, которой они затем подчас делятся между собой: корейцы консультируют пакистанцев, те – иранцев… Если мы в ближайшее время не решим эту проблему, мы будем сталкиваться с самыми удивительными нарушениями» (генерал-лейтенант Г.М. Евстафьев на конференции «Экспортный контроль: законодательство и практика». Цит. по: Экспортный контроль в России: наивно ожидать простых решений // Ядерный Контроль. 1999. № 3. С. 12).
Скудость информации всегда была и сегодня остается основной проблемой относительно того, что касается иранской ядерной программы. Москва не раз подозревала, что под сенью Корпуса стражей исламской революции, а возможно, в обход МИДа и даже президента Ирана с разной степенью интенсивности велись параллельные военные ядерные исследования. В Москве (как и в Париже, и в ряде других столиц, где проходили формальные и неформальные консультации с представителями Ирана) неоднократно отмечали несогласованность позиций иранских дипломатов и специалистов-ядерщиков, нередко противоречивших друг другу в оценке даже простых фактов. Поэтому Москва много раз и иногда даже навязчиво повторяла Вашингтону: «Если у вас имеются реальные факты, давайте их изучим». Но получала отказ с неизменной ссылкой на невозможность выдать разведисточники. В Москве сделали вывод, что сведения, вызывающие главные опасения американцев, исходят из Израиля и, не исключено, надуманны.
В какой-то момент, по крайней мере на публичном уровне, оценки Москвы смягчились. Россия заявила, например, о том, что ее разведка «не обнаружила убедительных признаков наличия [в Иране] скоординированной и целостной военной ядерной программы» и что «уровень достижений Ирана в ядерной области не превышает аналогичного показателя еще для 20–25 стран мира» (пресс-конференция директора СВР Примакова Е.М. по случаю представления доклада «Договор о нераспространении ядерного оружия». 1995 год). В одном из официальных документов по Ирану, датированных осенью 2000 года, утверждалось: «Наши контакты с иранцами показывают, что они настроены на деловой и откровенный разговор по экспортно-контрольной проблематике, демонстрируют готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в этой сфере. Как представляется, у них есть понимание важности данного вопроса. … Руководство Ирана неоднократно подтверждало мирную направленность осуществляемой в стране ядерной программы и ее транспарентность» (цит. по: О российско-иранском сотрудничестве в чувствительных сферах // Вопросы безопасности. 2000. № 20 (86). 25 окт. С. 8).
Тем обиднее было для Москвы узнать во второй половине 2002-го подробности о построенном центрифужном заводе в Натанзе, а также и о ряде других объектов ядерного топливного цикла. В Москве мало кто предполагал, что иранцы сумели настолько быстро и значительно продвинуться вперед. У российских специалистов это вызвало и уважение (хотя они признавали, что работающие в экспериментальном режиме установки могут быть еще слишком «сырыми», чтобы решать заявленные Ираном масштабные задачи), и новые вопросы. В Москве крепло подозрение: использование ЯТЦ в мирных целях – это не более чем способ замаскировать военные амбиции Ирана, Тегеран же ведет дело к «выскальзыванию» из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что может произойти лет через пять-шесть, когда его ядерная программа «дозреет» и ее можно будет стремительно перевести на военные рельсы.
Эти события Россия восприняла весьма болезненно. Будучи единственным государством мира, сотрудничающим с Ираном в области атомной энергетики, она рассчитывала – вероятно, несколько наивно – на эксклюзивные, доверительные отношения с Ираном, который, как предполагалось, должен был ставить Москву в известность обо всех своих шагах в ядерной области, пусть и не связанных с двусторонним сотрудничеством. Причем ожидалось, что Иран будет информировать своего российского партнера заблаговременно. Как не очень убедительно объясняли потом иранцы, они «хотели заранее пригласить в Натанз [министра по атомной энергии] Румянцева, все ему заранее показать, но у того не нашлось времени приехать».
Москва с трудом скрывала раздражение. В ответ иранцы решили разыграть «европейскую» карту. Москве намекнули, что если она отойдет от духа партнерства, то ничто не помешает Тегерану выбрать себе новых партнеров, и что, например, Франция – первая в европейской очереди на получение контрактов: на кону были еще шесть энергоблоков, а может быть, и больше. В Иране вдруг вспомнили про, казалось бы, отброшенные после революции 1979 года планы шаха построить в стране 20 атомных энергоблоков.
Россия умудрилась проявить чудеса сдержанности и, вместо того чтобы закрывать глаза на неискренность Ирана, начала выстраивать откровенный диалог с той же Францией, имевшей, как выяснилось, серьезное «досье» на Иран, а также с Германией и другими европейскими странами. Раз обжегшись, в Москве решили, что, не имея разносторонней информации, вряд ли следует на всех международных форумах бросаться на амбразуру, защищая Иран и его право на мирную ядерную деятельность, которым он открыто злоупотребил.
В июне 2003-го из французского города Эвиана, где проходил саммит «большой восьмерки», Тегерану был послан недвусмысленный, жесткий сигнал: «Мы не будем игнорировать развитие продвинутой ядерной программы Ирана… Мы убедительно призываем Иран подписать и выполнить Дополнительный протокол МАГАТЭ без задержек или условий. Мы решительно поддерживаем подробное исследование со стороны МАГАТЭ ядерной программы этой страны». Еще за несколько месяцев до саммита Москва, безусловно, не подписалась бы под подобным текстом.
ОТ ДАВЛЕНИЯ К ДИАЛОГУ
До последнего времени диалог по иранской тематике между Россией и США шел со скрипом – и прежде всего из-за неприкрытого давления, которое Америка оказывала на Россию в связи с бушерским контрактом. В российских экспертных кругах сложились две точки зрения на причины такого давления. «Экономисты» объясняли его «беспощадной борьбой без всяких правил на мировом рынке атомной энергии». Как отмечено в одной из российских официальных записок 2000 года, «отказ от дальнейших связей с ним [Ираном] нанес бы серьезный урон российским политическим и экономическим интересам в регионе и в итоге означал бы создание благоприятных условий для прихода на иранский рынок аналогичной западноевропейской, а затем и американской продукции» (О российско-иранском сотрудничестве в чувствительных сферах // Вопросы безопасности. 2000. № 20 (86). 25 окт. С. 4).
«Геополитики» видели в поведении США более далеко идущее стремление – не допустить установления партнерских, стратегических отношений России с Ираном, скомпрометировать Иран в глазах Москвы и любой ценой нанести урон и без того сложному российско-иранскому диалогу. Некоторые специалисты также исходили из того, что действия Соединенных Штатов обусловлены не столько позицией самого Вашингтона, сколько влиянием на него израильского лобби.
В середине и во второй половине 1990-х, да и позднее, Соединенные Штаты нередко пытались использовать «бушерский вопрос» как разменную монету в диалоге с Москвой. Так, госсекретарь США Уоррен Кристофер поднимал в 1995 году вопрос об отказе России от сотрудничества с Ираном в качестве условия предоставления Москве полноправного членства в «восьмерке». В частных беседах американские официальные лица упоминали о возможной комбинации, предполагавшей отказ России от бушерского контракта в обмен на отказ США выйти из Договора по ПРО. Концепция «размена» действительно была популярной в среде неправительственных и даже у околоправительственных экспертов по обе стороны океана и периодически всплывала в разных контекстах.
Однако на самом деле в Москве эту концепцию никогда не воспринимали всерьез и никогда не дали бы ход подобным сделкам. Даже мысль о том, чтобы отступиться от Ирана, всегда представлялась Кремлю недопустимой, унизительной. Достаточно вспомнить, как завелся обычно невозмутимый российский президент (в Куала-Лумпуре в 2003 г.), когда услышал реплику одного журналиста: «Многие говорят, что вы сдали Иран». Даже в моменты особого недовольства иранскими партнерами Москве казалось, что лучше инициативно заморозить строительство Бушерской АЭС и потом посмотреть на развитие ситуации, чем отказаться от проекта в обмен на американские «пряники». Вообще, давление США на Россию по иранской проблеме оказалось не только бесполезным, но и контрпродуктивным.
В итоге диалог между Россией и США по Ирану начал шаг за шагом выравниваться. От пикировок стороны перешли к обмену оценками ситуации. Администрация Буша, по сути, сняла с повестки дня вопрос о Бушерской АЭС, согласившись с тем, что ее строительство и функционирование не могут угрожать международной безопасности до тех пор, пока отработанное ядерное топливо будет возвращаться в Россию. Пакет документов на этот счет был подписан руководителем Федерального агентства по атомной энергии Александром Румянцевым в Тегеране в феврале 2005 года.
Судя по результатам встречи президентов Буша и Путина в Братиславе (24 февраля 2005 г.), тема Ирана, столь важная – по разным причинам – для обоих лидеров, постепенно вытесняется из первых пунктов двусторонней повестки дня. Накануне саммита американские СМИ писали, что Иран и нераспространение станут главными темами переговоров, однако на совместной пресс-конференции Иран был упомянут только единожды. «Мы договорились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Я ценю понимание, которое проявил Владимир. У нас был очень конструктивный диалог о том, как достичь этой общей цели», – сказал Джордж Буш. Путин вообще не коснулся этой темы. В ходе саммита он, похоже, проинформировал американского коллегу о том, что российский министр в ближайшие дни собирается подписать в Тегеране соглашение о возврате ОЯТ, открывая тем самым дорогу запуску Бушерской АЭС.
Но к тому моменту администрация США уже переменила свое видение политики в отношении Ирана. Военный сценарий (точечные бомбардировки ядерных объектов), то и дело возникавший в самом начале 2005-го, был отодвинут, переведен в разряд «запасных». По результатам европейского турне Джордж Буш решил пусть и в очень ограниченном формате, но все же работать вместе с «европейскими друзьями».
«ТРОЙКА» ПЛЮС ОДИН
Усилия европейской «тройки» в октябре 2003 и ноябре 2004 года привели к заключению договоренности о временном замораживании Ираном программы по обогащению урана в обмен на признание Европейским союзом права Ирана, как участника ДНЯО и члена МАГАТЭ, на реализацию мирной ядерной программы. Согласно той же договоренности, Евросоюз не препятствует завершению Россией строительства Бушерской АЭС, равно как и вероятной установке новых легководных реакторов; гарантирует Ирану возможность поставок топлива для АЭС на рыночных условиях, а также доступ к ядерным технологиям; поддерживает кандидатуру Ирана на членство в ВТО; рассмотрит шаги по развитию обширного экономического сотрудничества с Ираном; начнет диалог по вопросам безопасности, вызывающим особую тревогу Тегерана.
Для успешного продвижения этих инициатив Москва, оставаясь в тени, провела серьезную «артподготовку». Россия, считают дипломаты, участвующие в переговорах «тройки» с Ираном, сыграла весьма существенную роль в том, чтобы убедить Тегеран подписать Дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ (декабрь 2003 г.). Со своей стороны высокопоставленный чиновник МИДа РФ назвал договоренности ноября 2004-го «прорывом». Правда, придется оговориться, что после европейского турне Кондолизы Райс, а затем и Джорджа Буша зимой с.г. позиция европейской «тройки» претерпела одно существенное изменение: вместо «заморозки» иранской программы по обогащению урана там теперь требуют ее полного, на веки вечные, демонтажа. Надо еще разобраться, чего в этом больше: возросшего беспокойства «тройки» по поводу истинных намерений Тегерана, следствия давления со стороны США, или же просто повышения ставок на переговорах, чтобы затем можно было выходить на компромиссные позиции? Но все же трудно представить себе, чтобы такая гордая и смотрящая далеко вперед страна, как Иран, пошла на добровольный и постоянный отказ от самой возможности иметь программу обогащения урана (возможность, которая представлена Ирану на законных основаниях – согласно ДНЯО) и чтобы европейцы не учитывали этой особенности иранских подходов.
На данный момент интересы и цели России и ЕС на «иранском направлении» во многом совпадают. Обе стороны заинтересованы в стабильном, не несущем угрозы Иране, поскольку это государство является соседом России, а в будущем, возможно, и Европейского союза. И та, и другая сторона осознаюЂт стратегическую роль Ирана как важнейшего источника нефти и газа, а также как транзитного пункта на транснациональных транспортных коридорах. Как Россия, так и ряд стран – членов Евросоюза, в частности Германия, убеждены, что Иран еще не принял политическое решение о создании собственного ядерно-оружейного арсенала. То есть Россия и ЕС оценивают масштаб угрозы принципиально иначе, нежели США. Москву и Брюссель сближает представление о важности солидного набора «пряников» в диалоге с Тегераном, Вашингтон же больше внимания уделяет «кнуту».
Наконец, и Россия, и Европейский союз (в том числе страны «тройки», и особенно Франция) торопятся, используя отсутствие США, продвигать на многообещающем иранском рынке свои коммерческие интересы (прежде всего в атомном, нефтегазовом, автомобильном и оборонно-промышленном секторах). Соображения экономического характера способны превратиться в источник конфликта интересов. За политическими декларациями о тесном сотрудничестве России и Евросоюза по иранскому ядерному вопросу скрывается растущая конкуренция за экономические преимущества.
Однако атомная энергетика – не единственная область, в которой долгосрочные интересы России и ЕС могут столкнуться. Еще один потенциальный камень преткновения – сектор военно-технического сотрудничества. Европейский мораторий на продажу оружия Ирану был весьма выгоден российскому ВПК: по некоторым оценкам, Иран является третьим (после Китая и Индии) рынком экспорта российских обычных вооружений.
Напряженное российско-европейское состязание прослеживается и в сфере нефтегазовой энергетики. Несмотря на разного рода юридические препоны и риск санкций со стороны США, компании из России и из стран – членов Европейского союза давно начали битву за допуск к энергетическим ресурсам Ирана. В тендерах на разработку иранских крупных нефтяных полей участвуют такие европейские компании, как BP (наследница Anglo-Iranian), Shell, TotalFinaElf, ENI, Sepsa, норвежская Statoil. На сегодняшний день нефть составляет 80 % общего иранского экспорта в Евросоюз. Российская доля пока скромнее. Однако «ЛУКойл» имеет масштабные перспективные проекты в Анаране, а «Газпром» присоединился к другим гигантам (в числе которых французский TotalFinaElf) в рамках проекта стоимостью два миллиарда долларов по развитию огромного газового месторождения в южном Парсе.
Наконец, ЕС давно считает, что самая эффективная форма поддержки реформаторов в Иране – политика «обусловленного вовлечения» Тегерана. В Москве, однако, поддержка реформаторов не только не является приоритетной задачей, но и даже рассматривается многими как угроза удобному статус-кво. Москва неплохо наладила работу и с нынешним умеренным президентом Сейедом Мохаммедом Хатами и с его наиболее вероятным «сменщиком» консерватором-прагматиком Али Хашеми Рафсанджани.
«ТИХАЯ ДИПЛОМАТИЯ» МОСКВЫ
Некоторое время назад многие западные СМИ только и делали, что писали о том, как Россия, тайно или явно, якобы помогает Ирану продвигаться к созданию ядерного оружия. Сегодня, однако, критики российско-иранского ядерного сотрудничества признали, что успехи Тегерана – результат содействия со стороны Пакистана, а отнюдь не России. А по некоторым направлениям ядерных научно-исследовательских и инженерных работ иранцы добились прогресса собственными силами. Бушерская стройка оказалась не более чем удобным «громоотводом» для иранцев, торопившихся с развитием собственной негласной центрифужной программы.
Вместе с тем в последние два года Москва, находясь «за сценой», ни разу не снизила темп диалога с Тегераном по всему набору проблем, связанных с нераспространением ОМУ. Так, о решении Ирана присоединиться к Дополнительному протоколу было объявлено именно в Москве. Но в какой-то момент Москва умышленно уступила пальму первенства европейской «тройке».
Так в чем же суть «тихой политики» России в отношении Ирана и его ядерной программы?
Во-первых, Россия нацелена на продолжение и даже на активизацию ядерного сотрудничества с Ираном. В Росатоме считают, что решение Совета управляющих МАГАТЭ в ноябре 2004 года устранило барьеры в совместной работе Ирана с западными странами и Россией в области высоких ядерных технологий. А крупный российский дипломат, принимавший участие в консультациях с европейской «тройкой», заметил: «От нас они (члены «тройки») хотели одного – гарантированных поставок ядерного топлива для Бушера в Иран. Мы готовы это сделать. И для нас важно, что теперь к нам никто не сможет приставать, что мы якобы делаем что-то незаконное в Иране, – ведь нас поддерживает Западная Европа».
После позитивных сдвигов в переговорах европейской «тройки» с Ираном и на фоне более спокойного обсуждения «иранского досье» в МАГАТЭ нет особых препятствий для начала переговоров о возведении второго энергоблока Бушерской АЭС или даже строительства АЭС на новой площадке.
Во-вторых, в качестве условия для дальнейшего сотрудничества Россия ставит неукоснительное исполнение Тегераном обязательств перед МАГАТЭ, включая скорейшую ратификацию Дополнительного протокола, а также информирование этого агентства по всем остающимся в «досье» вопросам.
В-третьих, Москва намеревается тщательно следить за выполнением всех пунктов заключенного с Ираном в феврале нынешнего года соглашения о возврате ОЯТ с Бушерской АЭС, а также сопутствующего пакета документов. В первые два года после пуска Бушерской АЭС контроль за ее работой будет полностью осуществляться российскими атомщиками, впоследствии – иранцами, но под присмотром россиян.
В-четвертых, выбирая меж двух зол – объективным обострением российско-европейской конкуренции за иранские рынки и невозможностью сотрудничества с Ираном в результате его международной изоляции, – Москва сделала ставку на «интернационализацию» ядерного диалога по иранской тематике и соответственно на поддержку усилий европейской «тройки».
В-пятых, Россия, которая с беспокойством следит за «замыканием» иранского ЯТЦ, отдает себе отчет в том, что со временем Иран сможет достаточно быстро перевести свою мирную программу на «военные» рельсы. Москва стремится к тому, чтобы Тегеран перешел от временной приостановки программы по обогащению урана к полному отказу от нее. Для этого требуется создать (используя и «пряники» европейской «тройки», и гарантии безопасности Ирану со стороны США, и систему мер МАГАТЭ) необходимые условия, которые стимулировали бы не только Иран, но и другие государства, идущие похожим путем, отказаться от собственных программ обогащения. То есть это может быть только суверенное решение самого Ирана. «Передавливать» в данном вопросе вряд ли было бы продуктивно, да и с правовой точки зрения для этого нет оснований.
В-шестых, учитывая недостаточность имеющейся информации по Ирану, Россия всячески пытается наладить обмен соответствующими конфиденциальными сведениями, причем как на двустороннем уровне (с США, Германией и другими странами), так и на уровне «большой восьмерки».
Конечно, дефицит сведений о ситуации в Иране – проблема не только России, но и США и Евросоюза. Как подчеркнул недавно бывший аналитик ЦРУ Кеннет Поллак, «до нападения на Ирак мы знали, что наша информация была неадекватной, но не осознавали, до какой степени она была некачественной. Сегодня большинство чиновников в разведке считают, что наша информация о механизме принятия решений в Тегеране и о иранском ОМУ еще более отрывочная и ненадежная». В докладе специальной комиссии Лоуренса Силбермена о состоянии американской разведки резкой критике подвергается качество разведданных США по Ирану.
Тот факт, что Москва упорно настаивает на более активном вовлечении инспекторов МАГАТЭ в процесс контроля над иранским ядерным комплексом, отчасти обусловлен именно желанием лучше разобраться в противоречивой информации, поступающей из Ирана. По этой же причине Россия придает такое большое значение и собственному атомному присутствию в Иране.
Вместе с тем при всей неопределенности ситуации в Иране Москва по-прежнему не разделяет мнение (доминирующее в Вашингтоне и, судя по всему, в Лондоне) о том, что Иран уже принял политическое решение о создании ядерного оружия. Но в России (как и в Берлине и Париже) признают: Иран способен принять такое решение, если во внешнеполитических событиях произойдет неблагоприятный для него поворот (чего полностью исключить нельзя). Так что остается работать над устранением причин, могущих побудить Иран, достаточно рационального, по мнению Москвы, игрока, обрести собственный ядерный арсенал.
Таким образом, теряясь в догадках по поводу истинных ядерных намерений Тегерана, Москва пытается балансировать между очевидными стратегическими соблазнами и «нераспространенческой» осторожностью в отношении своего «трудного» соседа и партнера. При всем при том, однако, она явно склоняется к стимулированию сотрудничества и политике «оправданного риска».

О мировом порядке XXI века
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2005
В.Л. Иноземцев – д. э. н., научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, главный редактор журнала «Свободная мысль-XXI».
С.А. Караганов – д. и. н., председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Параллельно англоязычная версия этой статьи публикуется в журнале The National Interest (США). Статья обсуждалась на рабочей группе СВОПа, взгляды участников дискуссии учтены и обогатили материал. Авторы выражают особую благодарность А.Г. Арбатову, Ю.М. Батурину, А.Г. Вишневскому, В.З. Дворкину, А.И. Колосовскому, другим коллегам.
Резюме Система мирового управления переживает кризис: институты и принципы, оставшиеся в наследство от прежней исторической эпохи, не соответствуют новым реалиям. Проблемы человечества невозможно решить в рамках существующих подходов.
ПРИРОДА СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА
Во второй половине ХХ века радикально изменились как сама система международных отношений, так и традиционные представления о базовых принципах ее организации. Итогом Второй мировой войны, самого масштабного вооруженного конфликта в истории человечества, стало противостояние коммунизма и капиталистического мира, основанное на принципе баланса сил. Сложившаяся биполярная система породила и своеобразный баланс слабости: стремясь заручиться как можно большей поддержкой, каждая из сторон закрывала глаза на недостатки и даже пороки своих союзников.
Соперничая не только друг с другом, но и с традиционными колониальными державами, Соединенные Штаты и Советский Союз содействовали деколонизации и, не останавливаясь перед выхолащиванием смысла понятия «суверенитет», способствовали распространению принципа суверенитета на мировую периферию. В период становления биполярного мира (1947–1962) к пятидесяти независимым странам, существовавшим к концу Второй мировой войны, присоединились еще сто «суверенных» государств, большинство из которых вряд ли имели право и основания считать себя таковыми. Однако реалистично оценить Третий мир, стремительно образовавшийся рядом с Первым миром и Вторым, не позволяли принципы «политической корректности» послевоенной эпохи. Среди них выделялись постулаты, провозглашавшие «право наций на самоопределение вплоть до отделения и создания национального государства», а также «незыблемость государственного суверенитета».
Принцип суверенитета, использовавшийся в качестве оружия в противоборстве сверхдержав, не был отброшен и после победы одной из них. За время распада биполярной системы (1989–1998) мировое сообщество пополнилось еще несколькими десятками «суверенных» субъектов, степень жизнеспособности многих из которых еще предстоит определить. При этом выигравшие холодную войну Соединенные Штаты, как адепт свободы, демократии и прав человека, привнесли в мировую политику новые «политкорректные» постулаты, провозглашавшие демократию панацеей при решении всех социальных и экономических проблем и ставившие во главу угла «демократизацию мирового порядка».
Однако на рубеже ХХ и XXI столетий становится очевидным: суверенитет отдельных государств несовместим с международной демократией, предполагающей подчинение в той или иной форме меньшинства большинству. Доктрина соблюдения прав человека отказывает попирающим их правительствам во внутренней и внешней легитимности. Отсутствие демократических порядков внутри отдельных стран, их неспособность к социальному и экономическому развитию заставляют усомниться в способности таких наций реализовывать свои суверенные права.
В последнее время многие ученые и политики приходят к выводу о том, что «падающие» (failing) или «несостоявшиеся» (failed) государства составляют бОльшую часть Третьего мира и значительную часть бывшего Второго мира, что эти страны не способны к самостоятельному развитию и представляют собой серьезную угрозу международной стабильности. Драматизм ситуации осложняется двумя немаловажными обстоятельствами.
С одной стороны, прежняя «интегральная» концепция суверенитета постепенно начинает уступать место принципу «ограниченного» суверенитета, основанному на делегировании ряда полномочий и функций наднациональным органам (например, взаимоотношения в рамках Европейского союза). С другой стороны, Организация Объединенных Наций, оставаясь самым авторитетным и представительным международным институтом, испытывает серьезное влияние со стороны падающих и несостоявшихся государств, которые составляют большинство ее членов. Таким образом, модификация вестфальской системы в XXI веке практически неизбежна. Этому процессу будут способствовать как добровольный отказ от суверенитета в части развитого мира, так и неготовность последнего признать суверенитет падающих или несостоявшихся государств, а также необходимость обеспечивать минимальные условия жизни людей на этих территориях, предотвращать распространение многих глобальных бед, в том числе терроризма. Прежде чем представить себе контуры мироустройства грядущих десятилетий, проанализируем основные черты современной реальности.
«РАСКОЛОТАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Рубеж между той частью мира, в которой всё чаще задумываются о возможном отказе от суверенитета, и той, где особое внимание уделяется его восстановлению и укреплению, одновременно во все большей мере превращается в границу между сообществами государств состоявшихся и несостоявшихся. Для многих квазигосударств и территорий она становится все более непреодолимой, превращаясь в водораздел между «центром» и «периферией», Севером и Югом, миром порядка и миром хаоса, постсовременным и современным (мы бы сказали, даже пресовременным) миром. Раскол существующей цивилизации становится одной из определяющих черт нашего времени.
Демографический взрыв в Третьем мире увеличил численность населения несостоявшихся государств и усугубил их положение. Правда, отдельные страны, такие, например, как Китай и Индия, сумели, проводя разумную политику, воспользоваться преимуществами глобализации и стать на путь устойчивого развития. Однако значительная часть государств, находящихся вне пределов территории, обозначаемой как «расширенный Запад» (extended West), являются источниками большинства нынешних глобальных проблем – политических, социальных, экономических и даже экологических.
Это обстоятельство ставит в тупик многих наших современников. Те, чье мировоззрение сложилось в 1960-е и 1970-е годы, кто был воспитан на идеях равенства и прогресса, не могут смириться с провалом концепции «развития», однозначно рисовавшей перед новыми независимыми странами перспективу экономического роста и политической стабильности. Неудачи развивающихся стран подпитывают всевозможные теории «вины» бывших метрополий за нынешнее положение периферии, концепции «долга за политику колониализма», сторонники которых считают, что отсталость может и должна преодолеваться путем предоставления разного рода помощи.
Настало время отказаться от подобных подходов. Конечно, проводя колониальную политику, ведущие державы преследовали прежде всего собственные эгоистические интересы. Но во многих случаях (хотя, разумеется, имелись и исключения) европейская колонизация явилась фактором экономического и социального прогресса, что не принято признавать в рамках новой «политкорректности». При всей своей противоречивости европейское колониальное присутствие в Азии, Африке и Латинской Америке способствовало ознакомлению местного населения с новыми технологиями, освоению более совершенных методов организации труда, повышению образовательного уровня, приобщению к элементам европейских ценностей. Там, где период колонизации был достаточно длительным, а уровень цивилизационного развития до прихода европейцев – относительно высоким, последствия оказались скорее положительными (например, Индия или Малайзия). Там же, где колонизация была слишком кратковременной, чтобы ее позитивные стороны могли породить устойчивый эффект, европейская цивилизация не прижилась, а примитивные культуры в значительной степени подверглись разрушению (так произошло в большинстве стран тропической Африки). В подобной ситуации на первый план вышли негативные стороны колониального присутствия. Враждебность к колонизаторам и бедность местных культурных традиций воплотились в усилиях по созданию так называемой «новой идентичности» – деградирующей, показной и в большинстве случаев основанной на диктатуре.
Последние десятилетия богаты примерами неприятия западных ценностей и образа жизни в развивающихся странах, стремящихся замкнуться в своей отсталости. Подобные примеры особенно многочисленны в Африке и Азии, но весьма заметны и на территории бывшего Советского Союза: среднеазиатские (ныне центральноазиатские) республики, жившие на протяжении десятилетий за счет ресурсов, технологий и интеллектуального капитала России, сегодня представляют собой сырьевые экономики с полуфеодальной политической системой. Губительные попытки отвергнуть ценности современной цивилизации, стремление к самоизоляции характерны и для части российского политического класса.
Низкий человеческий потенциал падающих или несостоявшихся государств, авторитаризм их правителей, а также и порожденное глобализацией серьезное обесценение ресурсов при одновременном возрастании значения технологий и знаний сводят к нулю шансы самостоятельного развития этих стран. Более того, гуманитарная помощь, оказываемая западными странами, как правило, развращает население и власти падающих или несостоявшихся государств, не способствуя модернизации их экономик и общественных структур, порождая иждивенчество и коррупцию. Похожий эффект вероятен и в случае предоставления этим странам каких-то специальных торговых преференций. Все дело в том, что основу их экспорта составляют сырьевые товары, а история не знает примеров успешной структурной перестройки сырьевых экономик в условиях высоких мировых цен на ресурсы (на примере собственной страны мы видим, насколько опасен комплекс «получателя гуманитарной помощи», не говоря уже о нефтяной зависимости, схожей с наркотической).
Опыт небольшого числа «новых промышленных стран», вырвавшихся из западни экономической деградации, также свидетельствует о том, что в современном мире единственный способ достичь хозяйственного успеха – это принять порожденные глобальной экономикой правила игры и взять курс на интеграцию в сообщество государств, разделяющих идеалы и ценности западной цивилизации. Между этими новыми промышленными странами и западными державами устанавливаются отношения партнерства, и сегодня от «центра» требуется всестороннее содействие успешному росту этой части «периферии» – не посредством все более интенсивной деморализующей «помощи», а путем открытия перед ней своих рынков, поддержки развития ее человеческого капитала, интеграции ее в свои политические и экономические структуры.
Однако постепенное приобщение части «периферии» к «центру» не меняет общей картины, особенно в тех регионах, где почти отсутствуют прецеденты успешного «догоняющего» развития, – в Африке и на «расширенном» Ближнем Востоке. Бросаются в глаза непреодолимая отсталость этих регионов, стагнация и даже деградация человеческого капитала, безрассудство и безответственность властных элит, готовых винить в своих бедах кого угодно, но только не собственные некомпетентность, корыстолюбие и коррумпированность. Эта часть «периферии» выступает в качестве источника основных экологических проблем; здешний регресс обостряет проблему мирового неравенства; творимое здесь насилие оборачивается миллионными толпами беженцев и переселенцев; дезориентированные молодые поколения становятся благодатной питательной средой для распространения экстремистских и террористических идей.
Управление протекающими в этой части мира процессами, установление над ними минимального контроля – залог укрепления столь необходимой для мирового развития политической стабильности. Это позволит модернизировать сами отстающие страны и регионы, снизить глобальную напряженность, заполнить «вакуум безопасности», а также осуществить давно назревшее реформирование унаследованной от холодной войны системы международных отношений.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МИРОВОГО ПОРЯДКА
Сложные исторические перипетии послевоенной эпохи обусловили высокую степень неструктурированности современной системы международных отношений. В наибольшей мере эта неструктурированность была порождена тремя обстоятельствами. Во-первых, продолжительной подчиненностью всех политических процессов задачам холодной войны. Во-вторых, резким ростом влияния экономических факторов в глобальной политике. И, в-третьих, сокращением возможности использования традиционной военной силы в конфликтных ситуациях. Все эти обстоятельства не были адекватно оценены и не получили отражение в сложившейся ныне системе международных институтов.
Существенная сторона процессов, связанных с первым обстоятельством, нашла наиболее полное выражение в эволюции роли и значения Организации Объединенных Наций, созданной вскоре после окончания Второй мировой войны и насчитывавшей 50 государств-членов. Структура ООН изначально не предусматривала широкого демократического участия множества новых стран, обретших независимость в последующие десятилетия. Совет Безопасности «разлива 1945 года», в котором обе сверхдержавы – СССР и США, две колониальные метрополии – Великобритания и Франция, а также Китай (до 1971-го его представляло бежавшее на Тайвань правительство Гоминьдана) имели право вето, выступал, по сути, инструментом легитимации биполярной системы. Будучи ее своеобразным дополнением, ООН не смогла добиться создания системы коллективной безопасности, сформировать эффективные международные вооруженные силы, способные не только поддерживать, но и навязывать мир, предотвращать конфликты, противодействовать распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). За всю историю ООН решения Совета Безопасности лишь трижды (в Корее в 1953 году, в Конго в начале 1960-х и в Кувейте в 1990-м) воплотились в конкретные действия по наказанию агрессора.
За прошедшие годы ООН обросла массой организаций и агентств. Некоторые из них, такие, как Всемирная организация здравоохранения, Международное агентство по атомной энергии, Всемирный банк и ряд других, весьма полезны, тогда как большинство их бюрократизировались или же, как, например, регулярная Специальная сессия Генеральной Ассамблеи, работающая над совместным решением проблемы наркотиков, занимаются бесполезными дискуссиями. Те же структуры ООН, которые сформировались в 1945 году, но, как позднее выяснилось, «не принимали во внимание» право народов на суверенитет, оказались недейственными (например, Военно-штабной комитет) или были фактически распущены (в том числе Комитет по опеке, упраздненный в 1994-м). В ее нынешнем виде Организация Объединенных Наций сохраняет свое значение как уникальный и универсальный инструмент диалога, однако на практике она не только лишена возможности вмешиваться в международные конфликты, но и зачастую препятствует формированию институтов, способных эффективно решать возникающие проблемы. ООН подошла к рубежу, на котором необходим «ремонт» ее структуры, причем отнюдь не косметический. Попытки реформировать организацию пока не очень успешны. В этом убеждает анализ доклада Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, представленного в конце 2004 года. (См. также заслуживающую внимания статью российского члена этой группы академика Евгения Примакова «ООН: вызовы времени» в журнале «Россия в глобальной политике». Т. 2, № 5, сентябрь – октябрь 2004 г., с. 68–76.)
Доклад, безусловно, заслуживает отдельного глубокого обсуждения, однако он не уменьшил ощущение того, что и в экспертной среде наблюдается острый дефицит новых идей.
Второе обстоятельство, обусловившее высокую степень неструктурированности современной системы международных отношений, связано с нарастающей глобализацией мировой экономики, которая придает политическое измерение, казалось бы, сугубо хозяйственным проблемам. В новых условиях выявилась неспособность к эффективному функционированию политических институтов, сформированных еще в то время, когда никто не мог даже помыслить ни о диктате цен на сырье со стороны международных картелей, ни о возможности банкротства суверенных заемщиков, ни об образовании регионов свободной торговли, ни тем более о единых валютных зонах, охватывающих несколько национальных экономик. Преодоление экономических кризисов и финансовых катаклизмов напрямую связано с теми или иными формами краткосрочного (а возможно, и продолжительного) ограничения столь важного фактора в системе международных институтов, как национальный суверенитет. Однако правомерность подобного ограничения нынешней теорией международных отношений практически не признается.
Наиболее очевидным примером того, как экономическая глобализация трансформируется в политическую интеграцию, выступает Европейский союз. Успех относительно скромного проекта объединения угольной и сталелитейной индустрии Франции и Германии привел в свое время к созданию Европейского экономического сообщества, превратившегося спустя несколько десятилетий в сегодняшний ЕС, самый сложный политический организм в человеческой истории. Это уникальное политико-хозяйственное образование доказывает не только экономическую эффективность, но и социальную благотворность интеграции, порождающей относительно справедливое и вполне конкурентоспособное общество. Одновременно мы становимся свидетелями того, как процесс абсолютно добровольного ограничения суверенитета включает в себя все большее число участников. При этом объединенная Европа демонстрирует новый вариант экспансионистской политики – пожалуй, наиболее эффективный и социально приемлемый из всех, какие только знала история.
Наконец, третье обстоятельство, обусловившее неструктурированность современной системы международных отношений, – сокращение возможности использования традиционной военной силы в конфликтных ситуациях. В условиях нарастания глобальной нестабильности, весьма заметной после завершения холодной войны, дезориентирован и наиболее мощный международный военно-политический альянс – НАТО. Выполняя на протяжении сорока лет задачи стратегического сдерживания в Европе, НАТО продемонстрировала свою неспособность наказать агрессоров, нанесших 11 сентября 2001 года удар по Соединенным Штатам, а два с половиной года спустя – по Европе (взрывы поездов в Испании). За последнее десятилетие альянс включил в себя более десятка новых членов, но так и не переосмыслил основные элементы своей стратегии, de facto раскололся в связи с военной операцией в Ираке и более чем осторожно рассматривает возможное расширение своей зоны ответственности.
Подытоживая, можно без преувеличения сказать, что в политическом и военном отношении современный мир разделен на «центр» и «периферию» – точно так же, как в экономическом и социальном плане. Важная отличительная особенность заключается в том, что Соединенные Штаты (представляющие развитой мир), а также Россия и Китай (со стороны развивающихся стран) сохраняют верность традиционной политике баланса сил, тогда как европейские государства привержены методам экономического влияния, военного невмешательства и политического нейтралитета. Различия между тем, что всё чаще называют соответственно современной и постсовременной политикой, становятся все разительнее. Но ни та, ни другая модель пока не способны предложить рецепты преодоления глобального беспредела.
ЧТО НАС ОЖИДАЕТ?
В условиях все большей непредсказуемости глобальных процессов, усугубления уже стоящих перед человечеством и появления новых проблем ни одно из национальных государств не способно в одиночку гарантировать собственную безопасность. Если тот или иной регион окажется втянутым в серию разрушительных конфликтов, их негативное влияние неизбежно распространится и на остальные, в том числе и более благополучные, страны и регионы. Именно поэтому сегодня важно оценить возможные варианты развития мировой политической архитектуры и определить наиболее приемлемые (или, по меньшей мере, наименее катастрофичные) из них.
Все ныне имеющиеся концепции относительно того, как в дальнейшем будет или должен эволюционировать мировой порядок, можно разделить на три большие группы.
Первую группу составляют сценарии, в основе которых – осмысление мира в сравнительно привычных категориях центров силы, или «полюсов», хотя содержания этих концепций весьма (а порой и радикально) отличаются друг от друга.
Так, после окончания холодной войны широкое распространение (особенно в США) получила идея о том, что на планете надолго установился однополярный мир, de facto управляемый Америкой. Сторонники данной идеи исходят из того, что Соединенные Штаты, находящиеся в расцвете своего могущества, во все большей степени реализуют стратегию односторонних действий, а немалая часть американских политиков и экспертов уже вовсю воспевают мощь и величие новой Империи. Их оппоненты, правда, указывают на то, что перенапряжение сил единственной сверхдержавы неизбежно. Кроме того, с подобным развитием событий никогда не согласятся большинство членов мирового сообщества, которые непременно начнут стремиться к совместному противостоянию глобальному гегемону.
Более существенным, однако, нам представляется не то, к каким последствиям может привести воплощение в жизнь такого сценария, а то, что сам он основан на сомнительных предпосылках и самообмане. Да, сегодня Америка – мощнейшая экономическая держава. Но ее относительная мощь серьезно уступает уровню конца 1940-х – начала 1950-х или начала 1920-х годов. Беспрецедентный на первый взгляд военный потенциал США на поверку оказывается крайне ограниченным, о чем свидетельствуют попытки стабилизировать ситуацию в ряде регионов планеты. Политического влияния Вашингтона также недостаточно для того, чтобы эффективно купировать самые опасные процессы в современном мире. Чего, например, стоит неспособность США не только предотвратить обретение ядерного оружия Индией и Пакистаном, но и воспрепятствовать развернутой Исламабадом активной торговле компонентами ОМУ и технологиями его производства! При всем своем могуществе Америка бессильна и в том, что касается разрешения одного из ключевых конфликтов современности – арабо-израильского.
Противники американской гегемонии стремятся к созданию альтернативной модели и выступают за многополярный мир. Но такая точка зрения нереалистична и старомодна, так как современный мир невозможно свести к совокупности уравновешивающих друг друга центров силы. Как и концепция восстановления противовеса Соединенным Штатам, эта идея не направлена на решение новых глобальных проблем, и даже семантика самого термина «многополярность» подразумевает нацеленность не на сотрудничество, а на соперничество в международных делах. Наиболее последовательными приверженцами этой концепции являются ныне Китай и Франция. Россия подвержена их влиянию и колеблется в определении собственного курса, что иногда сказывается в ее раздражении высокомерием Вашингтона. Однако в последнее время российские руководители предпочитают использовать термин «многовекторность», не имеющий четкой политической (и тем более антиамериканской) окраски. Такой подход отражает приверженность прагматической политике перманентного лавирования. Оно неизбежно в быстро меняющемся мире, где постоянные союзы и ориентации невозможны да и нежелательны. Это особенно существенно для такой страны, как Россия, позиции которой временно ослаблены и которая к тому же оказалась на линиях разлома между богатыми и бедными странами, между переживающей упадок великой исламской цивилизацией и цивилизациями пока что более успешными. Однако многовекторность остается не столько концепцией миропорядка, сколько способом до поры до времени воздержаться от выбора.
Сколь различными ни казались бы идеи однополярного и многополярного мира, обе они базируются на общей предпосылке: каждая страна или группа стран проводит ту или иную политику, исходя из своего отношения к другим странам. Подобная идеология кажется нам отжившей и малоперспективной.
Сторонники концепций, которые условно можно объединить во вторую группу, призывают отказаться от стремления к балансу сил в пользу создания некой парадигмы управляемости мира. Наиболее последовательные из них отстаивают идею мирового правительства. Однако эта идея теряет свою популярность по мере того, как увеличивается число падающих государств, снижается роль ООН, усугубляется неспособность сторонников «вашингтонского консенсуса» построить систему эффективного наднационального управления хотя бы в сфере международных экономических процессов, а также повсеместно нарастают националистические и сепаратистские тенденции. Единственным, но крайне важным исключением на этом фоне выступает Европейский союз. При всех очевидных проблемах (неповоротливость европейской бюрократии, несопоставимость внешнего влияния ЕС и его экономического и социального потенциала и пр.) объединенная Европа – успешный «пилотный проект» мирового правительства. Хочется верить, что этот проект выживет, не утонув в историческом водовороте.
Успех европейского эксперимента подпитывает еще одну концепцию, адепты которой выступают за «усеченный» вариант мирового правительства, но, по сути, призывают к «отгораживанию» «центра» от «периферии». Исходя из соображений политической корректности, мало кто решается открыто сформулировать эту идею. Однако элементы такого подхода просматриваются в политике развитых стран, которые, провозглашая необходимость содействовать развитию, на деле сокращают помощь, по сути, уходят из нищающей и деградирующей Африки, преуменьшают опасности распространения ОМУ. Даже Европа, остающаяся крупнейшим источником гуманитарной помощи, все больше концентрируется на собственных проблемах и на ситуации в сопредельных государствах в ущерб своей международной политической активности. Эскапизм развитых стран еще более явно проявляется в курсе, проводившемся по отношению к «расширенному» Ближнему Востоку. Проблемы, которые накапливались там десятилетиями, предпочитали не замечать, как игнорировали и чудовищные войны в Африке.
Политика, основанная на подобном подходе, вряд ли может лечь в основу эффективного управления миром. Практика показывает, что отстающие страны, как правило, не способны самостоятельно выйти из пике и в них рано или поздно вызревают проблемы, выплескивающиеся во все остальные регионы, – от терроризма и распространения оружия массового уничтожения до разрушения локальных экосистем и возникновения масштабных эпидемий.
Неэффективность обеих рассмотренных концепций управляемости мира – формирования мирового правительства и «отгораживания» – подталкивает к разработке третьей парадигмы глобального управления. Суть ее состоит в следующем: передовые и наиболее мощные нации должны навязать неблагополучным государствам элементарный порядок. Такое управление может иметь два уровня – спорадический и коллективный.
Спорадическое управление. Неспособность какого-либо из государств или квазигосударств обеспечить на своей территории соблюдение минимальных прав граждан дает основание навязать ему «внешнее управление». Оно осуществляется посредством «гуманитарной интервенции» с последующим отторжением части территории или полной оккупацией миротворческими силами (в качестве примера могут служить опыт НАТО в бывшей Югославии, действия России в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии, а также силовое вмешательство ряда европейских стран в дела их бывших колоний в Африке). События последних десятилетий свидетельствуют о том, что странам «центра» придется все чаще использовать этот крайне неоднозначно воспринимаемый инструмент управления. Препятствием на пути его применения является отсутствие механизма его легитимации, что порой превращает такое управление в очередной источник хаоса, соперничества и взаимных подозрений. Вот почему подобная политика, на наш взгляд, должна проводиться от имени международного сообщества – возможно, через воссоздание института подопечных Организации Объединенных Наций территорий, управляемых по мандату великими державами или их группами. (Правда, доклад Группы высокого уровня ООН предлагает окончательно похоронить идею ооновского Комитета по опеке; при этом не совсем ясно, чем руководствуются авторы доклада.) Неизвестно также, хватит ли у ведущих и наиболее продвинутых демократических государств воли для воплощения в жизнь такой политики. Весьма вероятно, что нет, особенно в уставшей от войн и колониальных коллизий Европе.
Коллективный вариант предполагает создание нового «концерта наций», преследующего вышеописанные цели, но действующего более масштабно – путем открытого доминирования в мировом сообществе группы ведущих, наиболее мощных государств. Совместно они способны диктовать мировому сообществу свою волю и противодействовать нарастанию хаоса как напрямую, так и через международные организации. Эта концепция представляется нам наиболее адекватной и последовательной, хотя и труднореализуемой. Ее главное преимущество заключается в том, что она подразумевает сотрудничество ведущих государств, которые контролируют большую часть мирового валового продукта, производят основные новые технологии и располагают рычагами, несоизмеримыми с потенциалом любой из возможных коалиций. Выработка этими странами стратегии коллективных действий стала бы впечатляющим прорывом в сфере международных отношений. Однако институциональная основа подобной парадигмы (контуры которой неявно просматриваются в идее «большой восьмерки» и которая угадывается в отдельных действиях Совета Безопасности ООН) выглядит пока крайне неопределенной.
Наконец, существует третья группа концепций, которые мы охарактеризовали бы как маргинальные по причине обреченного пессимизма одной их части и ни на чем не основанного оптимизма другой.
Пессимисты констатируют: мир сползает к пропасти глобального хаоса, противостоять которому невозможно. Хаотизация пугает многих, опасения особенно возросли после того, как лидер современного мира – Соединенные Штаты – серьезно подорвал свою мощь вторжением в Ирак. В результате неразумного применения военной силы Вашингтон вместо продвижения к однополярному миру поставил под вопрос свое влияние, сделав огромный шаг в сторону мира «бесполярного» – хаотичного и неуправляемого.
Примером противоположной, преувеличенно оптимистической, точки зрения на развитие ситуации в будущем является сценарий, который весьма популярен среди американских экспертов. По их мнению, залогом мира и стабильности станет демократизация все новых и новых стран, поскольку демократии, мол, не проводят агрессивной, воинственной политики. Однако данный постулат применим лишь к либеральным демократиям и не имеет никакого отношения к демократиям нелиберальным, а только они и могут возникнуть в результате искусственной (насильственной) демократизации. Принцип народовластия не приживается в бедных традиционалистских обществах. Ускоренное навязывание формально демократического способа правления, скажем, в Китае, Саудовской Аравии да и в том же Ираке может серьезно подорвать международную стабильность. И уж совсем безответственной глупостью выглядит идея дальнейшей «демократизации» международных отношений, способной лишь усилить влияние несостоявшихся государств.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Из вышеперечисленных концепций будущего миропорядка самой перспективной нам представляется та, что основана на идее коллективного управления, осуществляемого группой ведущих демократических государств. Будучи сторонниками этой идеи, авторы, тем не менее, не стремятся отринуть все прочие доктрины мироустройства, выступая за создание синтетической концепции, которая учитывала бы недостатки каждого из изложенных подходов и оказалась бы приемлемой для большинства субъектов мировой политики. Подобная концепция должна быть направлена на достижение ряда важный целей. Это – повышение степени управляемости международной системы, предотвращение распространения ОМУ и снижение риска его применения, борьба с терроризмом, создание условий для экономической и социальной модернизации, а на ее основе и демократизации развивающихся стран, а также расширение пространства стабильности и развития, ограниченного ныне странами «центра». Формирование на этой основе более стабильной и управляемой международной системы откроет перспективы и перед отстающими государствами, создаст хотя бы теоретические предпосылки для их поступательного движения. Если же продолжится нынешнее сползание к хаосу, таких шансов у них просто не будет.
Реформирование системы глобальных институтов должно, на наш взгляд, начаться с создания новых международных структур, координирующих взаимодействие между странами «центра». Следующий этап – это их сосуществование и конкуренция с уже имеющимися институтами, в процессе которой круг участников новых структур постепенно расширяется. Наконец, формируются институты, оптимально отвечающие стоящим в повестке дня задачам.
На первом этапе возможности и ресурсы, находящиеся в распоряжении развитых стран, должны использоваться в целях выстраивания «центра» как союза, эффективно влияющего на «периферию», делающего ее более управляемой и распространяющего на нее принципы, принятые во взаимоотношениях между самими странами «центра». Сегодня отсутствует четкое ядро, вокруг которого мог бы начаться процесс консолидации, – то ли это «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН (возможно, расширенная), то ли «восьмерка» (возможно, также расширенная). Наиболее реалистичен компромиссный вариант: «центр», скорее всего, составят Соединенные Штаты, Европейский союз, Япония, Россия и, может быть, Китай и Индия, как страны, уверенно продвигающиеся по пути развития, заинтересованные в стабилизации международной ситуации и обладающие значительными ресурсами.
Первоначально всем этим странам предстоит заключить между собой ряд соглашений, определяющих их общую позицию в отношении глобальных социальных проблем и вопросов международной безопасности, и декларировать решимость бороться с опасными тенденциями мирового развития. Новая коалиция, или альянс, провозгласит свою верность идеалам, воплощенным в Уставе ООН, и приложит усилия к тому, чтобы действия Организации Объединенных Наций стали более эффективными и решительными.
Второй этап, наиболее сложный, будет включать в себя совокупность мер по реформе ООН, которую следует наделить адекватными властными полномочиями и силовыми структурами. Видимо, придется вернуться к исходному варианту Устава ООН, в котором не предусматривалось право наций на самоопределение, четко конкретизировать требования к государствам – членам Организации Объединенных Наций, а также прописать процедуру исключения или временной приостановки членства той или иной страны. В случае успеха такой реформы странам «центра» следовало бы создать объединенные вооруженные силы, действующие под эгидой ООН, но управляемые представителями великих держав. (В принципе такая возможность была заложена в Военно-штабном комитете ООН, но его тоже предлагают аннулировать.) В случае же провала реформы, представляющегося весьма вероятным, государства «центра» окажутся свободными от обязательств выполнять ряд решений, принимаемых в рамках Организации Объединенных Наций (что имеет место и сегодня, реализуясь через право вето), и смогут приступить к созданию коллективных военных структур и структур безопасности вне рамок ООН. В последнем случае логично предположить, что фундаментом таковых станут структуры НАТО, хотя это и потребует роспуска альянса и формирования на его основе новой военно-политической организации, не ограниченной пресловутой зоной ответственности (чему давно пришло время).
По завершении второго этапа возникнет серьезная политическая и военная коалиция развитых стран. Для нее будут характерны ясные и открыто декларируемые принципы отношений с остальным миром. Применение силы станет возможным лишь в случаях, заранее оговоренных со всеми остальными субъектами международных отношений (например, покровительство террористическим организациям, массовые нарушения прав человека, геноцид, религиозные преследования, явная неспособность правительств контролировать ситуацию в пределах собственной страны). Это, с одной стороны, внесет в систему международных отношений больше определенности, сократив влияние на нее падающих и несостоявшихся стран, и, с другой стороны, укажет не входящим в коалицию государствам на четкие рамки свободы их действий по отношению к собственным народам, сопредельным странам и международным нормам.
На третьем этапе институционализация новых международных структур вступит в завершающую стадию. Страны «центра» получат реальную возможность формулировать свои требования (обусловленные не произвольной заинтересованностью, а задачами борьбы с теми или иными опасными глобальными тенденциями) к остальным государствам. Выполнения этих требований не следует добиваться силой оружия: главный инструмент давления на «периферию» – это условия экономического, технологического и информационного партнерства с «центром», которые могут быть более или менее благоприятными. Только в исключительных ситуациях, таких, как предотвращение гуманитарной катастрофы или помощь в отражении агрессии одного из «периферийных» государств против другого, развитые страны могут прибегать к использованию военной силы. Основная задача их союза – не покорить, а цивилизовать «периферийные» территории, помочь их народам достигнуть уровня развития, позволяющего им реализоваться в качестве полноправных суверенных государств. Лишь для некоторых падающих и несостоявшихся государств придется восстановить статус подмандатных территорий с внешним управлением, используя для этого нормы, подобные тем, что были прописаны в Уставе ООН.
Формирование стабильного союза развитых стран способно сыграть определяющую роль и в разрешении целого ряда застарелых конфликтов, в первую очередь арабо-израильского противостояния. Его затяжной характер и серьезность накопленных за десятилетия взаимных претензий не дает надежд на его преодоление без вмешательства сторонней силы, а возможно, и без возвращения части ближневосточных территорий под опеку великих держав. Необходимо и создание коллективных структур безопасности «расширенного» Ближнего Востока, где они могли бы сыграть положительную роль, подобную той, какую сыграла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении противоречий между странами западной и восточной частей континента.
Разумеется, обозначенные этапы – сначала «отгораживание» «центра» от «периферии», затем его самоорганизация и лишь после этого активное воздействие – весьма условны. Некоторыми проблемами падающих и несостоявшихся государств придется заниматься уже сегодня. Мы лишь попытались выделить приоритеты, важнейшим из которых является самоидентификация и самоорганизация «центра».
* * *
Мировой порядок XXI века не будет походить на прежний, столь привычный для политиков прошлого столетия. Основное его отличие станет заключаться в том, что незыблемый на протяжении последних трехсот лет принцип баланса сил утратит свое былое значение. Снижение вероятности конфликта между великими державами и сближение их позиций по большинству спорных международных проблем приведут к формированию альянса развитых стран, мощь которого не может быть уравновешена никаким объединением сил «периферийных» государств.
Важным следствием подобной трансформации станет отказ от «демократизации» международных отношений, от учета мнения и позиций падающих и несостоявшихся государств и их поддержки и, наконец, от соглашательской политики, намеренно игнорирующей нарушения общепринятых норм и прав человека в странах «периферии», от курса на распространение оружия массового уничтожения и спонсирование террористической активности. Коалиция развитых стран сможет устанавливать нормы поведения на международной арене, а также правила, ограничивающие степень свободы правительств в отношении собственных граждан.
Очевидным отличием новой системы международных отношений от нынешней станет и восстановление системы управления падающими и несостоявшимися государствами усилиями отдельных великих держав или их коалиции. Но не с целью эксплуатации природных богатств или людских ресурсов этих стран, а ради защиты элементарных прав их граждан и предоставления им гарантий соблюдения, как таковых. Вестфальская система не уйдет в прошлое, но будет модифицироваться по мере установления приоритета прав человека над правами народов, наций и государств.
Насколько все эти прогнозы окажутся реальными, зависит от способности развитых стран координировать свою политику, подчинять свои текущие конъюнктурные цели задачам построения предсказуемого и безопасного мира. Мы не можем с уверенностью сказать сейчас, сколь сильной окажется решимость правительств этих стран двигаться по избранному пути. Но надеемся на то, что перспективное видение все же возьмет верх над сиюминутными интересами.

Ограниченные возможности и возможные ограничения
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2004
Автор – директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США (Вашингтон).
Резюме За последние годы взаимоотношения России и США не только не укрепились, но, более того, приблизились к опасной черте.
Поздравляя Джорджа Буша-младшего с переизбранием на пост президента США, Владимир Путин отметил, что за предыдущие четыре года отношения между обеими странами значительно улучшились, хотя диалог России с Соединенными Штатами будет нелегким при любом хозяине Белого дома. Со второй частью данного высказывания трудно не согласиться; что же касается улучшения, то здесь глава Российского государства, пожалуй, выдает желаемое за действительное.
В самом деле, двусторонние отношения носят откровенно поверхностный характер. В их повестке дня не появилось ничего принципиально нового по сравнению с периодом холодной войны. Продолжается порочная практика игнорирования большинства взаимных проблем и концентрации усилий лишь на традиционных направлениях сотрудничества – сферах безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и торговли энергоносителями (последняя составляющая контактов сформировалась относительно недавно, но как раз в ней-то успехи пока самые скромные).
За последние годы двусторонние отношения не только не укрепились, но и, более того, приблизились к опасной черте. В элитах нарастает настороженность и чувство взаимного разочарования, усиливаются подозрения в том, что другая сторона тайно вынашивает враждебные намерения, что, к примеру, только что продемонстрировала история с президентскими выборами в Украине. Образно говоря, российско-американское политическое пространство сегодня представляет собой маленькую гостиную, где президенты под вспышки фотокамер демонстрируют взаимные симпатии, да огромный склад, куда заталкиваются постоянно усложняющиеся проблемы. По сути, дружба президентов из средства решения этих проблем превращается в способ их завуалировать. Горячее и не раз публично высказанное на высшем уровне желание Москвы видеть победителем президентских выборов 2004 года Джорджа Буша стало еще одним свидетельством того, насколько хрупки и ненадежны отношения между двумя странами, насколько непрочен их фундамент, зиждущийся на личных связях двух лидеров.
В страшный день 11 сентября 2001 года президент Путин первым дозвонился до Буша, заверив его, что Россия – на стороне США. Но как ни значим этот жест, его явно недостаточно для того, чтобы запустить процесс выстраивания новых отношений между Москвой и Вашингтоном. Ведь из американской столицы видно, что Россия союзником в полной мере так и не стала. У Кремля же, в свою очередь, есть основания сетовать на то, что Джордж Буш, считающийся «самым пророссийским» президентом в новейшей истории США, продолжает выдавливать Россию практически из всех сфер ее влияния и не учитывает интересов Москвы, особенно в зоне бывшего СССР.
ДВЕ ПОЛИТИКИ – ДВЕ НЕУДАЧИ
Окончание холодной войны создало уникальные возможности для стратегического партнерства США и России, но они так и не были использованы. Президент Билл Клинтон полагал, что поддержка российской демократии станет важным фактором внешнеполитического успеха Соединенных Штатов. Поэтому к решению данной задачи он подключил самых влиятельных членов своей администрации – от вице-президента Альберта Гора до заместителя госсекретаря Строуба Тэлботта. Однако к концу президентства Клинтона были созданы лишь неустойчивые механизмы по согласованию взаимных интересов и ведению диалога в период кризисов. К построению фундаментальных долгосрочных основ новых отношений так и не приступили.
Во время избирательной кампании-2000 Джордж Буш обвинил администрацию Клинтона в «потере России». Но, придя к власти, он полностью отверг как созданные до него механизмы, так и вообще клинтоновскую идею участия США в созидании нового российского общества и государства. Российская политика Буша свелась исключительно к взаимоотношениям официальных структур, да и то в основном лишь в военно-политической сфере. Эта тенденция заметно усилилась после сентября 2001 года. Рассчитывая на помощь Владимира Путина в борьбе с терроризмом, Белый дом поддерживал действия своего российского визави, почти не обращая внимания на внутриполитическую эволюцию Кремля.
Этот курс Вашингтона также оказался ошибочным. Ведь в результате возможности его влияния на Москву резко снизились, а Россия сегодня находится дальше от демократии, чем четыре года назад. (Справедливости ради надо отметить, что, помимо позиции Белого дома, такому развитию событий способствовал и объективный фактор: высокие цены на нефть и экономический подъем в России обеспечили ей независимость от международных финансовых институтов.)
Итак, две различные стратегии США в отношении Москвы оказались неудачными. Сегодня в американском истеблишменте нет единства по поводу того, какую политику следует проводить на российском направлении, как нет, впрочем, и былого энтузиазма.
Администрация Буша в принципе не видит в России стратегического союзника. И связано это не только с российскими проблемами, но и с общим подходом Белого дома к международным отношениям. По сути, Вашингтон вовсе отказался от опоры на союзников, его внешняя политика исходит из того, что США, как самая мощная в военно-политическом и экономическом плане страна, не нуждается в стратегической поддержке со стороны. Америка может принять (и принимает) помощь от других государств в рамках врОменных коалиций, созданных для решения той или иной конкретной проблемы, но завтра эти страны могут стать ей неинтересны, а то и вовсе оказаться ее противниками. К сожалению, именно по этому принципу работает сегодня связка Вашингтон – Москва.
Переход к тактическому военно-политическому сотрудничеству, к «гибкой», используя выражение Доналда Рамсфелда, коалиции стратегически ведет американо-российские отношения в никуда. Тем не менее он удобен для той поистине микроскопической части истеблишмента в обеих странах, которая монополизировала двусторонние контакты. Эта монополизация еще одно серьезное препятствие на пути прогресса. Так, Вашингтон продолжает в России практику сосредоточения усилий на отдельных группах и личностях. Такая модель себя исчерпала, и дальнейшее следование ей дискредитирует саму идею партнерства.
ЗАЧЕМ АМЕРИКЕ РОССИЯ?
В Вашингтоне сегодня нет понимания той роли, которую Москва способна играть в долгосрочной перспективе. Соединенные Штаты как будто не видят, что Россия, как обладатель самого большого ядерного потенциала вне территории Америки, по-прежнему единственная в мире страна, способная поставить под вопрос само существование США. Россия обладает колоссальным запасом радиоактивных материалов, пригодных для производства ядерного оружия, а также запасами, технологиями, практическими знаниями и специалистами, необходимыми для создания других видов ОМУ. Без партнерства с Москвой Вашингтон никогда не сможет обеспечить его нераспространение.
Россия является союзником США в борьбе против международного терроризма. Она остается одной из важнейших в геополитическом отношении держав, играя ключевую роль в Евразии (в частности, на Кавказе и в Центральной Азии) и являясь близким соседом стран, находящихся в центре внимания Вашингтона, – Ирака, Ирана, Китая, Индии, Афганистана, Пакистана, Северной Кореи. Россия входит в Совет Безопасности ООН, без санкции которого Америке трудно обеспечивать легитимность своих шагов на внешней арене. Наконец, Россия способна влиять на мировой энергетический рынок и потенциально может стать для США одним из серьезных альтернативных поставщиков энергии. Интеграция России в глобальную экономику принесет пользу американским компаниям, так как откроет им доступ на российский потребительский рынок и рынок трудовых ресурсов.
Что же мешает Вашингтону всерьез развернуться в сторону Москвы?
Главное препятствие – это ухудшающаяся социально-политическая ситуация внутри России. Как показывает опыт второй половины XX века, истинное стратегическое партнерство возникает лишь на основе общего видения и единой системы ценностей. У Вашингтона и Москвы такой системы нет, более того, различие в базовых ценностях за последние годы увеличилось. Владимира Путина в США больше не считают демократом в западном понимании этого слова. Вашингтон уверен, что по мере роста авторитаризма в России между двумя странами неизбежно возникнут трения. Действия Кремля начнут рано или поздно вступать в конфликт с интересами Америки и ее союзников.
При этом США смущены тем, что, несмотря на многочисленные заявления общего характера, президент Путин за все эти годы так и не сформулировал четкую стратегию развития взаимных отношений. Вашингтон хотел бы (и это неоднократно давали понять московским визави), чтобы российский лидер публично и подробно изложил свое перспективное видение политики России в отношении США, давая тем самым ясный сигнал как своей, так и мировой элите. Но этого до сих пор так и не произошло. А вопрос о том, действительно ли союз с Западом является стратегическим выбором Москвы, остается без ответа.
ТРИ ВЗГЛЯДА НА РОССИЮ
В Соединенных Штатах распространены сегодня три основные точки зрения на Россию. Сторонники первой считают, что новая администрация Буша обязана решительно высказаться по поводу происходящего в России, сделать все для недопущения углубления там авторитарных тенденций, дать понять Кремлю, что степень демократизации является для Вашингтона более важным критерием оценки положения в России, чем ее готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом. У Запада есть мощный рычаг давления – членство в «большой восьмерке», куда Россию «авансом» приняли в клинтоновские времена, говорят приверженцы этой позиции, многие из которых даже готовы идти на определенную конфронтацию с нынешней российской властью. Эта группа, в которой представлены не только демократы, но и ряд неоконсерваторов, довольно многочисленна и влиятельна, особенно в СМИ и в неправительственных организациях.
Вторая группа придерживается того мнения, что Америке следует занять критическую, но в целом выжидательную позицию, посмотреть на развитие событий в России, и в частности на то, как пройдут следующие парламентские и президентские выборы, каким образом осуществится смена власти. Те, кто разделяет подобные взгляды, полагают, что, с одной стороны, администрация Путина является политической реальностью, с которой все равно необходимо иметь дело, а с другой – интересы США в России требуют долгосрочной стратегии отношений с Москвой на период после Путина. Сторонников у этой точки зрения сравнительно немного, но они обладают значительным влиянием в Белом доме.
Третья группа соединяет элементы подхода первых двух, пытаясь сочетать критику российских властей по ряду важных вопросов с продвижением идеи развития взаимного сотрудничества на тех направлениях, где оно возможно. Влиять на внутреннюю ситуацию в России, сохраняя при этом перспективу стратегического партнерства, можно только через новый виток вовлечения Москвы в партнерство с США и новую попытку ее интеграции с Западом, но никак не через усиление изоляции России на мировой арене. Приверженцы такого мнения говорят о возможности нового «медового месяца» России и США, а именно наподобие того, что имел место более десятилетия назад. По их мнению, самое важное – найти правильную форму привлечения Москвы к совместной деятельности. В эту группу входят как некоторые традиционные республиканцы, так и умеренные демократы, в том числе кое-кто из команды Джона Керри.
Эти группы, при всем их различии, объединяет ряд общих установок. Во-первых, непредсказуемость и хаос в России создадут угрозу всему миру. Запад заинтересован в том, чтобы Россия была сильным и стабильным государством, которое не только поддерживает порядок на собственной территории, но и вносит реальный вклад в безопасность региона и мира в целом. Не все, однако, считают, что Россия способна на сегодняшнем этапе справиться со столь масштабной задачей.
Во-вторых, Россия должна превратиться в полноценное демократическое правовое государство, где соблюдаются права человека, действует нормальная система сдержек и противовесов, а власть прозрачна и подотчетна. Такая Россия может стать частью содружества демократических государств, в чем глубоко заинтересованы США. Но и эта возможность вызывает у многих значительный скепсис.
В-третьих, приверженность идеалам демократии и прав человека является не политической программой Америки, не тактикой, применяемой в той или иной ситуации, а фундаментальной основой устройства западного мира вне зависимости от того, какие партии и президенты находятся у власти. Именно с этой самой принципиальной мировоззренческой позиции США всегда будут оценивать Россию. Расхожее среди высокой российской элиты мнение о том, что Америка примирится с авторитарным режимом, поскольку ей более выгодна стабильная и предсказуемая Россия, является наивным и вульгарным. Исторический опыт, в который очень верят американцы, свидетельствует: только демократия способна принести долговременную стабильность и предсказуемость.
В-четвертых, все в Соединенных Штатах согласны с тем, что Россия может быть ведущей державой в Евразии. В интересах США добиться того, чтобы Москва, с одной стороны, окончательно перестала демонстрировать имперские устремления во внешней политике, а с другой – изжила «синдром осажденной крепости», уходящий корнями в глубь веков и порождающий ксенофобию во внутренней политике и агрессивно-пассивный подход к мировым делам. Часть американского истеблишмента, более глубоко знакомая с российской историей, культурой и менталитетом, считает, что для этого должно смениться не одно поколение российской элиты. Число сторонников последней точки зрения резко возросло после выборов-2004 в Украине, где Москва крайне агрессивно выступила против одного кандидата, обвиняя его в прозападной ориентации. Поражение же своего фаворита Кремль воспринял как потерю того, что принадлежит ему по праву и как подготовку «вражескими силами Запада» удара по самой России.
В-пятых, Запад заинтересован в сохранении России как единого государства, ибо ее распад чреват тяжелейшими последствиями для безопасности и стабильности во всем мире. Однако не сложилось единого мнения ни о том, возможно ли в принципе сохранение целостности российской территории, ни о том, какие политические и административные методы властей допустимы и эффективны для достижения данной цели. В частности, нет полного видения путей и способов решения чеченской проблемы. Сегодня США могут предложить России только общеполитическую поддержку и не готовы предоставить ей гарантии единства и целостности ее территории, однако разговор на эту тему вполне возможен. Вашингтон не готов дать такие гарантии и странам Южного Кавказа и Центральной Азии, но не возражал бы включить данный вопрос в повестку дня российско-американских отношений.
В-шестых, все согласны, что Россия может стать фактором стабилизации мирового энергетического рынка и помочь США диверсифицировать источники импорта нефти и газа. Правда, для этого Москве надо быть политически подготовленной к противостоянию с ОПЕК и рядом арабских стран – производителей нефти, с которыми у нее хорошие отношения. Для американского бизнеса Россия может превратиться в небольшой, но привлекательный рынок как инвестиций, так и производства, ибо обладает квалифицированной рабочей силой. Препятствуют этому демографический кризис, а также отсутствие западных стандартов ведения бизнеса.
Таким образом, можно сказать, что в американском истеблишменте существует консенсус относительно того, что США должны стремиться к достижению двух взаимосвязанных стратегических целей. Во-первых, способствовать превращению России в полноценную демократию. Во-вторых, укреплять ее роль и в качестве союзника в борьбе с терроризмом, и в деле создания новой глобальной системы безопасности и стабильности. Эти цели рассматриваются не иначе как в совокупности, достижение лишь какой-то одной из них не только не соответствует интересам Америки, но и практически нереально. В любом случае необходимо расширить традиционную двустороннюю повестку дня.
ПЛОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА
Основным содержанием взаимоотношений США и России в последние годы становятся не двусторонние проблемы, а интересы Москвы и Вашингтона в третьих странах, а также в ряде регионов, прежде всего на евразийском пространстве. Чтобы оценить глубину и сложность имеющихся там проблем, стоит совершить короткий экскурс в прошлое.
Холодная война завершилась без подписания документов, определяющих новые мировые правила. В эпоху противостояния двух систем американская элита добивалась не распада СССР, а коренного изменения советской политической системы и нормализации отношений. К краху Советского Союза Запад оказался попросту не готов. Образование в Евразии большой группы независимых государств сыграло роль спускового механизма для таких значительных тектонических сдвигов в геополитике, геоэкономике, демографии, национально-религиозном устройстве, что мы и сегодня не в состоянии определить их масштабы и сущность.
Находясь в состоянии эйфории по поводу одержанной победы, единственная оставшаяся супердержава далеко не сразу осознала, что исчезновение главного противника способно негативно повлиять на глобальную безопасность. Рухнули прежние стратегические союзы и геополитические концепции, зашатались международные институты, внешняя политика приобрела импровизационный характер, обесценилось международное право, перед лицом новых угроз и вызовов обанкротились военные доктрины.
Если будущее стран «социалистического содружества» представлялось в годы холодной войны довольно ясно (возвращение в сообщество западных демократий), то перспективы «некоммунистического» СССР на Западе видели туманно. Необходимость экспромтом формулировать политику в отношении дюжины новых государств, находящихся на совершенно разных уровнях развития, застала врасплох политическое и экспертное сообщество, привыкшее смотреть на все сквозь призму поведения Москвы. Выиграв идеологическое противостояние, США и их союзники сочли свою миссию в основном завершенной. Между тем борьба за обустройство бывших противников только начинается.
Интеллектуальная слабость российской и западной политических элит, не способных правильно оценить фундаментальные изменения, происшедшие в результате краха коммунизма и распада СССР, стоят в ряду важнейших причин нынешнего кризисного состояния миропорядка. Как показывают политические кризисы в постсоветских государствах, например в Украине или Грузии, ни они сами, ни США или европейцы, ни Россия не готовы к эффективному разрешению или предотвращению этих кризисов.
Активность Запада, прежде всего США, на постсоветском пространстве вызывает резкое недовольство Москвы. Однако сама Россия, по сути, ни разу четко не сформулировала свои приоритеты в таких странах и регионах, как Украина, Южный Кавказ, Центральная Азия, а также примыкающий к ней Средний Восток (Иран). Конфликты в постсоветской зоне зачастую возникают не только и не столько из-за различий в намерениях сторон или их нежелания признать интересы друг друга в регионе, сколько потому, что Россия и США не удосужились согласовать эти интересы да никогда толком их и не оглашали.
Возможна ли такая договоренность? Стоит вспомнить, что в начале 1990-х Вашингтон негласно согласился на то, чтобы, например, Южный Кавказ оставался в зоне монопольного влияния Москвы, которая соответственно брала на себя обязательство обеспечить там стабильность и порядок. Но в результате ситуация на Кавказе лишь ухудшилась, ни один из конфликтов не разрешен, и в американском истеблишменте растет сомнение в целесообразности тогдашней договоренности. То же самое можно сказать и об Украине. Если мы вскоре увидим нарастание западной активности на постсоветском пространстве, то во многом это явится следствием роста сомнений в том, что Россия способна справиться с ролью регионального брокера. Геополитическое соперничество не играет здесь определяющей роли. Скорее можно говорить о желании США нейтрализовать политическое влияние страны, выступающей, по сути, дестабилизирующим фактором в регионе. Наблюдая за российской политикой в ближнем зарубежье, которая по своим проявлениям все более напоминает имперскую, Вашингтон приходит к выводу, что она, во-первых, малоэффективна и, во-вторых, будет все чаще входить в противоречие с интересами США.
По мысли Вашингтона, многие из постсоветских конфликтов – например, на том же Южном Кавказе – требуют интернационализации как переговорных усилий, так и миротворческих акций. США, Россия, а в некоторой степени и ЕС являются ключевыми игроками, способными обеспечить реальный суверенитет и территориальную целостность стран бывшего СССР. Без этого невозможна региональная стабильность, в которой Вашингтон заинтересован еще и потому, что Каспийскому бассейну отводится определенная роль в энергоснабжении Запада. Борьба России и США за влияние на постсоветском пространстве в ущерб интересам друг друга нерациональна и опасна.
В принципе Вашингтон весьма заинтересован в том, чтобы Россия стала его главным стратегическим партнером в Евразии – от Каспийского моря до Дальнего Востока. Но нет уверенности в том, что она способна выполнять эту функцию. Отношения с бывшими советскими республиками отягощены слишком большим количеством взаимных претензий. С государствами Северо-Восточной Азии ситуация иная. Так и не став по-настоящему частью западной цивилизации, Россия, в последние полтора десятилетия не уделявшая достаточно внимания развитию серьезных и глубоких отношений с азиатскими соседями, растеряла немало своих позиций на Востоке. И хотя Россия продолжает оставаться самой проамериканской из великих азиатских держав, а также обладает колоссальным евразийским опытом, она не рассматривается Америкой в качестве стратегического партнера в регионе. Но вакансия остается незанятой, ибо другие потенциальные кандидаты, например Турция, Израиль, Индия, Пакистан, Япония, также не в состоянии взять на себя эту миссию.
При этом элиты и в США, и в России продолжают испытывать взаимное недоверие, к которому примешиваются элементы паранойи и злорадства. СМИ зачастую рисуют примитивную, необъективную картину, не только укрепляя старые стереотипы, но и рождая новые, а связь между обществами обеих стран продолжает оставаться очень слабой. Вашингтон находится под постоянным давлением разного рода международного лобби, чьи интересы часто противоречат российским; лоббированием же своих интересов и формированием в США собственного позитивного имиджа Россия не занимается.
ПУТЬ В ТУПИК ИЛИ ПОИСК НОВОГО ДИАЛОГА?
Во время своего второго президентского срока Джордж Буш, как и раньше, не будет заниматься расширением диалога с Россией, и никаких долгосрочных гарантий Москва от него не получит. Внутреннее развитие России, как экономическое, так и социально-политическое, не попадет в число приоритетов американского лидера. В Кремле Бушу нужен лишь союзник в борьбе с терроризмом, что вполне устраивает Путина.
Однако американская внешняя политика, в отличие от российской, не является президентской. Конгресс, неправительственные организации, бизнес, СМИ, даже различные представители собственной команды президента будут делать все, чтобы повлиять на него. Лидеры Республиканской партии не хотят, чтобы на выборах 2008 года их кандидатов обвиняли в том, что они опять «потеряли Россию», что, строя демократию на Ближнем Востоке, они просмотрели ее разрушение в бывшем СССР, чем усугубили проблему национальной безопасности США. Отсутствие поддержки американского истеблишмента пусть даже в таком второстепенном вопросе, как российский, может осложнить Бушу решение ряда других задач.
Изменить позицию президента США в отношении России теперь будет, скорее всего, проще, чем раньше. Для американских неоконсерваторов, составляющих идеологическую основу нынешней власти, откат России от демократии станет серьезным поражением, с которым они не захотят мириться. Идеология неоконсерваторов носит значительно более империалистический, глобалистский характер, чем даже взгляды демократов клинтоновского призыва. Мировая демократия в списке приоритетов неоконсерваторов поставлена выше борьбы с терроризмом, поскольку считается самым эффективным способом противостояния террору. Зная мессианскую природу характера и политики Джорджа Буша, можно предположить, что он прислушается к подобному аргументу.
Во время второго срока президентства для Буша важно не только сосредоточиться на своей главной миссии – расширении демократии и свободы в мире, но и суметь объединить вокруг нее свою партию, а то и привлечь часть демократов и независимых. Свою избирательную кампанию-2004 Буш построил на сочетании политических и морально-этических ценностей, что принесло ему рекордную поддержку избирателей. Как раз от этих ценностей сегодня и отдаляется Россия, дистанцируясь, таким образом, и от Буша с неоконсерваторами и республиканцами-реалистами, и от Америки в целом.
Учитывая все вышеизложенное, Москве следовало бы отказаться от нынешней удобной «простоты» в отношениях с США и инициировать новый, пусть даже не всегда приятный, широкий диалог с Вашингтоном.
Так, в диалоге по нераспространению оружия массового уничтожения внимание следует сфокусировать на проблеме недопуска негосударственных структур на «рынок» ОМУ, создания элементов совместной системы противоракетной обороны, в том числе в космосе, и т. д. Администрация Буша не пойдет на подписание новых долгосрочных договоров о безопасности ни с кем, ибо захочет сохранить себе свободу рук. Это придает особое значение расширению постоянных контактов между США и Россией в ядерной области и преодолению взаимного недоверия. Потенциалы обеих стран и возраст российского ОМУ заставляют всерьез учитывать возможность так называемой случайной ядерной войны. Важно также, чтобы США и Россия немедленно пересмотрели любые аспекты своих военных доктрин, которые можно трактовать как направленные друг против друга.
Что касается ситуации с Чечней, то эту проблему Вашингтон, к неудовольствию Москвы, не рассматривает как исключительно внутреннее дело России. При этом, однако, мотивы американской администрации отличаются от мотивов, например, большинства стран Европы. Европейцы прежде всего обращают внимание на положение с правами человека в неспокойной республике. Для США эта проблема, конечно, тоже существует, но Белый дом куда больше волнует неспособность России справиться с террористами и устранить условия, благоприятствующие их деятельности.
Вашингтон оценивает ситуацию в Чечне как свидетельство того, что ни в политическом, ни в военном плане Россия сегодня не в состоянии обеспечить безопасность на своем участке общего фронта борьбы с терроризмом. Территория бывшего СССР превратилась в один из самых взрывоопасных и коррумпированных регионов мира, а Россия, по существу, оказалась слабым звеном в цепи антитеррористической коалиции. На постсоветском пространстве образовались районы, которые террористы используют в качестве тренировочных и восстановительных баз. При наиболее негативном сценарии Россия, не способная справиться с коррупцией в армии и правоохранительных органах, из жертвы террора может сама превратиться в его источник.
Так что руководство США, в отличие от европейцев, склонно принять аргументацию Кремля, который убеждает западных партнеров в том, что Чечня – это один из фронтов общемировой битвы против международного терроризма. Тут, правда, вновь необходимо вспомнить о том, что президентская администрация не всесильна при формировании своей политики, поскольку ориентируется на мнение разных групп и подвержена влиянию различных факторов. С этим отчасти связана проблема, вызывающая постоянное раздражение России, – снисходительное отношение Запада к эмиссарам лидеров чеченских сепаратистов и предоставление им политического убежища. Прочеченское лобби в США на сегодняшний день намного эффективнее, чем пророссийское, и Москве следует всерьез заняться формированием общественного мнения в Америке. В противном случае суд, принимающий решения о предоставлении убежища кому-то из ичкерийских вождей, всегда будет настроен в их пользу, особенно если российские правоохранительные органы продолжат и впредь предоставлять зарубежным коллегам неубедительные и непрофессионально подготовленные документы.
Коренное изменение отношения США к чеченскому сопротивлению требует серьезных и всеобъемлющих договоренностей руководства двух стран, включения этой темы в обширный пакет соглашений по сотрудничеству в борьбе против терроризма. Активизация такого сотрудничества и выход его на новый уровень практического взаимодействия помогут создать благоприятную атмосферу в двусторонних отношениях, что предусматривает оказание содействия союзнику в решении его проблем – Соединенным Штатам на Ближнем Востоке и России в Чечне.
Налаживание экономических связей является более серьезным и долговременным фактором во взаимных отношениях, нежели борьба с терроризмом или распространением ОМУ. Конечно, не стоит думать, что администрация Буша сможет ускорить этот длительный процесс. Но именно экономика способна разнообразить двустороннюю повестку дня. Вашингтон продолжит поддерживать скорейшее вступление России в ВТО. Возможен разговор о масштабном сотрудничестве в восстановлении Ирака, особенно его нефтяной индустрии.
США крайне заинтересованы в качественном улучшении российской энергетической инфраструктуры, поскольку хотели бы обеспечить надежный выход российской энергии на мировой рынок. Они исходят из того, что, хотя энергетические потребности мира продолжат свой рост, России будет очень трудно включиться в процесс их удовлетворения, ибо ее дешевая нефть почти закончилась, а разработка новых месторождений требует многолетних колоссальных инвестиций. Создание с помощью США современной инфраструктуры в энергетике может сделать Россию более привлекательной для зарубежных инвесторов.
Активизация попыток Российского государства взять энергетику под свой контроль не вызывает большого восторга в Вашингтоне, однако не приведет к отказу от сотрудничества. Тем не менее Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы энергетический рубильник стал ключевым, а самое главное, непредсказуемым элементом российской внешней политики в отношении как ближнего, так и дальнего зарубежья. Ведь никто пока не знает, чем закончатся геополитические метания нынешней России, как выстроятся приоритеты ее внешнеполитической стратегии.
После централизации власти в России возможности американских инвестиций в региональные проекты станут снижаться, ибо сузится поле экономического разнообразия, а российский рынок будет существовать в ограниченных политических рамках. Усиление контроля Кремля над регионами и сокращение их самостоятельности ведут к свертыванию интереса американских компаний к местным проектам, хотя американскому бизнес-сообществу важно понять: что, например, случится через 20–30 лет с Дальним Востоком и Сибирью, прилегающими к Китаю территориями? Каковы будут границы, экологическая обстановка, политический риск, экономическая безопасность, демография региона и где реально будут приниматься решения?
Разговор о стратегическом партнерстве России и США должен базироваться на понимании того, что паритета с Америкой сегодня не может достичь никто. Однако и США не в состоянии самостоятельно справляться со многими проблемами, которые гораздо удобнее решать на основе партнерских отношений с другими странами. В Евразии таким партнером может и должна быть именно Россия. Для этого ей следует резко активизировать диалог с США, предлагая широкий ассортимент возможностей, в том числе и весьма нетривиальных.
В частности, Москва и Вашингтон могли бы серьезно обсудить варианты партнерства на условиях регионального паритета. Так на протяжении долгого времени сосуществовали США и Западная Европа: в обмен на безопасность и защиту своих интересов европейские страны шли на разумные ограничения своей политической самостоятельности. Сегодня мы знаем, что в конечном счете они от этого выиграли. Теперь, по мере роста политических и экономических амбиций Европейского союза, вопрос о соотношении европейских интересов с американскими вновь встает перед Старым Светом, но впервые с таким вопросом сталкивается и Россия.
Допустим, Россия берет на себя миссию представлять, защищать и реализовывать фундаментальные интересы США, в целом не противоречащие ее собственным, на территории Евразии, и в особенности на постсоветском пространстве, где она играет ключевую, фундаментальную роль. За это Соединенные Штаты представляют и защищают интересы России в других регионах мира, например в Африке и, как ни странно, в Европе. Опыт таких ориентированных на США стран, как Польша или Турция, свидетельствует, что, добиваясь продвижения своих интересов в Евросоюзе, Варшава и Анкара активно пользуются отношениями с Вашингтоном как инструментом внутриевропейской политики: ЕС не может игнорировать давление со стороны США. Учитывая сложности, с которыми Москва сталкивается в своем диалоге с Европейским союзом, поддержка могучего заокеанского партнера не помешала бы и ей.
России нужна долгосрочная сделка с мировыми лидерами в рамках усилий по достижению взаимной безопасности и построению нового мирового порядка. Такого рода переговоров Россия и США никогда еще не вели, однако они могли бы стать серьезным шагом в установлении стратегического партнерства между обеими странами. Партнерства, которое способно успешно развиваться даже в том случае, если отношения между их лидерами окажутся более чем прохладными.

Истоки американского поведения
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2004
А.Д. Богатуров – д. и. н., профессор, заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН, главный редактор журнала «Международные процессы».
Резюме Чем руководствуется американская элита, принимая внешнеполитические решения? Не поняв этого, невозможно выстроить адекватные отношения с Соединенными Штатами.
В феврале 1946 года поверенный в делах США в Москве Джордж Кеннан послал в Вашингтон знаменитую «Длинную телеграмму» (The Long Telegram), которая по сей день остается лучшей из предпринятых в Америке попыток проанализировать мотивы внешней политики сталинского руководства. В переработанном виде этот документ был опубликован в июле 1947-го в журнале Foreign Affairs под заголовком «Истоки советского поведения» (The Sources of Soviet Conduct). Кеннан оказал большое влияние на политическую мысль США: он сформулировал ключевые идеи концепции сдерживания Советского Союза, которая на многие десятилетия определила взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР.
Почин Кеннана-аналитика интересен прежде всего как одна из первых успешных попыток выявить политико-психологические и идейно-культурные истоки внешней политики государства. Без их понимания сегодня, как и полвека назад, трудно рассчитывать на выработку эффективной внешней политики вообще и курса в отношении ведущих международных партнеров, таких, как США, в частности. Предлагаемая статья – попытка зеркально отразить замысел Кеннана, раскрыть особенности мотивов, которыми руководствуется нынешняя американская элита во взаимодействии с внешним миром.
ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ?
Уверенность в превосходстве – первая и, возможно, главная черта американского мировидения. Она свойственна богатым и бедным, уроженцам страны и недавним переселенцам, образованным и не очень, либералам, консерваторам и политически безразличным. На идее превосходства высится махина американского патриотизма – неистощимо многообразного, сводимого, однако, к общему знаменателю: многое в Америке нужно исправить, но это – лучшая страна в мире. Идея превосходства – такая же въевшаяся черта американского сознания, как чувство уязвленности (обиды на самих себя) – современного русского. В данном смысле американцы – это «русские наоборот».
Два века наши «интеллигентствующие» и «антиинтеллигентствующие» соотечественники сладострастно страдают в метаниях между комплексами несоответствия «стандартам» демократии и ксенофобией. Те и другие твердят об ужасах жизни в России. Подобное самоистязание недоступно уму среднего американца. В США могут, не стесняясь, словесно «отхлестать» любого президента. Но усомниться в Америке? Унизить собственную страну даже словом – значит, по американским понятиям, выйти за рамки морали, поставить себя вне рамок приличия. Граждане США любят свою страну и умеют ее любить. Американцы развили высокую и сложную культуру любви к отечеству, которая допускает его критику, но не позволяет говорить неуважительно даже о его пороках.
Америка достойна уважения по многим показателям. Но простому американцу не до статистики экономических достижений. Подозреваю, что если бы США и не были самым сильным и богатым государством мира, то наивно-восторженная убежденность американских граждан в достоинствах родины осталась бы ключевой чертой их национального характера. Отчего? Да оттого, что приток иммигрантов в США возрастает, а оттока из страны нет. На уровне массового сознания это неопровержимый аргумент. Почему мы стыдимся говорить о том, что и в Россию устремляются сотни тысяч людей, в том числе здоровых, красивых, образованных, из Украины, Молдавии, Казахстана, Китая, Вьетнама, из стран Центральной Азии и Южного Кавказа?
Оборотная сторона американского патриотизма – искренняя, временами слепая и пугающая убежденность в том, что предназначение Соединенных Штатов – не только «служить примером миру», но и действенно «помогать» ему прийти в соответствие с американскими представлениями о добре и зле. Это вторая черта американского характера. Для американца типична незамутненная вера в то, что его представления хороши для всех, поскольку отражают превосходство американского опыта и успех благоденствующего общества США.
Принято считать, будто в основе американских ценностей лежит идея свободы. Но стоит подчеркнуть, что в представлениях американцев абстрактное понятие свободы переплетается с более конкретным понятием демократии, хотя, строго говоря, это разные вещи.
В самом деле, свободу белого человека, пришедшего из Европы, чтобы колонизовать Америку, удалось защитить от посягательств Старого Света при помощи демократии – демократии как формы государственной самоорганизации колоний Северной Америки против Британской империи. Вот почему в глубинах сознания американца идея его личной свободы органично «перетекает» в идею свободы нации. При этом в американском понимании «нация» и «государство» сливаются. Возникает тройной сплав: свобода – нация – государство. А поскольку кроме собственного государства никакого иного американское сознание не знало (и знать никогда не стремилось), то названная триада приобрела несколько специфический вид: свобода – нация – американское государство. Демократия для американцев – не тип общественно-политического устройства вообще, а его конкретное воплощение в США, совокупность американских государственных институтов, режимов и практик. Именно так рассуждают ведущие американские политики: в США – «демократия», а, например, в странах Европейского союза – парламентские или президентские республики. С американской точки зрения, это отнюдь не тождественные понятия.
Происходит парадоксальное, с точки зрения либеральной теории, сращивание идей свободы и государства. Концепция освобождения (эмансипации) человека от государства обосновалась на американской почве не сразу. Это в Европе тираническое государство с VIII века виделось антиподом свободного человека. В США государство казалось инструментом обретения свободы, лишь с его помощью жители североамериканских колоний добились независимости от британской монархии (freedom).
Идея освобождения личности от государства утвердилась в США только ко времени президентства Джона Кеннеди (1960-е годы), косвенно это было связано с началом реальной эмансипации черных американцев. Отчасти поэтому идея «свободы-демократии» (liberty) имеет в массовом американском сознании несколько менее прочные основания, чем идеи патриотизма и предназначения, которые апеллируют к понятию freedom (см.: Н.А. Косолапов. Нелиберальные демократии и либеральная идеология // Международные процессы. 2004. № 2).
Приверженность этой идее – третья черта американского политического мировосприятия. На уровне внешнеполитической практики идея «свободы-демократии» легко трансформируется в идею «свободы Америки», которая подразумевает не только право Америки быть свободной, но и ее право свободно действовать. Внешняя политика администрации Джорджа Буша выстраивается в русле такого понимания свободы. В этом заключается идейный смысл политики односторонних действий.
Уверенность в самоценности «свободы-демократии» позволяет считать ее универсальным высшим благом. Идея «свободы действий» в сочетании с комплексом «исторического предназначения» позволяет формулировать миссию Америки – нести «свет демократии» всему миру. Представление об оправданности американского превосходства дает возможность отбросить сомнения в уместности расширительных толкований прав и глобальной ответственности США. В результате взаимодействия всех трех свойств американского политического характера формируется четвертая присущая ему черта – упоенность идеей демократизации мира по американскому образцу.
При всей иронии, которую вызывает «собственническое» отношение американцев к демократии, его стоит принять во внимание. Например, для того, чтобы отличать «обычное» высокомерие республиканской администрации от характерной черты сознания американской нации. Причудливая на первый взгляд вера американца в почти магическое всесилие демократизации для него самого не более необычна, чем наша почти природная тяга к «сильной, но доброй власти» и «порядку». Американцам трудно понять, почему другие страны не хотят скопировать практики и институты, доказавшие свое преимущество в США. Стремление «обратить в демократию» против воли обращаемых (в Ираке и Афганистане) – болезненная черта американского мировосприятия. Ирония по этому поводу вызывает в Америке недоумение или холодную отстраненность.
В отношении американца к демократизации много от религиозности. Пиетет к ней связан с высоким моральным авторитетом, которым в глазах американца обладает проповедь вообще. Исторически протестантская миссионерская проповедь среди привезенных из Африки черных рабов сыграла колоссальную роль для их интеграции в американское общество через обращение в христианство. Демократизация мира приобретает черты сакральности в глазах американца, потому что по функции она родственна привычным формам «богоугодного» религиозного обращения.
Повод для сарказма есть. Но и американцам кажется «природной тоталитарностью» россиян то, что сами мы предпочитаем считать естественным своеобразием собственного культурно-эмоционального склада. Наш народ сформировался в условиях открытых пространств Евразии, на которых Российское государство не могло бы выстоять, не занимаясь обеспечением повышенной военно-мобилизационной готовности своего населения. Постоянный настрой на нее сформировал у русских канон поведения, в соответствии с которым личная свобода соотносится с подчинением таким образом, что акцент делается на последнем.
Любопытна и другая параллель. Всемирное коммунистическое братство и глобальное демократическое общество – единственные светские утопии, способные по мощи и охвату претензий сравниться с главными религиозными идеологиями (христианство, ислам и буддизм). Но коммунизм оттеснен, а религии могут уповать лишь на частичную реставрацию былых позиций. Только демократизация остается вселенской идеологией, по-прежнему притязающей на победу во всемирно-историческом масштабе.
Мышлению политической элиты США, как и любой другой страны, присущ элемент цинизма. Однако в вере американцев в полезность демократии для других стран много искренности. Поэтому она и не лишена заряда внутренней энергии, неподдельного пафоса, даже романтики подвига, которые помогают американцам убеждать себя в том, что, бомбя Сербию и Ирак, они «на самом деле» несут благо просвещения.
Демократизация фактически представляет собой идеологию американского национализма в его своеобразной, надэтнической, государственнической форме. Подобную «демократизацию» США успешно выдают за идеологию транснациональной солидарности. Это упрек американским политикам и интеллектуалам. Но это и пояснение к характеру рядового американца. Он лишь отчасти несет ответственность за политику той властной группы, которую его голос, преломленный избирательной машиной, приводит к власти, но влиять на которую повседневно ему сложно, хотя и легче, чем россиянину влиять на российскую власть.
Не имея возможности в достаточной степени воздействовать на внешнюю политику, американский избиратель легко освобождает себя от мыслей о «вине» за нее. Проблемы экономической политики и внутренние дела вызывают расхождения, но внешняя политика – предмет консенсуса. При видимости «раскола» в американском обществе из-за войны в Ираке полемика ведется, на самом деле, относительно тактики прорыва к победе: с опорой на собственные силы или в сотрудничестве с союзниками, при игнорировании ООН или при символическом взаимодействии с ней. В главном – необходимости победить – демократы и республиканцы едины.
Такое отношение к войне с заведомо слабым противником не новость в американской истории. Но оно не новость и в истории советской (Афганистан), французской (Алжир), британской (война с бурами) или китайской (война 1979 года с Вьетнамом). В 60-е прошлого века отношение американцев к вьетнамской войне тоже стало всерьез меняться только в канун президентских выборов 1968 года. Лишь тогда Республиканская партия, добиваясь поражения демократов, сделала ставку на антивоенные настроения. За счет вброса денег в СМИ республиканцы инспирировали обнародование сведений о потерях США во вьетнамской войне. Журналисты и владельцы новостных каналов располагали этими сведениями и прежде, но ждали момента для выпуска их в эфир и помещения на страницы печати.
«БЕЗГРАНИЧНАЯ» АМЕРИКА
Пятая черта американского мировидения – американоцентризм. Принято считать, что это китайцы помещают свою страну в центр Вселенной. Возможно, когда-то так и было. Во всяком случае в маленькой, тесной Европе трудно было развить психологию «срединности» какого-то одного государства. Все европейские страны придумывали себе родословную на базе исторической памяти о двух Римских империях, империи Карла Великого и Священной Римской империи германской нации. Европейские государства ощущали себя скорее «частями», чем «центрами». Политический центр в «европейском мире» блуждал из одной страны в другую. Не удалось развить идею «мироцентрия» и России, которая на протяжении истории безотрывно смотрела через свои границы – сначала на Византию, потом на Орду и, наконец, на Западную Европу, отдавая силы преодолению «маргинальности», а не утверждению «мироцентрия».
Долго не было американоцентризма и в США. Присутствовали изоляционизм и идея замкнуть на себя Западное полушарие, сделав его «американским домиком» («доктрина Монро»). Но посягательства на вселенский охват эти концепции не предполагали. Идея Рах Аmеricana стала зреть в умах американских интеллектуалов после Второй мировой войны. Но тогда «мироцентрие» США оставалось мечтой. Ее реализации препятствовал Советский Союз. Американоцентризм начал процветать лишь с распадом последнего.
Все, что из России, Германии, Японии и Китая кажется американской экспансией, расширением сферы контроля США (в 1990-х годах – Босния, Косово, в 2000-х – Ирак, Афганистан), американцам таковым не представляется. Они полагают, что наводят порядок в «американском доме». Драма в том, что дом этот имеет странную конструкцию: у него «пульсируют» стены – то сжимаются, то раздвигаются. Снаружи они служат оградой вокруг территории США, ощетинившись кордонами на границе и жесткими процедурами выдачи виз. Изнутри – наоборот: если речь идет об американских интересах, масштабы которых безгранично разрастаются, до бескрайних пределов раздвигаются и стены «американского дома».
При прочтении любого внешнеполитического документа США очевидно: сферой американских интересов в Вашингтоне считают весь мир. Никакой другой стране, согласно американским воззрениям, не полагается иметь военно-политические интересы в Западном полушарии, Северной Америке и даже на Ближнем и Среднем Востоке. Американцы терпят факт наличия у Китая и России собственных стратегических интересов в непосредственной близости от их границ. Но попытки Москвы и Пекина создать там зоны своего исключительного влияния воспринимаются Вашингтоном как противоречащие его интересам. Принцип «открытых дверей в сфере безопасности» распространяется на весь мир… за исключением тех его частей, которые США считают для этого «неподходящими».
Картина интересов США предстает в виде трех отчасти взаимопересекающихся зон. Первая совпадает с контурами Западного полушария – это «внутренний дворик» США. Вторая охватывает нефтяные регионы – Ближний и Средний Восток и Каспий с выходом в Центральную Азию. Третья с запада охватывает Европу, «подпирая» Европейскую Россию, а с востока – Японию и Корею, «обнимая» Китай и Индию. Первая воплощает интересы безопасности США. Вторая – потребности экономической безопасности. Третья – старые и новые сферы фактической стратегической ответственности Соединенных Штатов.
Международная жизнь – последнее, что интересует американцев. Обычно они поглощены внутренними делами – социально-бытовыми, преступностью, развлечениями, затем – экономикой, наличием рабочих мест, выборами, политическими интригами и скандалами. Внешнеполитические сюжеты для них второстепенны за исключением ситуаций вроде войны в Ираке. Но и такая война – вопрос для американца внутренний. Соль новостей из Ирака – это не страдания иракцев, а влияние войны на жизнь американцев: сколько еще солдат может погибнуть и вырастут ли цены на бензин?
Представления о географии, истории, культурных особенностях внешнего мира не очень занимают американцев. Все, что не является американским, значимо лишь постольку, поскольку способно с ним соперничать. США уделяют больше внимания тем странам, отношения с которыми у них хуже. Опасаются Китая? Госбюджет, частные корпорации, благотворительные организации тратят огромные деньги на изучения КНР. Вспыхнули разногласия с Парижем из-за Ирака? В Америке создаются центры по изучению Франции. Ким Чен Ир стал угрожать ядерной программой? В течение 2003 года американцы издали около 20 плохих и не очень плохих книг по КНДР – больше, чем о России за три года.
Сам факт, что Россия почти не упоминается в американских СМИ, а средства на ее изучение сокращаются, – признак того, что о «российской угрозе» в Вашингтоне не думают. Между тем американские политологические школы изучения России, никогда не отличавшиеся глубиной исследования, находятся в состоянии кризиса, сравнимого лишь с упадком американистики в Российской Федерации.
Мышление аналитиков яснее от этого стать не может. Размываются и прежде неотчетливые географические представления американских коллег, пишущих о евразийских сюжетах (речь не о профессиональных географах). А поскольку на карте все кажется рядом, то в ходе «научной» дискуссии в США можно услышать, что размещение американских баз в Киргизии и Узбекистане будет способствовать повышению надежности транспортировки нефти на Запад. Тот факт, что нефтяные месторождения Казахстана находятся на Каспии, на крайнем западе региона, а американские базы – у границ Китая, на его восточной оконечности, западному человеку кажется далеко не важным. «Центральная Азия» предстает сплошным нефтеносным пластом от Синьцзяна до Абхазии – этакая гигантская «Тибетско-Черноморская нефтяная провинция», замершая в восторге ожидания демократизации.
РОССИЯ – США: «СОЮЗ НЕСОГЛАСНЫХ»
Американское руководство предпочитает вести переговоры с позиции гласного или негласного проецирования силы, считается с силой и всегда использует ее – в той или иной форме – как дипломатический инструмент. Этот набор характеристик распространяется на обе версии американской политики – республиканскую и демократическую.
Между двумя партиями есть разница. Демократы считают применение силы последним резервным средством. Республиканцы готовы применять ее без колебаний, по собственному произволу, если не отдают себе отчета в том, что им может быть оказано противодействие сопоставимой разрушительной силы. Страх перед ядерной войной с СССР умерял пыл республиканцев в 1950-х годах. Отсутствие опасений в отношении России придает смелость администрации Буша.
Как вести себя с таким важным партнером, как США? Ответ замысловат. Если Россия в самом деле намеревается стать партнером/союзницей Америки, она должна стремиться быть как можно сильнее, но при этом не представлять угрозы для Соединенных Штатов. Иначе сотрудничество с ней не будут воспринимать всерьез. Слабая Россия, идеал отечественных «пораженцев» бесславной ельцинской поры, для союза с Вашингтоном бессмысленна, а для роли «сателлита» слишком тяжела.
Необходимо осуществить второй этап реформы экономики, преодолеть ее исключительно нефтегазовый характер, провести модернизацию оборонного потенциала и реформу Вооруженных сил, принять меры по усилению государства на основе рационализации при одновременном укреплении демократических устоев политической системы. Отказ России от мысли построить жизнеспособную демократическую модель – аргумент в пользу оказания давления на нее.
Другое дело – какое место даже для умеренно сильной (и «умеренно демократической») России угадывается в американской картине мира. В истории внешней политики США можно отыскать десятки вариантов партнерств с разными странами – от Великобритании, Франции, Канады или императорской России до Китая (между мировыми войнами), Филиппин, Австралии, Японии или Таиланда. Однако американская традиция знает всего два случая равноправного партнерства – это союз США с Россией в пору «вооруженного нейтралитета» Екатерины II и советско-американское сотрудничество в годы борьбы с нацизмом.
Больше Соединенные Штаты на равных ни с кем не сотрудничали. Американское партнерство – это альянс сильного, ведущего, с менее сильным, ведомым. Но такое понимание дружбы плохо сочетается с российскими представлениями о союзе как о договоре равных или договоре сильного с менее сильным, в котором роль ведущего отводится России. Мы слишком похожи на американцев, чтобы нам было легко дружить. Россия стремится стать сильнее, надеясь с большей уверенностью заговорить с иностранными партнерами. США хотели бы видеть Россию умеренно сильной и ничем не угрожающей, но были бы против уравнивания ее голоса с американским.
Можно представить себе несколько вариантов «особых отношений» между Россией и США. Вариант под условным названием «Большая Франция» отчасти реализуется сегодня. Россия, как и Франция при президенте Шарле де Голле, поддерживает США в принципиальных вопросах: борьбе с терроризмом, нераспространении оружия массового уничтожения и соответствующих технологий, предупреждении ядерного конфликта между Пакистаном и Индией. Одновременно, и тоже как Париж времен де Голля, Москва не разделяет подходов США к региональным конфликтам – на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. В отличие от Франции, однако, Россия не связана с США договором союзного характера и формально строит свою оборонную стратегию на базе концепций, не исключающих конфликта с Соединенными Штатами.
Вариант «либерального Китая» не имеет аналогов в реальности, но может возникнуть, если между Россией и США станет нарастать отчуждение, вызванное, например, односторонними действиями США в Центральной Азии или в Закавказье, которые Москва сочтет враждебными. Это не будет автоматически означать возобновления конфронтации, но повысит вероятность сближения России с Китаем.
Двусмысленность американского военного присутствия у западных границ КНР в сочетании с неясностью ситуации вокруг Тайваня тревожит Пекин. Ни Россия, ни Китай не хотят противостояния с США, но их сближают подозрения, которые вызывает «неопределенность» целей американской стратегии в Центральной Азии. Вариант «либерального Китая» в лице России не напугает США. Он может оказаться для Вашингтона приемлемым (если не привлекательным) при условии уверенности американской стороны в том, что Пекин и Москва не вступят в полномасштабный союз с целью противодействия США.
Возможно, в идеале для американского восприятия подошел бы вариант «Россия в роли более мощной Британии». С одной стороны, дружественная страна, к тому же снабжающая США нефтью. С другой – достаточно сильная держава, способная оказать поддержку американской политике в глубине материковых районов Евразии, там, где Соединенные Штаты настроены расширить свое влияние. Однако нет уверенности, что этот вариант импонирует российскому руководству, если принять во внимание «ведомый» характер британской политики, подрывающий ее авторитет даже в глазах европейских соседей.
Компромиссным вариантом оказалось бы сочетание элементов первого и третьего сценариев. Россия – страна, развивающая, как и Великобритания, отношения с США независимо от отношений с Европейским союзом, но одновременно менее покладистая, чем Великобритания, и более упорная, как Франция, в отстаивании своих позиций.
При данном варианте разумной была бы политика «уклонения от объятий» Евросоюза и НАТО. От форсирования дружбы с первым – ввиду его стремления в последние годы мешать сближению России с Вашингтоном. От сотрудничества со второй – в силу неопределенности перспектив такого сотрудничества. Как инструмент обеспечения безопасности только на евроатлантическом пространстве, НАТО перестала представлять для США ценность. Трансформация альянса – с точки зрения американских интересов – предполагает его отказ от роли исключительно европейской оборонной структуры и приобретение им военно-политических функций в зонах Центрально-Восточной Азии и Большого Ближнего Востока, то есть в бывшем Закавказье и бывшей Средней Азии. Если эта трансформация состоится, Россия, как геополитически ключевая держава региона, окажется в более благоприятных условиях для вступления в НАТО. Если подобной трансформации не последует, роль этой организации будет еще более маргинальной и для России не будет иметь смысла придавать ей слишком большое значение.
Зачем Россия нужна Соединенным Штатам? Мы привыкли думать о своей стране в основном как о ядерной державе. Своей «нефтяной идентичности» мы стесняемся: неловко вписывать себя в один ряд с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, Венесуэлой и Нигерией.
Теоретически американцы нашу ядерную сущность признаюЂт и отрицать не собираются. Однако для политиков-практиков, особенно среднего и более молодого поколений, Россия – это прежде всего крупнейший мировой экспортер энергоресурсов, который при всем при том обладает еще и ядерным потенциалом. То есть никакая не «Верхняя Вольта с ракетами», а страна, обладающая сдвоенным потенциалом энергосырьевого и атомного оружия.
Переговоры о контроле над вооружениями вернутся в повестку дня встреч российских и американских лидеров. Но это случится позже, когда к ним присоединятся Китай и, возможно, лидеры других государств, если продолжится пока необратимый распад все еще действующего режима нераспространения ядерного оружия. Тогда откроются новые возможности для российско-американского совместного маневрирования в военно-стратегических вопросах.
Это не значит, что России не надо совершенствовать свой ядерный потенциал. Но это означает, что в обозримой перспективе попытки вернуть Вашингтон к ведению дел с Москвой с упором на переговоры о контроле над вооружениями обрекают российскую дипломатию на застой. Ядерный потенциал России обеспечивает ей пассивную стратегическую оборону. Будущее активной дипломатии – в сочетании энергетического оружия в наступлении и ядерного в самозащите. В мире нет больше ни одной ядерно-нефтяной державы. А потенциально таковой могут стать только Соединенные Штаты.
США изучают нефтегазовые перспективы России с различных точек зрения. Во-первых, с точки зрения ее собственного экспортного потенциала (нефть Коми и газ Сахалина); во-вторых, способности России препятствовать или не препятствовать Америке в налаживании импорта из пояса месторождений поблизости от российских границ – на Каспии прежде всего, в Казахстане и Азербайджане; в-третьих, ввиду возможности влиять на новых импортеров российской нефти – Китай и Японию (нефть и газ из Восточной Сибири). Ядерный фактор работает скорее на воспроизводство подозрений США в отношении России, нефтяной – больше на повышение конструктивного интереса к ней.
Другие факторы проявления Америкой внимания к России тоже делятся на условно негативные и позитивные. К первым относится способность Москвы дестабилизировать обстановку в государствах, важных для производства нефти и ее транспортировки на Запад, – Азербайджане, Казахстане и Грузии, а также способность вернуть себе доминирующие позиции в Украине. Последнюю Вашинигтон рассматривает в качестве новой транзитной территории, которая позволит обеспечить расширение военно-политических функций НАТО на новые фактические зоны ответственности альянса вне Европы. К позитивным факторам относится способность России оказывать поддержку США, например, в борьбе с радикалами-исламистами в Большой Центральной Азии (от Казахстана до Афганистана и Пакистана), а может быть, со временем отчасти служить противовесом Китаю.
ИСКАЖЕННЫЕ ВОСПРИЯТИЯ
В США Россию изображают то страной «неудавшейся демократии» и авторитаризма, то просто отстающим в демократизации государством, способным или быть полезным Соединенным Штатам, или нанести ущерб американским интересам и поэтому тоже достойным внимания. Сохраняется высокомерное отношение к России, как к дежурному мальчику для битья. Призывы «потребовать от Кремля...», «сказать Путину…», «напомнить, что США не потерпят (позволят, допустят)...» – к таким фигурам речи прибегают и демократы, и республиканцы. Поводы одни и те же: ситуация в Чечне и внутриполитические шаги, нежелание Москвы поддерживать авантюру в Ираке или согласиться с попытками Вашингтона повторить ее сценарий в Северной Корее и Иране.
Правда, подобные выходки со стороны США имеют место и по отношению к другим странам – например, в связи со вспышками разногласий с Францией или Японией. Разница в том, что японское лобби в Америке – одно из самых мощных, да и людей, симпатизирующих Франции, достаточно. Напротив, признаков ведения систематической деятельности в пользу России в США почти не наблюдается. Российское государство на эти цели денег тратить не хочет, а крупный российский бизнес, в отличие от японского, тайваньского, корейского и французского, поступает как раз наоборот, лоббируя свои интересы в России при помощи нагнетания за рубежом антироссийских настроений.
Какая из российских нефтяных фирм вложила средства в исследования России, проводимые, например, в Институте Гарримана (Нью-Йорк), в Школе Генри Джексона (Вашингтонский университет в Сиэтле) или в Центре русских исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне? Неудивительно, что на многих конференциях, посвященных России, в США продолжают говорить об «авторитарных и неоимперских тенденциях».
Правда, в последние годы американские политологи-русоведы стали больше читать по-русски (на это справедливо указывал один из них; см.: Рубл Б. Откровенность не всегда плохо // Международные процессы. 2004. № 1). Но контраст очевиден: в России рукопись книги о США с указанием малого количества американских источников просто не будет рекомендована к печати, а диссертацию по американистике, две трети сносок в которой не будут американскими, не пропустят оппоненты. В США – иначе. В советские времена американцы находили извинительным не читать русские книги, говоря, что все, публикуемое в СССР, – пропаганда. Те немногие американские работы о советской общественно-политической мысли, которые выходили тогда, являют собой стандарт аналитической беспомощности. Исследуя состояние умов в Советском Союзе, американские авторы до середины 1980-х годов ссылались лишь на решения съездов КПСС и труды советских официальных идеологов, не улавливая сдвигов, которые проявлялись в советской политической науке в виде массы осторожных, но вполне ревизионистских книг и статей. В результате американская политология проспала и перестройку, и распад СССР.
С тех пор в России изданы десятки новых книг и напечатаны сотни статей, представляющих плюралистичную палитру мнений авторов новой волны. И что? За редким исключением (Роберт Легволд, Брюс Пэррот, Блэр Рубл, Фиона Хилл, Гилберт Розман, отчасти Эндрю Качинс, Клиффорд Гэдди и Майкл Макфол) американские политологи, пишущие о российской политике, читают русские публикации лишь от случая к случаю. Сноски на русскоязычные источники и литературу в американских политологических работах – исключение, а не правило. Они не составляют и трети справочного аппарата.
На что же ссылаются американские политологи? Во-первых, американцы предпочитают цитировать друг друга. Во-вторых, использовать материалы газет, выходящих в Москве на английском языке, будто не зная, что эти тексты рассчитаны на зарубежного читателя, а россиянин их обычно не читает и не испытывает на себе их влияния. В-третьих, они ссылаются на книги на английском языке, написанные русскими авторами по заказам американских организаций. Работы этой категории авторов тоже предназначаются американской аудитории и в минимальной степени характеризуют российскую политико-интеллектуальную ситуацию. За свои деньги американцы получают от русских авторов те выводы, которые хотели бы получить. Каков коэффициент искажения подобного рода «научных» призм?
Читали бы американцы русские работы в оригинале чаще, они бы, может быть, узнали из истории почившего Советского Союза нечто о перспективах собственной страны. Поняли бы – и кое-чего бы остереглись.
***
США – страна, которая, используя исторический шанс, стремится на максимально продолжительный срок закрепить свое первенство в международных отношениях. Это ключ к пониманию американской политики. Опасность заключается в том, что Соединенные Штаты чувствуют себя вправе применять любые инструменты, включая наиболее рискованные. Остановить продвижение США по этому пути вряд ли может внешняя сила, если иметь в виду другие страны и их коалиции. Иное дело, что международная среда, природа которой сильно меняется под влиянием транснационализации, способна еще не раз резко осложнить воплощение в жизнь американской стратегии глобального лидерства.
Смысл идущих в России дебатов вокруг вопроса о перспективах российско-американского сближения состоит в выработке оптимальной позиции в отношении не столько самих Соединенных Штатов, сколько той непосильной, если верить истории, задачи, которую они гордо и, возможно, неосмотрительно на себя возложили.
Глобальную мощь Америки невозможно рассматривать и вне контекста эгоизма ее внешней политики. Но в то же время планета выигрывает от готовности США нести на себе груз таких мировых проблем, как нераспространение ядерного оружия, борьба с наркобизнесом, ограничение транснациональной преступности, упорядочение мировой экономики, решение проблем голода и пандемий и, наконец, ограничение потенциала авторитаризма национальных правительств.
Лучше или хуже станет миру, если вместо «либеральной деспотии» Вашингтона установится иной, не просчитываемый пока вариант борьбы за новую гегемонию? Непохоже, чтобы в случае падения величия США настала мировая гармония. Так что же правильнее: ждать революционного свержения лидера или коллективным ухищрением втискивать его амбиции в рамки придуманного американскими же учеными конституционализма?
Когда полвека назад Джордж Кеннан, «человек, который придумал сдерживание», писал свою статью, он пылко ненавидел советский строй и силился сочувствовать нашему народу. Оттого в его тексте много чеканных приговоров, временами чередуемых с лирическими отступлениями. Мне симпатичны американцы, и мне трудно ненавидеть американский строй по очевидной причине: современный российский строй, казалось бы пропитанный обоснованным раздражением против США, в главных чертах, в сущности, моделируется по американскому образцу. Это не случайно и, думаю, не во всем плохо. Это – важнейшая черта современной российской жизни, пронизывающая политические дебаты, которые в России отнюдь не затихают.

Россия в Сети
Павел Житнюк
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2004
П.П. Житнюк – заместитель главного редактора, руководитель интернет-отдела ИА «Росбалт», веб-редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме За десять лет своего существования российский сегмент Интернета переживал взлеты и падения. Сегодня это уже не загадочный феномен, далекий от происходящих в обществе процессов, а в целом сформировавшаяся полноценная медийная и коммуникативная бизнес-среда.
В этом году российский Интернет отметил знаменательную дату. Десять лет назад, в марте 1994-го, была официально зарегистрирована национальная доменная зона ru. Все эти годы Рунет (российская часть Сети) динамично развивался, переживал взлеты и падения. Сегодня это уже не загадочный феномен, далекий от происходящих в обществе процессов, а сформировавшаяся в общих чертах полноценная медийная и коммуникативная бизнес-среда.
МЕЖДУ БРАЗИЛИЕЙ И ИСПАНИЕЙ
Число пользователей Сети в России, по данным фонда «Общественное мнение», возрастает. За минувшую пару лет оно увеличилось практически вдвое. Многолетний эмпирический опыт владельцев поисковых систем и систем интернет-статистики также показывает, что число российских пользователей прирастает в среднем на 40–50 % в год.
Согласно результатам исследования компании РОМИР, на сегодняшний день Сетью пользуются 13,2 млн человек (11,7 % взрослого населения России). Суточная аудитория Рунета, по данным Rambler’s Top 100, составляет порядка 4 млн пользователей, 52 % которых находятся в России. 45 % российских пользователей живут в столице (причем 45 % москвичей в возрасте от 16 лет пользуются Интернетом чаще одного раза в три месяца), 10 % – в Санкт-Петербурге, на оставшуюся же часть российской территории приходится 45 %.
Именно в Москве, а также Санкт-Петербурге, Новосибирске и ряде других крупных городов сконцентрировано основное число пользователей: сказывается слишком значительный технологический и экономический разрыв между мегаполисами и остальной территорией страны. Если в таких развивающихся странах, как Китай, Бразилия, Индия, благодаря которым в мире сейчас растет число интернет-пользователей, высокие технологии распространяются экстенсивным путем, то в России интернетизация пошла по интенсивному пути. Как отмечает один из экспертов по российскому рынку, очень серьезным фактором остается явление, которое на Западе называется digital divide (цифровой разрыв): «…в столице и научных центрах наши программисты-самоучки разрабатывают технологии, способные конкурировать на мировом рынке, а в глубинке последним достижением техники по-прежнему остается автоматическая доилка».
В России соотношение количества интернет-пользователей и не имеющих доступа к Сети людей сопоставимо с соответствующим показателем стран, которые по уровню экономического развития приближаются к Испании или Бразилии. Сравняться в этой сфере с высокоразвитыми странами Запада нам не позволяют недостаточно стабильная экономика и крайне низкое материальное благосостояние основной массы населения.
13,2 млн человек (11,7%) взрослого населения России пользуются Интернетом (февраль-март 2004 г)
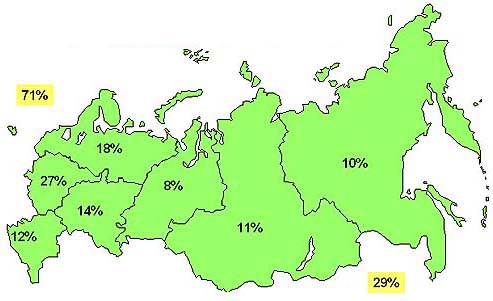
Влиятельный американский журнал Foreign Policy, ежегодно рассчитывающий совместно с компанией A.T. Kearney «индекс глобализации» (Globalization Index) для 62 стран, отвел России всего лишь 44-ю позицию в своем списке – рядом с такими странами, как Колумбия, Саудовская Аравия, Тунис и Филиппины (http://www.atkearney.com/shared_res/pdf/2004G-index.pdf). Это показательно – ведь уровень развития в стране сети Интернет (количество пользователей, защищенных сайтов и пр.) является одним из критериев определения этого индекса. В принципе, как показывает данное исследование, информационное развитие России соответствует степени ее вовлеченности в процесс глобализации.
ИНТЕРНЕТ ПРИХОДИТ В ОФФ-ЛАЙН
Реальный прорыв в области распространения новых информационных технологий в России происходит именно сейчас. И связано это не с каким-то качественным технологическим сдвигом, а с конкретными переменами в общественном сознании. Интернет-технологии перестали восприниматься как что-то необычное, таинственное, новомодное. Интернет прочно вошел в жизнь россиян, а многие «сетевые» события стали заметным явлением в жизни общества. Так, вручение Национальной интернет-премии транслировалось в 2003 году в прямом эфире Первого канала. Создан специальный сайт, с помощью которого граждане могут задать вопросы президенту Путину. Через Интернет пользователи обсуждают текущие события, поддерживают или критикуют звезд эстрады, модельного бизнеса. Например, в марте 2004-го Rambler Internet Holding стал с российской стороны соорганизатором конкурса красоты Miss Universe, причем в выборе самой красивой девушки России через Интернет могли участвовать все желающие. Таким образом, очевидно: Интернет в России уже способен работать на нужды широких групп населения, а не только для избранной элитной «тусовки», как это было практически на всем протяжении 90-х годов прошлого века.
Интернет-СМИ встали в один ряд с офф-лайновыми средствами массовой информации – газетами, телевидением, радио. По данным компании «Рамблер», более 10 % пользователей интересуются новостями, опубликованными в Интернете. Это полтора миллиона человек, и все они, как правило, люди социально активные, имеющие высшее образование и работу. То есть те, кто оказывает или в будущем сможет оказать реальное влияние на происходящие в стране процессы.
Интересы русскоязычной аудитории Интернета (по данным Rambler, 2004 г)
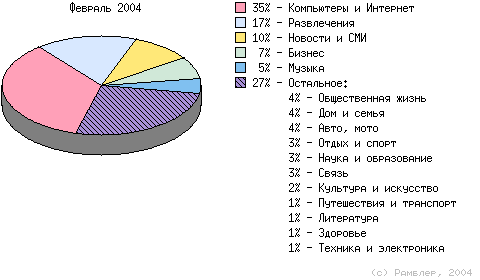
Как заметил на прошедшем в апреле 2004-го Российском интернет-форуме (РИФ) известный сетевой аналитик, один из авторов альтернативного закона об Интернете Михаил Якушев, в 1999 году речь о Сети в нормативных федеральных актах вообще не шла. В 2004-м Интернет был упомянут в федеральном законодательстве около 10 раз, а в законодательных актах субъектов Федерации – не менее 50. Согласно Федеральному закону РФ «О связи», доступ в Интернет признан универсальной услугой связи. Это значит, что пользование Сетью не может быть запрещено ни одному гражданину Российской Федерации.
РУНЕТ – ЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ
Выступая в феврале 2004 года на конференции «Инвестиции в российский Интернет», главный редактор журнала «Интернет-маркетинг» Андрей Себрант отметил уникальность отечественного сегмента Всемирной паутины. В отличие от национальных доменных зон, скажем, Германии, Испании или Великобритании развитием русской Сети занимались люди, которыми двигал не только коммерческий интерес, но и энтузиазм. Они смогли сформировать ресурсы и сервисы, ни в чем не уступающие западным аналогам, а зачастую и превосходящие их. В зоне ru пользователь может бесплатно получить услуги, доступ к которым в западной части Сети, как правило, предоставляется только за деньги.
В данном контексте весьма показателен пример международного интернет-концерна Lycos, пришедшего в Россию со своим порталом в надежде на то, что пользователи Рунета впервые получат интернет-проект европейского уровня. Через год Lycos пришлось полностью свернуть деятельность в России. Ему не удалось заставить российского «юзера» отказаться от услуг отечественных «Рамблера» и «Яндекса». Оказалось, что отсталая, по западным представлениям, страна смогла создать интернет-продукцию, способную конкурировать с такими популярными во всем мире ресурсами, как Yahoo!, Altavista, Msn, и др.
Все крупные мировые интернет-проекты – по сути, «дети» глобализационных процессов – существуют в рамках транснациональных корпораций. Например, в поддержке и разработке сайтов Msn или Yahoo! участвуют как американские, так и другие работающие на всем мировом пространстве компании. В России же разработка, поддержка и развитие интернет-сервисов и продуктов полностью осуществляется отечественными фирмами, даже если зачастую они стартовали благодаря западному капиталу.
«Что касается информационного наполнения и потребления, Россия даст фору многим более развитым и благополучным странам, потому что народ в ней “самый читающий в мире” и процесс создания информационной сокровищницы Рунета происходил без участия государственных чиновников. Это делалось на энтузиазме, а его у русскоговорящих гуманитариев во всем мире хоть отбавляй. Библиотека Мошкова, некоммерческие проекты Лебедева, «Анекдоты из России» – все это создано силами людей, которые неплохо зарабатывают по своей основной специальности, а интернет-активность является для них способом творческой самореализации, которая, в свою очередь, является функцией таланта. А этого ресурса в России всегда хватало», – говорит главный редактор ежедневной интернет-газеты «Лента.Ру» и один из основателей российских сетевых СМИ Антон Носик. «Российские интернет-проекты способны играть на западном рынке, но для этого нужна определенная воля и решимость их создателей к переориентации на этот рынок. Тут, думаю, достаточно двух-трех успешных примеров, чтобы образовалась тенденция. Но поскольку рынок интернет-проектов у нас не слишком прозрачен, люди не спешат рассказывать о своих успехах».
По мнению Марии Говорун, главного редактора авторитетного сетевого издания Web-Inform, неудачи зарубежных инвесторов в российский Интернет объясняются также «высоким уровнем customer loyalty (привычка потребителя к конкретным маркам товаров. – Ред.), характерным для российских пользователей, что связано с ограниченным знанием инфраструктуры Интернета и, как следствие, нежеланием “менять коней на переправе”.
На фоне высокого качества интернет-сервисов и консервативности отечественных пользователей настоящей “китайской стеной” на пути западных разработчиков в Россию становятся морфология национального языка и плохое знание пользователями английского (фактор, который отсутствует во многих развивающихся странах). Из-за специфики русского языка, например, неудобно использовать немодифицированные западные технологии поиска или защиты от спама (отправка незапрашиваемой электронной почты, рассылка незапрашиваемых рекламных и информационных объявлений. – Ред.)».
Кстати, «русские хакеры», взламывающие программное обеспечение, кардеры (совершающие незаконные действия с банковскими картами или использующие подложные номера кредитных карточек для оплаты тех или иных услуг – Ред.), а теперь и спаммеры сослужили России неплохую службу. «Как выяснилось, бороться с ними могут только отечественные специалисты. Поэтому компании, работающие над производством антивирусного и антиспаммерского программного обеспечения (самый яркий пример – “Лаборатория Касперского”), имеют большой успех за рубежом», – утверждает Говорун.
УЙТИ С ОБОЧИНЫ
По оценкам декана факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского института точной механики и оптики, члена международного оргкомитета чемпионата мира по программированию Владимира Парфенова, сегодня только в Санкт-Петербурге работает около 300 компаний, занимающихся программированием. В них занято примерно 4 тысячи сотрудников. По состоянию на апрель 2003 года 90 % заказов приходят с Запада, их общий объем у российских программистов составляет порядка 240 млн долларов в год.
Для сравнения: Индия, которая занялась развитием программирования на десять лет раньше России, является лидером в этой сфере и имеет западных заказов на 6 млрд долларов в год. Большие объемы заказов также у ирландских и израильских программистов (многие из них получили образование в СССР).
По оценкам других экспертов, в 2001-м Россия освоила объем офшорного программирования в размере 200 млн, а в 2003 году эта цифра составила около 460 млн долларов.
Поскольку спрос на IT-услуги в мире продолжает расти, увеличивается и предложение со стороны новых поставщиков. Вследствие этого рынок аутсорсинга (outsourcing – размещение заказов во внешних фирмах, прежде всего зарубежных. – Ред.) становится все более обширным и разнообразным. Среди стран, относительно недавно заявивших о себе на рынке услуг по разработке программного обеспечения на заказ, следует отметить Китай, Польшу и Филиппины. Несмотря на скромную долю этих стран на мировом рынке (китайские специалисты, чей высочайший уровень нельзя недооценивать, работают в большинстве случаев на внутренний рынок), они обладают целым рядом преимуществ. Это и наличие высококвалифицированных специалистов в области IT, и конкурентоспособные цены на предлагаемые услуги, и, что особенно важно, сильная поддержка экспорта IT-услуг со стороны правительств и самой отрасли. Определяя привлекательность для заказчика той или иной страны, действующей в области офшорного программирования, западные специалисты основываются и на других качественных показателях, таких, к примеру, как политическая ситуация и культурная совместимость. Однако более чем десятилетний успешный опыт Индии, а также достижения Ирландии, Израиля, Пакистана, Китая и Филиппин показали, что в создании благоприятного климата для развития информационных технологий особенно важную роль играют государство и общественные ассоциации IT.
Качественные показатели стран, занимающихся заказным программированием (Источник: Gartner Research)
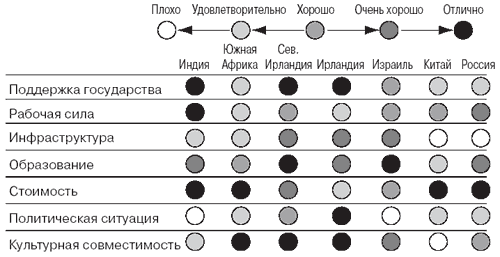
В России развитие IT никогда не сопровождалось всеобъемлющей согласованной поддержкой государства и отрасли. Тем не менее российский рынок производства программного обеспечения, пока небольшой по масштабам, развивается динамично и имеет тенденцию к дальнейшему неуклонному росту, что обусловлено наличием талантливых специалистов, высоким качеством производимых продуктов и услуг, относительно невысокими затратами на оплату труда и прочими факторами, привлекающими иностранных заказчиков.
По данным информационного агентства РБК, объем продаж на рынке информационных технологий в России в 2003 году достиг 5,8 млрд долларов. По сравнению с 2002-м отрасль выросла почти на 25 %.
Растут расходы государственных структур на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). По оценкам, в 2003 году государственные организации направили на развитие ИКТ около 13 млрд рублей и ожидается существенный рост очередных затрат. К сожалению, совершенно невозможно посчитать, какой процент от этих денег был реально вложен в IT, а не «распылен» между организациями и чиновниками. В сфере взаимодействия государственных структур с IT-компаниями явление «откатов» точно так же распространено, как и в других областях.
Оптимистичны и прогнозы развития рынка электронного бизнеса. На Западе снова становятся востребованными системы электронной коммерции В2В (business-to-business, «бизнес для бизнеса»). Этот сектор рынка, ориентированный на организацию взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или услуг, охватывает осуществляемые в Сети торговые отношения между фирмами – организацию поставок и продаж, согласование контрактов и планов. По прогнозам различных аналитических компаний, объем общемировых продаж посредством В2В-систем в 2004-м составит 2–7 трлн долларов. Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ) оценивает объем российского рынка он-лайновой торговли на конец 2003 года в 900 млн долларов и прогнозирует его рост в 2004-м почти на 50 %. Пока, однако, основной объем продаж приходится у нас на долю B2С (business-to-consumer, «бизнес для потребителя») – около 480 млн долларов в 2003-м и, как ожидается, 615 млн в 2004 году. Что же касается B2B и еще одного направления электронной коммерции – B2G (business-to-government, «бизнес для правительства»), то их показатели, составившие в 2003-м соответственно 316 млн и 141 млн долларов, предположительно достигнут в 2004 году 464 млн и 275 млн долларов.
Следует, тем не менее, отметить, что, какие бы цифры и финансовые показатели по российскому аутсорсингу ни назывались, они так или иначе будут в значительной степени занижены – ведь множество IT-фирм, работающих напрямую на иностранного заказчика, никак не зафиксированы ни налоговыми органами, ни статистикой. По различным подсчетам, к известным 100 процентам официально зарегистрированных российских аутсорсинговых компаний можно добавить 50–80 % нигде не учтенных IT-образований, что довольно основательно меняет картину. (Многие незарегистрированные в России офшорные фирмы не могут получить регистрацию и сделать свой бизнес легальным из-за того, что большой процент заказов составляет программное обеспечение для интернет-порнобизнеса.)
Между тем, несмотря на наличие большого количества высококлассных специалистов, Россия не стала Меккой в области IT-технологий. Этот парадокс обусловлен многолетней оторванностью России от мировой экономики, языковым барьером, непродуманной таможенной и валютной политикой государства, отсутствием государственной поддержки индустрии, связанной с разработкой программного обеспечения. Большую проблему для развития Рунета представляет «утечка мозгов» из регионов в столицу. Процесс миграции квалифицированных технических кадров вызван объективными факторами: слишком ничтожны в регионах финансовые, карьерные, социальные возможности для специалистов по сравнению с Москвой.
Несмотря на определенные успехи, наша страна до сих пор находится на обочине рынка разработки программного обеспечения. Весь оборот российского рынка заказных работ составляет менее 10 % индийского. Еще хуже обстоят дела с рынком готового программного обеспечения: по пальцам можно пересчитать тех россиян, кто в той или иной степени завоевал сколько-нибудь значимые позиции на мировом IT-рынке. Так, продукция петербургской «ПРОМТ», которая работает на российском рынке более 13 лет и специализируется на системах машинного перевода, известна за рубежом с 1996-го, системы «ПРОМТ» продаются практически по всему миру. Западный рынок дает компании примерно 40 % от ее общего оборота.
РУНЕТ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
По мнению многих авторитетных игроков на российском интернет-рынке, время революций и глобальных потрясений в Рунете прошло. Впереди – более-менее предсказуемый и монотонный процесс эволюции. Механизм социализации в обществе постепенно изменится: жизнь людей будет все в большей степени зависеть от Всемирной паутины. Интернет может стать тем пространством, «где люди по-новому сформируют свою среду обитания» – так заявил в ходе Российского интернет-форума руководитель PR-службы «Рамблера» Иван Засурский. Стоит заметить, что все эти процессы возможны только в том случае, если в России сохранится стабильная экономическая и политическая ситуация. Кризис 1998 года, к примеру, крайне отрицательно повлиял на развитие отечественного интернет-рынка: тогда закрылись многие компании и проекты, замедлилось развитие сетей, услуг доступа в Интернет.
В последнее время настораживают попытки государства регламентировать Интернет. Безусловно, на данный момент уже назрела необходимость принятия законодательства об Интернете, но те проекты, которые предлагаются властями, сегодня, пожалуй, менее предпочтительны и гораздо более вредны для существования полноценного Рунета, чем его нынешнее состояние относительного «беззакония».
Как правило, такие предложения исходят от людей или групп, слабо представляющих себе принципы функционирования Сети. Ярким примером такого рода служит статья в «Известиях» (выпуск от 16 мая 2004 г.) мэра Москвы Юрия Лужкова «О темной стороне Интернета», представляющая собой типичный набор мифов и некорректных представлений о киберпространстве, характерных для сознания обывателя.
В целях борьбы с такими угрозами, как пиратство, нарушение авторских прав, порнография (которые, кстати, не являются болезнью исключительно Интернета), Лужков предложил повысить ответственность сетевых журналистов, лицензировать деятельность провайдеров, а самое главное — регистрировать по закону о СМИ каждый сайт, «чтобы не приходилось гадать, относится ли он, согласно нынешнему тексту закона, к “иным средствам массовой информации”». Но ведь сетевые журналисты и так давно подчиняются общему закону о СМИ, а провайдеры обязаны получать две лицензии (от Министерства связи). Реализация же третьей меры, предложенной столичным градоначальником, приведет к тому, что все сайты, не зарегистрированные как СМИ, окажутся вне закона, а остановить распространение информации, противоречащей российскому законодательству, все равно не удастся.
Ряд других общественных деятелей также выступили с инициативой законодательного регулирования Интернета. Так, сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова, сравнив Сеть с «мусорной ямой, зловонно попахивающей», вновь заявила о необходимости лицензировать интернет-сайты.
Впрочем, говорить о переходе Рунета на «китайскую модель» (при которой доступ граждан в Интернет полностью контролируется государством, стремящимся монополизировать этот рынок и самому стать провайдером) пока не приходится. Это связано как с объективными техническими, законодательными, финансовыми сложностями, так и с настроениями в обществе. Именно в силу этой совокупности причин провалилась скандальная идея внедрения Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую операторы любой связи, включая сотовую и Интернет, должны были согласно приказу Министерства связи установить за свой счет и передать в безраздельное пользование сотрудникам Федеральной службы безопасности. В соответствии с данным актом спецслужбы получали практически неограниченное право прослушивать телефонные переговоры и читать поступившие по электронной почте сообщения. Однако Верховный суд РФ признал приказ несоответствующим Конституции.
На сегодняшний день российское интернет-сообщество консолидировалось, расширилось, приобрело определенные связи и рычаги давления во властных структурах. Так что можно надеяться: потенциальным государственным попыткам «очистить Интернет» будет противостоять достаточно мощная, способная воздействовать на общественное мнение сила.
© Журнал "Россия в глобальной политике", № 4 июль-август 2004

Афганистан «освобожденный»
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2004
Кэти Гэннон – руководитель бюро агентства Associated Press в Афганистане и Пакистане. Агентство предоставило ей временный отпуск для работы в должности сотрудника по делам прессы при Совете по международным отношениям. Пишет об Афганистане и Пакистане с 1986 года. Данная статья, написанная по материалам ее поездки в эти страны в декабре 2003 – январе 2004 года, опубликована в журнале Foreign Affairs № 3 (май/июнь) за 2004 год. © 2004 Council on Foreign Relations Inc.
Резюме Спустя два с половиной года после падения режима талибов Афганистан вновь погружается в кровавый хаос. Хотя руководитель страны Хамид Карзай наделен значительными полномочиями, в действительности он слаб.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАБУЛ
В 1994 году на улицах Кабула, столицы Афганистана, шли жестокие бои между группировками соперничающих полевых командиров. Удары следовали один за другим, причем часто мишенями становились простые люди. Я видела, как мальчик поднял руку, потянувшись за мячом, и осколок снаряда отсек ему кисть. 13-летняя девочка побежала домой за одеждой и одеялами, которые ее семья не успела взять с собой, в спешке покидая родные стены. Наступив на противопехотную мину, она потеряла ступню. За четыре года боев за Кабул 50 тысяч афганцев (большинство из них мирные жители) погибли, еще больше получили увечья.
В ходе одного особо жестокого нападения были скальпированы пять женщин-хазареек. И совершили это преступление не члены движения «Талибан»; до захвата Кабула этой радикальной исламистской военизированной организацией оставалось еще два года. То были люди Абдул Расула Сайяфа, одного из многих полевых командиров, сражавшихся за установление контроля над столицей. Боевики Сайяфа вели войну долгие годы – вначале против Советского Союза, после того как тот вторгся в Афганистан в 1979-м, а затем, после вывода советских войск, против других группировок моджахедов. Даже среди прочих афганских формирований личная армия Сайяфа стояла особняком. В ее рядах воевало больше арабов, чем в какой-либо другой группировке, а кроме того, она поддерживала более тесные финансовые связи с Саудовской Аравией, где были открыты представительства армии Сайяфа. В отличие от большинства афганцев он являлся членом исламской секты саудовских ваххабитов, призывающей к строгому соблюдению норм шариата. Сайяф выступал против присутствия американских войск в Саудовской Аравии и яростно отказывался признать права женщин, не желая встречаться или даже говорить с женщинами, не принадлежащими к его семье.
Через два года после зверств, учиненных над хазарейками, боевики Сайяфа вместе с тогдашним министром обороны Ахмад Шахом Масудом и президентом Бурхануддином Раббани были выбиты из города талибами. Однако сегодня многие полевые командиры вернулись в столицу, и теперь они сильны, как никогда. Всего несколько месяцев назад в ходе заседания Лойя джирги (большого совета), созванного для разработки проекта новой Конституции Афганистана, Сайяф встречался с Залмаем Халилзадом, послом США в Афганистане и специальным посланником президента Буша. Стороны отказались сообщить, о чем шла речь, однако, по распространенному мнению, Халилзад уговаривал Сайяфа поддержать несколько положений Конституции, таких, как сильная президентская власть, гарантии прав женщин, прав человека и защита религиозных меньшинств. В конце концов Сайяф согласился; неизвестно, правда, чего он попросил взамен.
Тем не менее сам факт проведения подобных переговоров вызывает тревогу, ибо отражает слабость нынешней стратегии Вашингтона в отношении Кабула. Америка уверена, что люди, в прошлом причинившие Афганистану столько бедствий, каким-то образом сумеют привести страну к демократии и стабильности в будущем. Однако факты свидетельствуют об обратном. Речь идет об упущенных возможностях, растраченном потенциале доброй воли и пренебрежении к урокам истории.
СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ
Помимо Сайяфа к власти в Афганистане вернулись еще ряд основных полевых командиров, включая Мохаммада Фахима – нынешнего министра обороны, Абдул Рашида Дустума – специального посланника президента Афганистана на севере страны и Раббани – в прошлом президента, а ныне «серого кардинала» афганской политики. Все они разделяют ответственность за чудовищные убийства середины 1990-х годов. У них до сих пор есть собственные армии и собственные тюрьмы, они получают огромные доходы от нелегальной торговли опиумом (в сумме почти 2,3 млрд долларов по стране в прошлом году), от вымогательства и других форм рэкета.
Но теперь эти люди сидят за столом переговоров вместе с представителями США, ООН и другими членами афганского правительства и ведут торг за власть. И Хамид Карзай, временный правитель страны, как представляется, не в состоянии ничего с этим поделать. Ощущение «дежа вю» настолько сильно, что Лахдар Брахими, специальный представитель ООН в Афганистане, недавно заявил: нынешняя ситуация «напоминает события, последовавшие за приходом к власти правительства моджахедов в 1992-м» и приведшие спустя несколько лет к возникновению организации «Талибан».
Почему же все столь быстро пошло не так? Как разгром талибов – большая победа Вашингтона, ставшая, казалось, предвестием возрождения измученной страны, – привел к восстановлению статус кво? Ответ следует искать в событиях сентября 2001 года. Вскоре после нападений на Нью-Йорк и Вашингтон, спланированных и подготовленных на афганских базах «Аль-Каиды», Северный альянс примкнул к США в борьбе за полное уничтожение террористов и их спонсоров-талибов. Однако в число новых союзников Вашингтона вошли люди, терроризировавшие Афганистан до прихода к власти талибов, причем многие из них исповедовали почти столь же радикальную идеологию, что и само движение «Талибан» (Раббани, будучи президентом в 1992–1996 годах, выдал афганские паспорта более чем 600 арабским боевикам). Вдобавок к этому складывается впечатление, что их альянс с Вашингтоном был в лучшем случае тактическим. «Они всегда были уверены, что найдут способ переиграть нас», – считает Милтон Бирден, главный посредник между ЦРУ и моджахедами в 1980-х.
Проблемы начались еще до переговоров по Боннскому соглашению, подписанному в декабре 2001-го под эгидой ООН. Для освобожденного от талибов Афганистана этот документ должен был стать «дорожной картой» на пути к созданию нового, стабильного, демократического государства. Стороны договорились о том, что Лойя джирга соберется дважды: в первый раз, чтобы избрать временного президента и его кабинет, во второй – принять Конституцию и определить сроки проведения всеобщих выборов. Но в ходе сопровождавшего переговоры торга за посты в новом правительстве три ключевые должности – министров иностранных дел, обороны и внутренних дел – были отданы членам «Джамият-э-ислами» – входящей в Северный альянс исламистской фракции этнических таджиков под руководством Раббани.
Лидеры Северного альянса согласились на назначение главой Переходной администрации пуштуна Карзая, но только лишь потому, что у него под началом не было собственной военной группировки. На практике это означает, что Карзай мало что сможет сделать в плане влияния на тех, кто по-прежнему располагает личными армиями. В должность Карзай вступил как борец за национальную независимость, верящий в то, что Афганистан принадлежит всем афганцам независимо от их этнической принадлежности. Но мало кто из коллег разделяет его точку зрения. Новое правительство состоит из представителей сильных в военном отношении таджикских, узбекских и хазарейских фракций и слабого пуштунского большинства, возглавляемого бывшими эмигрантами, которые недавно вернулись на родину после нескольких десятилетий пребывания за границей, по большей части в Соединенных Штатах.
Видимо, США и ООН полагали, что необходимой опорой Карзаю послужит присутствие в Афганистане контингентов западных войск, которые иногда помогают проводить в жизнь его решения. Но, заявляя о поддержке Карзая, Вашингтон по-прежнему полагается на содействие независимых полевых командиров в поимке оставшихся формирований талибов и «Аль-Каиды». Эта двойственная стратегия лишь усилила бывший Северный альянс, позволив снабдить его американским оружием и деньгами, повысить его престиж. В то же время она привела к подрыву и без того слабых позиций центральной власти в лице Карзая.
Ограниченность власти Карзая и вероломство полевых командиров стали очевидны даже в Кабуле. В Боннском соглашении были четко оговорены сроки перевода личных армий в резерв. Еще до роспуска они должны были оставить Кабул. Боннское соглашение недвусмысленно определило: формирования полевых командиров должны выйти из Кабула до развертывания там международных сил по поддержанию безопасности (ISAF) в конце декабря 2001 года.
Однако командиры никогда и не собирались выполнять эти обязательства. 11 ноября, за два дня до ухода талибов из города, Сайяфу по спутниковому телефону был задан вопрос о том, как он относится к требованию США не вводить его войска в Кабул. Сайяф рассмеялся и ответил: «Наши братья будут там». Фахим, ставший впоследствии министром обороны Афганистана, занял похожую позицию. Вскоре после окончательной победы над движением «Талибан» я спросила Фахима, намерен ли он вывести войска из Кабула до прихода миротворцев. Тот твердо ответил: «Нет». Я заметила, что в Боннском соглашении совершенно определенно сказано: к моменту ввода миротворческих сил в Кабул все военные формирования должны находиться за пределами столицы. Ответ снова был отрицательный. Войска Фахима по-прежнему остаются в городе, несмотря на все усилия представителей США и ООН.
Неудивительно, что попытки Карзая повысить свой авторитет и успокоить общество имели столь малый успех. Хотя Карзай заявляет, что простым талибам и представителям пуштунского большинства нечего бояться при новом режиме, непропорционально сильное влияние Северного альянса, в котором доминируют таджики и узбеки, вселяет страх в жителей страны. Этот страх усугубляется небольшой численностью международных сил, размещенных в Афганистане. Так, в американском контингенте на данный момент насчитывается лишь около 11 тысяч военнослужащих, причем войска США используются только для поиска и нейтрализации боевиков «Аль-Каиды» и движения «Талибан». ISAF численностью 6 тысяч человек действует только в пределах Кабула.
ДУРНАЯ КОМПАНИЯ
Так кто же те люди, к которым Вашингтон обратился за помощью в организации поимки Усамы бен Ладена? Глава администрации Карзай превозносил моджахедов как героев за роль, сыгранную ими в 1980-е в войне с Советским Союзом. Но рядовые афганцы относятся к ним иначе. Когда я была в Афганистане в декабре 2003 года, многие афганцы говорили, что моджахеды лишились права называться героями и стали преступниками, когда в 1992-м взяли Кабул и направили оружие друг против друга и против мирных горожан. Сегодня ответственность за убийства практически полностью возложена на Гульбуддина Хекматьяра, бежавшего в Иран в 1996 году и ныне ведущего борьбу против центрального правительства. Это он, стремясь заполучить больше власти, обстреливал Кабул в 1992–1996 годах. Но сами афганцы, пережившие то время, знают, что все фракции виноваты в случившемся. Именно Сайяф, а не Хекматьяр сказал однажды, что Кабул следует стереть с лица земли, потому что все, кто оставался в городе во времена правления коммунистов, сами являются коммунистами. Люди Сайяфа, как и боевики Ахмад Шаха Масуда и его заместителя Фахима, прославились зверствами, проводя в начале 1990-х жесточайшие операции против мирного населения.
Вашингтон, со своей стороны, кажется, осознаёт, с кем имеет дело, однако, по-видимому, американцев не тревожат прошлые деяния их партнеров. «Я не отрицаю: некоторые из них совершили чудовищные преступления», – сказал мне Халилзад в декабре (2003 года. – Ред.). Мы беседовали в сильно укрепленном здании американского посольства в Кабуле. «Вопрос в том, надо ли здесь и сейчас сталкиваться с ними лицом к лицу, или лучше прибегнуть к стратегии маневрирования. ...Если они изберут порочную линию поведения, мы можем перейти от одной тактики к другой». Не совсем понятно, однако, что, по мнению Халилзада, квалифицируется как порочное поведение. Полевые командиры уже два года пребывают у власти, и Афганистан постепенно деградирует, превращаясь в подобие наркогосударства, которое может выйти из-под контроля. Командиры не только замешаны в контрабанде наркотиков и коррупции, но и, согласно данным Афганского комитета по правам человека, повинны в жестоком обращении с согражданами и преследовании населения. Они отбирают у людей дома, безосновательно арестовывают неугодных и пытают их в своих личных тюрьмах.
Те, кто открыто выступает против моджахедов, подвергают себя опасности. Симе Самар, возглавляющей ныне этот комитет, а в прошлом – Министерство по делам женщин, угрожали смертью за то, что она осмелилась критиковать полевых командиров. То же случилось и с человеком, публично осудившим их действия во время первой Лойя джирги. Он был настолько напуган, что впоследствии попросил политического убежища для себя и своей семьи. В декабре прошлого года, в ходе второй Лойя джирги, 25-летняя Малалай Джойя, социальный работник из глубоко консервативного юго-западного региона страны, отважилась со сцены развенчать «героев-моджахедов», заклеймив их как преступников, погубивших ее родину: «Они должны предстать перед афганским и международным судом». В ответ председатель Лойя джирги Сибгатулла Моджаддеди – и сам в прошлом боевик-моджахед – пригрозил вышвырнуть ее вон, потребовал извинений (девушка извиняться отказалась, хотя от ее имени это сделали другие) и предоставил Сайяфу 15 минут для ответной речи, в которой тот назвал людей, подобных Малалай, преступниками и коммунистами. По заявлению представителей «Международной амнистии», впоследствии Малалай Джойе угрожали смертью.
У моджахедов хорошо получается притеснять собственных сограждан, однако им не очень удается справиться с задачей, поставленной Вашингтоном: захватить или уничтожить остатки формирований «Аль-Каиды» и талибов. Пока военизированные подразделения, принадлежавшие отдельным группировкам, терроризировали мирное население, талибы начали оправляться от удара и перегруппировываться, особенно на юге и востоке страны. К примеру, представители правительства и афганские сотрудники гуманитарных миссий в юго-восточной провинции Забул сообщают, что 8 из 11 районов Забула в основном контролируются талибами. В то же время значительная часть разведывательных данных о движении «Талибан», предоставленных полевыми командирами, оказалась неверной. Например, в декабре прошлого года в результате нанесенных американцами ударов по местам, где предположительно располагаются базы талибов и «Аль-Каиды», погибли 16 мирных жителей, из них 15 – дети. По мнению Бирдена, проблема заключается в том, что «американцы недостаточно дальновидны, чтобы не дать себя провести. На самом деле Запад в целом немного значит [для полевых командиров]».
Бирден предупреждает: вполне вероятно, что полевые командиры и лидеры фракций больше не захотят сотрудничать с США, поскольку в ближайшее время накопят достаточно ресурсов для того, чтобы действовать самостоятельно. Ведь они «имеют доход от маковых плантаций в размере более чем 2,6 млрд долларов и еще пару миллиардов, получаемых на регулярных контрабандных поставках… В какой момент мы станем им больше не нужны? При таком потоке денег вопрос лишь в том, когда они посмотрят на нас… и скажут: “Большое спасибо, нынешнее положение нас вполне устраивает. У меня есть большой дом, своя армия, так что лучше не трогайте меня”?».
ПОКИНУТЫЕ АФГАНЦЫ
Главные жертвы всех этих обстоятельств – простые афганцы. Народ разочарован; люди утратили иллюзии относительно мирового сообщества, которое они все чаще обвиняют в невыполнении громких обещаний, предшествовавших войне Америки с талибами. Более того, западные государства даже наделили властью людей, причинивших народу так много страданий. Согласно отчету организации Human Rights Watch, «у многих афганцев страх вызван… не только продолжающимися злодеяниями, но и воспоминаниями о преступлениях, совершенных нынешними правителями в период, когда они были у власти в начале 1990-х, до установления движением «Талибан» контроля над страной. Как сказала одна из жительниц сельской местности, “мы боимся, потому что помним прошлое”». Международное сообщество не выполнило и обязательств, связанных с предоставлением гуманитарной помощи. Всемирная гуманитарная организация Care International сообщает, что в 2002 году объем обещанной иностранной помощи афганцам составил 75 долларов на человека, а в следующие пять лет будет равняться 42 долларам в год. Для сравнения: на одного жителя Боснии, Восточного Тимора, Косово и Руанды приходилось в среднем около 250 долларов.
Есть все больше оснований полагать, что ущерб, наносимый Афганистану, будет не так легко возместить. Шанс склонить на свою сторону и умиротворить пуштунское большинство упущен из-за политики Вашингтона, который обращался с пуштунами, как с врагами, и наделил властью не их, а представителей таджикского и узбекского меньшинств. Более того, общее беззаконие, царящее в стране, приводит к тому, что гуманитарные организации уже не решаются посылать своих иностранных сотрудников за пределы столицы. Особенно настороженно они относятся к южным и восточным регионам, которые на данный момент являются наиболее опасными. Если сразу после падения режима «Талибан» в юго-восточной провинции Забул начали работу 16 международных организаций, то теперь их там осталось только две.
Возникла и новая дилемма: Вашингтон стал использовать армию для осуществления гуманитарных поставок, и многие из тех, кто занимается оказанием помощи в развитии страны, жалуются: это опасно размывает грань между военными и сотрудниками гуманитарных служб. В США утверждают, что только таким образом можно доставить гуманитарные грузы в небезопасные юго-восточные регионы. Но Пьер Краэнбюль, руководитель оперативного подразделения Международного комитета Красного Креста, объясняет ситуацию на следующем примере: «Однажды в деревню приходит офицер, ответственный за связи с гражданским населением, и беседует с жителями о будущем восстановлении страны. Потом, на той же неделе, приезжает сотрудник гуманитарной службы, тоже проводит беседу и предлагает гуманитарную помощь. Жители не делают между ними различия: оба они – западные люди, приехавшие на белой машине. Еще через несколько дней в районе проводится военная операция, и, вероятно, гибнут мирные жители. Как теперь крестьянам понять, кто именно из приходивших, возможно, собирал разведданные для предстоящей операции?»
По словам Халилзада, теперь США осознают, что сделали ошибку: им следовало еще раньше ввести войска в южные и восточные регионы, чтобы успокоить пуштунское население. В результате Вашингтон принял «ускоренную» программу действий, направленную на реализацию крупных, весьма впечатляющих восстановительных проектов командами по восстановлению провинций под руководством Министерства обороны и ряда гражданских органов, таких, как Агентство США по международному развитию и Госдепартамент. На данный момент в стране функционируют 9 таких команд, впоследствии к ним присоединятся или уже присоединяются еще несколько. Британская команда действует на севере, в Мазари-Шарифе; германская (под эгидой НАТО) – тоже на севере, в Кундузе; новозеландская – в центральном Бамиане; американцы работают в неблагополучных районах на юге и востоке страны, где преобладает пуштунское население. Джозеф Коллинз, заместитель помощника министра обороны по стабилизационной деятельности, утверждает, что в таком опасном окружении, как Афганистан, использование военных при осуществлении гуманитарной деятельности «неизбежно». Но хотя сотрудники гуманитарных организаций осознают опасность работы, они не разделяют взглядов Вашингтона на то, каким образом военная сила должна использоваться в данных обстоятельствах. По словам Кевина Генри, директора по правозащитной деятельности организации Сare International, западные воинские контингенты не должны напрямую поставлять гуманитарную помощь. Вместо этого им следует обеспечить более безопасную обстановку путем ареста членов движения «Талибан» и полевых командиров и оказания помощи в подготовке национальной полиции и армии. Это позволило бы сотрудникам гуманитарных организаций вернуться в опасные регионы и выполнить работу, с которой они справляются лучше других. Несмотря на повсеместное отсутствие безопасности и стабильности в Афганистане, есть несколько конкретных достижений. Например, в декабре 2003 года открыта новая автомагистраль Кабул – Кандагар. (Изначально проект планировали завершить в 2005-м, но работы были ускорены, как сообщается, по указанию Белого дома.) Однако подобные начинания сопряжены с огромными затратами. Строительство шоссе обошлось в 250 млн долларов, то есть около 625 тыс. долларов за километр, – ведь в регион пришлось перевезти по воздуху целые асфальтовые заводы. Тем не менее объявлено о планах провести еще 1 400 километров магистрали и подводящих к ней дорог, многие из которых будут пролегать в оставленных без внимания южных и восточных регионах. Международные доноры с Соединенными Штатами во главе заявили также о намерении возвести в стране крупную плотину ГЭС, построить новые школы, судебные и административные здания.
НЕНАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ
Учитывая суровую афганскую реальность – процветающую наркоторговлю, отсутствие безопасности во многих регионах, вяло текущее разоружение и недостаточную помощь со стороны мирового сообщества, – подобных проектов недостаточно для стабилизации обстановки. Выборы в Афганистане намечены на июнь, но не хватает денег для регистрации избирателей. К весне было зарегистрировано только 10 процентов электората.
Если Вашингтон действительно хочет помочь, он должен отказаться от сотрудничества с полевыми командирами и руководителями фракций Северного альянса. Сайяф, Фахим и их люди не могут предложить Афганистану ничего, что способствовало бы движению страны вперед. Уступки полевым командирам приведут лишь к тому, что те будут требовать все новых поблажек. Вместо этого усилия следует сконцентрировать на подготовке полиции, которая наряду с национальной армией, создаваемой при содействии США и Франции, смогла бы обеспечить безопасность на местном уровне. К сожалению, Америка, похоже, не собирается отказываться от союза с полевыми командирами. Более того, Халилзад предложил использовать местные формирования – как раз те, что в данный момент ООН пытается разоружить и реинтегрировать в афганское общество, – для обеспечения безопасности на грядущих выборах. По его словам, после проверки эти люди могли бы сотрудничать с американскими специальными войсками. Но это все равно что поставить лис сторожить курятник. К тому же ополчения действуют совместно со спецвойсками на протяжении уже двух лет, но ничто пока не указывает на улучшение их поведения. Напротив, в основном они заняты торговлей наркотиками, вымогательством и устрашением населения, используя свои связи с американскими военными для запугивания местных жителей и удовлетворения собственной жадности.
Если Вашингтон готов допустить мысль о привлечении этих людей к обеспечению безопасности на выборах, значит, последние два года мало чему научили американских политиков. Викрам Парех, главный аналитик International Crisis Group, считает, что американская политика в Афганистане – это «весьма импровизированная стратегия, направленная в первую очередь на то, чтобы создать видимость стабильности перед ноябрьскими выборами». Парех отмечает, что США и ООН придерживаются «стратегии контрольного списка задач», решая обозначенные в нем мелкие проблемы, но мало что делая для достижения в Афганистане долгосрочной стабильности. Существующий сегодня план предполагает наблюдение за выборами первого президента Афганистана (предположительно Карзая), которые должны состояться как можно скорее, и за последующей реализацией усиленной программы восстановления страны. Карзаю предстоит использовать пять лет своего президентского срока и значительные полномочия, которые он получит по новой Конституции, для создания сильных государственных институтов, включая национальную армию и полицию.
Такой подход, возможно, неплохо смотрится на бумаге, но ему присущ ряд крупных недостатков, и, по-видимому, он не учитывает нынешний хаос в стране. Похоже, Карзай действительно станет президентом. Хотя по новой Конституции глава афганского государства и получает большие полномочия, но пока неясно, способен ли Карзай ими воспользоваться. Более того, учитывая нынешнюю американскую политику и ослабевающую поддержку со стороны мирового сообщества, не стоит ожидать, что какое-либо афганское правительство сможет самостоятельно бороться с разгулом коррупции, процветающей наркоторговлей (сегодня ее объемы превысили все прежние показатели), всеобщим беззаконием, отсутствием безопасности и угрозой, которую представляют боевые формирования полевых командиров. Новая армия, насчитывающая всего 5 700 военнослужащих, теряет кадры почти с той же скоростью, что и набирает, а формирование полиции только еще началось.
И тем не менее значительное увеличение помощи со стороны мирового сообщества представляется маловероятным. Америке едва хватает ресурсов на Ирак, и вряд ли США выразят готовность взять на себя более существенную роль в Афганистане. Но Вашингтон мог бы улучшить ситуацию даже без огромных дополнительных инвестиций: достаточно нескольких ключевых изменений. Прежде всего необходимо добиться большей согласованности действий США и их европейских союзников, дабы усилить контингент НАТО в Афганистане. Лидерство Америки в этом вопросе имеет решающее значение, поскольку практически ни одна из стран – участников альянса не выразила желания послать в Афганистан более нескольких сотен военнослужащих, причем все их контингенты остаются в крупных городах, подальше от проблемных восточных регионов.
Америке пора понять, что в самом Афганистане ей нужны не полевые командиры и бывшие эмигранты, а другие партнеры. От сотрудничества с полевыми командирами необходимо отказаться. Если убрать со сцены таких деятелей, как Фахим, Сайяф и другие (возможно, путем назначения их на посольские и иные должности за пределами страны), позиции их сторонников ослабнут и процесс разоружения пойдет гораздо легче. Вашингтону также следует вступить в более тесный контакт с основной частью населения, особенно с пуштунами. В сфере обеспечения безопасности Америке надлежит сконцентрировать усилия по поиску и обезвреживанию талибов на охоте за лидерами, сотрудничавшими с «Аль-Каидой», такими, как руководитель движения «Талибан» мулла Мохаммад Омар, бывший министр обороны Маулави Обейдулла, бывший министр внутренних дел Абдул Раззак, бывший губернатор Маулави Абдул Хассан и бывший заместитель премьер-министра Хаджи Абдул Кабир. Рядовых же членов организации не стоит подвергать преследованиям. Что касается наркобизнеса, который вполне может стать главной проблемой Афганистана, то США и правительству Карзая следует присмотреться к опыту талибов, которым удалось сократить объемы наркоторговли. Талибы, наложившие в последние годы правления запрет на любые наркотики, использовали простую, но действенную стратегию: ответственность за нелегальные маковые плантации несли деревенские старейшины и муллы. Преступников на месяц отправляли за решетку, а их посевы выжигали. В результате деревенские лидеры каждое утро обязательно обходили свои территории перед восходом солнца (самое подходящее время для посева мака), чтобы убедиться, что там не выращиваются недозволенные растения.
Если Вашингтон решит принять описанную выше стратегию, у США появится шанс помочь восстановить нормальную жизнь в Афганистане или хотя бы улучшить нынешнюю ситуацию. Если же Америка отвернется от Афганистана, то она подорвет доверие афганского народа, понадеявшегося, что Запад выполнит свое обещание больше не бросать его на произвол судьбы.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























