Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Международный военно-технический форум «Армия-2021»
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр – 2021 в военно-патриотическом парке «Патриот».
В рамках форума Президент в режиме видеоконференции дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-Морского Флота на ведущих российских судостроительных предприятиях.
Кроме того, Владимир Путин посетил учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», располагающийся на территории парка «Патриот» и предназначенный для начальной военной подготовки подростков 12–18 лет. Глава государства осмотрел, в частности, административно-учебный и жилой корпуса центра, а также кратко пообщался с курсантами.
На площадке форума также состоялась встреча главы Российского государства с Королём Иордании Абдаллой II.
Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино», а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.
В 2021 году параллельно с форумом – с 22 августа по 4 сентября – состоятся VII Армейские международные игры, участие в которых примут команды из 44 стран. Совместно с Россией игры принимают одиннадцать государств.
* * *
Выступление на церемонии открытия форума «Армия-2021» и Армейских международных игр – 2021
В.Путин: Дорогие друзья! Дамы и господа! Уважаемые зарубежные гости!
Рад приветствовать вас на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Международных армейских игр.
Вот уже в седьмой раз эти масштабные и значимые встречи проходят здесь, в парке «Патриот», объединяют представителей российских и иностранных вооружённых сил, руководителей оборонных предприятий, научных и конструкторских школ.
По традиции в рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК. По сути здесь представлен современный уровень наших Вооружённых Сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы, а для нас это одна из приоритетных, безусловно приоритетных задач.
Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов.
России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса.
Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов – это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших Вооружённых Сил, возможности нашей науки и техники.
В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники – от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации. Большинство из них были испытаны и прошли проверку в боевых условиях – в реальных боевых условиях доказали свою надёжность и эффективность.
Наращивается и потенциал Военно-Морского Флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца.
Добавлю, что успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники. Среди них – гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник». Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать: ещё долго не будут иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают.
Российский оборонно-промышленный комплекс и Вооружённые Силы мы развиваем на новой технологической базе, на основе достижений нашей науки, программ фундаментальных исследований, поэтому значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления, то есть тех компонентов, за которыми будущее вооружённых сил ведущих стран мира, будущее российских Вооружённых Сил.
В этом году в форуме принимает участие более 90 процентов предприятий и организаций ОПК, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа России. Они не только надёжно обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений.
Год от года на полях форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции. Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и, что называется, вживую, в деле – на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка «Патриот».
Подчеркну, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надёжно защищает безопасность очень многих стран мира, а наши оборонные предприятия – даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, – точно, в срок производят, поставляют экспортную продукцию. Они даже в этих сложных условиях борьбы с эпидемией ни на один день не прекращали работу, обеспечивая при этом все требования санитарной безопасности.
Прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники стали Международные армейские игры. Год от года они привлекают всё новых и новых участников, увеличивается количество видов состязаний, и в этот раз военнослужащие покажут своё мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах одиннадцати стран.
Отмечу, что для более чем пяти тысяч военных профессионалов из 44 стран это не только хорошая возможность проверить свою тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой, не только это: участие в играх – это прямое общение с коллегами, это вносит весомый вклад в развитие доверия и партнёрских отношений военных профессионалов наших стран, служит укреплению мира и международной безопасности.
И конечно, в эти дни в рамках форума зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа. Посетители получат возможность не только прикоснуться к военной истории, посмотреть на состязания команд – участников Армейских игр, но и сами смогут посоревноваться в военно-технических и экстремальных видах спорта.
Я благодарю руководство Министерства обороны России и всех, кто участвовал в подготовке форума и Армейских игр.
Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечёт в Вооружённые Силы нашей страны, в оборонные, инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодёжь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему Отечеству.
Я желаю участникам и гостям форума плодотворной работы, представителям команд, выступающих на Армейских играх, успехов в состязаниях, а всем зрителям – ярких и запоминающихся впечатлений.
Объявляю Международный военно-технический форум «Армия-2021» и Международные армейские игры открытыми!

Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина на Встрече высокого уровня по подготовке Саммита ООН по продовольственным системам в 2021 году, Рим, 27 июля 2021 года
Уважаемый г-н Председатель,
Рассматриваем предстоящий Саммит ООН по продовольственным системам в качестве ключевого международного отраслевого события на ближайшие годы, он призван задать вектор трансформации глобальных продовольственных систем, в т.ч. в контексте преодоления последствий коронавирусной пандемии.
Совершенствование всех элементов продовольственных систем, помноженное на инновации и цифровизацию, при поддержке профильных организаций системы ООН должно стать приоритетным направлением работы всех государств.
Усилия Правительства Российской Федерации направлены на безусловное сокращение всех форм неполноценного питания среди населения, а также укрепление потенциала агропромышленного комплекса, который является источником экономического роста, повышения уровня занятости и обеспечения устойчивого развития нашей страны.
В январе 2020 года утверждена обновленная Доктрина продовольственной безопасности. Она ориентирована на предупреждение возможных внутренних и внешних рисков, полное самообеспечение нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции. Центральная задача, определенная в документе, - обеспечение человека полноценным питанием вне зависимости от социального уровня и достатка.
Являясь крупным экспортером продовольствия на мировые рынки, Россия вносит свой заметный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности.
Российский экспорт продукции АПК в 2020 г. вырос на 19% до 30,5 млрд долл. США. За последние 6 лет Россия показала самые высокие темпы роста среди 20 крупнейших экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Наша страна поддерживает международные усилия в области гуманитарного реагирования. Последовательно участвует в оказании продовольственной помощи как по линии организаций системы ООН, так и по двусторонним каналам.
В интересах поддержки развития сельского хозяйства в развивающихся странах нами финансируются около 20 проектов технического содействия Программы развития ООН (ПРООН) для региона Центральной Азии, а также в Армении, Сербии и на Кубе.
По линии ФАО с нашим финансовым и экспертным участием реализуются проекты по устойчивому управлению почвенными ресурсами, обеспечению продовольственной безопасности в ряде стран Центральной Азии, послевоенному восстановлению агросектора Сирии, а в странах Восточной Африки проводится масштабная гумоперация по ликвидации нашествия саранчи.
ВПП является важнейшим многосторонним каналом оказания российской продовольственной помощи. Увеличиваются объемы нашего сотрудничества, расширяется география, меняется и его качество.
В 2020 году внесли в фонды Программы рекордные 78,2 млн долл. США. Помимо традиционных поставок российского продовольствия, активно поддерживаем инновационные формы содействия, например такие, как конвертация суверенной задолженности третьих стран перед Россией в проекты развития.
Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект.
На сегодня Россия совместно с ВПП осуществляет серию таких проектов на сумму более 120 млн долл. США. Наиболее масштабные из них - в Армении, Киргизии и Таджикистане. Запущены также программы для Никарагуа, Кубы, Сирии и Иордании.
Развитие международного отраслевого сотрудничества, как представляется, должно строиться в том числе вокруг следующих приоритетных направлений:
- состояние почв как основного средства производства в сельском хозяйстве;
- обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов;
- «цифровизация» сельского хозяйства с учетом социальных, культурных и этических факторов применения новых технологий, а также анализа рисков для здоровья человека и окружающей среды.
Полный перечень наших приоритетов указан в российском национальном докладе, который озаглавлен «Навстречу Саммиту ООН по продсистемам» и размещен на сайте Саммита. Этот документ стал результатом масштабной работы, проведенной с ноября 2020 г. по май 2021 г. с участием представителей органов государственной власти, бизнеса, академических кругов и НПО.
Уважаемый г-н Председатель,
Россия неизменно придерживается позиции о недопустимости применения односторонних ограничений в качестве инструмента давления на другие страны. Такого рода практика подлежит безоговорочному международному осуждению. Поддерживаем призыв Генсекретаря ООН А.Гутерреша приостановить такие односторонние санкции.
Акцентируем внимание на российской инициативе о создании «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, в первую очередь в отношении поставок продовольствия и медикаментов, которую выдвинул Президент Российской Федерации В.В.Путин 26 марта 2020 г. в ходе экстренного саммита «Группы двадцати».
При подготовке предстоящего Саммита необходимо учитывать разнообразие продовольственных систем. При этом считаем важным принимать во внимание различия в уровнях развития государств, традициях ведения сельского хозяйства и питания.
Надо воздержаться от навязывания спорных концепций и методов ведения сельского хозяйства в отсутствие научно обоснованных и достоверных данных об их эффективности.
В этой связи призываем организаторов Саммита к сбалансированному отражению в его итоговых документах только согласованных и пользующихся всеобщей поддержкой профильных подходов и предложений.
Благодарю за внимание.

За горизонтом кризиса
Эпоха неолита завершается. Что дальше?
Сергей Переслегин
О совокупности симптомов кризисов разных эпох, различиях и сходстве глобализации времён мезолита и сегодняшнего дня, катастрофе переходного периода и структуре "кризиса вообще" беседа со старшим преподавателем кафедры системного программирования математико-механического факультета СПбГУ, членом правления Санкт-Петербургского Союза учёных, ответственным секретарём журнала "Родник Знаний" Сергей Шилов.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В своё время врач Ганс Селье обратил внимание на то, что начальные симптомы разнообразных инфекций проявляются совершенно одинаково, и он ввёл понятие "болезнь вообще", синдром. В этом смысле можно говорить и о структуре "кризиса вообще". Почему это так важно для сегодняшнего дня? Дело в том, что сейчас всё отчётливее вырисовывается схема большого социального кризиса. И он попадает под общую схематизацию кризисов прошлых эпох, не зависящую от конкретного времени, конкретных технологий и конкретного этноса. Поэтому его можно довольно хорошо предсказать.
Например, мы много знаем о кризисе Высокого Средневековья XIV века: уже тогда была поголовная грамотность высших слоёв общества, велись архивы государств, были архивы Ватикана — этот кризис хорошо описан. Относительно широко документирован и Античный кризис VI–VIII веков нашей эры, когда рассыпались остатки зданий Римской империи на западе, да и на востоке они развалились, хотя и не с таким шумом и грохотом…
Сергей ШИЛОВ. Но если на западе распад сопровождался именно катастрофическими процессами, то на востоке движение всё-таки воспринималось в основном как эволюционное.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Восток на время "заморозил" катастрофу, но когда она всё же прорвалась, то оказалась мгновенной и страшной.
В более глубоком прошлом была катастрофа Бронзового века. За шаг до этого мы находим массу локальных катастроф: кризис Древнего царства Египта, 4-ю династию Ура… Но всё это довольно локально.
Опускаясь ещё дальше вниз, мы выходим на бесписьменное время. Можно предположить, что именно ситуация перехода от мезолита к неолиту и задала скрипт поведения, согласно которому любое серьёзное преобразование человечества в обязательном порядке протекает через катастрофический кризис. Причём у этого кризиса есть три возможных варианта разрешения.
Позитивный, когда разрешение идёт через технологический, политический, культурный, когнитивный или любой другой заметный рост — переход к следующей фазе развития, к следующей экономической формации, к следующей технологии, вернее, к новой группе технологий, технологическому пакету.
Второй вариант разрешения кризиса — это когда происходит откат далеко назад, а потом начинается тот же самый путь сначала, но в худших условиях.
И третий вариант, который всегда нужно иметь в виду: кризис может быть вообще не разрешён. По крайней мере, он может быть не разрешён массой этносов, в него вовлечённых. Потому что многие из не переживших кризис вряд ли будут в полном восторге, узнав, что если бы они прожили ещё 300–400 лет, то всё получилось бы очень даже неплохо, и, может быть, даже и к лучшему всё бы сложилось.
Наше желание разобраться в динамике кризисов показало, что начинать нужно с кризиса мезолита при переходе к неолиту. С точки зрения теории фаз, мезолит — это конец присваивающего хозяйства, соответственно, архаичная фаза развития, а неолит — традиционная фаза развития, производящее хозяйство. Поэтому теория фаз предсказывает острый, жёсткий кризис при переходе от первого ко второму.
Сергей, вы предложили некоторое обоснование кризисной модели мезолитического перехода. Расскажите об этом.
Сергей ШИЛОВ. Давайте попробуем разобраться, что такое мезолит в целом, поскольку многие историки вообще отрицают его как исторический период либо считают, что это не более чем часть верхнего палеолита, и тогда употребляется термин "эпипалеолит".
Существует несколько определений мезолита.
Первое — классическое определение, восходящее к XIX веку: мезолит — это период так называемых микролитических технологий или микролитических срезов. Когда от обработки довольно крупных фрагментов камня перешли к практически ювелирной обработке фрагментов длиной от 10 до 30 миллиметров и толщиной меньше миллиметра. При этом кроме кремния стал использоваться обсидиан и другие твёрдые минералы. А это, в свою очередь, привело к возможности создавать новые типы охотничьего оружия. Сначала было метательное копьё с соответствующим наконечником. В рыболовстве появляется гарпун. Затем возникают лук и стрелы, рыболовный крючок. Несколько позже на Ближнем Востоке изобретается праща.
С этими историческими приобретениями связано второе определение мезолита: это эпоха дистантного оружия, когда для охоты не требовался непосредственный контакт вооружённого охотника с добычей, свойственный для палеолита. Это приводило к резкому снижению смертности на охоте и высокой эффективности самой охоты.
И здесь появляется третье определение, которое мы очень любим: мезолит — это стадия развития, когда у человека появилось свободное время.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Как при этом можно не выделять мезолит в отдельную эпоху?! Понятно, что переход от контактного к дистанционному оружию — коренная революция в военном деле. И за всю последующую историю неолита, традиционной фазы развития, даже индустриальной, может быть, вплоть до ядерного оружия, ничего более революционного просто не было придумано.
С другой стороны, если рассматривать ситуацию с точки зрения производительных сил и производственных отношений, видно чёткое разграничение верхнего палеолита и мезолита. Во-первых, резко повысилась эффективность охоты, а во-вторых, из-за высвободившегося свободного времени появилось много всего другого, начиная от прибавочного продукта (по крайней мере, в теории), заканчивая возможностью создавать культуру.
Почему в таком случае приходится говорить о катастрофическом переходе от мезолита к неолиту, если в этот период всё выглядит так очаровательно?
Сергей ШИЛОВ. Любая система, имеющая начало, имеет и конец. Это фактически одна из основ теории систем. Катастрофа — это некий структурный переход внутри системы, когда меняются основные параметры её динамики. В обычной ситуации система находится в состоянии, близком к равновесию. И тогда действует принцип Ле Шателье — Брауна: при возникновении внешнего воздействия, направленного на отклонение системы от состояния равновесия, возникают силы, возвращающие её в это состояние равновесия. Но в состоянии структурного перехода это правило не действует, потому что размывается само представление о равновесии. В этот момент любой внешний толчок может перевести систему куда угодно.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Важным моментом в катастрофе является достаточно быстрое, неожиданное для тех, кто живёт в это время, сокращение как вариантов возможного развития (то есть качества) жизни, так и её уровня и смысла. Ситуацию можно считать катастрофической, если сильные изменения происходят за время жизни поколения. То есть вопрос не только в том, что система выходит из равновесия, но и в том, что в процессе выхода из равновесия она резко ухудшает своё функционирование.
Можно выразиться и так: система сталкивается с вызовом, на который она не может найти ответ и именно из-за этого начинает деградировать.
Для социальных катастроф характерно ухудшение жизни во всех отношениях. А если есть ещё и материальная культура, то за довольно короткий промежуток времени хорошо просматривается, в том числе археологически, примитивизация этой культуры.
На какой же вызов не смогли ответить мезолитические системы?
Сергей ШИЛОВ. Деградация экосистем наблюдалась практически весь период мезолита. Хронологически верхняя граница мезолита — это примерно 10–12 тысяч лет назад. Последняя ближневосточная мезолитическая культура — Натуфийская. Соответственно, первой неолитической культурой была даже не культура Чатал-Гуюка (Чатал-Хююка), поскольку сейчас раскопаны более ранние культуры. И переход от одной к другой произошёл по историческим меркам очень быстро — за менее чем тысячу лет.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Это при том, что не доказано, что нет более раннего неолита и более позднего мезолита.
Сергей ШИЛОВ. Последние находки в Турции подтверждают гипотезу о том, что, скорее, более ранний неолит есть. Например, при Натуфийской культуре уже умели делать пиво — найдены каменные сосуды и примитивные, вырытые в земле ямы-зернохранилища. Хотя, судя по всему, целенаправленно возделывать злаки тогда ещё не умели, но при этом жили уже в достаточной степени оседло. Это территория современных Сирии, Иордании, Израиля, Ливана — так называемый район плодородного полумесяца.
Климат тогда был не в пример лучше. Натуфийская культура — это время "аллерёдского интерстадиала", то есть тёплый период между двумя ледниковыми. Он существовал на протяжении примерно от 1,5 тысяч до 3,5 тысяч лет и поставлен в конец последнего четвертичного оледенения, который носит название "дриас".
Сразу после аллерёдского интерстадиала случилось событие, которое получило название "поздний дриас". В течение короткого времени — порядка 100 лет — температура в Северном полушарии упала на несколько градусов, резко выросла аридизация, быстро сменились типы растительности. Так, влажные саванны в долине Иордана и на побережье Мёртвого моря стали сухими ксерофитными степями, а леса плодородного полумесяца — сухой саванной, леса остались только в горных долинах Ливана и Антиливана. Также произошло изменение гидрологического режима Тигра и Евфрата, что привело к заболачиванию дельты этих рек.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В нашей теории "кризиса вообще" этот момент является одним из основных. Кризис всегда включает в себя элементы похолодания, приводящего к повышению аридизации: чем ниже средняя температура воздуха, тем меньше испарения морей. Начало похолодания, момент перехода от очень тёплой к резко холодающей погоде может быть очень коротким — от 3 до 10 лет, и это период катастрофического переувлажнения. То есть сначала количество осадков резко растёт, потом резко падает, общие температуры снижаются, что для всех времён не являлось комфортным. Кстати, из всего сказанного можно сделать вывод, что мы уже сейчас живём в начале похолодания, а вовсе не в конце глобального потепления.
Сергей ШИЛОВ. Именно похолодание, приведшее к уменьшению производительных сил природы в районе плодородного полумесяца, подстегнуло неолитическую революцию. И к концу позднего дриаса появляются первые неолитические, хорошо защищённые поселения, которые легко оборонять, — Чатал-Хююк, Иерихон, Гёбекли-Тепе и другие.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В чём состоял этот переход с точки зрения социальных технологий? Палеолитические техники собирательства, развиваясь, дошли до своего предела — дистанционного оружия. Для существующих тогда социумов наблюдался довольно высокий уровень жизни, продолжительность которой тоже выросла. Но при этом стало крайне затруднительно изымать прибавочный продукт, и в результате общего похолодания и быстрого изменения климатической зональности, а также из-за использования против животных дистанционного оружия начала исчезать дичь: хищников стало много, соответственно, жертвы практически исчезли. Нависла угроза голода.
Мезолитические охотники считали, что они решат проблему, перекочевав в другое место. Но оказалось (и это опять связано с общей моделью кризиса), что мезолит в известной мере тоже был глобализацией. То есть мезолитические структуры охватили весь регион, где люди могли существовать, и за его пределы им было уже не прорваться. Наступило то, что Иван Антонович Ефремов в "Часе Быка" назвал "веком голода и убийства", — катастрофа, которую можно сравнить с более поздними — Бронзового века, Античной и даже со Средневековой ХIV — начала ХV века, когда уже при высочайшем уровне культуры хватило трёх голодных лет, чтобы люди вернулись к людоедству.
Поэтому для мезолитического охотника эпохи кризиса самой доступной дичью был другой мезолитический охотник. И это отвечает на вопрос, почему уже первые неолитические поселения, которые мы встречаем, оказываются укреплёнными.
Сергей ШИЛОВ. И заодно появляется очень интересное объяснение древнейших мифологических сюжетов, например, про Каина и Авеля, про Авраамову жертву, про войны богов с титанами, про Кроноса, пожирающего своих детей…
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Всякий раз, касаясь классических сюжетов мифологии, мы, вероятно, имеем дело именно с моментами мезолитической катастрофы, с тем, что осталось в памяти уже давно ушедших из мезолита и даже из неолита культур о том страшном, что лежало в основе их формирования.
Сергей ШИЛОВ. Это сюжет изгнания из рая, где раем было сравнительно комфортное мезолитическое существование с большим количеством свободного времени, с появлением свободного искусства, серьёзных ритуалов, с весьма высокой культурой, сравнимой по уровню с культурой индейцев Хопи, Пуэбло, австралийских аборигенов, у которых даже была своя мифология…
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сегодня нам важно понять, чем ситуация нашего ближайшего будущего будет напоминать переход от мезолита к неолиту. Первое, что мы видим, это исчерпание возможностей дальнейшего развития в рамках данной фазы. Мы уже говорили о том, что кризис маркируется возникновением глобализации, — это один из моментов общей теории кризисов. Она, конечно, на каждом уровне развития разная, определяемая транспортной теоремой, то есть способностью общества удерживать под своим контролем некоторую территорию.
Глобализация в мезолите охватывала, вероятно, довольно небольшие пятна территории. Глобализация Бронзового века распространялась на Восточное Средиземноморье. Античная глобализация — Средиземноморье в целом и кусочки Европы…
Сергей ШИЛОВ. Вплоть до Британии.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. А сегодня в глобализацию вовлечена бо?льшая часть земных территорий, кроме Антарктиды, некоторых участков Африки и Азии. Следующая версия учтёт и эти территории, поскольку окончание кризиса всегда сопровождается выходом за пределы той глобализации, которая была до этого.
Сергей ШИЛОВ. Ойкумена всегда расширяется. Можно сказать, что "Одиссея" в мистическом, мифологическом плане — это роман именно о расширении ойкумены, отражение того выхода из кризиса, которое, видимо, испытала греческая цивилизация после катастрофы Бронзового века.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Чтобы подвести некий итог сказанному, нужно сформулировать, какие маркеры указывают на катастрофу.
Сергей ШИЛОВ. Есть по крайней мере один из маркеров кризиса, о котором нужно говорить, — предельные технологии. С одной стороны, это базовая технология, без которой технологический пакет не может существовать. Например, технологический пакет "космонавтика" строится вокруг технологии создания мощных жидкостных реактивных двигателей. Нет двигателей — нет космонавтики, ведь ни на крыльях, ни даже на турбореактивных двигателях в космос не выйти.
С другой стороны, у любого технологического пакета всегда есть замыкающая технология, которая ограничивает его применение. Для современной космонавтики замыкающей технологией является технология системы жизнеобеспечения. Так, дальность полёта ограничивается наличным запасом кислорода. Замкнутость по воде в принципе может быть обеспечена, но как обеспечить замкнутость по кислороду, современная космонавтика пока не знает.
Если технологический пакет долгое время не сменяется новым, он начинает обрастать так называемыми предельными технологиями, которые приближаются к предельному коэффициенту полезного действия для данного технологического пакета. Обратите внимание на поздние паровозы, созданные уже в 40х—50х годах прошлого века. Насколько они красивы, как рационально используется в них каждый ватт мощности, как стараются максимально сократить сопротивление воздуха… На таком уровне технология фактически перестаёт отличаться от искусства, потому что очень многие вещи там уже нельзя просчитать, их можно только почувствовать.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Мне кажется, наилучшим примером этому будет чайный клипер XIX века…
Сергей ШИЛОВ. Конечно. Та неумолимая тяга к стимпанку, которая проявляется в современной фантастике, — это тяга к искусству. Технологии, описанные большинством авторов классического стимпанка, и есть предельные технологии. Это уникальные технологические объекты, которые сами по себе выдающиеся изобретения. Притом, как правило, не тиражируемые. Например, подводная лодка капитана Немо. Трудно представить себе, что подобный объект сойдёт со стапеля как стандартное судно…
В некотором смысле технологии мезолита как раз и являлись предельными технологиями палеолитической культуры. Наверняка, там были свои идеальные создатели наконечников для копий и стрел для луков…
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Проще говоря (и это в общем — диагностический момент), если вы видите на определённой территории специализацию: область создаёт только что-то одно, — логично предположить, что одновременно здесь есть и глобализация. К примеру, вы отлично делаете лишь кремниевые наконечники для копий, у вас их сколько угодно, но ведь вам ещё и питаться надо, поэтому торговать с кем-то точно придётся.
И второй момент: если определённая технология дошла до того, что она стала немерено красива, необычна, вызывает даже спустя столетия восхищение, можете быть уверены, что вы столкнулись с предельной технологией. А это также означает или конец технологического пакета, или технологического уклада, или, если особо не повезло, фазы развития.
В любом случае глобализация должна восприниматься как опасность, и появление соответствующих технологий говорит о том, что если сейчас не будут созданы новые пакеты, делающие все предыдущие невероятно устаревшими, то нас ждёт катастрофа с деградацией. И больше вариантов практически нет.
Сергей ШИЛОВ. Смотреть надо на архитектуру, потому что она хорошо сохраняется. Мы видим наборы предельных технологий: египетские пирамиды, римские акведуки, средневековые храмы и русские церкви.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. А что сейчас?
Сергей ШИЛОВ. Небоскрёбы. Я говорю не о похожих друг на друга "башнях-близнецах", настроенных во всех странах мира, а о современных высотных доминантах, таких как Москва-Сити в Москве или Бурдж-Халифа в Дубае, или небоскрёбы в современном Китае — они индивидуальны, красивы и имеют внутреннюю логику. Вот она — предельная технология.
С другой стороны, предельные технологии — это и скоростные, по современным меркам, суда и самолёты. Здесь ситуация хуже. Сейчас предельные технологии остались только в военной авиации, а пассажирские сверхзвуковые самолёты (советский Ту-144 и англо-французский Concorde) — больше не эксплуатируются. Цивилизации уже не хватает ресурсов на то, чтобы поддерживать предельные технологии. То есть началась деградация.
Третий пример предельной технологии — это высадка на Луну. В этой области начался откат. Пока он идёт эволюционно, но имеет очень большой шанс смениться катастрофой.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В теории катастрофических периодов технологическая деградация идёт последним, шестым пунктом. Предыдущие пять — это глобализация, наличие резкой границы между "тучными" и "тощими" годами, смена климата, которая обычно сопровождается вулканическими явлениями, смена господствующего этноса, почти всегда — эпидемии. И только после этого, иногда с отставанием, происходит технологическая деградация. Например, римляне потеряли акведуки гораздо позже, чем потеряли империю…
Сегодня уже можно поставить галочки практически на все пункты, указывающие на приближающуюся катастрофу. Когда говорят: "Вот у нас скоро будет новое Средневековье", — почему-то всегда сначала рассматривают падение технологий. Нет, первым делом деградируют организованности, опускается уровень мышления, что, как правило, означает смену этноса…
Сергей ШИЛОВ. Также это может быть и сменой онтологии.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да. Технологии как раз держатся до последнего, потому что они инерционны, и есть возможность их воспроизводить, пусть и очень локально.
Сергей ШИЛОВ. Перед технологиями начинают падать институты, после чего проявлять технологии становится некому.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Многое зависит от того, что лежит в запасниках. Наши АЭС построены с расчётом службы на 60 лет. Это означает, что они смогут довольно долго выдавать энергию, даже без смены активного вещества. Такие станции будут опасны, очень загрязнены, но проработают ещё много лет. А когда они всё-таки выйдут из строя, возводить новые будет некому. Это и есть технологическая часть катастрофы.
В прошлом даже мезолитическую охоту практически не удалось вернуть. Поэтому и возникла мысль о том, что можно жить и выживать по-другому. Сейчас мы говорим о величайшей человеческой революции, давшей людям сытую жизнь. А тогда перемены воспринимали как катастрофу. Охотникам, которые привыкли питаться мясом, приходилось в условиях, когда мельниц ещё не было и хлеб делать не умели, растирать зернотёркой зерно и месить из этого что-то вроде каши. В литературе поздней индустриальной фазы часто земледельцев называли "грязеедами", и, с точки зрения неолитического охотника, они действительно ели грязь. Сперва всё это воспринималось как полная деградация и падение, а потом неожиданно оказалось, что из произошедшего возможно извлечь то, чего раньше не было. Люди перешли от истребления "пищи" к её производству. И сразу же возникли новые структуры, организации, крупные поселения, такие как Иерихон, Чатал-Гуюк.
Сергей ШИЛОВ. Кстати, к мезолитическому уровню потребления мяса европейское человечество вернулось только с появлением индустриального сельского хозяйства в конце XIX — начале XX века.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Так же и уровень домашнего уюта в виде ванны с ароматизаторами, горячей и холодной водой, которую Карфаген имел где-то в VI–V веке до н. э., а Крит — в ХIV веке до н. э., мы получили на рубеже ХIХ–ХХ веков. Очень похоже на то, что каждая из фаз развития приходит примерно к одинаковому предельному уровню в треугольник: уровень, смысл и качество жизни.
Суммируя сказанное, у меня появилась такая идея. Формально мезолит — это предел фазы развития, он всё ещё период охоты и собирательства, хотя уже с элементами понимания, где и что растёт и как использовать собранное, что можно хранить, а что нет, приручили собаку, и охота стала гораздо эффективнее… С этой точки зрения, время мезолита очень короткое, это просто предел предыдущей фазы. Если рассматривать ситуацию в таком ключе, может быть, и весь период индустриала на самом деле очень коротенький и является просто завершением неолита? В этом плане мы всё ещё живём в эпоху сельского хозяйства, которое неолит и открыл. А всё то, что мы видим вокруг, — это отличная надстройка на этот неолит. Как и мезолит был отличной надстройкой на сделанные до этого технологии.
Сергей ШИЛОВ. Но надо двигаться дальше. Говоря, к примеру, о том, что для современной космонавтики замыкающей технологией является технология системы жизнеобеспечения, надо понимать, что пока мы её не создадим и не перейдём к полностью автономной биосфере, дальнейшего движения вперёд не будет…
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. А это требует выхода за пределы неолита. И вот тут-то и пойдёт то самое "копание в грязи", которое мы сейчас себе ещё не очень представляем. Но опыт показывает, что такая "грязь" — это некий фундамент, на котором создаётся совершенно другой уровень культуры. И чтобы выйти на ступень, условно, соответствующую великим соборам Средневековья, небоскрёбам, космонавтике и т.д., сперва нужно будет спуститься вниз, где какие-то вещи будут казаться "копанием в грязи".
Сергей ШИЛОВ. И человека создали из грязи, согласно большинству гипотез… Артур Кларк говорил о том, что любая продвинутая технология неотличима от магии. Предельные технологии неотличимы от искусства. Так не возникает ли новый тип технологий, доселе не рассматриваемый, — запредельный, транспредельный, который, собственно, мы и определяем как магию?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, вполне вероятно, что следующая стадия человечества (здесь я следую идее Кирилла Еськова) в некотором плане будет магической. Человек сможет войти в соприкосновение с этим миром и каким-то образом научиться его преобразовывать нерукотворно, своим мышлением, разными его проявлениями.
Так что ищите вокруг себя фантастику, магию. Глядишь, это продвинет нас в какой-нибудь новый неолит из того места, где мы сейчас находимся.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу по итогам переговоров, Анталья, 30 июня 2021 года
Уважаемые дамы и господа,
Мы провели полезные, насыщенные, конкретные переговоры по широкому кругу вопросов, стоящих на повестке дня российско-турецкого партнёрства.
Констатировали, что российско-турецкие отношения продолжают динамично развиваться по всем без исключения направлениям, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Политический диалог, который носит регулярный, устойчивый характер дополняется также масштабным взаимодействием в торгово-инвестиционной, гуманитарной и других сферах.
Особое внимание уделили выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Президенты В.В.Путин и Р.Т.Эрдоган продолжают активно общаться. Только в этом году состоялось шесть контактов. Кроме того, 10 марта с.г. наши лидеры участвовали – в формате видеоконференцсвязи – в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую».
Приветствовали рост товарооборота за первые четыре месяца 2021 г. на 22,5 проц. до 9,1 млрд долл. В интересах укрепления положительной динамики условились работать над устранением остающихся барьеров во взаимной торговле.
Рассмотрели подготовку к очередному, 17-му заседанию Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его планируется провести в ближайшее время в Москве под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Новака и Министра торговли Турции М.Муша.
Проанализировали ход реализации проекта строительства первой в Турции атомной электростанции на площадке «Аккую» силами российских специалистов. Сооружение объекта идёт в штатном режиме. Физический пуск первого энергоблока запланирован к столетию основания Турецкой Республики в 2023 году.
Обменялись мнениями и о тех шагах, которые необходимо предпринять для обеспечения бесперебойного функционирования газопровода «Турецкий поток».
Высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать поставленный Россией первый полк зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» для обеспечения собственной обороноспособности.
Договорились наращивать взаимодействие в целях купирования последствий коронавирусной инфекции. Сошлись во мнении, что применение российской вакцины «Спутник V», налаживание её производства на территории Турции будет способствовать стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Это, в свою очередь, позволит активно развивать ещё один крупный совместный проект – туризм, который пользуется большой популярностью у обеих стран, тем более, здесь, в Анталье, в месте «притяжения» российских граждан, отправляющихся на отдых. Подчеркнули нашу решимость продолжать создавать все условия для развития туристических обменов. Поблагодарили турецких партнёров за то, что они нас заверили в принятии всех необходимых мер, которые будут обеспечивать защиту здоровья и безопасность российских граждан, в первую очередь туристов. Это особенно важно в контексте возобновления пассажирского авиасообщения.
Предметно обсудили региональные и международные дела: положение дел на Южном Кавказе и в контексте выполнения трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., достигнутых в интересах урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Условились продолжать тесно координировать усилия в деле содействия Баку и Еревану в решении практических вопросов нормализации отношений с акцентом на укрепление мер доверия.
Удовлетворены тем, как функционирует в Агдамском районе Азербайджана Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Обменялись мнениями о конкретной обстановке «на земле». Убеждены, что целям её комплексной стабилизации послужат усилия по разблокированию транспортных коммуникаций и продвижению многопланового экономического сотрудничества в Закавказье с участием и расположенных здесь стран, и их соседей, в т.ч. Турции и России.
Подробно говорили о положении на Ближнем Востоке и Севере Африки. Как страны-участницы «Астанинского формата» договорились и далее вносить вклад в выполнение задач, поставленных в резолюции СБ ООН 2254. Подтвердили востребованность последовательных шагов по содействию эффективной деятельности Конституционного комитета, в т.ч. в рамках подготовки к шестой сессии его Редакционной комиссии. Этим и другим вопросам мы уделим особое внимание на очередной международной встрече по Сирии, которая состоится в Нур-Султане в следующем месяце.
Говорили и о ситуации на северо-востоке САР и в провинции Идлиб, включая задачи выполнения российско-турецкого Дополнительного протокола от 5 марта 2020 г. к Меморандуму о создании в Идлибе демилитаризованной зоны от 17 сентября 2018 г. Высказались в пользу окончательного искоренения терроризма на сирийской территории. Подчеркнули важность оказания всеобъемлющей гуманитарной помощи всем без исключения сирийцам.
Подтвердили нашу поддержку усилий, которые предпринимаются в интересах скорейшего мирного разрешения ливийского кризиса под эгидой ООН. Выразили готовность помогать сформированным в марте этого года новым органам власти в проведении референдума по конституции и в организации всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря 2021 г.
Обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном урегулировании, Центральной Азии и Афганистане, обстановке на Украине, в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе.
Считаю, что такие контакты помогают рассматривать текущие задачи, которые необходимо решать и намечать средне- и долгосрочные цели, в т.ч. в сфере политической координации. Хотел бы выразить признательность турецким друзьям за гостеприимство, которое было оказано нашей делегации.
Вопрос (адресован М.Чавушоглу): Президент Турции Р.Т.Эрдоган объявил о планах по строительству канала, который должен стать альтернативой проливам, соединяющим Чёрное и Средиземное моря. Цель строительства заключается в том, чтобы разгрузить транспортные потоки. Однако турецкие чиновники уже говорят о том, что фактически Конвенция Монтрё, которая регулирует проход через Босфор и Дарданеллы, утратит силу. Что в таком случае произойдет с Конвенцией на самом деле? Кто и каким образом будет регулировать проход? Предполагаете ли Вы, что у Ваших партнеров будут опасения по этому поводу? Будет ли инициирована выработка новой конвенции?
С.В.Лавров (добавляет после М.Чавушоглу): Удовлетворены взаимодействием с турецкими друзьями, по вопросу выполнения Конвенции Монтрё. Сегодня в ходе переговоров зафиксировали, что планы строительства канала «Стамбул» никоим образом не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав.
Вопрос: Прошло меньше двух недель между саммитом Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента США Дж.Байдена в Женеве и выходом Вашей статьи. Вы в ней сказали, что американцы «дали заднюю» по принципиальным аспектам паритетной основы для дальнейших консультаций и контактов. О чем и о ком именно шла речь? Ставит ли это под угрозу достигнутые договоренности? Если нет, не являются ли подобные заявления российской стороны чем-то, что вредит потенциальной стабилизации в двусторонних отношениях?
С.В.Лавров: На этот вопрос Президент Российской Федерации В.В.Путин отвечал сегодня во время «Прямой линии». Он достаточно ёмко и по-крупному сформулировал происходящее.
Мы не встаем в позу обиженных, но четко отмечаем тенденцию к тому, что американцы хотят все темы, которые обсуждались в Женеве, реализовывать прежде всего через продвижение своих интересов, а не через обеспечение баланса интересов США и Российской Федерации.
На ближайшие дни (надеюсь, до середины июля) планируем встречу делегаций, которые должны рассматривать задачи, поставленные президентами в области стратегической стабильности, – контроля над вооружениями, ограничения вооружений. Здесь у нас с американскими партнерами есть полное понимание, что разговор начнется с презентации каждой из сторон своего видения новых переговоров, их содержания и предмета. Итогом таких предварительных консультаций может быть только договоренность, устраивающая обе стороны.
Мы предложили «уравнение безопасности». Чтобы найти это «уравнение», необходимо рассматривать все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность, – ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Здесь, по-моему, у нас есть понимание, чего ждать друг от друга, и осознание того, что только обоюдоприемлемый базис переговоров может позволить их начать.
Если же брать другие темы, по которым условились продолжить консультации, то это кибербезопасность, функционирование дипломатических миссий, ситуация с лицами, находящимися в местах лишения свободы. По кибербезопасности мы предложили развернутый, крупный диалог. Американские коллеги сразу после Женевы стали говорить, что сначала мы должны арестовать и наказать хакеров, которые «ломились» в их трубопроводы, мясокомбинаты. Это немного не о том. Мы привыкли переходить от общего к частному. Готовы и от частного к общему, если будем брать все частности, включая атаки на наши ресурсы, происходящие ежедневно. То есть опять подход, который не сбалансирован.
По вопросу деятельности наших дипломатических миссий. В связи с тем, что прекращается найм местного персонала, США требуют дать им 180 виз, для того чтобы американские граждане заехали и заменили местный персонал. Если будем действовать таким образом, то забудем, с чего все начиналось, и перейдем на отношения ученика и учителя. Не собираемся этим заниматься. Все было начато Администрацией Б.Обамы, которая незаконно захватила нашу собственность, выгоняла дипломатов и потом пошла «цепная реакция». Наш подход исключительно всеобъемлющий: давайте обнулять всю эту нездоровую, неприемлемую ситуацию. Американцы говорят: давайте потом, а для начала дайте нам 180 виз.
Что касается мест лишения свободы, американские коллеги сконцентрировались на двух именах – П.Уилан и Т.Рид. Якобы это «лакмусовая бумажка», просят отдать их. Будем разговаривать по всем этим вопросам, но исключительно на взаимоуважительной основе и учитывая баланс интересов друг друга. Мы готовы к поиску такого баланса. Надеюсь, что американцы тоже до этого «дозреют» и будут искать его не только в сфере стратегической стабильности, но и во всех остальных областях, где у нас существуют проблемы, а таких немало.
Вопрос (перевод с турецкого): 10 июля завершается срок действия резолюции ООН об оказании гуманитарной помощи Сирии. Что Вы думаете по поводу продления этого решения?
С.В.Лавров: Это тоже из разряда «сначала я получу то, что хочу, а потом мы будем думать, как договариваться». Если мы все беспокоимся о гуманитарных проблемах сирийского народа, то надо смотреть на весь комплекс причин, по которым они возникли. Начиная с санкций, включая совершенно удушающий, бесчеловечный «Акт Цезаря», который приняла Администрация Д.Трампа, незаконный захват сирийских активов в банках зарубежных стран по требованию Вашингтона (это просто грабеж), отказ наших партнеров обеспечивать доставку гуманитарной помощи по линии международных организаций через Дамаск, линию соприкосновения во все районы, пока не подконтрольные правительству.
Именно в таком ключе мы сегодня обсуждали ситуацию в Сирии. По-прежнему исходим из этого.
Норвегия и Ирландия внесли резолюцию в Совет Безопасности ООН, которая полностью игнорирует все то, о чем я сейчас сказал, включая неприемлемые действия Европейского союза. Когда ЕС хочет помогать беженцам, он созывает конференции, приглашает туда Генерального секретаря ООН, а сирийское правительство как бы «не при чем». Принимают решения, мобилизуют средства, которые направляют не в Сирию для создания элементарной инфраструктуры, необходимой для возвращения беженцев, а странам, где они сейчас находятся, в том числе в Турцию, Иорданию, Ливан. Видимо, желают увековечить эту историю, чтобы на территории стран региона эти беженцы жили постоянно. Вот такие у нас партнеры, которые очень заинтересованы в сохранении одного перехода на границе между Турцией и Сирией в качестве санкционированного гуманитарного канала для доставки помощи по линии СБ ООН.
Надо по-честному смотреть на все то, что является причиной нынешних серьезных трудностей сирийских граждан. Мы готовы к комплексному рассмотрению этой ситуации, о чем сегодня условились.
Вопрос: Как Вы оцениваете роль Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, в т.ч. недавний визит Президента Турции Р.Т.Эрдогана в Шушу?
С.В.Лавров: В наших вступительных словах уже комментировали взаимодействие Москвы и Анкары в содействии урегулированию вокруг Нагорного Карабаха. Оно воплощается не только в регулярных консультациях, согласовании политических позиций, но и в функционировании «на земле» Совместного российско-турецкого мониторингового центра. Он обеспечивает верификацию соблюдения прекращения огня и в целом боевых действий, успешно и полезно работает, укрепляя взаимодействие в этой конкретной ситуации.
Визит Р.Т.Эрдогана в Азербайджан состоялся в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном.
Согласились с М.Чавушоглу, что, используя свои возможности, будем содействовать примирению, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, созданию условий, чтобы армяне, азербайджанцы и люди иных национальностей жили бок о бок, как добрые соседи на этой земле. По общему убеждению, тогда любые вопросы, в том числе политического характера, будет гораздо проще решать.
Одним из дополнительных направлений нашего сотрудничества является содействие восстановлению торгово-экономических, транспортных связей в этом регионе. В свое время вызвало поддержку и позитивную реакцию предложение Президентов Турции и Азербайджана Р.Т.Эрдогана и И.Г.Алиева создать механизм для содействия развитию региона «3+3» – три закавказские страны и три соседа (Россия, Турция, Иран). Об этом сегодня говорили. Есть неплохие планы на первое время.
Удовлетворены тесным и результативным сотрудничеством по армяно-азербайджанским и карабахским делам.
Вопрос (перевод с турецкого): Какие конкретные шаги Россия и Турция могут предпринять по вопросу Сирии и Ливии?
С.В.Лавров: Если говорить о Ливии, хотим, чтобы выполнялись договоренности, достигнутые осенью 2020 г. в Женеве под эгидой ООН. Это предполагает формирование законодательных основ для конституционной реформы, проведения выборов. Сделать это надо в срок, чтобы успеть организовать голосование в конце декабря с.г., как об этом условились сами ливийцы.
Надо сделать так, чтобы к процессу окончательного политического урегулирования были подключены все без исключения силы ливийского общества – руководство Ливийской национальной армии и представителей бывшего режима, который по-прежнему пользуется существенным влиянием среди ливийского народа.
Состоявшаяся 23 июня с.г. Берлинская конференция подтвердила все подходы и в целом комплексно обрисовала задачи, которые международное сообщество готово решить, чтобы помочь ливийцам выйти из затянувшегося кризиса. Он начался в 2011 г. в результате агрессии НАТО, разрушившей ливийскую государственность. Сейчас всем миром собираем ее воедино. Принципиально важно сделать ливийцев хозяевами собственной страны, обеспечить территориальную целостность. В этом смысле полностью поддержали итоговой документ Берлинской конференции. Исходим из того, что это важный стимул, чтобы ооновцы продолжили работу по завершению переходного периода.
Принципиальная задача, поставленная Советом Безопасности ООН, – территориальная целостность Сирии. На восточном берегу р.Евфрат наблюдаем попытки внедрить сепаратистские тенденции. Они получают поддержку извне, подпитываются финансово и материально. Считаем это недопустимым. Будем руководствоваться принципами, заложенными в документах «Астанинского формата», – категорическое неприятие попыток расколоть Сирию.
Скоро состоится очередная встреча «Астанинской тройки». Формат уникальный, т.к. в отличие от т.н. «малой группы» по Сирии и от «Мюнхенской четверки» в «Астанинском формате» встречаются три страны-гаранта с делегациями Правительства, оппозиции и наблюдателями от Иордании, Ирака, Ливана. Это важный региональный момент. С самого начала создания «Астанинского формата» приглашали США. Они несколько раз участвовали, но уже как пару лет решили не отвечать на наши приглашения.
Есть и другие каналы для учета мнения внешних игроков, имеющих влияние, но не представленных в «Астанинском формате». Задача, стоящая перед ооновцами и Специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном, – стимулировать стороны к диалогу. Причем Г.Педерсен – «содействующее» лицо. Именно такими должны быть действия его и команды: не навязывать сторонам свое видение, а помогать им достигать общего согласия. Это непросто. Накопилось много взаимного недоверия с обеих сторон. На то и дипломатия, чтобы искать пути преодоления такого рода проблем и барьеров. Пригласили Г.Педерсена в Россию с очередным визитом, согласовываем сроки. Подробно обо всем поговорим.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Генеральным секретарём ОБСЕ Х.Шмид по итогам переговоров, Москва, 21 июня 2021 года
Уважаемые дамы и господа,
У нас состоялись конкретные, продолжительные и полезные переговоры. Диалог был конструктивным, содержательным. Как вы знаете, это первый визит Х.Шмид в Москву после её назначения на высокую должность Генерального секретаря ОБСЕ.
Мы знаем Х.Шмид как опытного, высокопрофессионального дипломата и рассчитываем на продолжение контактов теперь уже в её новом качестве. Надеемся на то, что взаимодействие будет продуктивным, в т.ч. с точки зрения улучшения ситуации в ОБСЕ, которая находится не на самом лучшем этапе своего развития. У нас есть общее мнение о необходимости совершенствовать работу Организации.
Мы солидарны в том, что в силу широкого географического охвата и всеобъемлющего подхода к безопасности во всех её измерениях, а также в силу правила консенсуса ОБСЕ вполне способна играть более весомую роль в международных делах и, конечно, прежде всего в евроатлантическом регионе. Россия уверена: чтобы это произошло, необходимо возвращать некогда присущую Организации культуру взаимоуважительного, равноправного диалога и поиска компромиссов.
К сожалению, не все участники ОБСЕ разделяют такую точку зрения. Мы сегодня делились примерами, показывающими сохранение географических, тематических дисбалансов в работе исполнительных структур Организации. Они достались всем нам в наследство от 90-х годов прошлого века, когда отчётливо проявилось стремление разделить страны общеевропейского пространства на «учителей» и «учеников». Понятно, что это путь в никуда, и все эти дисбалансы необходимо как можно скорее исправлять.
На последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось в Тиране (3-4 декабря 2020 г.), Россия выдвинула предложение перевести на системную основу обсуждение путей повышения эффективности ОБСЕ. Речь не идёт о пересмотре основополагающих принципов и базовых обязательств. Напротив, цель – возвратить ОБСЕ к изначальному предназначению в качестве опорной общеевропейской структуры для обсуждения и принятия коллективных решений в области безопасности в её измерениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.
Рассчитываем, что сегодняшние переговоры были полезны для Генерального секретаря, её команды с точки зрения продолжения усилий по поиску точек соприкосновения между различными идеями, посвящёнными повышению эффективности ОБСЕ.
Подробно обсудили текущие задачи в упомянутых мной трёх измерениях деятельности ОБСЕ, работу её специализированных институтов и полевых присутствий. Затронули административно-бюджетные и кадровые вопросы. Тут тоже накопилось немало сложностей.
Россия подтвердила готовность к конструктивной работе в ОБСЕ на таких направлениях, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий, организованной преступностью, торговлей людьми.
Считаем, что ОБСЕ должна найти свою нишу в преодолении тяжёлых экономических последствий пандемии коронавируса, в т.ч. посредством выработки мер поддержки наиболее пострадавших отраслей, обеспечения социальных и экономических прав населения, укрепления евразийской торгово-транспортной взаимосвязанности. В гуманитарной сфере нашими безусловными приоритетами остаются защита прав национальных меньшинств, в т.ч. в сфере образования и использования родного языка, недопущение проявлений неонацизма и радикального экстремизма, борьба с христианофобией и исламофобией, отстаивание традиционных ценностей.
Достаточно подробно обсудили перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта. Он может быть урегулирован исключительно на основе полного и последовательного выполнения минского «Комплекса мер». Ему нет альтернативы. Об этом многократно говорили и участники нормандского процесса, и другие страны-члены ОБСЕ. Вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта – Киева, Донецка и Луганска – в Контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть.
Высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна чётко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны.
Напомню: в конце 2020 г. СММ, наконец, опубликовала доклад о гражданских жертвах конфликта (с 1 января 2017 г. по 15 сентября 2020 г.). В том докладе наглядно, предельно убедительно подтверждается факт, который долгие годы для нас был очевиден: гражданское население Донбасса страдает главным образом от действий Киева. Жертв от обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований зафиксировано в три раза больше, чем пострадавших от ответного огня на территории под контролем правительства. Ожидаем публикации аналогичного документа за весь период конфликта, доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине.
Мандат СММ предусматривает мониторинг соблюдения прав человека на всей территории Украины. Однако этой задачей Миссия зачастую пренебрегает. Думаю, что в качестве незамедлительного первого шага должна быть внесена ясность по всем тем фактам, о которых я сейчас упоминаю. СММ должна в полной мере осознать свою ответственность за чёткое, правдивое донесение этих фактов до Организации и мирового сообщества.
Обменялись мнениями о текущей ситуации в нагорно-карабахском и приднестровском урегулировании, ходе Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Затронули отдельные аспекты работы полевых присутствий ОБСЕ в Центральной Азии и на Балканах.
Пожелали Генеральному секретарю ОБСЕ конструктивных встреч в Совете Федерации и штаб-квартире ОДКБ, насыщенного участия в IX Московской конференции по международной безопасности, которую организует Министерство обороны Российской Федерации. Подчеркнули, что плодотворное сотрудничество ОБСЕ необходимо проецировать на все региональные структуры, находящиеся в зоне ответственности ОБСЕ.
Я имею в виду ЕС, НАТО, ОДКБ и другие региональные структуры, как это было согласовано в рамках очередного саммита Организации много лет назад.
Считаю, что переговоры были весьма полезными. Хотели бы пожелать г-же Шмид плодотворной работы на новом поприще в целом и в период её пребывания в Москве по реализации насыщенной и очень полезной программы.
Благодарю Вас!
Вопрос (адресован Х.Шмид): Г-жа Шмид, хотел бы привлечь Ваше внимание к ситуации с правами журналистов в Латвии, где второй год более десяти моих коллег-журналистов находятся под уголовным преследованием. В их жилищах проводились обыски, изымались техника и документы, банковские карты. У них взяты подписки о невыезде. Их преследуют за сотрудничество с российскими информационными агентствами «Спутник» и «Балтньюс». Формально их обвиняют в нарушении некоего «режима санкций», хотя ни упомянутые журналисты, ни агентства «Балтньюс» и «Спутник» не находятся ни под какими санкциями.
Это политическое преследование. Моя оценка такова. Их третируют за их журналистскую позицию и работу. В связи с этим вопрос: г-жа Шмид, есть ли у ОБСЕ реально действующий механизм обеспечения защиты прав журналистов в подобных ситуациях? Есть ли у ОБСЕ возможность взять описанную мной ситуацию в Латвии под контроль и обеспечить ее урегулирование, основываясь на принципах Организации?
С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Обсуждали эту тему на переговорах. Г-жа Шмид изложила ровно ту точку зрения, которую она сейчас воспроизвела. Не могу сказать, что я с ней согласен. Как минимум, вопрос о том, как санкции Евросоюза влияют на свободу средств массовой информации, заслуживает отдельного обсуждения в ОБСЕ. Тем более что непонятно, почему заведены именно уголовные дела за те «провинности», которые, по мнению ЕС, допустили журналисты «Спутника» и «Балтньюс».
Мы не оставили эту тему. Она остается на столе переговоров с ОБСЕ, с новым спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т.Рибейру, которая скоро посетит Российскую Федерацию.
Статистика о том, какое количество русскоязычных СМИ функционирует в той или иной стране, подлежит изучению на предмет определения, какого рода и кто является владельцем соответствующих средств массовой информации.
Повторю еще раз, мы это обсуждали. Для нас тема абсолютно не закрыта. Уголовное преследование журналистов не может быть оправдано никакой статистикой.
Вопрос: В Армении прошли парламентские выборы. Как Вы оцениваете влияние их результатов на стабильность ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе в целом?
С.В.Лавров: Выборы только что состоялись. Пока непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Дождемся, когда будет сформировано правительство.
Исходим из того, что трехстороннее Соглашение от 9 ноября 2020 г., прекратившее войну, равно как и Соглашение от 11 января 2021 г., запустившее процесс согласования конкретных форм раскрытия всей экономической деятельности и снятия блокады, работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон.
Вопрос (адресован Х.Шмид): Вы упомянули, что Минские соглашения являются основой решения проблемы на Украине. Что может сделать сегодня ОБСЕ, чтобы заставить руководство Украины выполнять эти соглашения?
С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Обсуждали эту тему. Люди страдают. В очередной раз я привлек внимание к тому, что на саммите «нормандского формата» в Париже в декабре 2019 г. рассматривался документ, согласованный экспертами, помощниками лидеров и вынесенный на одобрение. Первым пунктом значилось разведение сил и средств, отвод тяжелой техники по всей линии соприкосновения в Донбассе. Это было согласовано и даже завизировано. В.А.Зеленский отказался принимать именно этот пункт, имеющий, как сейчас сказала Х.Шмид, решающее значение для благополучия людей и обеспечения их безопасности. Он высказался за осуществление разведения лишь в трех точках, но их согласование продолжается до сих пор. Иными словами – вместо того чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, В.А.Зеленский эту проблему сохранил и усугубил.
Вопрос (адресован Х.Шмид): Недавно МИД Украины заявил о достигнутом соглашении с Турцией о сотрудничестве в военной сфере. При этом не исключается проведение в Черном море учений с участием ВС двух государств. Это способствует стабильности в регионе, живущем в напряженности?
С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Очень четко и недвусмысленно обозначили свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО. Нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Находимся в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами. В ближайшее время планируется очередной контакт. Думаю, поговорим и на эту тему тоже.
Вопрос: После саммита в Женеве Белый дом заявил о намерении продолжить доставку гуманитарной помощи в Сирию. Вы можете согласиться с продлением мандата ООН на этом направлении?
С.В.Лавров: Американская сторона ставила этот вопрос. Напомню, сейчас единственным пунктом, через который доставляется гуманитарная помощь в Сирию извне и без участия Правительства страны (как того требует международное гуманитарное право), является точка входа в провинцию Идлиб. Там, несмотря на активные усилия наших турецких коллег, решающую роль по-прежнему играет террористическая организация «Хейят Тахрир аш-Шам», которая держит в качестве заложников много гражданских лиц. Конечно, их нужно снабжать гуманитарной помощью. Сирийское Правительство готово это делать без каких-либо исключений из принципов международного гуманитарного права.
С апреля 2020 г. (уже больше года) Правительство Сирии готово направлять гуманитарные конвои для гражданского населения в Идлиб через Дамаск. К сожалению, наши ооновские коллеги и те, кто имеет другую точку зрения, пока не могут согласовать такой очевидный и полностью легитимный подход. Повторю, мы заинтересованы в содействии решению гуманитарных проблем. Надо только не забывать, что, помимо этого перехода в контролируемую террористами часть провинции Идлиб, есть еще более серьезные вещи, от которых страдает гражданское население САР. Имею в виду «удушающий» американский «Акт Цезаря», прямо направленный на прекращение любых контактов, которые могут так или иначе помочь восстанавливать инфраструктуру Сирии и гуманитарное благополучие населения; незаконную оккупацию американскими силами восточного берега р.Евфрат, где идет разграбление углеводородов и других природных богатств Сирии. Причем за вырученные деньги финансируются проекты, которые многими воспринимаются как поощрение сепаратизма и провоцирование развала единого сирийского государства.
Еще один момент, гораздо больше влияющий на положение гражданских лиц в этой стране, – политика Запада, Евросоюза и США в отношении создания условий для возвращения беженцев. Вся помощь, которую Запад собирает (а собирает он ее без какого-либо участия Дамаска, в нарушение правил ООН), направлена не на создание условий для того, чтобы беженцы могли достойно вернуться и там были элементарные образовательные, энергетические услуги и водоснабжение, а в лагеря беженцев в Иордании, в Турции и в Ливане с откровенной целью, чтобы беженцы оставались там как можно дольше. Если совокупность этих факторов признается в качестве влияющей на гуманитарное положение в Сирии, готовы в комплексе это обсуждать. Для этого необходимо, чтобы наши западные партнеры категорически отказались от односторонних толкований той или иной проблемы и признали свою ответственность за общую ситуацию, сложившуюся в гуманитарной сфере в Сирии.
Вопрос (адресован Х.Шмид): С подачи официальных властей на Украине фактически остановился диалог не только с непризнанными республиками Донбасса, но и с собственным народом. Точнее с той его частью, которая не во всем согласна с политикой действующих властей. Речь идет о закрытии трех телеканалов по весьма надуманным причинам. Как ОБСЕ смотрит на эту ситуацию? Какое отношение к такой политике администрации В.А.Зеленского? Является ли это приверженностью к поиску выхода из ситуации или нагнетанием?
С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Ждем представителя по свободе СМИ Т.Рибейро. Кстати, про этот возмутительный факт мы передавали информацию. Она пока не отреагировала.

Тень Великого Турана
Вячеслав Матузов о том, кто стоит за Реджепом Эрдоганом
Игорь Шишкин
«ЗАВТРА». Вячеслав Николаевич, ближневосточные страны — ваше давнее профессиональное направление. Занимаясь им, вы неизбежно сталкивались с ролью Турции в этом регионе. Хотелось бы услышать ваше мнение о нынешней политике этой страны и, главное, о том, кем сегодня Турция является для России — партнёром или противником?
Вячеслав МАТУЗОВ. Поскольку арабский мир — это бывший подопечный Османской империи, от Марокко до Персидского залива, до сих пор в Сирии, Ливане, Ираке, Ливии и в других арабских странах Турция играет далеко не последнюю роль.
Да, сегодня Турция находится под санкциями, хотя, конечно, не такими, как Россия или Иран, у неё есть противоречия и с США, и с ЕС. Турции давно отказывают в приёме в Евросоюз, а ведь это вторая страна в НАТО по численности армии!
«ЗАВТРА». Да, после США.
Вячеслав МАТУЗОВ. Но можем ли мы использовать эти противоречия? Тем более что в политике Турции в отношении России и Сирии многое настораживает. Я занимаюсь Сирией давно и вижу, что террористические и бандитские группировки со всего мира проходят в эту страну через территорию Турции совершенно свободно. Более того, на границе с Сирией турки построили специальный отель, использующийся как перевалочная база для боевиков. С кем они идут воевать? С Сирийской и Российской армиями. Поэтому резонный вопрос: действительно ли мы имеем возможность развивать с Турцией партнёрские отношения?
А посмотрите на поведение Турции в отношении Крыма. Как она благоволит съездам крымско-татарских сообществ — не тех, которые живут в Крыму, а киевских, дирижируемых джемилевыми и ему подобными! Все они «пасутся» на территории Турции, получая финансовую, политическую и информационную подпитку. И как это согласуется с благовидным обликом этой страны, который лепят порой в наших СМИ c оглядкой на турбизнес?! Но, разумеется, России нужно иметь с Турцией добрососедские, взаимовыгодные отношения, даже несмотря на 17 войн с ней за последние 300 с лишним лет.
«ЗАВТРА». Да, с Турцией у нас почти никогда не было беспроблемных взаимоотношений. Тем более сейчас, на витке неоосманистских устремлений. И список территорий, на которые распространяются претензии Турции, не может не настораживать окружающие страны, в том числе Россию.
Вячеслав МАТУЗОВ. Турки грезят распространением вплоть до Испании.
«ЗАВТРА». Но туда пока прямо ещё не стучатся. А вот о Крыме вспоминают как о Крымском ханстве, которое когда-то было вассальной частью Османской империи. Это противоречит российской геополитике, восстанавливающей наше имперское пространство. Но, с другой стороны, разве турки могут реализовать хоть что-то без взаимодействия с нами?
Вячеслав МАТУЗОВ. Я бы спросил по-другому: а могут ли турки взаимодействовать с США в борьбе против нас? Ведь мы живём не в замкнутом пространстве, где есть только мы и турки. Мы живём в XXI веке. Сегодняшнее самопредставление Турции в статусе имперской неоосманской державы, объединяющей огромные пространства исламского мира, выглядит лишь пожеланием, притом малореальным. Позволят ли натовские хозяева создать эту империю туркам? Никогда!
«ЗАВТРА». Совершенно верно.
Вячеслав МАТУЗОВ. Но с Турцией они активно не борются. Более того, мы видим, что руками турок происходит расчистка пространства исламского мира. Вспомните «арабскую весну», посмотрите, что происходит в Ливии, что могло бы произойти в Египте? А Египет — это ведущая страна арабского мира. Там уже более 100 миллионов населения. Египтян в скором времени, возможно, будет столько же, сколько населения ныне в Российской Федерации!
«ЗАВТРА». Египет и экономически одна из самых сильных держав Африки.
Вячеслав МАТУЗОВ. Турки до сих пор так и не признали законность правительства Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси, который отстранил от власти избранного Мухаммеда Мурси.
«ЗАВТРА». Да, это был государственный переворот.
Вячеслав МАТУЗОВ. Мурси в начале 2010-х годов стал уничтожать структуру власти в Египте и насаждать законы шариата. Египетская армия вмешалась, отстранила президента и провела повторные выборы, которые, без всякого сомнения, выиграл Ас-Сиси.
Но ведь Мухаммеда Мурси в своё время к власти в Египте привели не турки, а ЦРУ. Я видел шифротелеграммы американского посла из Каира в период с 2005 по 2010 год. Прежний президент Египта Хосни Мубарак просил американского президента Обаму: «Прекратите вмешиваться в наши внутренние дела!» Открытым текстом писал ему, что американские сенаторы приезжают в Египет, провоцируют людей к участию в манифестациях, раскачивают ситуацию. А американский журнал «Атлантик» опубликовал материалы о том, как составлялись инструкции по проведению массовых демонстраций в Каире. Приведён полный текст на английском и арабском языках, и там мы видим рекомендации, адресованные руководителям боевых групп («десяток», «двадцаток» и так далее): условно говоря, завтра в 10 часов состоится демонстрация на площади Тахрир, сбор в такой-то точке, идёте до такого-то поворота, там у здания министерства можно пошуметь, далее будет полицейская будка, её нужно разгромить и атаковать заслон полиции… Причём даётся инструктаж, куда бить палками, чтобы нанести максимальный урон здоровью. Много «пошаговых» инструкций.
«ЗАВТРА». Типа «как развернуть народное восстание против антинародного режима».
Вячеслав МАТУЗОВ. Именно. Так называемое народное восстание! А кто были эти руководители «десяток», «двадцаток»? С 2005 по 2010 год шла подготовка этих руководителей в лучших американских вузах: каждое лето организовывались трёхмесячные курсы в том же Гарварде.
«ЗАВТРА». Это всё напоминает январские события в России. Американское посольство относительно акций в поддержку «берлинского пациента» публиковало сообщения о том, где собираться, куда идти и так далее.
Вячеслав МАТУЗОВ. Методика-то одна. Но с каким размахом сделали это в Египте в 2011–2012 годах! Опубликовать такое количество листовок, брошюр на качественной бумаге — это колоссальные деньги! Таких типографских возможностей в самом Египте не было. Печатали на лучшей издательской базе Ближнего Востока, в Бейруте. Оттуда все эти провокационные листки пересылались в Каир, где и «распределялись» по вожакам народных масс и ниже.
«ЗАВТРА». Но это типичная деятельность американцев. А был ли турецкий «след»?
Вячеслав МАТУЗОВ. К этому обязательно подойдём, а сейчас хочу всё-таки остановиться на американцах. Потому что проблема «Братьев-мусульман»* на Ближнем Востоке — это каша, которую заварили американцы. Не турки. Ставленники и участники этой террористической организации тогда пришли к власти не только в Египте в лице Мурси, но и в Тунисе, где в 2011-м стал президентом Монсеф Марзуки.
А кто свергал Муаммара Каддафи? Тоже «Братья-мусульмане» из Мисураты и Триполи. Поэтому, если хотите разобраться в Ближнем Востоке начала XXI века и ранее, читайте хорошенько WikiLeaks! Шифротелеграммы американских послов из всех арабских столиц ясно показывают, что к чему. Американцы поддерживали «Братьев-мусульман» до самого последнего времени и только в 2019 году прекратили требовать от Ас-Сиси сдать власть и передать её Мурси, поскольку летом 2019-го Мухаммед Мурси скончался в тюрьме. После этого американцы сменили тональность. Сейчас они ближайшие друзья египетского президента, вновь предоставляют ему финансовую помощь, продают оружие — всё пошло чередом, как и раньше.
«Братьями-мусульманами»* был полонён не только Египет, но и Иордания. Король этой страны Хусейн (абсолютный монарх!) прямо говорил нашему представителю ещё в 1985 году: «Я не имею права «Братьев-мусульман» и пальцем тронуть!», потому что указания они получали от резидентуры ЦРУ, из регионального центра по Ближнему Востоку, расположенного близ Мюнхена.
А теперь посмотрите на сегодняшний статус «Братьев-мусульман»* в ведущих арабских странах Персидского залива. Возьмём Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Там составлены чёрные списки террористических организаций, где номером один числятся «Братья-мусульмане»*. В Египте, сами понимаете, какая ситуация…
«ЗАВТРА». Поэтому Саудовская Аравия и поддерживала Египет.
Вячеслав МАТУЗОВ. Конечно! Тут общие интересы. И саудиты, и египтяне хорошо знают, кто стоит за «Братьями-мусульманами»* и какие задачи с их помощью решаются, но они не могут бросить вызов США напрямую.
«ЗАВТРА». Как это стыкуется с турецким вектором?
Вячеслав МАТУЗОВ. Эрдоган — отнюдь не чуждый «Братьям-мусульманам» человек. И это ещё очень мягко сказано. Ведь когда они отстранили от власти военных в Турции, к власти пришла Партия справедливости и развития — извод «Братьев-мусульман» на турецкий лад. Вот почему эти люди помогали «Братьям-мусульманам» в Сирии, почему до последнего солидаризировались с находившимся в тюрьме Мухаммедом Мурси и даже угрожали египетскому президенту Ас-Сиси.
«ЗАВТРА». Турция не признала тот переворот.
Вячеслав МАТУЗОВ. Не только не признала — турки требовали вернуть на пост прежнего президента и направляли всяческие приветствия в адрес заключённого под стражу Мурси.
Так кто же кем крутит на Ближнем Востоке? Турция рвётся к самостоятельной игре в целях создания Османской империи, или американцы толкают Турцию на расчистку пространства, чтобы потом они могли перекроить всю карту в соответствии с планами построения, как они говорят, «Нового Большого Ближнего Востока»?
«ЗАВТРА». То есть Эрдоган не самостоятелен, хоть он и стремится к утопической идее новой империи? Получается, что он является идеологически ангажированным правителем. А откуда корни «Братьев-мусульман»*?
Вячеслав МАТУЗОВ. Появились они в 1928 году, хотя первые проявления этой ассоциации просматриваются ещё с 1924 года. Отцом движения считается Хасан аль-Банна из Египта. После распада Османской империи Египет оказался поделён между Францией и Британией.
«ЗАВТРА». Да, после Первой мировой войны.
Вячеслав МАТУЗОВ. Конечно, на основании соглашения Сайкса — Пико, которое разграничило зоны влияния в Египте, Палестине, Иордании, Ираке и странах Залива.
В ту эпоху мир жил под огромным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, в том числе под этим влиянием жил и Ближний Восток. Взоры большевиков тоже были обращены на Восток. После того как Коминтерн понял, что на западном направлении в деле продвижения мировой революции ничего не получается, в 1920 году был организован Съезд народов Востока в Баку. Там присутствовали, в частности, азербайджанский политик и писатель Нариман Нариманов и не нуждающийся в особом представлении Яков Блюмкин. Вот он и был назначен послом в Иран с миссией развернуть трудящихся Востока в сторону мировой революции. Дипломат Фёдор Раскольников с Ларисой Рейснер, супругой, тоже выдвигается на восточные рубежи: в Турцию, Иран и, чуть позже, в Афганистан.
Коминтерн направляет на Ближний Восток эмиссаров для создания коммунистических партий в арабских странах. Первые компартии создавались в Египте и Палестине (тогда ещё никакого Израиля не было, была лишь Палестина — подмандатная территория Британии). Сирийская компартия работала в Сирии и Ливане. Появилась Иракская компартия. То есть шёл процесс создания сил, противодействующих британскому мандату над этими территориями. Разумеется, британцы были сильно озабочены проникновением мирового коммунизма в их «подбрюшье», тем более что борьба за национальную независимость после распада Османской империи имела огромную поддержку в ближневосточных странах.
Я хорошо знаю историю этого периода в Сирии, Ливане, Египте. Тогда достаточно было «поднести спичку», и народ поднялся бы на борьбу с британскими колонизаторами. Британию все рассматривали как колонизирующую силу.
«ЗАВТРА». Таковой она и была.
Вячеслав МАТУЗОВ. Естественно. Британцы всегда и везде проявляли себя агрессивными эксплуататорами. И свои интересы сдавать не собирались, поэтому МИ-6 приняла решение создать заслон мировому коммунизму путём организации исламских фанатичных кругов для борьбы с «безбожным коммунизмом».
«ЗАВТРА». Противопоставить советскому влиянию идеологию созданного самими же британцами движения фанатиков-исламистов, что, кстати, спустя полвека повторили американцы в Афганистане.
Вячеслав МАТУЗОВ. Да, пошла плясать отработанная «трафаретка», которая потом была применена и при создании ИГИЛ* в Сирии и Ираке.
А о делах давно минувших дней красочно написали сами английские разведчики: в Лондоне были изданы мемуары тех, кто работал в британских службах в 30-е годы на египетской территории. Они рассказали, как и для чего «слепили» «Братьев-мусульман». Эта организация в Египте во времена Гамаля Абдель Насера (середина пятидесятых — начало семидесятых годов) представляла уже колоссальную разрушительную силу. Насер ведь пришёл к власти не как «красный» или «зелёный» политик, а как националист.
«ЗАВТРА». Не путать с нынешними «зелёными». Зелёный ещё и традиционный символический цвет ислама.
Вячеслав МАТУЗОВ. Да. И вот этот человек далеко не сразу пришёл к мысли о дружбе с Советским Союзом. Этот период начался для него с Суэцкого кризиса (Тройственной агрессии, как принято называть эти события 1956–1957 годов в арабском мире). Визит Хрущёва, присвоение звания Героя Советского Союза Насеру и маршалу Амеру, министру обороны Объединённой Арабской Республики (ОАР), — вехи этого сближения. Такие жесты со стороны советского руководства, как и поставки в середине пятидесятых через Чехословакию новейших вооружений для египетской армии, ставили заслон любой внешней агрессии, не только Тройственной, под которой подразумевались Великобритания, Франция и Израиль. После этого обозначилось явное движение Египта в сторону СССР. Строится Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади. Всё это — гигантские стройки! Для такой страны, как Египет того времени, это было очень важно. Появилось и сотрудничество в военной области. Но Насер всё же колебался, пытался маневрировать между нами и Америкой, поскольку понимал, что американцы держат под контролем то, что создали британцы в 30-е годы.
«ЗАВТРА». То есть «Братьев-мусульман»*, которые к тому времени перешли уже под американцев.
Вячеслав МАТУЗОВ. Да, стали действовать под эгидой ЦРУ. И начали борьбу против Гамаля Абдель Насера. Те, кто профессионально занимается историей насеровского периода, знают, что главными внутренними врагами Хосни Мубарака, Гамаля Абдель Насера и Мухаммеда Анвара ас-Садата были именно «Братья-мусульмане»*. Насер не хотел беспорядков, он пытался локализовать фундаменталистов, воспрепятствовать их укреплению и политическими шагами, и мерами экономического воздействия. Ему это удавалось. Но вскоре, как известно, «Братья-мусульмане» с помощью группы заговорщиков во главе с лейтенантом Халедом аль-Исламбули убили Анвара Садата. Даже его, сотрудничавшего с американцами. Хотя чему тут удивляться?
«ЗАВТРА». Египетские фундаменталисты были исполнителями, а приказ отдавали, естественно, американцы.
Вячеслав МАТУЗОВ. Когда мы говорим о «Братьях-мусульманах» и подобных им головорезах, надо иметь в виду, что американцы, конечно, не руководят каждым боевиком. Они дают средства и руководят контролёрами — проводниками этих идей на местах. А нюансы действий фанатичной массы «в поле» их не интересуют. Экстремисты могут действовать иногда вопреки американским установкам. Взять то же убийство Садата, осуществлённое, казалось бы, обыкновенными офицерами армии во время парада. Но не исключено, что Анвар Садат уже не устраивал американцев из-за частых контактов с советским послом Владимиром Виноградовым, как недавно выяснилось из его мемуаров «Наш Ближний Восток».
«ЗАВТРА». ЦРУ могло сработать на опережение.
Вячеслав МАТУЗОВ. Возможно. Так или иначе «Братья-мусульмане» из своей базы — Египта — пошли дальше. В ближайшую землю — Иорданию. Примерно сорок процентов парламента этой страны являются «Братьями-мусульманами», и американцы не позволяют королю менять эту пропорцию! Им всегда нужен рычаг давления на армию и правительство.
Или возьмём Сирию: 1982 год, серия терактов в Дамаске. Как они проводились? В Дамаске жители очень любили мотоциклы, поэтому в городе царил постоянный треск. И вот под эти звуки и начались перестрелки и взрывы; далеко не сразу удавалось определить, где взрывают и кто именно. Хафез Асад понял, что сценарий может повториться и надо срочно менять ситуацию. Потому запретил в столице езду на таких мотоциклах. Взамен были срочно куплены японские трёхколёсные тележки для развоза овощей и прочего. И в течение месяца Дамаск из трещащей мотоциклетами столицы превратился в тихий, спокойный город.
Но убийства в стране продолжались, экстремисты уже подбирались к сирийскому лидеру. Заговор «Братьев-мусульман» против Хафеза Асада поддерживали американцы. В феврале 1982 года Асад решил жёстко решить этот вопрос и окружил танками город Хаму — главную цитадель терроризма, не дававшего покоя стране. И ликвидировал, как тогда казалось — в корне — «Братьев-мусульман».
Но в 1985 году они вновь обозначились в Дамаске, начав убивать советских военных специалистов. Каждую неделю на центральном рынке города находили наших офицеров с перерезанным горлом. А в Сирии было около шести тысяч наших военных советников во главе с генерал-полковником Яшкиным. Это я знаю непосредственно со слов представителя КГБ, который имел поручение встретиться с Хафезом Асадом и передать ему: «Или вы обеспечиваете безопасность советских советников, или мы выводим войска, так как не желаем более подвергать риску жизни наших военных». Хафез Асад ответил, что наголову разбил все сирийские формирования «Братьев-мусульман», а произвол вершат их подельники — набегами из Иордании. И попросил нашего представителя переговорить с иорданским королём Хусейном ибн Талалом, поскольку знал, что они были в хороших отношениях со времён их встреч в Омане. Наш представитель выполнил эту просьбу и поговорил с монархом. Тот прекрасно понимал, что советские вооружённые силы дружественные, что они находятся в Сирии для помощи в деле противостояния Израилю.
«ЗАВТРА». Общему врагу!
Вячеслав МАТУЗОВ. Но при этом король сказал, что не имеет ни малейшего влияния на деятельность «Братьев-мусульман»*, ими руководят американцы, поэтому, мол, договаривайтесь с ними. Таков был «рассвет» наших отношений с Америкой в 1985 году!
Что касается Турции, то там с конца 60-х годов действовала ещё одна исламистская организация, нацеленная против «безбожного коммунизма» — «Серые волки». Её появление — плод работы американской агентуры, захотевшей влить свежую кровь в неоосманистское движение.
И что очень важно: американцами поощрялась и поощряется экспансия не только на юг. Что делают турецкие идеологи на северном направлении? Думаете, озабочены лишь продвижением в Россию огурцов с помидорами? Нет, им важнее продвигать идеологию турецкого государства, а оно основано на идеологии «Братьев-мусульман». И какими бы ни были внутренние или внешние факторы, связанные с провокациями Гюлена, с армейскими кругами, с поставками наших С-400 или газа, — всегда остаётся фактор влияния на руководство Турции идеологии «Братьев-мусульман».
«ЗАВТРА». А многие по-прежнему считают Эрдогана лишь харизматическим турецким националистом.
Вячеслав МАТУЗОВ. Да, неоосманизм — это его мечта. Американцы смотрят сквозь пальцы на эти турецкие мечты, потому что знают, что в нужный момент могут поставить заслон мечтателям. Трамп не случайно открыто заявил, что Обама — «основатель ИГИЛ*», а сооснователь его — «жуликоватая Хилари Клинтон».
«ЗАВТРА». Кто бы в этом сомневался!
Вячеслав МАТУЗОВ. Американцы позволят Турции завершить этап зачистки макрорегиона, а потом США тем же курдам за счёт турок выделят весьма жирный кусок. И Эрдоган тогда уже будет не нужен.
«ЗАВТРА». Как это вяжется с попыткой его свержения в июле 2016-го, за которой торчали «уши» американцев?
Вячеслав МАТУЗОВ. Вопрос здесь такой: было ли это игрой (тактикой) или реальной попыткой сместить? У американцев нет проблем морального выбора, когда они собираются убрать кого-то и поставить другого. Хосни Мубарака, проамериканского человека, — убрали, президента Туниса Бена Али, сверхлояльного к США, — свергли.
А что касается турецкой экспансии в северном направлении, то это не только политическая поддержка Джемилева, спекулирующего на крымском вопросе в пользу Украины и нацменьшинств, но и неоднократная поставка ударных беспилотников Bayraktar TB2 украинской стороне.
«ЗАВТРА». Турки сразу сделали заявление, что это чисто коммерческая сделка, и они готовы продать эти беспилотники и России в ещё большем количестве.
Вячеслав МАТУЗОВ. В области вооружения «просто бизнесом» никто никогда не занимается, продажа оружия — это всегда политика.
Надо сказать, что идеология турецких «Братьев-мусульман» включает в себя османские и туранские идеи. Что такое туранская идея? Великий Туран — это, по их мысли, всё тюркоязычное население Евразии. То есть взгляды турок обращаются на Татарстан, Чувашию, Башкирию, Якутию, Туву и прочие территории Южной Сибири. Да и не только Южной. Возьмите недавние споры вокруг названия аэропорта в городе Тобольске.
«ЗАВТРА». Уже капитулировали — убрали Ермака.
Вячеслав МАТУЗОВ. Вернее, убрали его имя как идею! И ведь давление чувствовалось нешуточное.
Сейчас в Интернете много исследований о «великих кочевых народах», в которых делается упор на культурные и цивилизационные корни этносов, населяющих Российскую Федерацию, и все они старательно увязываются с Турцией.
И здесь мы опять упираемся в идеологию, которую нам по-прежнему иметь не положено. Без идеологической базы государству, даже огромному, не выстоять!
«ЗАВТРА». Идеологии у нас официально нет. А реально она есть. Это либерализм.
Вячеслав МАТУЗОВ. Это и определённый инструмент, и позиция. Ибо, если у нас нет понимания идеологических целей, то мы оказываемся выброшенными на песок и лежим, как раскрытая ракушка…
«ЗАВТРА». И, не имея внятно сформулированной государством системы ценностей, мы сталкиваемся при этом с чужой, активно продвигаемой идеологией.
Вячеслав МАТУЗОВ. Это больной вопрос, в том числе и в отношении «Братьев-мусульман». И сегодня, когда я читаю сообщения об «исторических» соглашениях, заключённых между британским и турецким министерствами экономики, о создании зоны свободной торговли, что будет иметь решающее значение для дальнейшего развития, первая мысль, которая меня посещает: пусть Эрдоган — мечтатель, пусть он сейчас не агрессивен, но в его правление вершится широкомасштабное воспитание молодёжи в духе османско-туранских идей! А у нас никак не могут разработать концепцию единой российской культуры, нашей цивилизации!
В советское время была идея формирования нового типа нации, воспитание нового — советского — человека. А сейчас мы упускаем даже наше ближайшее окружение. В Средней Азии, которую сейчас называют Центральной зачем-то, посмотрите, что творится! Казахстан переходит на латиницу, в Киргизии открываются турецкие университеты! Это что — чисто гуманитарные, просветительские акции, как нас уверяют некоторые?!
«ЗАВТРА». А как вы тогда оцениваете официальные взаимоотношения России и Турции? Наверное, выстраивать отношения из расчёта баланса экономических интересов двух государств будет не совсем дальновидно, так как Эрдоган, как вы сказали, зациклен на идеологии, изобретённой для Ближнего и Среднего Востока в Великобритании и Соединённых Штатах.
Вячеслав МАТУЗОВ. Я бы не делал однозначного заключения, что Эрдоган — это чистый «брат-мусульманин», а военные, которые хотели его убрать, — жёсткие противники этой идеологии. Там всё настолько перемешано, как, впрочем, и почти всегда в жизни… Я полагаю, что президент Турции ведёт игру и с нами, и с американцами, исходя из собственной выгоды. Но мы должны смотреть глубже, чтобы его обыграть.
И не стоит зацикливаться на этой фигуре вообще! Сегодня Эрдоган есть у власти, а завтра его нет. А воспитываемое им поколение в российских и бывших союзных республиках он желает подчинить долгосрочным проектам, расписанным отнюдь не в наших интересах. Всё это делается неявно, и даже, как кажется порой, не имеет отношения к политике, к попыткам подрыва единства народов Российской Федерации. Но на смену Эрдогану может прийти другой человек, более жёсткий, прийти путём «демократических» выборов «по-американски». И у него в руках, скорее всего, окажутся все те инструменты, которые подготовил Эрдоган. Уже сейчас мы видим, на что он покушается, и на примере Сирии, и на примере новой войны в Нагорном Карабахе, в результате которой произошло усиление турецкого влияния в Закавказье.
Ещё больнее думать о судьбе Украины. Эрдоган там почётный гость, и Зеленский тоже за Чёрное море ездит неспроста. И здесь напрашивается ключевой вопрос к российской стороне.
«ЗАВТРА». Какой?
Вячеслав МАТУЗОВ. Их даже несколько… Как происходит выстраивание внешней политики нашего государства? С учётом экономических интересов? Но можно ли позволить себе игнорировать опасности, которые проистекают от слишком тесного экономического сближения с некоторыми соседними недоброжелательно настроенными государствами? Или должны быть специальные решения властей, которые принимали бы во внимание идеологические установки «Братьев-мусульман» и вырабатывали меры по противодействию им? А то всё пальчиком грозим, что помидоры да сласти перестанем покупать, если они полезут туда-то и туда-то… А они лезут! И понимают, что никакого финансового кризиса у них не будет — американцы не допустят: будут держать их экономический пузырь в зоне риска, но под своим неусыпным контролем.
Я вижу, что турки творят в Ливии, Сирии, к чему подбираются на Украине. Хочется надеяться, что в России есть планировщики политики, экономики, идеологии с учётом всех этих факторов.
«ЗАВТРА». Вячеслав Николаевич, большое спасибо за эту беседу!
* Запрещённые в РФ террористические организации

Шамиль Бено: Saudi Vision — это очередная попытка модернизации традиционного общества, которая, вполне возможно, обречена
Амбиции правящих кругов Саудовской Аравии, воплощенные в национальной стратегии Vision 2030, которая недавно прошла первый пятилетний рубеж, могут оказаться тщетными в силу традиций саудовской монархии и менталитета саудовского общества — рассчитывать на головокружительный успех заявленных планов вряд ли стоит. Такую точку зрения в интервью «Нефти и Капиталу» высказал российский политолог и бизнес-консультант, специалист по Ближнему Востоку Шамиль Бено.
«НиК»: На уровне официальной риторики саудовских властей причины, побудившие их заняться реализацией стратегии Vision, звучат вполне стандартно: надо диверсифицировать экономику, внедрять новые технологии, повышать конкурентоспособность страны в мире и т. д. Каковы, на ваш взгляд, наиболее глубинные мотивы, которыми руководствуются саудовские элиты и лично принц Мохаммед бен Салман?
— Стратегия Saudi Vision 2030 подразумевает модернизацию саудовского общества в двух измерениях — религиозном (или, если угодно, этнокультурном, идеологическом) и экономическом. Оба эти аспекта стояли на повестке дня уже давно.
Необходимость трансформации религиозного кредо саудовских элит была очевидной начиная с 2000-х годов. Она объективно назрела в силу того, что изменились вызовы, стоявшие перед Саудовской Аравией и другими монархиями Арабского Востока. За точку отсчета можно взять рубеж 1970–1980-х годов, когда новым вызовом стала победа антишахской революции в Иране под религиозными лозунгами. Угроза для саудовских властей, традиционно делавших ставку на религиозный консерватизм, была серьезной. На фоне постоянных неудач арабского мира в противостоянии с Израилем популярность Хомейни, свергшего наиболее последовательного союзника Тель-Авива в регионе, среди арабов была огромной, причем в разных слоях населения. Когда в те годы я бывал в Иордании, фото Хомейни можно было увидеть и на лобовых стеклах такси, и в офисах, и в лавках.
После Исламской революции в Иране и ввода советских войск в Афганистан руководство Саудовской Аравии весьма существенно увеличило финансирование программ религиозной пропаганды суннитского толка в противовес шиитам, но не только. Будучи стратегическим партнером США в мусульманском мире, Саудовская Аравия оказывала существенную поддержку афганским моджахедам — как финансовую, так и идеологическую. Добровольцы из арабских стран были заметным явлением в афганской войне. Но, к сожалению для организаторов этой кампании, поддержка и активная пропаганда фундаментализма привели к возникновению независимых от политического истеблишмента групп радикально настроенных исламистов. Результат — нападение на США 11 сентября 2001 года. Люди поверили в пропагандируемую избранность в качестве носителей истины в последней инстанции и стали проблемой уже для самой Саудовской Аравии.
Отсюда и действия саудовских властей по «зачистке эфира» от наиболее радикальных пропагандистов, и программа модернизация системы образования, включенная отдельным пунктом в «Видение 2030».
Что касается экономического блока, то здесь все понятно: экономика королевства была целиком основана на добыче энергоресурсов. Нефтехимия, которая начала развиваться с 1960-х годов, не покрывала нужды развития саудовского общества — в этой сфере работали в основном иностранцы, а саудовцы занимались главным образом государственным управлением, безопасностью, юридическими и финансовыми вопросами. Но с ростом населения за последние три десятилетия нефтяной ренты и «хлебных» мест для граждан Саудовской Аравии перестало хватать, поэтому требовалось диверсифицировать хотя бы занятость населения. Все это и подтолкнуло саудовскую элиту к переосмыслению политики страны.
«НиК»: Насколько успешной, по вашему мнению, будет реализация саудовской стратегии?
— Мне кажется, что стратегия если не провалится, то вряд ли будет реализована в заявленном виде. Проблема в конечном счете заключается в отсутствии в Саудовской Аравии развитого гражданского общества. Реализация стратегии подразумевает взятие на себя ответственности лидерами всех слоев общества — от племенных вождей до бизнеса и университетской профессуры. Но развить гражданскую ответственность и одновременно сохранить существующий в Саудовской Аравии режим патернализма не получится — эти задачи противоречат друг другу. Так что-либо принц Мохаммед бен Салман станет отцом нации, решая принципиальные вопросы страны по традициям бедуинских племен Аравийского полуострова, то есть оказывая обществу патерналистские услуги, либо превратится в лидера модернизированной страны. Второй вариант Саудовской Аравии явно не грозит: сама правящая семья вряд ли захочет менять характер отношений между королевским двором и обществом.
Иными словами, Saudi Vision — это очередная попытка модернизации традиционного общества, которая, вполне возможно, обречена.
Сама система власти в стране вряд ли способна реформировать себя, а общество, в свою очередь, не готово переформатировать свое понимание такой исламской доктрины, как иттикалия, то есть опора на кого-то другого для решения своих вопросов.
Ключевая проблема здесь — готовность самих граждан модернизироваться.
«НиК»: Тем не менее саудовскими властями уже предприняты определенные модернизационные шаги, которые раньше казались представимыми лишь теоретически: например, состоялось IPO компании Saudi Aramco, был создан Центральный банк, началось развитие светского туризма и многое другое.
— Саудовское государство может реализовывать крупные проекты, выстраивать коммуникацию с инвесторами по международным правилам, создавать существующие в других странах институты и в целом осуществлять структурную перестройку экономики. Но, повторю, если структура общества будет оставаться такой, как сейчас, — с минимальной автаркией и гражданской ответственностью, с опорой на короля и надеждой на Аллаха в решении собственных проблем, — подлинной модернизации ожидать не приходится.
К тому же Саудовская Аравия в силу своей предыдущей истории просто обречена на то, чтобы сохранять консервативные режимы, и это тоже противоречит сути модернизации. Так уж сложилась история этой страны. Напомню, что в 50–60-х годах прошлого столетия, когда Эр-Рияд при поддержке США стал играть активную роль в региональных и международных делах, ключевым вызовом для саудовской монархии было расширение влияния поддерживаемых СССР политических сил социалистического толка в лице Партии арабского социалистического возрождения с примесями панарабизма Насера. В этом противостоянии Эр-Рияд активно использовал исламскую риторику фундаменталистского толка против «светских» левых сил. Решать проблемы современного арабского мира предлагалось возвращением к традициям эпохи первых веков ислама. О том, как Саудовской Аравии пришлось поддерживать эту линию дальше, я уже говорил.
«НиК»: В чем могла бы, по-вашему, заключаться подлинная модернизация для Саудовской Аравии?
— В изменении менталитета общества — здесь ключевую роль сыграет успех или провал программы реформирования системы образования в «Видении 2030». Одна из главных задач — превращение Саудовской Аравии из агента ведущих стран мира в реализации их политики на Ближнем Востоке в такого же технологически значимого игрока в глобальной экономике, как, к примеру, Южная Корея. Но пока она выглядит лишь очень отдаленным будущим.
Тем не менее заявленные в саудовской стратегии приоритеты открывают определенные возможности для российского бизнеса: прежде всего это крупные инфраструктурные проекты и решение острой для Саудовской Аравии проблемы продовольственной безопасности.
«НиК»: Из большого интервью, которое принц Мохаммед бен Салман недавно дал саудовскому телевидению, можно сделать вывод, что за те несколько лет, которые он является фактическим правителем Саудовской Аравии, главной его задачей была консолидация личной власти. Завершена ли борьба за престолонаследие в Саудовской Аравии? Насколько значимым этот фактор может оказаться для будущего стратегии Vision?
— Напомню, что первоначально в Саудовской Аравии существовала традиция передачи власти между сыновьями основателя королевства Абдул-Азиза Аль Сауда, но рано или поздно она должна была по естественным причинам завершиться. Сейчас впервые в своей истории Саудовская Аравия находится на пороге передачи власти уже внукам первого короля. Если трон окажется в руках линии нынешнего короля Салмана, другие многочисленные потомки Абдул-Азиза могут оказаться все дальше от благ, полагающихся членам династии.
Кстати, та же самая проблема была в Иордании. Скончавшийся в 1999 году король Хусейн оставил завещание, согласно которому королем должен был стать его сын от англичанки Абдалла, а наследным принцем — Хамза, сын от палестинки, который должен был объединить иорданское общество. Но Абдалла, став королем и укрепившись во власти, передал исполнение полномочий наследного принца своему сыну. В Саудовской Аравии ситуация еще сложнее, учитывая слишком большое количество внуков короля Аль Сауда — племянников нынешнего короля Салмана и двоюродных братьев кронпринца Мохаммеда. Контролировать их всех точно не удастся, поэтому либо от них придется откупаться, либо в Саудовской Аравии могут появиться новые центры силы. Основных соперников, в том числе религиозных, принц Мохаммед уже убрал со своего пути, но насколько его контроль над властью стабилен, можно только гадать.
«НиК»: Насколько работоспособную команду ему удалось собрать? Назначение министром энергетики принца Абдулазиза бен Салмана выглядит очень удачным решением, а много ли других столь же грамотных управленцев найдется в саудовской элите?
— В саудовском руководстве в сфере энергетики, торговли и финансов очень много компетентных лиц, выбор довольно широк. На протяжении последних четырех десятилетий элиты Саудовской Аравии были серьезно интегрированы в западные структуры, поэтому в правящем кругу много выпускников ведущих английских и американских вузов, они переняли эффективные западные методы управления. Но проблема не в качестве знаний и компетенций тех или иных руководителей, а в состоянии цивилизационной идентичности Саудовской Аравии. А это, опять же, вопрос к обществу — правительство не будет каждый день выполнять функции инженера на стройплощадке, преподавателя в университете и проповедника в мечети. Собственно, отсюда и опасения в том, что саудовская стратегия может оказаться нереализуемой. Менталитет и культурная традиция саудовского общества вряд ли способствуют тому, что оно породит фигуры наподобие Илона Маска или Джека Ма, хотя из него могут выходить хорошие исполнители — чиновники или сотрудники спецслужб. В общем, организованная работа будет налажена, но без звезд с неба.
«НиК»: Как реализация саудовской стратегии способна трансформировать отношения королевства на основных внешнеполитических направлениях — США, Иран, Россия? Насколько, по вашему мнению, долгосрочно нынешнее саудовско-российское партнерство? Надолго ли оно переживет сделку ОПЕК+?
— Иран стоит в центре внимания саудовской элиты с самого момента Исламской революции 1979 года, и более важной проблемы, чем Иран, у Саудовской Аравии нет.
Именно приход к власти Хомейни в свое время привел к тому, что саудовский монарх получил свой нынешний официальный титул — «служитель двух святынь». Это же событие укрепило стратегический альянс саудовцев и США. Так что вряд ли позиции саудовских элит по отношению к Ирану сильно изменятся: они могут договариваться с Ираном о каких-то временных решениях, но в целом отношения будут определяться однозначным неприятием саудовской монархией Исламской революции.
Что касается России, то в президентство Путина она сначала вышла из декады безвременья во внешней политике, а затем заняла очень правильную внеидеологическую позицию в отношении стран дальнего зарубежья. Поэтому общая повестка, которая связывает Саудовскую Аравию и Россию — от энергетики до исламской сферы, — настолько масштабна, что нескоро исчерпается: в обозримой исторической перспективе общие интересы будут сохраняться. Главная составляющая этих интересов для России — геополитическая: развитие ситуации на Ближнем Востоке оказывает прямое воздействие на настроения и активность российских мусульман.
Беседовал Николай Проценко

Митрополит Иларион: саммит глав церквей возможен в обозримом будущем
В православном мире развивается кризис. Он вызван тем, что Патриарх Константинопольский Варфоломей при президентстве на Украине Порошенко создал на базе раскольнических структур "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и добивается признания ее другими поместными церквами, невзирая на страдания верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Для предотвращения наметившегося раскола некогда дружной семьи из порядка 15 поместных церквей Патриарх Иерусалимский Феофил созвал саммит их глав в минувшем году в Аммане. Однако сразу решить проблему собравшиеся не смогли и договорились встретиться еще. Когда и кто организуется вторую встречу в "амманском формате", что будет с клириками Африки, пожелавшими перейти в Московский патриархат, прекратились ли захваты украинскими раскольниками храмов УПЦ при президенте Зеленском и может ли он остановить дискриминацию верующих, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
— Владыка, планируется ли вторая встреча наподобие амманской Патриархом Иерусалимским Феофилом или еще кем-либо в этом году? Что вам известно о действиях и переговорах в этом направлении?
— Я хотел бы напомнить, что намерение продолжить братские встречи предстоятелей и представителей поместных церквей еще год назад высказали все делегации, принимавшие участие во встрече в Аммане в феврале прошлого года. Тогда они выразили пожелание, как сказано в коммюнике, собраться "предпочтительно до конца этого года". Конечно, в то время никто из нас еще не знал о пандемии, о том, что многим планам не суждено будет сбыться. Поэтому неудивительно, что спустя год после амманской встречи Патриарх Иерусалимский Феофил в своем послании напоминает о намеченных ранее планах.
Несмотря на то что риск заболевания коронавирусом в мире по-прежнему высок, карантинные меры в некоторых странах постепенно ослабляются. В том числе потому, что становится все больше людей, которые уже имеют иммунитет к этой болезни: кто-то переболел, кто-то сделал прививку. В этих обстоятельствах перспектива проведения в обозримом будущем новой встречи предстоятелей представляется возможной. Однако говорить о конкретных сроках ее проведения, на мой взгляд, пока преждевременно.
— Кто может созвать такую встречу в обозримом будущем?
— Я напомню, что инициатором проведения прошлогодней встречи был Патриарх Иерусалимский Феофил. Полагаю, что и новая встреча, если она состоится, будет созвана им же как предстоятелем Иерусалимской церкви — Матери всех церквей.
Русская церковь, со своей стороны, поддерживает проведение подобных мероприятий, направленных на поиск путей выхода из межправославного кризиса и восстановления единства.
— Можно ли говорить о прекращении захватов храмов канонической Украинской православной церкви с начала президентства Зеленского? И были ли за это время случаи возврата храмов от раскольников?
— Единичные факты захватов и попыток захватов есть до сих пор. По большей части это случаи, когда храмы были фиктивным образом перерегистрированы на общины раскольников еще в годы президентства Порошенко. Там, где местные власти по-прежнему находятся под влиянием радикальных политических сил и симпатизируют расколу, раскольникам удается реализовать свое преимущество, захватив храм по фиктивным документам.
Надо понимать, что в ряде регионов Украины радикальные политические силы в 2020 году предприняли попытку реванша на местных выборах, что привело к общему обострению политической борьбы и усилению давления на каноническую церковь на местном уровне.
Центральная власть не всегда в состоянии контролировать ситуацию на местах. Но в подавляющем большинстве регионов процесс фиктивной "перерегистрации" общин с последующими захватами храмов приостановлен.
Раскольники объясняют это пандемией и карантинными мерами: дескать, вот закончится пандемия — и все к нам присоединятся. На самом же деле без организованного давления со стороны центральных и местных властей никаких массовых переходов быть не может. Это процесс, имеющий политический, а не религиозный характер, и подавляющее большинство общин канонической церкви не имеет к нему интереса.
С другой стороны, уже захваченные храмы канонической церкви не возвращаются исполнительной властью своим законным владельцам даже при наличии соответствующих судебных решений. Многие общины строят или уже выстроили себе новые храмы взамен захваченных.
— Может ли президент Зеленский остановить давление на каноническую УПЦ?
— Совершенно очевидно, что права верующих Украинской православной церкви нарушались и продолжают нарушаться. При всей ангажированности некоторых европейских и международных правозащитных организаций в публикуемых ими документах нередко признаются множественные факты религиозной дискриминации на Украине.
В полномочия президента Украины входит непосредственное участие в процессе принятия законов, включая право вето. Он имеет право обращаться в Конституционный суд Украины по вопросам о конституционности тех или иных законов. Президент Украины является гарантом соблюдения конституции, обеспечения прав и свобод граждан, обладает обширным инструментарием соответствующих административных полномочий.
Между тем, дискриминационные законы, принятые в годы Порошенко против крупнейшей конфессии Украины, по-прежнему не отменены. А теперь в Верховную раду внесены и новые дискриминационные законопроекты. Хочется надеяться, что реакция президента Украины будет деятельной и соответствующей ситуации.
— В СМИ обсуждалось возможное принятие в Московский патриархат священнослужителей Александрийского патриархата, которые не согласны с признанием ПЦУ их патриархом. Была ли действительно такая просьба с их стороны? И какова реакция Русской церкви — будут ли они приняты?
— Подобные просьбы действительно имеют место. Причем речь идет не о единичных случаях, а о массовых обращениях клириков из разных стран Африки. У нас есть искреннее желание оказать им посильную поддержку.
Однако от решения принять их в юрисдикцию Русской церкви мы до сих пор воздерживались. Главным образом потому, что не хотим углублять разделения, которые по причине признания Патриархом Александрийским Феодором украинских раскольников уже имеют место среди православных в Африке.
Мы еще не теряем надежды, что патриарх Феодор откажется от своего решения.

Ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе специальной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» по Ближнему Востоку, Москва, 31 марта 2021 года
Вопрос: Тема нашей конференции – «Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения». Вчера дискуссия носила достаточно живой характер. Поднимались вопросы о том, в какой степени Ближний Восток является субъектом международных отношений, какова его динамика с точки зрения позиционирования в мире, можем ли мы говорить о завершении «арабской весны». Как Вы видите роль Ближнего Востока в современном мире?
С.В.Лавров: Десятилетия назад, когда углеводороды стали движителем мирового развития, регион обрел колоссальное геополитическое значение, стал ареной различных игр, продиктованных попытками получить доступ к ресурсам.
Здесь расположено перекрестье многих международных путей – Суэцкий канал. Мы видели, что случилось, когда один контейнеровоз неудачно маневрировал в этой водной артерии.
Считаю, что значение региона сохранится, даже когда человечество перейдет к безуглеродной экономике. Такие цели сейчас ставятся. Называют 2050, 2060 годы. Наверняка значение углеводородов будет постепенно снижаться. Тем не менее, учитывая стратегическое значение Средиземного моря, Персидского залива, у меня нет сомнений, что большие игроки сохранят интерес к региону. К сожалению, на данном этапе этот интерес выливается в соперничество далеко не всегда дипломатическими методами.
Выступаем за то, чтобы Ближний Восток перестал быть ареной столкновений интересов ведущих держав. Необходимо сбалансировать эти интересы, примирить их как между странами БВСА, так и между партнерами, находящимися вне региональной структуры.
Наше предложение разработать концепцию безопасности в регионе Персидского залива шире (об этом тоже не надо забывать – она не только про Персидский залив) как раз про то, чтобы все страны-протагонисты внутри региона – прежде всего арабские монархии и Иран – собрались за одним столом. А вместе с ними были такие структуры, как Лига арабских государств (ЛАГ), Организация исламского сотрудничества (ОИС), «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН, Евросоюз. В такой конфигурации можно будет собрать за одним столом представителей всех значимых для БВСА игроков. Постараться начать процесс, как в свое время в Хельсинки, сделать что-то подобное в регионе в надежде на то, что, в отличие от общеевропейского «Хельсинкского процесса», здесь получится нечто более конструктивное.
Общеевропейский процесс был начат на основе компромисса, обеспечившего баланс интересов. Затем Запад стал его разрушать. Сейчас пытаются использовать создававшуюся в качестве общерегиональной Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для того, чтобы продвигать свои интересы.
Надеюсь, что в регионе Ближнего Востока и Севера Африки мы сможем создать более жизнеспособные договоренности, которые позволят БВСА эволюционировать в направлении баланса интересов, не становиться в очередной раз территорией конфронтации больших стран.
Вопрос: Китайская Народная Республика (КНР), отношения с которой у нас дружественные и носят стратегический характер, в последнее время активизирует работу на Ближнем Востоке. Обозреватели и аналитики стали говорить о совершенно новом этапе во внешней политике Китая. Одно из ее измерений заключается в большем присутствии на Ближнем Востоке и повышенном интересе к региону. Обращает на себя внимание то, что последние инициативы Китая в какой-то мере идут по параллельным трекам с инициативами Российской Федерации. Это касается, например, коллективной безопасности в Персидском заливе, палестино-израильского конфликта, некоторых других направлений. Что Вы можете сказать по этому поводу? Как нам нужно рассматривать эту активность Китая?
С.В.Лавров: Китай – глобальная держава, имеющая интересы во всех регионах мира. КНР продвигает свои экономические проекты в рамках концепции «Один пояс, один путь», Сообщества единой судьбы человечества. Да, у страны глобальные интересы, но они подкрепляются реальными глобальными возможностями.
То, что концепция «Один пояс, один путь» имеет под собой очень серьезную экономическую основу, это факт. Недавно это обсуждалось на мероприятиях, проводившихся Евросоюзом вместе с американцами в рамках НАТО. Они прямо выдвигали задачи формирования некой альтернативы экономической «экспансии».
Мы выступаем за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против Российской Федерации. Попытки США и взявшей с них пример Европы по поводу и без прибегать к рестрикциям, подрыву позиций конкурентов, введение искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам Всемирной торговой организации (ВТО), – все это из той же области.
Естественно, Китай имеет право отстаивать свои интересы, как и мы делаем это в регионе. КНР недавно предложил свою площадку для возможного прямого диалога между Израилем и Палестиной, как это сделали в свое время и мы. Если брать Афганистан, за то, чтобы провести очередную встречу по ИРА, стоит очередь. Правда, недавно она «рассосалась». После встречи в Стамбуле, афганцы сами предлагают приехать в Кабул, потому что больше желающих нет. Это интересная история про Афганистан. Если будет желание, можно и на эту тему поговорить.
Возвращаясь к Китаю, у них есть инициатива, которую называют «платформа для многостороннего диалога» в зоне Персидского залива. Не только они вместе с нами продвигают такие идеи. Иранцы выдвинули Ормузскую мирную инициативу. По иранскому видению, она должна охватывать (по крайней мере, на начальном этапе) только прибрежные страны Персидского залива. По нашему видению, внешние игроки, серьезно влияющие на ситуацию в регионе, должны участвовать с самого начала.
Есть и французское предложение. Они называют его «Европейская миссия морского наблюдения в Ормузском проливе». Это может быть компонентом итоговой договоренности, если помимо мер доверия и прочих соглашений там будут присутствовать некие наблюдатели. Думаю, если все согласятся, это будет небесполезно. Считаю, что в таких вопросах конкуренция не вредит. Если она наблюдается в контексте выработки общих подходов и в итоге помогает вырабатывать общие базовые принципы, на которых потом будет строиться урегулирование, это можно только приветствовать. Не думаю, что китайская инициатива в данном случае нацелена на то, чтобы все согласились именно с предложенным ими вариантом. Мы не настаиваем на конфигурации, выдвинутой в нашей инициативе о концепции безопасности в Персидском заливе. Приглашаем к диалогу. Как говорят китайцы: «Пусть расцветают сто цветов». Надо собираться, объединять идеи, искать баланс интересов. Без него все будет неустойчиво и хрупко.
Вопрос: Хотел бы вернуться к Вашему первому ответу. Слово «инклюзивность» часто употребляется как необходимый элемент дипломатии. Рискну усомниться в том, что это настолько действенно, потому что сейчас возникло такое количество самых разных интересов, причем иной раз у игроков, которые раньше не имели такой роли. Если пытаться все их включить и учесть, то в результате ничего не получится. У упомянутой Вами ОБСЕ (или СБСЕ в ту эпоху, когда оно работало), на самом деле, было два интереса. Не надо ли пересмотреть подход в том русле, что есть интересы, необходимые для решения конкретных проблем, есть заинтересованные страны, имеющие влияние, а есть страны, которые считают необходимым участвовать просто потому, что надо участвовать? Это престиж и т.д. Как найти баланс между включением тех, кого нужно, но чтобы это не стало «Ноевым ковчегом», куда собирают всех?
С.В.Лавров: Только эмпирическим путем. Пока мы не начнем разговаривать и сопоставлять подходы, мы не сможем понять, какие из них продвигаются для «престижных целей», а какие действительно отражают искреннюю заинтересованность в решении проблемы. В этой конфигурации будет больше, чем два интереса, как это было, когда созывалось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Но их будет не так много. По крайней мере, Запад уже един. Это один интерес. Последние встречи показали, что Европа не столько вздохнула с облегчением, сколько возрадовалась тому, как ее опять «взяли под свое крыло» США. Публичные заявления на сей счет прозвучали от руководителей ЕС. У Запада будет один интерес. Если кто-то будет пытаться нарушать стройность рядов, эти попытки будут достаточно быстро и эффективно преодолены.
Есть обнадеживающие моменты и в том, что касается самой зоны Персидского залива. Недавнее восстановление единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на саммите 5 января с.г. (очень полезное и важное мероприятие, надо отдать должное американцам) – это шаг в важном направлении.
Я надеюсь, что он будет предтечей и договоренности о том, чтобы начать разговор с Ираном, подключая внешних игроков. Мы сознательно здесь обозначаем «пятерку» постоянных членов. Как показывает практика, в самых разных конфликтах, в самых разных регионах мира, если в «пятерке» достигается консенсус, то остальные это приветствуют. Консенсус «пятерки» практически всегда отражает баланс интересов не только этих пяти стран, но и их союзников, партнеров и большинства стран мира. Поэтому мы придаем такое значение возрождению духа сотрудничества в «пятерке», возрождению духа Думбартон-Окса и того, что связано со статусом постоянных членов СБ ООН и с их правом вето. Институт создавался для того, чтобы на международном уровне никаких решений не принималось, если одна из этих стран возражает. Можно говорить о том, что круг государств, заслуживающих сейчас быть особо выделенными в международных конфигурациях, расширился. Мы выступаем за то, что бы и Африка, и Азия, и Латинская Америка имели своих дополнительных представителей в СБ ООН, но «пятерка» все равно играет очень важную роль.
Президент России В.В.Путин выдвинул инициативу проведения саммита «пятерки», где мы хотим обсудить не столько какой-то конкретный кризис (хотя это тоже всегда можно сделать), сколько предназначение этого института в международной политике. К сожалению, коронавирус не позволил сделать это в прошлом году, хотя прозвучала поддержка КНР, Франции. Великобритания ждала, когда отреагируют США. Вашингтон сказал, что он будет готов, тогда и Лондон сказал, что они присоединятся. Но потом разразилась пандемия. Мы сейчас думаем о том, как эту идею реализовать, проводим консультации с нашими партнерами. Надеюсь, что такой разговор состоится. Он действительно важен.
Вопрос (перевод с английского): У меня два вопроса. Первый вопрос: Вы и многие другие отмечали Хельсинкский формат. Мы уже в течение двух дней обсуждаем необходимость новой архитектуры безопасности для ближневосточного региона, потому что это единственный способ решения многочисленных проблем, проявившихся там. Хельсинкский формат интересен, потому что он объединяет и «жесткие», и «мягкие» вопросы безопасности. «Жесткие» – свободы, права человека и т.д. Это то, что так насущно необходимо региону на этом уровне.
Есть ли какой-то «ближневосточный Хельсинкский формат», по крайней мере, по задумке России, потому что Россия является одной из крупнейших игроков в этом регионе? Если это не так, то каковы препятствия на этом пути?
Второй вопрос связан с Сирией. Вы знаете, что в САР предстоят президентские выборы через два месяца. Изначально, резолюция СБ ООН 2254, которую вы не только поддержали, но и выступили одним из соавторов, упоминает, что Конституционный комитет должен достичь прогресса в своей работе, и какие-то поправки в конституции должны быть приняты до проведения выборов. Мы знаем, что сейчас календарь это не предусматривает, и выборы пройдут без принятия поправок в конституцию. Означает ли это, что нам нужно забыть резолюцию СБ ООН 2254 в рамках разрешения конфликта в Сирии?
С.В.Лавров: Относительно первого вопроса. Действительно, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе завершилось согласованием Хельсинского Заключительного акта, который базируется на трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономическом и гуманитарном. Это должно быть положено и в основу дискуссий, о которых мы сейчас говорим – в зоне Персидского залива и в целом на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Только так можно прийти к какому-то комплексному результату. В наших предложениях предусмотрена и военно-политическая сторона – это меры доверия, транспарентность военных бюджетов, приглашения друг друга на учения, проведение совместных учений. Там предусмотрена и политическая часть – восстановление дипломатических отношений между всеми странами. Должны быть разблокированы экономические контакты. Это комплексный подход.
Не хотелось бы, чтобы это «будущее» (надеюсь, будущее, а не гипотетическая конструкция) повторило судьбу ОБСЕ в Европе, где сейчас острые военно-политические проблемы, учитывая расширение НАТО, последовательное продвижение военной инфраструктуры к границам России, развертывание под видом ротации постоянного военного присутствия и в Прибалтике и в Норвегии. Наше предложение было о том, чтобы ОБСЕ осознало свою ответственность за военно-политическую ситуацию в Европе, стимулировала договоренности между Россией и НАТО. Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, предложенные нами, в том числе о том, чтобы договориться об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанцию, определить дистанцию максимального сближения самолетов и кораблей. При этом Й.Столтенберг заявляет, что Россия отказывается работать в Совете Россия-НАТО. Мы не отказываемся там работать, просто мы не хотим сидеть и слушать там про Украину. НАТО не имеет никакого отношения к Украине. Они всегда, предлагая созвать Совет Россия-НАТО, настаивают, что первым вопросом должна быть Украина. Мы пару раз посидели, послушали. Знаем все это. Поэтому мы предложили восстановить контакты по линии военных, чтобы спасти то самое комплексное соглашение по безопасности, заключенное в Хельсинки. Они отказываются.
Экономика также с трудом движется в ОБСЕ. Наши коллеги из ЕС тоже не очень хотят этим заниматься. А вот на права человека наседают. Если этим все закончится в зоне Персидского залива, то это будет печально. Хотя, я сомневаюсь, учитывая специфику стран, о которых мы ведем речь, и их отношения с Западом. Здесь есть надежда, что ситуация может быть более позитивной. Не нужно забывать, что Россия предлагает инклюзивный процесс, тогда как еще сильна инерция, доставшаяся от прошлой администрации США, рассматривающая все проблемы в регионе через антииранскую призму – собирать коалиции арабов, Израиля, Запада против Ирана.
Сейчас есть обнадеживающий сигнал от администрации Дж.Байдена в направлении поиска какого-то компромисса с тем, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и параллельно начать рассматривать дополнительные озабоченности. Мы активно это поддерживаем. Но Запад будет говорить, чтобы восстановили СВПД, но не в прежнем виде, а «с плюсом» – ввели бы дополнительные ограничения на ракетную программу, посмотрели бы, как Иран может изменить свою политику в регионе, продлили бы СВПД за пределы сроков, установленных и одобренных СБ ООН в изначальной версии. Иран настаивает на восстановлении СВПД в прежнем виде, и уже потом они будут готовы обсуждать взаимные претензии. Это вполне логичный подход. Восстановив СВПД без всяких довесков, можно параллельно начать процесс по безопасности и сотрудничеству в регионе. Если в рамках этих переговоров есть претензии к Ирану – пожалуйста, кладите их на стол, но и Иран положит свои какие-то претензии к своим соседям и западным странам. Это будет по-честному. Инклюзивность здесь ключевое слово. Надеюсь, что эта антииранская инерция, прослеживающаяся на первых шагах, уступит место здравому смыслу, и что идеи типа создания «ближневосточного НАТО», «азиатского НАТО» уйдут в прошлое. Нам хватит НАТО и там, где она есть. По мере того, как идея «Ближневосточного НАТО» отходит в небытие, идея «Азиатского НАТО» наоборот начинает обретать какое-то движение через Индо-Тихоокеанские стратегии. Здесь разница в мировоззрениях и в политике, наблюдаемой между администрацией Д.Трампа и администрацией Дж.Байдена. Хотя Д.Трамп тоже уделял внимание Индо-Тихоокеанской стратегии, но сейчас акцент явно больше на продвижение блоковых подходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке, надеюсь, сможем запустить процесс, который будет вовлекать всех участников. Можно только приветствовать нормализацию отношений между рядом арабских стран и Израилем. Считаем, что договариваться и дружить или, по крайней мере, нормально соседствовать – всегда лучше, чем сваливаться в конфронтацию и конфликтовать. Надеемся, что это не будет делаться в ущерб палестинской проблеме, по которой тоже сейчас есть обнадеживающий сигнал из Вашингтона. Если предыдущая администрация хотела все делать сама, не испытывала никакого интереса к возобновлению деятельности «квартета» международных посредников, то администрация Дж.Байдена, формируя сейчас свою ближневосточную команду, уже обозначила свою позицию в поддержку двухгосударственного решения (это уже важная констатация), заявила о готовности возобновить свое участие в работе «квартета». Мы сейчас выстраиваем такие контакты. Надеюсь, что здесь тоже будет позитив.
Был также вопрос по Сирии. Мы не рассматриваем резолюцию СБ ООН 2254, как требующую проводить любые выборы после того, как будет одобрена новая конституция.
Конституционный комитет заседает. Когда Г.Педерсен был назначен на эту должность после своего предшественника, то он в контактах с Россией четко обозначал понимание, что Конституционный комитет не может иметь каких-то искусственных сроков завершения работы.
Вчера Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель, выступая на конференции по сирийским беженцам, сказал, что только сами сирийцы могут договориться между собой. Правильно, но нынешний процесс, который позволяет сирийцам напрямую договариваться, был запущен по инициативе России, Турции и Ирана. «Астанинский формат» сыграл решающую роль. Напомню, что до того, как этот формат был создан, ситуация на переговорах под эгидой ООН была тупиковой. Целый год бывший спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии С.де Мистура то ссылался на Рамадан, то на еще какие-то причины, – просто не созывал эти переговорные группы и раунды. Тогда уже «Астанинская тройка», сформировавшись, выступила с инициативой проведения Конгресса сирийского народа в Сочи. На этом Конгрессе были приняты документы, которые были затем были положены в основу всей работы ООН.
Давайте посмотрим, как Запад комментирует Правительство Б.Асада. Если кто-то и говорит, что готов с ним сотрудничать, то выдвигает множество условий, которые практически невыполнимы. За большинством подходов прослеживается необходимость смены режима. На Западе в открытую говорят, что Б.Асад не имеет будущего в Сирии, а также тормозили создание Конституционного комитета.
Когда С.де Мистура согласовал наконец с оппозицией 150 фамилий: 50 от Правительства, 50 от оппозиции и 50 от гражданского общества (это был по-моему конец 2018 г.), он сообщил трем министрам иностранных дел «Астанинской тройки», которым принадлежит инициатива Конституционного комитета, что приглашает нас в Женеву. Там мы вместе с ним должны были торжественно объявить о создании Конституционного комитета. Пока мы летели в Женеву, ему позвонили из Нью-Йорка и сказали, что западные страны запрещают С.де Мистуре оглашать состав комитета, потому что там присутствуют 6 фамилий, которые у Запада вызывают озабоченность, хотя у оппозиции они озабоченности не вызвали. Представители Франции, Великобритании и Германии при ООН даже написали письмо Генеральному секретарю ООН А.Гуттерешу, в котором потребовали от него не утверждать состав, согласованный С.де Мистурой.
Из-за этого мы потеряли год в начале работы Конституционного комитета. Поэтому если у Запада есть претензии к тому, что Конституционный комитет медленно работает, то пусть, наверное, сделают выводы из своего поведения и впредь ведут себя более конструктивно. Я не вижу трагедии в том, что Конституционный комитет не очень споро функционирует. Мы говорили недавно со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном. Говорили и с Правительством Б.Асада, и с оппозиционными партнерами. Мы стимулируем их движение навстречу друг другу.
Очередная встреча, которая, мы надеемся, может состоятся до начала священного месяца Рамадан, должна стать качественно новой, поскольку впервые есть договоренность о том, что главы проправительственной и оппозиционной делегаций будут встречаться напрямую друг с другом. Г.Педерсен активно приветствовал эту договоренность, которую мы помогли согласовать. Я очень надеюсь, что она будет реализована.
Ежедневно Сирия подвергается нападкам и новым санкциям. «Акт Цезаря» был открыто провозглашен, как преследующий цель задушить сирийскую экономику и заставить народ восстать против своего Правительства. Выглядит циничным то, как Запад просит нас сделать поведение делегации из Дамаска более конструктивным. Это «потребительское» отношение к политике проявляется почти по любому региональному и функциональному кризису, который мы наблюдаем в международных отношениях: «Вот вы, давайте, сделайте, а мы будем давать оценку, хорошо вы поработали или не очень».
Если мы все заинтересованы в том, чтобы сами сирийцы договорились о своем будущем, то надо сирийцам дать такую возможность и время. Слишком глубокие «рвы» оказались на территории Сирии в переносном политическом смысле и надо их преодолевать, помогать сирийцам дружить, начать разговаривать и договариваться о том, как им жить в одном государстве.
Какие главные проблемы на этом пути? Незаконная оккупация Соединенными Штатами восточного берега Евфрата, создание зоны Ат-Танф. Причем если в отношении доставок гуманитарной помощи в идлибскую зону деэскалации Запад до истерики требует сохранения трансграничных механизмов, исключающих даже какое-либо участие или информирование Правительства, иначе мол задохнется Идлиб, то в отношении Ат-Танф на границе с Ираком западники требуют, чтобы гуманитарная помощь шла из Дамаска. Мы говорим: «Если вы там незаконно находитесь, напрямую из Ирака снабжаете своих военных, которые эту зону оккупируют, так снабжайте и беженцев, которые сейчас живут там в этих лагерях». Так что здесь двойных стандартов очень много.
Присутствие США, которое они сейчас продекларировали, будет продлено на веки вечные, по крайней мере никакого срока вывода войск не обозначено, – это тоже не новость. Американцы – хозяева своего слова – слово дали, слово взяли. Сначала заявили о выводе войск из Афганистана, а потом поменяли свое решение. И в Сирии они хотят оставаться. Они эксплуатируют углеводороды, продают зерно, которое там производится, и оплачивают за этот счет, за деньги сирийского народа сепаратистские действия некоторых курдских организаций, блокируют диалог между курдами и Дамаском, делают все, чтобы он не состоялся, и одновременно заявляют, что на неподконтрольных Правительству Б.Асада территориях Сирийской Арабской Республики опять возрождается ИГИЛ. Это такое «королевство кривых зеркал».
Не забудем, что ИГИЛ был создан Соединенными Штатами, когда они совершили агрессию против Ирака и натворили там таких дел, что до сих пор огромное количество стран и народов «расхлебывает» последствия. ИГИЛ был создан после того, как разогнали партию «Баас», разогнали все силовые структуры, когда П.Бремер руководил Ираком как генерал-губернатор, и никто особо ему никаких указаний не давал. А впоследствии ИГИЛ активно использовался и продолжает использоваться Соединенными Штатами, чтобы препятствовать процессам, которые будут вести к урегулированию в Сирии с полноправным участием нынешней власти.
Смена режима никуда не исчезла в качестве задачи, которую там преследуют. Поэтому, исходя из таких подходов, очень трудно ожидать, что Правительство САР будет бежать с распростертыми объятиями на каждое приглашение приехать в Женеву. То, что вчера и позавчера происходило на брюссельской онлайн-конференции по беженцам в Сирии, – это очень серьезная проблема в т.ч. для ООН. Когда в ноябре сирийское Правительство пригласило к себе на конференцию, которая нацелена на создание условий для возвращения беженцев к своим очагам, зарубежных партнеров, включая ООН, американцы сделали все, чтобы максимально ограничить количество стран, которые примут приглашение. Тем не менее нашлись государства, в т.ч. ОАЭ, Алжир, которые направили свои делегации. Вот ярчайший пример приватизации международных организаций – при помощи давления США заставили ООН ограничить свое участие в конференции по возвращению беженцев в Сирию статусом наблюдателя. То есть не было полноправного участия.
А сейчас Евросоюз проводил свою конференцию, причем совместно с ООН (А.Гуттереш лично выступал с обозначением подходов). Он сказал правильные вещи, только мне не очень понятно почему конференция, которая посвящена возвращению беженцев в Сирию, не была удостоена никаким представителем от ООН кроме наблюдателя.
Брюссельская конференция в свою очередь была посвящена мобилизации средств прежде всего для того, чтобы содержать беженцев в лагерях в Турции, в Иордании, в Ливане, а также для того, чтобы помогать людям на территориях, не контролируемых Правительством Сирийской Арабской Республики. То есть эта конференция изначально созывалась с грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права, которые предполагают решение всех подобных вопросов непосредственно в контакте с правительством соответствующего государства. Вот это двойной стандарт. И когда вы сравните, как Запад отнесся к конференции по возвращению беженцев в Сирию, и как он проводит свою собственную конференцию, даже не приглашая официальный Дамаск, поставьте себя на место Президента Сирии Б.Асада и его Правительства.
Вопрос: Приближается знаковая дата для региона Ближнего Востока – 30 лет Мадридской конференции, которая положила начало ближневосточному мирному процессу, но вслед за Мадридом была Московская встреча, которую сейчас многие вспоминают в связи с тем, что там были образованы полезные для региона рабочие группы по безопасности, экономическому развитию, водным ресурсам. Сейчас эта тематика очень актуальна. Водные проблемы обостряются. Насколько реалистично было бы сейчас положительно отвечать на инициативы о воссоздании подобного рода рабочих групп по водным ресурсам. Можно ли на это рассчитывать или пока рановато?
С.В.Лавров: Недавно я читал статью в газете «Коммерсант» с цитированием Ваших предложений. Считаю, что это было очень важно на том этапе, когда была достигнута договоренность о создании рабочих групп. Не исключаю, что это пригодится и сейчас, хотя время прошло и всегда нужно соотносить прежние идеи с современной обстановкой.
Водная проблема никуда не исчезнет. Понятно, что, когда будут нормализовываться отношения между Израилем и Палестиной, – это тоже будет предметом обсуждения, как беженцы и другие вопросы окончательного статуса. Мы за прямые переговоры. Как я уже упоминал, мы готовы предоставить свою площадку. Тем более что об этом нас несколько лет назад просил Премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху – пригласить его и Президента Палестины М.Аббаса встретиться в Москве без предварительных условий. Мы согласовали такую встречу. Потом, к сожалению, израильские коллеги попросили отложить ее, потом еще раз перенести. Мы не хотим быть навязчивыми, но мы предупредили, что наша готовность сохраняется в силе, и, когда израильская сторона будет готова, за нами дело не станет. Я уже сказал, что сейчас обнадеживающий момент – это возобновление деятельности «квартета» международных посредников.
Убеждены, что вполне реалистично и даже необходимо сделать так, чтобы эта деятельность развивалась параллельно с вовлечением в процесс арабских государств. Неформально обсуждается механизм «4+4+2+1», где 4 – это международный квартет, 4 арабских государства, которые нормализовали отношения с Израилем (Египет, Иордания, Эмираты, Бахрейн), 2 – это стороны (Израиль и Палестина), и «плюс один» – это Саудовская Аравия как автор Арабской мирной инициативы, одобренной Советом Безопасности ООН. Нам кажется, что в этой конфигурации провести неформальные консультации было бы полезным. И если мы выйдем на какие-то договоренности, которые впитают в себя опыт Московской конференции, опыт этих рабочих групп, будем только рады.
Вопрос (перевод с английского): Я представитель швейцарского Центра международного диалога. Каждый день, который проходит без возвращения к СВПД, усложняет ситуацию. Возможно ли еще возродить СВПД сегодня или мы можем говорить о полном окончании этого всеобъемлющего соглашения?
С.В.Лавров: Коротко суммирую. Есть несколько проблем. Во-первых, кто сделает первый шаг по возвращению к выполнению обязательств? Иран требует, чтобы американцы полностью отказались от санкций, и тогда Тегеран за несколько дней восстановит все параметры, которые от него требует соблюдать изначальная редакция СВПД. Американцы говорят, что необходимо сначала вернуться в СВПД полностью, а потом они «подумают, какие санкции ослабить и что еще сделать». Вторая проблема – это «СВПД плюс». Мол, надо не просто возродить СВПД, а сделать это таким образом, чтобы изменить (в сторону увеличения, естественно) сроки ограничений, которые на Иран накладываются, добавить также ракетную программу и т.н. «поведение Ирана в регионе». Я считаю, что это тупиковая позиция. Мы выступаем за то, чтобы СВПД была восстановлена, как она была одобрена Советом Безопасности, без каких-либо модификаций, и чтобы параллельно с этим начинался процесс переговоров о системе безопасности и сотрудничества в регионе залива и вокруг него. И в ходе этого разговора и ракеты можно обсуждать. Причем не только иранские, а в целом ракетную проблему. И то, как страны региона позиционируют себя в различных кризисных ситуациях, – здесь тоже взаимные претензии существуют, а не односторонние. Мне кажется, это честное предложение. Дополнительно я знаю, там наши французские коллеги посредничают. Что касается восстановления СВПД в изначальном, первородном виде, важно, кто сделает первый шаг. Мы предложили неформальную «дорожную карту», где последовательно, одновременно и Иран, и Соединенные Штаты будут шаг за шагом возвращаться к выполнению своих обязательств. Французские коллеги помогают сформулировать содержание этих шагов, особенно первого шага, который должен запустить процесс восстановления СВПД в полном объеме. Я в детали вдаваться не буду. Здесь никаких секретов нет. Переговорная работа сейчас идет и лучше на публику конкретику не выносить.
Вопрос: Спасибо большое за Ваши разъяснения, за Ваше внимание к нашим проблемам. К проблемам Ближнего Востока в целом, и, в частности, к проблемам Палестины. Мы в Палестине высоко ценим те усилия, которые прилагает Российская Федерация на пути активизации деятельности квартета. И в этом контексте надо сказать, что этот формат при Д.Трампе затормозился. Начал продвигаться другой формат, а именно «сделка века». И я думаю, что деятельность квартета во многом способствовала срыву американского плана. И в связи с этим мы хотели бы обсудить вопрос об аннексии Израилем оккупированных палестинских территорий. После выборов в США возник новый международный «климат». Новая американская Администрация послала нам некоторые сигналы, достаточно очевидные, о том, она отказывается от прежней стратегии Д.Трампа. Они нам дали понять, что Администрация согласна с планом создания двух государств и будет работать на проблему мира. Они выступают за переговоры, за воссоздание американского консульства в Иерусалиме, а также палестинского представительства в Вашингтоне и восстановление также американской помощи Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). И вопросы, дескать, имеют технический характер, но возникли некоторые проблемы. И был еще акт Тейлора Форса, и в американском Сенате также возникли некоторые проблемы в связи с объявлением террористической деятельности нашей организации. И мы согласны с Вами, что, безусловно, необходимо расширить квартет, но Вы знаете, что и американцы, и европейцы выступают против такого расширения. Они предлагают расширить формат консультаций «4+4+2+1». Для нас как для палестинцев важно расширить такой формат. Он прекращает американскую монополию на то, чтобы служить единственным гарантом этих соглашений. Мы как палестинцы не вернемся к двусторонним прямым переговорам под единственно американским представительством. Для нас этот вопрос даже не стоит на повестке. То есть именно в этом формате. И мы рассчитываем, что вы совершите качественный сдвиг с тем, чтобы квартет возобновил свою деятельность и чтобы, может быть, в рамках этого квартета обсуждался палестинский вопрос.
С.В.Лавров: Я это уже комментировал достаточно подробно. Скажу Вам только, что «4+4+2+1» – это наша идея. Это российская идея. Она не отвергается Западом, ООН, Евросоюзом, палестинцами. Мы сейчас ее обсуждаем. Сначала мы ждали результатов выборов в Израиле. Вот теперь дождались и отключаем «режим ожидания». Считаю, что можно было бы и на этом этапе уже какие-то контакты налаживать, но понимаю тех, кто говорит, что сейчас в Израиле, пока не разрешится внутренняя ситуация, очень трудно надеяться на то, что они смогут какую-то позицию занять, даже если такой контакт состоится. «Сделка века» действительно ушла в прошлое. С ней ушло в прошлое и запланированное действо по аннексии очень существенной части палестинских территорий. Опасность реализации сценария «сделки века» понимают и в Израиле. В том числе и в партиях, которые представлены в коалиции. Два сценария для Израиля, если бы это произошло: либо нужно предоставлять гражданство всем, кто будет жить на аннексированных территориях, и тогда еврейский характер государства Израиля в очень обозримом будущем просто испарится, либо нужно создавать альтернативу этому – создание государства-апартеида. К этому, я уверен, в Израиле не готовы, будучи все-таки цивилизованной нацией и видя перед собой примеры подобного рода из нашей прошлой истории. Особо нечего добавить. Мы будем эти усилия продолжать. Те шаги, которые Вашингтон в администрации Дж.Байдена проанонсировали, мы приветствуем: и по возвращению палестинского представительства в Вашингтоне, и по возвращению ближневосточного агентства по делам беженцев. Согласен с Вами, надо продолжать работать в этом направлении.
Вопрос: Сергей Викторович, какая наша генеральная линия по Афганистану и принципиальные подходы по разрешению афганского кризиса?
С.В.Лавров: Генеральная линия не «закрытая». Мы ее продвигаем публично. Это, конечно же, межафганский процесс с участием всех соседей Афганистана и других ключевых стран региона. То, что мы называем «Московским форматом». В нем участвуют не только непосредственные соседи, но и вся Центральная Азия, Китай, Пакистан, Индия, Иран, Россия, США. Эта конфигурация, на наш взгляд, достаточно представительна, чтобы любые вопросы в этом формате обсуждать и стараться найти решение, а с другой стороны, достаточно компактна по сравнению с конференциями, которые собирают 30-40 стран, многие из которых просто рассматриваются как потенциальные доноры будущего финансирования договоренностей о примирении. И в качестве инструмента продвижения этого «Московского формата» сформировалась «тройка». Это не отдельный формат, а – вспомогательный инструмент «Московского формата» – тройка «Россия-США-Китай», в рамках которой достаточно конструктивно, несмотря на серьезные проблемы в отношениях между всеми тремя участниками, налажен деловой процесс.
Несколько раз представители встречались втроем. Затем договорились продвигать расширенные консультации «тройка плюс»: пригласили Пакистан и Иран. Пакистанцы участвовали, а иранцы сказали, что готовы, но, учитывая их проблемы с американцами, им будет на данном этапе «не с руки» садиться за стол и решать какие-то вопросы. Мы их тоже понимаем.
18 марта с.г. провели в Москве встречу «тройки плюс» с участием Пакистана, а также в качестве гостей пригласили Иорданию и Катар. Самое главное, что на этой встрече участвовали представители практически всех слоев афганского общества: делегация талибов, Правительство, Высший совет национального примирения (возглавляемый Абдуллой Абдуллой) и представители т.н. этнических меньшинств (таджики, хазарейцы, узбеки). Была очень полезная встреча. Если переговоры в Дохе отвечают интересам сторон, будем их активно поддерживать. Во время проведения заседания в Москве, переговоры в Дохе «буксовали». По итогам московских консультаций афганцы выразили нам признательность, т.к. контакты между афганскими сторонами, состоявшиеся «на полях» этого большого мероприятия, по их оценке, позволяют с большим оптимизмом смотреть в будущее.
30 марта с.г. в Душанбе состоялась министерская конференция «Стамбульского процесса» по Афганистану. Сейчас анализируем ее итоги. Там уже прозвучали интересные заявления Президента А.Гани. Если я правильно понял изложение его слов в СМИ, то он готов на организацию выборов и, если дело «упрется» в его персону, готов «отойти в сторону». Мы все это читаем, но важно проанализировать первоисточник и понять, что за этим стоит. Нам нужен мир в Афганистане. Будем готовы продолжать помогать Кабулу в создании и укреплении сил безопасности. Это явно слабый момент во всем происходящем, т.к. они не в состоянии справиться с антитеррористическими задачами без посторонней помощи, и тем более с антинаркотическими целями. Наркотики там расцветают буйным цветом, а наркобизнес – главный источник финансирования терроризма. Хотим, чтобы ситуация была преодолена. Сделать это можно только через межафганские договоренности.
В феврале 2020 г. приветствовали достигнутое соглашение между Вашингтоном и талибами. Как нам казалось, оно, во-первых, открывало путь к прекращению кровопролития, братоубийства, т.к. борьбу с ИГИЛ никто не отменит. Эта группировка там окапывается достаточно серьезно, в том числе по соседству в Центральной Азии. Во-вторых, рассчитывали, что соглашение позволит начать переговорный процесс и сформировать общеафганские структуры власти. Все это было завязано на вывод американских войск к 1 мая 2021 г. Теперь в Вашингтоне идет процесс переосмысления этого обязательства, и, судя по тому, как комментируют этот процесс в США, американцы и кто-то из их натовских союзников задержатся. Это будет новая ситуация. Талибы уже пообещали отреагировать соответствующим образом, если обязательства Вашингтона будут пересмотрены в одностороннем порядке. К сожалению, усилий много, форматов немало, вроде бы понятно, что делать, но каждый раз возникает какая-то ситуация, которая проделанные усилия либо подрывает, либо серьезно тормозит.
Вопрос: На Ближнем Востоке осталось два неупомянутых конфликтных узла – Ливия и Йемен. По Ливии вроде наметились «радужные» перспективы (во всяком случае, возможности), в появлении которых значительную роль сыграла Россия, это все отмечают. По Йемену ситуация более грустная, хотя и здесь есть некоторые моменты, которые позволяют предположить оптимистичные сценарии. В частности то, что ОАЭ вышли из военных действий и декларируют приверженность мирным инициативам. Саудовская Аравия предлагает инициативы, например, о размораживании поставок топлива. Какие изменения может претерпеть российская позиция по этим темам?
С.В.Лавров: По Йемену очень тесно работаем в формате, который создан с участием России, Запада и других игроков. Он функционирует в саудовской столице. Посол России в Йемене уже несколько лет находится в Эр-Рияде – с момента, когда разразился кризис, мы перевели туда Посольство. Он регулярно общается с другими внешними игроками, которые помогают ООН в поисках путей урегулирования. Надеюсь, что последние изменения позволят более продуктивно работать на этом направлении. Инициативу Саудовской Аравии обсуждали во время моего визита в Эр-Рияд и Абу-Даби. Как сказал Наследный принц Абу-Даби М. бен Заид Аль Нахайян, ОАЭ сейчас выходят на траекторию, когда они не хотят иметь ни одного врага, ни вокруг страны, ни в целом. Приветствуем такой подход.
Саудовская инициатива была прохладно встречена хуситами. Вслед за ней была еще попытка спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Йемену М.Гриффитса. Он постарался «вобрать» в свои идеи саудовские подходы и одновременно учесть пожелания хуситов. Одна из составляющих его инициатив, которые вроде бы разделяются и в Саудовской Аравии, – это одновременное открытие аэропорта в Сане и порта в Ходейде. Считаю, что здесь есть над чем поработать. Мы в контакте со всеми сторонами и стараемся побуждать их к договоренностям.
Что касается Ливии, то после Берлинской конференции начались процессы, которые сейчас вылились в договоренности. Их все приветствовали, несмотря на то, что есть подводные камни. Многие до сих пор высказывают опасения, что они были достигнуты в формате 75 делегатов в Женеве, сформированных и.о. спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии С.Уильямс. Еще на том этапе в Ливии не очень понимали критерии, по которым выбираются эти 75 человек. Еще больше удивления вызвало объявление конкретных фамилий в состав Президентского совета и на пост главы Правительства. Никто не ожидал таких результатов выборов. Может, это и хорошо, сюрприз для всех. Я общался с председателем Президентского совета М.Менси, главой Правительства А.Дбейбой. Посмотрел на их послужной список – они достаточно опытные люди. Исходим из того, что есть договоренность, достигнутая параллельно с назначением этих временно исполняющих обязанности, о проведении выборов 24 декабря 2021 г. Не знаю, насколько реализуемы такие конкретные даты в ливийских условиях. Несколько лет назад уже назначали выборы тоже на точную дату – не получилось. Будем делать все, чтобы это сработало. Считаем, выборы должны быть организованы таким образом, чтобы это устраивало все ливийские политические силы и «тяжеловесов» (Ф.Сарадж, Х.Хафтар, Х.Гвейл и других коллег, не раз приезжавших в Москву). Обязательно необходимо учесть интересы руководства Ливийской национальной армии и представителей режима М.Каддафи. Это сейчас все осознают. Такая инклюзивность помогла бы как можно скорее выйти на устойчивый процесс урегулирования. Будем всячески способствовать этому.
К нам обращаются с претензиями, что мы должны что-то сделать в Ливии или что-то не делаем. Готовы конструктивно сотрудничать, но все время просим не забывать о том, откуда этот кризис возник и как он состоялся в конечном итоге, – агрессия НАТО в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Потоки беженцев, хлынувшие сейчас в Европу, – это прямой результат того, что было сделано. Равно как и потоки оружия и террористов, которые через Ливию уже в южном направлении пошли в Сахара-Сахельскую зону, где продолжают «безобразничать».
Решая сиюминутные проблемы, важно делать выводы на будущее. Ирак развалили, сейчас с огромным трудом пытаются собрать. В Ливии то же самое. Пытались сделать это в Сирии. При всей важности призывов, звучащих в наш адрес, по принципу «кто старое помянет, тому глаз вон», надо старое «поминать» не для того, чтобы делать кому-то морально больно, а для того, чтобы не было страданий, влекущих за собой сотни тысяч человеческих жертв в будущем.
Нас приглашают обсуждать проблему ливийских беженцев (или из других стран, потоки которых спровоцированы ливийской агрессией) и раньше предлагали подписаться под документом, где звучало обязательство «разделенной ответственности» за решение проблем беженцев. Мы извинились и сказали, что эту проблему не создавали и вину за произошедшее разделять не собираемся.
На международных площадках в ходе этих дискуссий возникала тема, как ЕС мог бы решать проблему беженцев, незаконных мигрантов таким образом, чтобы бороться не с симптомами, а с сутью проблемы. Прозвучал один вопрос: почему бы ЕС не обнулить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Африки. Оказывается, она существует, если я правильно понимаю. Но учитывая сельскохозяйственную политику самого ЕС, им не нужна конкуренция на рынках продовольствия, там и так переизбыток. Это сложная тема. Если бы пошлины уже были сняты, это позволило придать существенный импульс развитию сельскохозяйственного и продовольственного сектора, в том числе экспорта в африканские страны, создало бы дополнительные рабочие места. Это один пример. Очень много случаев, когда международное сообщество озабочено симптомами, а не самой болезнью и не сутью проблемы.
Вопрос: Команда Байдена-Блинкена кажется по некоторым принципам более профессиональной на ближневосточном направлении. Есть признаки реалистичной политики. Вы подробно говорили о палестинском треке. Можно ли ожидать каких-то подвижек в сторону большего реализма, например, в отношении сирийских курдов со стороны этой команды?
С.В.Лавров: Это комплексная проблема. Она имеет не только сирийское, но и региональное измерение. Полтора года назад был в Эрбиле. Иракские курды, клан Барзани высказывали озабоченности тем, как может развиваться курдская ситуация в соседней Сирии, и хотели передавать опыт сосуществования, сожительства в рамках одного государства при наличии каких-то полномочий, которые будут между культурной и национальной автономией. Это сложная тема. Она очень болезненная, в том числе, потому что внутри сирийских курдов нет единства. Там есть структуры, не скрывающие сотрудничество с Рабочей партией Курдистана. Есть структуры, которые американцы пытаются примирить с различными «своими» движениями. Турция жестко воспринимает все происходящее. Насколько я понимаю, они ведут диалог с американцами, чтобы найти компромиссы. Американцы пытаются их убедить не записывать всех в террористов. Но для нас принципиально важно (это неоднократно звучало в документах, подписанных Президентом России В.В.Путиным и Президентом Турции Р.Эрдоганом), что мы твердо вместе с Турцией выступаем за единство, территориальную целостность САР.
Недавно проводили встречу дополнительной «тройки» – Россия, Турция, Катар в Дохе. Там приняли министерское заявление, где это четко зафиксировано. Также зафиксирована неприемлемость каких-либо поползновений по поощрению сепаратизма в Сирии. Диалог между Правительством и курдами складывается непросто. Он не имеет устойчивого характера. Контакты осуществляются.
Когда Д.Трамп объявил о выходе из Сирии, у курдов тут же возникла просьба к нам постараться помочь им навести мосты с Дамаском. Через два дня Д.Трамп передумал или кто-то объявил о том, что он передумал. И курды сразу охладели к контактам с Дамаском и вновь стали взаимодействовать с американцами как главными «гарантами» их благополучия.
Мы в контакте с различными сирийскими группами. Недавно принимали в Москве Сопредседателя Исполнительного совета «Совета демократической Сирии» госпожу И.Ахмед. У нас есть контакты с главнокомандующим Силами демократической Сирии Мазлумом Абди. Готовы помогать. Но насильно мил не будешь, если у них самих пока колебания полагаться ли на нахождение долгосрочных и устойчивых договоренностей с Дамаском либо понадеяться, что американцы (раз они решили там задержаться) каким-то образом помогут. Американцы тем временем запрещают всем поставлять какие-либо экономические товары и даже гуманитарную помощь на территории, контролируемые Правительством. Они активно обустраивают восточный берег Евфрата, где они находятся. Создают там местные органы власти, используют средства, вырученные на продажу награбленного в виде углеводородов, зерна и т.д. Еще настаивают на том, чтобы арабские соседи Сирии вкладывались в эти территории. Конечно, когда такая линия открыто реализуется, возникают серьезные вопросы. Если стратегия заключается в создании здесь если не рая на земле, но вполне благополучной жизни, а на остальных территориях, контролируемых Правительством, добиться того, чтобы народ обнищал и сверг ненавистный режим, то, наверное, можем делать выводы о том, какие цели преследовали США, по крайней мере, до сих пор.
Сейчас не видно больших изменений, но исхожу из того, что их политика только формируется. Говорил со многими коллегами об «Акте Цезаря». Мало кто соглашается с тем, что это был правильный шаг. По сути, он вообще запрещает иметь какие-либо дела с Дамаском и сформулирован таким образом, что любой твой шаг, даже сделанный из лучших побуждений с прицелом на посредничество, может послужить введению против тебя вторичных санкций. Надеюсь, что сигналы, которые посылаются в Вашингтон (а я знаю, что такие сигналы идут из некоторых государств, непосредственно заинтересованных в стабилизации в Сирии), будут услышаны и возымеют эффект.
Вопрос: В Сирии сейчас, по сути, складывается «замороженный» конфликт. Как Вы считаете, чем опасно сохранение статус-кво?
С.В.Лавров: Это чревато распадом страны, что будет трагично, в том числе (но не только) по причине курдского фактора, который сразу примет региональное измерение. Последствия непредсказуемые. Мы стараемся этого всячески избежать. Согласен с Вами, что он выглядит как «замороженный» конфликт.
Вопрос: Один из предыдущих вопросов касался диалога между Ираном и арабскими странами региона Персидского залива. Есть российский план, есть китайский. Иран говорит о готовности к этому диалогу. Что ему препятствует?
С.В.Лавров: Я все это перечислял. Есть еще французское предложение о патрулировании Ормузского пролива.
Никто не говорит «нет». Но внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива до конца нет единого мнения о готовности к такому диалогу с Ираном. Это принципиальный момент. Все остальное – конфигурации, внешние игроки – решится быстро. Думаю, это будет гораздо проще, чем обеспечить согласие всей заливной арабской «шестерки» на прямой диалог с Ираном, надеемся, без предварительных условий. Движение есть. Обсуждал это в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах и Катаре. Мне показалось, что в том числе и в Эр-Рияде размышляют над тем, как начать двигаться в этом направлении. Не могу гадать, но я это почувствовал.
Вопрос: Как Вы видите развитие российско-турецких отношений в свете трений в области Идлиба? Какие там могут быть решения? Насколько постоянные и временные?
С.В.Лавров: Российско-турецкие отношения насыщенные и богатые как по контактам на высшем уровне, так и по содержательной повестке дня. У нас много совместных проектов. Президент России В.В.Путин не раз комментировал наши отношения, всегда подчеркивая, что у нас немало вопросов, по которым мы не занимаем единых позиций, а порой они даже серьезно разнятся. Но мы ценим наши отношения, потому что с турецкими коллегами всегда можем найти решение, устраивающее и нас, и их. Это характерно для встреч президентов. Могу это подтвердить, если говорить о встречах на уровне министров иностранных дел.
В Идлибе у нас есть согласованный пару лет назад президентами протокол. Он выполняется медленнее, чем договаривались, но турецкая сторона подтверждает все свои обязательства по нему, включая размежевание вооруженных оппозиционеров, которые сотрудничают с Турцией, от «Хейят Тахрир Аш-Шам» и прочих террористов, которые продолжают обстреливать из идлибской зоны позиции сирийской армии и пытаются атаковать нашу базу в Хмеймиме.
Из тех, вещей, которые были сделаны, – сняты турецкие наблюдательные посты с территорией, откуда ушли оппозиционеры. Это предусматривалось протоколом. Сейчас ведется работа над тем, чтобы полностью реализовать договоренность по дороге М-4, согласно которой обеспечивается зона безопасности по 6 км на север и на юг, где не должно быть никаких оппозиционных вооруженных групп и т.д., и будет осуществляться совместное патрулирование российско-турецким конвоем этой дороги на регулярной основе. Здесь был прогресс. Потом процесс замедлился. Сейчас выправляем ситуацию. Это будет реализовано. Но в конечном итоге главное – размежевать, чтобы террористы остались без прикрытия живыми щитами и были ликвидированы. Другого мнения быть не может.
Хотя есть тревожная вещь. Это началось еще при Администрации Д.Трампа, когда спецпредставитель США по Сирии Дж.Джеффри открыто, публично рассуждал о том, что «Хейят Тахрир Аш-Шам» не такая плохая организация. Это в период, когда она была официально внесена в террористические списки СБ ООН. Он пытался «продать» эту идею команде спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсена. Это тревожная вещь, подтверждающая то, о чем мы говорили несколько минут назад: когда американцы сокрушаются о том, что на подконтрольных Правительству территориях возрождается ИГИЛ, это не просто так.
Говоря о наших отношениях с Турцией, они непростые, трудные. Но всегда лучше договариваться с человеком, влияющим на конкретную ситуацию и имеющим отличные от твоих взгляды. У западных коллег есть термин «миропорядок, основанный на правилах». Он отражает четкую тенденцию, когда в универсальных форматах Западу приходится продвигать свои подходы, порой сталкиваясь с оппозицией со стороны России, Китая, других стран. Им удобнее вынести такого рода сложные дискуссии в свой круг единомышленников и там о чем-то договориться, а потом выдавать эти договоренности за решение мирового сообщества и требовать от всех их выполнения. Мы уже обсуждали французские инициативы создать партнерство против безнаказанности в сфере химического оружия, хотя есть ОЗХО. Зачем такое партнерство? А инициативы по свободе информации, хотя в ЮНЕСКО есть соответствующие структуры. Есть инициативы в защиту прав человека, а параллельно ЕС создает санкционные односторонние механизмы. Значит партнерство, созданное за рамками ООН, обвиняет кого-то в нарушении правил, созданных этим партнерством. А ЕС потом тоже за рамками СБ ООН объявляет виновных под санкциями. Такой междусобойчик. Важно, чтобы подобного рода подходы не проявлялись ни в какой ситуации. Заходы насчет того, что с террористами можно где-то договариваться, очень тревожат. Будем ждать, когда в Вашингтоне сформируется «сирийская команда». У нас помимо механизма деконфликтинга по линии военных были дипломатические контакты. Мы от них не уходим.

ПАЛЕСТИНА И АРАБСКИЙ МИР: ОТНОШЕНИЯ ПО ИНЕРЦИИ?
ДЕНИС МИРГОРОД
Кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики ИМО Пятигорского Государственного Университета.
Проблема Палестины для арабских государств, очевидно, перешла в фоновый режим, что подтверждается и процессом нормализации арабо-израильских отношений, и арабской реакцией на так называемую «сделку века». Таким образом, решение о проведении выборов может быть попыткой руководства ФАТХ и ХАМАС вернуть внимание к палестинской проблеме.
В глобальной политике многое зависит от стереотипов, автоматически приписываемых действиям различных стран на международной арене. Современные арабские государства продолжают ассоциироваться с палестинским вопросом, прочно сросшимся со всей ближневосточной повесткой. Вместе с тем очевидно, что палестинская проблематика, с учётом постоянно множащихся региональных вызовов и угроз, давно покинула список приоритетных направлений внешней политики большинства стран региона Ближнего Востока и Северной Африки. Запущенный в конце прошлого года процесс нормализации арабо-израильских отношений лишь подтверждает это и ставит вопрос о том, что же такое нынешняя Палестина для руководства арабских государств?
Последний шанс?
15 января 2021 г. в Палестинской национальной администрации (ПНА) произошло нерядовое для этого территориального образования событие – председатель ПНА и лидер Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Махмуд Аббас назначил даты проведения законодательных и президентских выборов – 22 мая и 31 июля соответственно. Избранные депутаты также составят часть Национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа.
Особенность предстоящих выборов заключается в том, что они будут первыми с 2006 г., когда победа сторонников Исламского движения сопротивления (ХАМАС) привела к размежеванию и появлению де-факто двух Палестин в секторе Газа под контролем ХАМАС и на Западном берегу во главе с ФАТХ. Последняя при поддержке возглавляемой Махмудом Аббасом Организации освобождения Палестины (ООП) добилась пролонгации президентского мандата и полномочий депутатов заксобрания до новых выборов, проведение которых постоянно откладывалось.
Созданное в 2014 г. Правительство национального согласия под руководством Рами Хамдаллы должно было реанимировать общепалестинский политический процесс и подготовить новые выборы. Смена главы и членов правительства национального согласия на кабинет Мухаммеда Штайе, ближайшего соратника Аббаса, вызвала ожидаемые протесты со стороны ХАМАС и привела к новому кризису в деле консолидации палестинского народа.
Новости о грядущих выборах в ПНА, которые всё ещё могут и не состояться, стали в определённой степени неожиданными. Вместе с тем в них может прослеживаться объединённая реакция расколотого палестинского руководства на нормализацию арабо-израильских отношений. А именно на то, что произошло на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел арабских стран в сентябре 2020 г.: арабские страны не смогли принять резолюцию с осуждением Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) за нормализацию отношений с Израилем. Выдвинутый Палестиной проект не получил одобрения большинства членов ЛАГ, что привело даже к требованию некоторых официальных палестинских лиц к выходу из этой организации. Всё это, безусловно, указывает на беспрецедентную ситуацию и ухудшение отношений с большинством арабских государств. Отказ от принятия резолюции можно рассматривать как очевидный сигнал руководству Палестины о том, что в текущем состоянии политической раздробленности арабский мир не готов выступать единым фронтом в её интересах.
Таким образом, решение о проведении выборов может быть попыткой руководства ФАТХ и ХАМАС вернуть внимание к палестинской проблеме и заверить арабское сообщество в готовности принести в жертву собственные политические амбиции в угоду возвращения к общей цели – созданию независимого государства. Для этого, в свою очередь, требуется реконструкция статусов, известных под арабскими терминами «истиклялийату-ль-карар» (независимость решения) и «вахданийа ат-тамсилийа» (единство представительности). Указанные статусы, обретённые Палестиной после краха панарабистских идей по военному уничтожению Израиля, означали переход от тотального внешнего арабского регулирования, включая взаимодействие с ведущими глобальными акторами, к значительному росту самостоятельности палестинского руководства на основе общенационального единства и внутриполитической консолидации.
В этом контексте главный вопрос заключается в следующем: имеет ли смысл такой ход ПНА для сохранения отношений с арабскими государствами на основе «общего видения» палестино-израильского конфликта?
Арабский дискурс в отношении Палестины
Охлаждение интереса властей ряда арабских государств к палестинскому вопросу имеет множество объяснений: от многочисленных коррупционных скандалов, связанных с нецелевым использованием иностранной финансовой помощи палестинским руководством, до обвинения с его стороны арабов в «предательстве дела освобождения Палестины». К этим причинам также следует добавить и целую группу факторов геополитического характера, связанных с дестабилизацией обстановки в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене. Особую роль в переформатировании палестинской повестки во внешней политике арабских государств играет Иран, ставший главным региональным изгоем, против которого стали дружить бывшие «заклятые» враги.
В сложившихся условиях проблема Палестины для арабских государств, очевидно, перешла в фоновый режим, что подтверждается и уже упомянутым процессом нормализации арабо-израильских отношений, и арабской реакцией на так называемую «сделку века». Именно этот план США по ближневосточному урегулированию от 2020 г. наиболее чётко продемонстрировал текущее отношение руководства арабских государств к палестинской тематике.
Реакцию арабов на «сделку» условно можно разделить на три группы: консервативных сторонников, противников и воздержавшихся. Египет, Саудовская Аравия, Эмираты, Бахрейн, Оман, Катар и Марокко входят в число стран, которые поддерживают этот план, хоть и с некоторыми оговорками. Алжир, Иордания, Ирак, Сирия и Ливан входят в число несогласных. При этом Алжир продолжает опираться на принципы арабского национализма; Иордания в своём ответе ограничена тем, что палестинцы составляют большинство в этой арабской стране после отмены британского мандата в Трансиордании и палестино-израильского конфликта; Ирак и Ливан военно-политически, конфессионально и экономически тесно связаны с Ираном, который не поддерживает инициативу; сирийское же руководство всё ещё не рассматривается всеми арабскими странами, как легитимное и имеющее «право голоса». Наконец, третья группа – государства, которые предпочли отмолчаться, состоит из североафриканских государств, за исключением обозначивших свою позицию Марокко и Алжира.
Подобная разобщённость в рядах арабских государств отражает нынешний политический климат на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также основательную политическую раздробленность арабских стран из-за непрекращающихся региональных кризисов и неопределённости глобальных процессов. За десятилетие после начала череды политических потрясений в 2011 г. регион стал свидетелем гражданских войн, внутренних конфликтов и международного вмешательства. Следовательно, поддержка арабами дела палестинцев утратила свою динамику, и этот вопрос больше не находится в центре внимания большинства арабских лидеров, которые в настоящее время обременены бесконечными местными вызовами. Указанные обстоятельства во многом способствовали нынешним разногласиям в арабском дискурсе относительно палестинского вопроса.
«Сделка века» и процесс нормализации арабо-израильских отношений стали переломными в контексте палестинского вопроса ещё и потому, что о нём стали смелее высказываться официальные представители части арабских государств. Например, нынешний министр иностранных дел Египта Самех Шукри в заявлении для прессы, комментируя очередной план Вашингтона по ближневосточному урегулированию, призвал израильтян и палестинцев внимательно изучить американское видение и достичь всеобъемлющего и справедливого мира между двумя странами, ведущего к установлению независимого палестинского государства. В таком же духе с официальным заявлением выступил и МИД Саудовской Аравии, указав на необходимость скорейшего преодоления существующих между сторонами разногласий. Посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба, присутствовавший на оглашении параметров плана в Белом доме, заявил о необходимости внимательного изучения полученных предложений.
Категорическое неприятие палестинцами мирных инициатив, их обвинения в «предательстве» в адрес части арабских государств, которые выразили сдержанную поддержку новому этапу ближневосточного урегулирования, спровоцировали и более решительные комментарии со стороны некоторых официальных лиц. Так, один из принцев и бывший глава Службы общей разведки Саудовской Аравии Бандар Ас-Сауд выступил с резкой критикой ПНА, указав на недопустимость подобной риторики, учитывая многолетнюю помощь Палестине со стороны арабских государств.
В целом призывы арабских государств следует трактовать как желание скорейшего урегулирования застарелой проблемы, мешающей реализации их стратегического видения регионального политического развития, которое сосредоточено вокруг необходимости изоляции нового общего врага – Ирана, а также решения более актуальных вызовов и угроз.
Палестина: оставить нельзя отказаться
Однако преждевременно говорить о том, что палестинская повестка исчерпана для арабских государств.
Во-первых, учитывая текущую обстановку на Ближнем Востоке и Северной Африке и множество межгосударственных противоречий, арабские лидеры не могут отказаться от уже выработанных консолидирующих принципов, одним из которых является именно палестинская проблематика. В частности, различные арабские государства в регионе периодически возвращаются к необходимости придерживаться, хоть и с оглядкой на текущие реалии, положений арабской мирной инициативы, подписанной в 2002 году. Более того, деятельность ЛАГ во многом ассоциируется с реализацией общеарабской линии в ближневосточном урегулировании, в основе которого и лежит указанный документ. Полный отказ от одного из базовых механизмов кооперации, помимо сугубо имиджевых издержек, приведёт и к болезненному поиску новых, пусть и в определённой степени номинальных, точек арабского соприкосновения.
Во-вторых, невозможно спрогнозировать продолжительность потепления в арабо-израильских отношениях, в случае обострения которых Палестина продолжит играть свою роль постоянного источника напряжённости для Израиля. Исходя из этого, а также с учётом крайне сдержанной и взвешенной позиции всех глав арабских государств в отношении палестинского вопроса, очевидно, что его держат в уме на случай очередной смены военно-политического расклада в регионе.
В-третьих, перед частью арабских стран стоит необходимость сдерживать Иран, который уже активно использует в своих целях ХАМАС и, вероятнее всего, значительно усилит своё влияние ПНА в случае резкого ухудшения арабо-палестинского диалога. Помимо этого, принимая во внимание ревизионистские настроения турецкого руководства, палестинская тематика может стать одним из инструментов Анкары по реализации своих внешнеполитических амбиций в регионе, о чём свидетельствует эпизодические антиизраильские выпады Реджепа Эрдогана. В свете этого лидеры арабских государств должны учитывать и турецкий фактор при выработке решений относительно Палестины.
Таким образом, отношения Палестины с большинством арабских государств с высокой долей вероятности будут иметь инерционный характер и осуществляться на основании устаревших сюжетов панарабизма, а также выступать в качестве элемента взаимодействия между основными ближневосточными центрами силы. Определяющим фактором будущей палестинской повестки, помимо всего прочего, станет Иран и продолжительность его статуса главного регионального «изгоя».
* * *
Текущее состояние палестинского вопроса позволяет говорить о том, что Ближний Восток в очередной раз оказался на пороге важных структурных сдвигов в принципах взаимодействия. Формирование внутриарабских коалиций, политика Ирана и турецкий экспансионизм сохраняют высокий статус Палестины в ближневосточных делах. Вместе с тем сдержанное одобрение «сделки века» и нормализации арабо-израильских отношений являются чётким сигналом части арабских государств того, что Палестина в её нынешнем виде уже не является для них высшим внешнеполитическим приоритетом. В первую очередь, это связано с продолжающимся внутриполитическим кризисом в этой стране и постоянным апеллированием её руководства к анахроничным нарративам арабской солидарности. Таким образом, в ближайшей перспективе ПНА может стать разменной монетой в отношениях между ближневосточными государствами, которые адаптируют своё видение регионального развития с учётом новых реалий.

ВОЙНА НОВОЙ ЭПОХИ
АНДРЕЙ ФРОЛОВ
Кандидат исторических наук, эксперт Российского совета по международным делам.
АНАСТАСИЯ ТЫНЯНКИНА
Лаборант творческой лаборатории «Школа молодого журналиста» ИГСУ РАНХиГС.
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА В КАРАБАХЕ ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА
Осенняя война 2020 г. в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, известная также как операция азербайджанской армии «Железный кулак», стала одним из самых драматических событий и без того весьма непростого года. Информация, появившаяся с момента подписания перемирия, позволяет сделать некоторые выводы о конфликте в целом. В данной работе авторы анализируют особенности карабахской войны[1].
Не то, чего ждали
Конфликт отличала беспрецедентная для нынешних времён скоротечность. Азербайджанской армии хватило 44 дней (если считать датой официального окончания войны 9 ноября 2020 г.), чтобы практически полностью разрушить военную инфраструктуру армян в Нагорном Карабахе и поставить имеющиеся там силы на грань полного поражения. Это тем более удивительно, что речь шла о столкновении сопоставимых по уровню держав, причём Армения готовилась к войне на протяжении последних 25 лет.
Конфликт оказался очень кровопролитным – потери сторон сравнимы с потерями в ходе горячей фазы конфликта в Донбассе, которая длилась почти год (по опубликованным на текущий момент данным, потери украинской армии составили 2576 единиц бронетехники, из которых 391 утрачена безвозвратно)[2]. Известные потери сторон карабахского конфликта приведены в таблице 2.
Особым можно назвать и то обстоятельство, что стороны вели боевые действия без прямого вовлечения третьей стороны (несмотря на бытующее мнение об участии в конфликте турецких военнослужащих, прямых доказательств этого к февралю 2021 г. не появилось). Безусловно, на стороне Азербайджана и Армении в той или иной форме выступали союзники. Но если российские действия ограничивались экстренными поставками вооружения, то турецкие военные были задействованы «гибридно» – из штабов и со своей территории, хотя этот вопрос остаётся одним из самых дискуссионных. В то же время обе стороны активно использовали иностранцев напрямую – в случае с азербайджанской армией это были протурецкие боевики из Ливии и Сирии, за армянскую армию воевали этнические армяне – жители других стран. Их участие было не столь велико, тем не менее война в Карабахе продолжила традицию последних лет, когда на полях сражений наблюдается активное присутствие иностранцев (частные военные компании, наёмники, добровольцы и так далее). Отметим, что сирийских боевиков для войны в Карабахе вербовала турецкая спецслужба МИТ, которая по той же схеме отправляла личный состав из Сирии в Ливию[3].
Отличительной чертой конфликта стала также его полная внезапность. Очевидно, что его развития именно в такой форме никто не ожидал. Это вдвойне любопытно, так как имел место «фальстарт» 12 июля 2020 г., когда на границе Армении и Азербайджана в районе Тавуш погибли 11 военнослужащих азербайджанской армии (включая генерал-майора Полада Гашимова) и четверо армянских военных[4]. Но это не привело ни к каким далеко идущим последствиям. К подобному за 25 лет в приграничье все привыкли.
Исходя из масштабности азербайджанской операции можно предположить, что её разработка началась не позднее 2019 года. Видимо, к весне подготовка завершилась, после чего Баку ждал подходящего момента. Были введены беспрецедентные меры стратегической маскировки планов, дезинформации и жесточайшей цензуры любой информации из приграничных районов, апофеозом чего стали совместные азербайджанско-турецкие учения в июле-августе. Они позволили безболезненно провести перегруппировку войск, «спрятать» отдельные части и сформировать ударные группировки в приграничном предполье. На руку азербайджанской стороне сыграли и вышеупомянутые события в июле, которые, хотя и закончились потерями в офицерском составе, позволили на время отвлечь внимание от основного плана. Скорее всего, последние приготовления шли буквально накануне начала операции, что позволило минимизировать возможные утечки, а также сохранить в тайне истинные замыслы.
Армения не имела и не имеет средств космической и авиационной разведки для отслеживания таких приготовлений. Вероятность передачи подобных сведений Россией существует, но она невысока. Агентурные же возможности армян по понятным причинам оценить нереально. Азербайджанским военным задачу по поддержанию контрразведывательного режима упростила эпидемия коронавируса, из-за которой ещё с весны в стране была ограничена мобильность населения. Это сокращало риск нежелательной встречи с колоннами военной техники на марше.
Война показала важность долгосрочного планирования и создания запасов материально-технических средств и вооружения, так как расход боеприпасов обеими сторонами был очень велик.
Нельзя не признать стратегическое значение формально гражданской азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way Airlines[5], тяжёлые транспортные самолёты которой, Boeing 747 и Ил-76ТД/МД, осуществляли перевозки из Израиля, Турции и Грузии с первого до последнего дня конфликта. Возможности Армении в сфере воздушного транспорта оставались намного более ограниченными, однако и там основная нагрузка легла на формально гражданские борты чартерных компаний (например, Atlantis European Airways и Klas Jet)[6]. Можно предположить, что они перевозили в основном относительно негабаритный груз (за исключением Ил-76) и боеприпасы. Общее число вылетов в интересах министерства обороны Азербайджана можно оценить не менее чем в 100–150, армянской стороны – вряд ли более 50.
Беспилотная победа
Одной из самых обсуждаемых особенностей конфликта стало применение Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов. Действительно, Баку удалось установить в Нагорном Карабахе беспилотный разведывательно-ударный контур, который позволял осуществлять непрерывное наблюдение, разведку и сбор информации, а также огневое воздействие на противника[7]. На территории бывшего СССР такое произошло впервые, да и в мире подобного рода прецеденты носят единичный характер. Это тоже результат долгосрочной подготовки азербайджанского руководства, которое активно развивало беспилотную авиацию на протяжении последних десяти лет. Основным партнёром в этом вопросе был Израиль, который не только предоставил БЛА различных типов и лицензию на их производство (барражирующий боеприпас Orbiter-1K/ «Зербе-1К», разведывательные БЛА Aerostar, Orbiter-2M и Orbiter-3), но и помог создать электронную карту Нагорного Карабаха силами компании Elta Systems[8].
Таблица 1. Закупки Азербайджаном БЛА в Израиле (без учёта лицензионного производства)
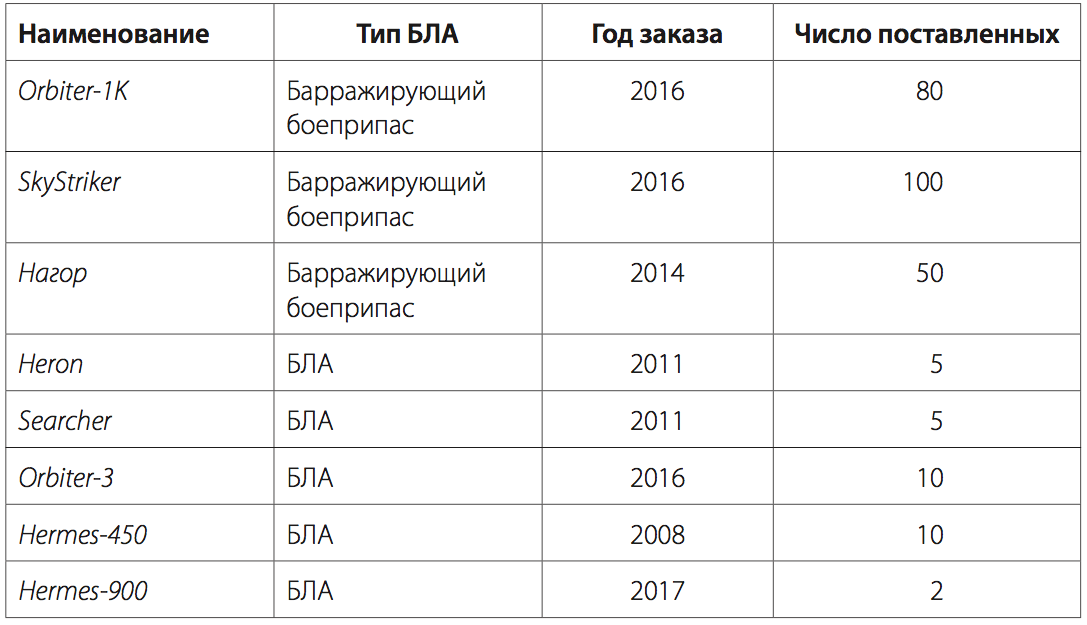
Источник: Boquet J. La doctrine antidrones des armees francaises // Air&Cosmos, №2718, P. 24 (дата обращения 08.02.2021).
Но если сотрудничество с Израилем особенно не скрывалось, то применение в ходе конфликта турецких БЛА Bayraktar TB2 стало сенсацией и вызвало многочисленные спекулятивные разговоры о том, что в действительности ими управляли турецкие военнослужащие[9]. Мы же не исключаем, что контракт с Турцией мог быть подписан намного раньше июня 2020 г. (когда, как считается, начались переговоры по нему), соответственно, азербайджанские специалисты проходили подготовку в Турции без особой огласки. Сами же операторы и беспилотники перебросили в Азербайджан перед самым началом войны, чтобы сохранить сам факт этой сделки в секрете и не привлечь внимание армянской стороны к возросшим возможностям Баку в области беспилотной авиации. Общее число полученных из Турции БЛА вряд ли превышало десять единиц.
Опыт применения БЛА в Карабахе назвали чуть ли не революцией в военном деле. Действительно, Азербайджан активно применял ударно-разведывательные БЛА и барражирующие боеприпасы турецкого и израильского производства, которые уничтожили значительную часть армянской тяжёлой техники (в том числе почти 90 процентов танков)[10]. Это напоминает ситуацию с потерей бронетехники сирийской армией после начала турецкого наступления в Идлибе в феврале 2020 г., в ходе которой почти 100 процентов сирийских самоходных артиллерийских установок были уничтожены беспилотниками[11].
Но не стоит преувеличивать этот, безусловно, впечатляющий успех. Современным средствам поражения противостояли устаревшие ЗРК советского производства, которые создавались для уничтожения совсем других целей, не говоря уже о том, что довольно много ЗРК «Оса-АК» были закуплены в Иордании, причём неизвестно в каком состоянии. Кроме того, у армянской стороны в Карабахе практически отсутствовали современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Не осуществлялась комплексная борьба с местами базирования БЛА и наземными центрами управления, что также сказалось на эффективности азербайджанского воздушного наступления.
Применение военной хитрости в виде беспилотных самолётов Ан-2 в качестве ложных целей лишь усугубило ситуацию, вскрыв армянскую систему ПВО и ускорив уничтожение выявленных средств ПВО за счёт массированного удара беспилотников. У армян отсутствовала современная эшелонированная система ПВО, они не применяли пилотируемую авиацию, не атаковали пункты управления и аэродромы базирования азербайджанских аппаратов. При таких условиях уничтожение средств ПВО было вопросом времени.
Также заслуживающим внимания фактом является ограниченное использование пилотируемой авиации для поражения наземных целей. Армянская сторона достоверно потеряла штурмовик Су-25 без воздействия противника и вертолёт Ми-8. Азербайджан также потерял вертолёт Ми-8 и штурмовик Су-25, который был сбит армянскими ПВО (удивительное совпадение!)[12]. После войны появлялись сообщения о том, что пилотируемые летательные аппараты ВВС Азербайджана во время операции «Железный кулак» совершили более 600 боевых вылетов, но до сих пор неясно, как они распределялись[13].
Действия БЛА невозможно отделить и от активного использования подразделений специального назначения, а также ракетно-артиллерийских частей. БЛА выступали как целеуказатели и разведчики, обеспечивая командование азербайджанской армии информацией в режиме реального времени. Армяне стали применять свои БЛА для разведки только на заключительном этапе конфликта, но, вероятно, они уступали БЛА противника по автономности и, возможно, по характеристикам оптико-электронных обзорных систем.
Благодаря этой информации действия диверсионно-разведывательных групп были чрезвычайно эффективными. Предположительно именно на них пришлась большая часть успешных засад и операций оперативно-тактического уровня. Например, считается, что Шуша была взята так быстро и практически без потерь по причине того, что азербайджанские спецназовцы смогли преодолеть горы и выйти к самому городу, не прорываясь через линию укреплений. Соответственно, на счету их армянских визави ряд успешных засад и захватов позиций азербайджанцев, а также целеуказание для собственной артиллерии, которая оказалась единственным средством, способным эффективно тормозить наступление азербайджанской армии.
Необычной сферой применения БЛА стало поле информационной войны.
Большинство заявок на победу азербайджанской стороны иллюстрировались именно кадрами с БЛА, как бы подтверждающими достоверность событий. Армянская сторона в подавляющем большинстве случаев довольствовалась снимками с мобильного телефона на очень большом удалении, что не позволяло не только делать выводы о поражении цели, но даже точно её идентифицировать.
Новые задачи военного планирования
Война в очередной раз показала важность полноценных инженерных укреплений и маскировки в условиях всё более широкого применения БЛА и, как в рассматриваемом конфликте, господства в воздухе одной из сторон. Видимо, в XXI веке слабейшая сторона может уповать на сеть подземных укрытий и капониров для танков и артиллерии, способных минимизировать потери от лёгких беспилотников, боеприпасы которых не обладают необходимой мощью. Это требует весьма существенных затрат материальных, людских и временных ресурсов, но, как показывает опыт иррегулярных формирований на Ближнем Востоке и в Афганистане, не является неразрешимой задачей. В то же время развитые укрепления армян на севере, опиравшиеся на инфраструктуру ещё советской армии, не позволили азербайджанцам продвинуться на этом направлении. Впрочем, никакого штурма и прорыва этих укреплений и не было.
Неожиданностью стала относительная неэффективность оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов. Несмотря на довольно массированные по меркам такого скоротечного и ограниченного конфликта пуски, ракетчики так и не смогли решить ни оперативные задачи, ни задачи устрашения мирного населения. Случаи удачного поражения военных целей имели место, но принципиально ситуацию они не изменили, к тому же эти манёвры оттягивали на себя значительное число подготовленного персонала, ресурсов, материальной части и так далее. Как минимум одна пусковая установка с невыпущенной ракетой комплекса Р-17 «Эльбрус» армян была поражена с беспилотника, что выглядит как символ перехода роли оперативно-тактических комплексов к БЛА.
Определённые выводы можно сделать и относительно развития военной техники. В очередной раз встал вопрос относительно дешёвого ЗРК с дешёвым и многочисленным боекомплектом, для которых первоочередной целью является «рой» БЛА. Боекомплект такой системы должен иметь не менее тридцати ракет, ракетное оружие – дополняться парой зенитных орудий, необходим собственный комплекс РЭБ, а также возможность автономной работы в автоматическом режиме для снижения потерь. Важно, чтобы последний был модульным, способным монтироваться как на колесном, так и на гусеничном шасси.
Действенной мерой снижения потерь в личном составе стало бы оснащение всех автомобилей на линии фронта бронированными кабинами и кузовами, обеспечивающими защиту даже при прямом попадании. Оснащение этих автомобилей системой предупреждения о лазерном облучении и противодействия ему позволило бы существенно снизить эффективность авиационных средств поражения с лазерным наведением. То же касается танков и артиллерийских орудий.
Политические уроки
Ещё одна важная особенность конфликта лежит в политической области. Россия удачно выступила миротворцем, сумев остановить конфликт и развести стороны. В каком-то смысле она даже стала невольным участником конфликта, за несколько часов до официального перемирия потеряв боевой вертолёт Ми-24П, сопровождавший колонну на территории Армении на границе с Нахичеванской автономной областью. В итоге удалось усадить за стол переговоров Армению и Азербайджан, а также добиться взаимопонимания от Турции и Ирана. Текст перемирия явно готовился весьма продолжительное время, писали его президенты Армении, Азербайджана и России, а Владимир Путин единолично составлял текст своего заявления по итогам подписания перемирия[14]. Примеров такой персональной вовлечённости в процессы на территории бывшего СССР в новейшее время немного. Этот результат тем более впечатляющ, если сравнивать его с провалившимися попытками США и Франции остановить конфликт в октябре. Представляется, что достигнутые договорённости повлияют на снижение напряжённости между Москвой и Анкарой. Косвенно подтверждает нашу гипотезу характеристика президента Реджепа Тайипа Эрдогана, прозвучавшая во время пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2020 г.: «Это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет» [15].
Армения готовилась к войне, но войне совершенно иного типа. Своими действиями в политическом измерении она её даже приближала.
Несмотря на формальное разделение «Армии обороны Арцаха» и собственно армянской армии, сохранялась иллюзия, что это единый военный организм. Но карабахский фронт практически не ощутил помощи от Еревана, чьи усилия в последние годы были направлены на закупку современной военной техники. Всё ограничилось сербскими лёгкими вооружениями и боеприпасами, а также автомобильным транспортом, отдельными ЗРС и ПЗРК. В то время как с противоположной стороны можно было наблюдать целенаправленное и многолетнее военное строительство, подчинённое одной конкретной задаче и операции.
Таблица 2. Потери Армении и Азербайджана в технике за время конфликта в Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года
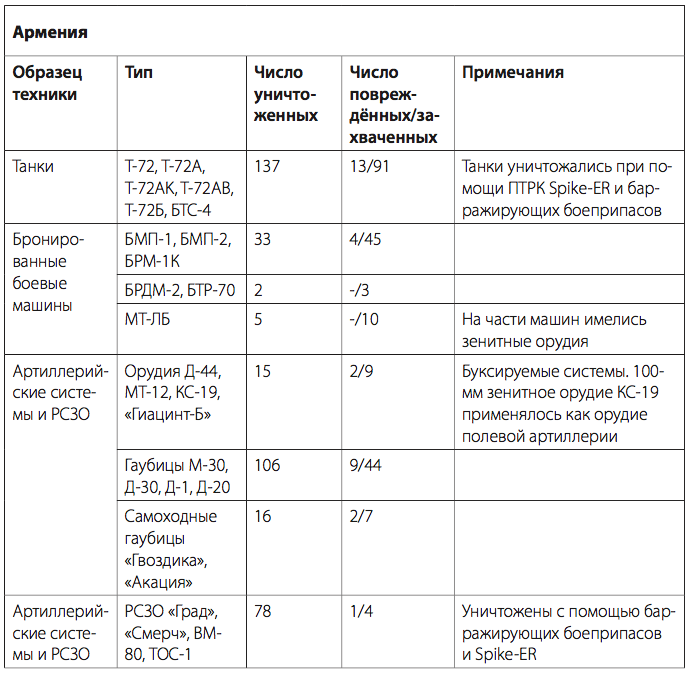

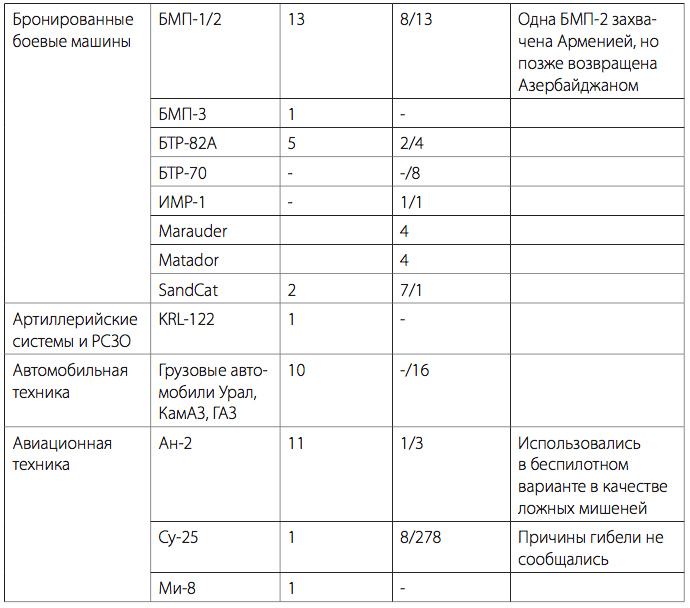
Источник: сайт Oryxs Blog. URL: https://www.oryxspioenkop.com/ Примечание: в потерях не учитывались миномёты, ПТРК, БЛА и барражирующие азербайджанской стороны из-за невозможности достоверно оценить причины их потерь.
Война в Карабахе стала первым за долгие годы конфликтом приблизительно равных противников. Она имеет ряд уникальных черт, которые заслуживают самого внимательного изучения и осмысления. Важно, что различные нововведения как в военной технике, так и в методах её использования, были применены комплексно, в одном месте и в одно время.
То есть имел место своеобразный «эффект айфона», когда компиляция отдельных, уже имеющихся наработок позволила создать новый продукт.
Нельзя исключать, что некоторые из описанных нами особенностей станут неотъемлемой частью конфликтов ближайших лет. И по многим причинам именно Россия должна быть наиболее заинтересована в максимально объективном анализе этой войны.
--
СНОСКИ
[1] Из имеющихся на данный момент публикаций на русском языке о боевых действиях в ходе карабахского конфликта наибольшей полнотой, на наш взгляд отличаются статьи Алексея Рамма в издании «Независимое военное обозрение». Аспект о действиях БЛА отражён в работе: Новичков Н., Федюшко Д. Боевое применение беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе. М.: ООО «Статус», 2021.
[2] Михайлова Д. Потери украинской бронетехники в ходе АТО в 2014-2016 гг. // Livejournal, 2020. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/4505379.html
[3] MIT installs its Syrian proxies in Nagorno Karabakh // Intelligence online, 2020.
[4] Атасунцев А., при участии Химшиашвили П. Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территории // РБК, 2020. URL: https://www.rbc.ru/politics/15/07/2020/5f0d9a2e9a794710bed2f0c9
[5] Парк компании состоит из одного Ил-76МД, семи Ил-76ТД, двух Ил-76ТД-90SW, пяти Boeing 747-400F, пяти Boeing 747-8F.
[6] Парк авиакомпании Atlantis European Airways состоит из трёх Airbus A320-200, одного Boeing 737-500 и одного Ил-76; Klas Jet – из семи Boeing 737-300/500.
[7] Новичков Н., Федюшко Д. Боевое применение беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе. М.: ООО «Статус», 2021. С. 78.
[8] Baku wins intelligence war thanks to Israeli contracts // Intelligence online, 16.12.2020.
[9] См., например: Кузьмин Ю. Турецкие БЛА и Карабахский конфликт // Авиация и Космонавтика, 2021, №1. С. 56.
[10] Для сравнения – в ходе боевых действий на востоке Украины 45 процентов бронетехники было уничтожено действиями артиллерии, еще 13 процентов – минами и фугасами. Правда, там почти не применялась авиация.
[11] Подсчитано на основе данных ресурса Lost Armour. URL: https://lostarmour.info/syria/
[12] Лямин Ю. Вторая Карабахская война // Экспорт вооружений, 2020, №5. С. 14.
[13] Полковник Нудиралиев направил падающий самолет на скопление армянских солдат // Haqqin.az, 2020. URl: https://haqqin.az/news/197133?fbclid=IwAR0d6psMoxzDAlawcyZis60nIOMacuEtFgygFKG5cfa9XXfu8k8sOhAcCSw
[14] Путин назвал авторов текста заявления по Карабаху // ТАСС, 22.11.2020.
[15] Цитата по: Замахина Т. Путин: Эрдоган держит слово, хвостом не виляет// Российская газета, 2020. URL: https://rg.ru/2020/12/17/putin-erdogan-derzhit-slovo-hvostom-ne-viliaet.html.

Александр Ефимов: санкции США против Сирии губительны
Активные боевые действия на территории Сирии практически закончились. Однако стратегия односторонних санкций со стороны США и их незаконное военное присутствие на северо-востоке страны стали новым и более губительным испытанием для экономики САР. Посол России в Дамаске Александр Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, почему важно продолжать оказывать материальную помощь Сирии, каковы реальные последствия западных санкций, и что можно ожидать от стратегии Вашингтона при новой администрации.
– Как вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию в Сирии на фоне ужесточения санкционной политики США? Не считаете ли преступлением санкции США против Сирии, в итоге которых страдает народ? Можно ли действовать в рамках международного закона и прав человека с целью их отмены?
– Социально-экономическая ситуация в Сирии сегодня крайне тяжелая. Пожалуй, самая тяжелая за все годы конфликта. Последствия войны с каждым годом ощущаются здесь все острее. Налицо общее истощение сирийского хозяйства. Видно, насколько устали и сами люди, на которых к тому же обрушилась еще и пандемия коронавируса – с известными ограничениями и дополнительными материальными убытками.
Но и это еще не все. В прошлом году страна столкнулась с обвалом национальной валюты – не менее чем в шесть раз по сравнению с 2019 годом или почти в 70 раз по сравнению с довоенным 2010 годом. Вкупе с дефицитом различных ресурсов и зависимостью переживающей войну Сирии от внешних поставок это привело к стремительному росту цен и беспрецедентному обнищанию населения. Основные продукты питания, некоторые виды горючего, например, за год подорожали в два и более раз. Восемь из десяти граждан САР оказались за чертой бедности.
При этом важно понимать, что сегодняшние социально-экономические проблемы сирийцев вызваны не одним лишь ущербом, который был нанесен национальному хозяйству в ходе конфликта, хотя и он огромен. Даже в период наиболее активных боевых действий, в том числе непосредственно в пригородах столицы, сирийцы не сталкивались со многими из тех трудностей, которые появились уже в относительно спокойное время.
Объяснение этому имеется. Неудавшиеся планы известных сторон по свержению законных властей САР военным путем были заменены на попытки экономического удушения страны с целью не допустить возвращения страны к мирной жизни, изолировав ее от внешнего мира и лишив необходимых ресурсов для восстановления и нормального функционирования.
Один из компонентов такого курса – это продолжающаяся иностранная оккупация отдельных районов САР, в результате которой сирийцы, в частности, не имеют доступа к собственным месторождениям нефти, газа, посевным площадям на северо-востоке. И если, например, до 2011 года пшеница и нефть были для Сирии экспортными товарами, то в настоящее время страна не способна покрыть даже собственные потребности в этих ресурсах. Нехватка топлива, электроэнергии и муки – это те реалии, в которых живут сегодня граждане САР.
Однако ключевой элемент давления на Сирию и сирийцев это, конечно, односторонние иностранные санкции, усугубляющие и без того тяжелую социально-экономическую и гуманитарную ситуацию. Именно из-за них САР не имеет возможности проводить валютные операции, необходимые для полноценной работы экономики, получать недостающее или вовсе отсутствующее здесь сырье, многие виды строительных материалов, запчастей, а также различные медикаменты и медицинское оборудование. В итоге даже товары первой необходимости поступают к сирийцам с перебоями, задержками и втридорога.
От действующих ограничений страдает система здравоохранения, транспортный сектор, энергетика, сельское хозяйство. Частично или полностью не функционируют многие промышленные предприятия, которые в нормальных условиях могли бы сегодня генерировать прибыль, подпитывать экономику и обеспечивать стабильную занятость и доходы для населения.
Принятый в США "Закон Цезаря" вывел западные рестрикции против Сирии на качественно новый уровень. Теперь под страхом потенциального преследования со стороны Вашингтона от взаимодействия с Сирией дистанцируются даже те экономические операторы, чья деятельность формально не подпадает под эмбарго. Это называется "сковывающим эффектом", из-за которого масштаб санкционного давления как на Дамаск, так и на его партнеров многократно увеличился.
Введенные против Сирии ограничения сказываются на работе здесь различных структур ООН и неправительственных организаций, непосредственно помогающих сирийцам. Причем предусмотренные для них так называемые гуманитарные изъятия из санкций на деле зачастую не работают, причем во многом именно по причине уже упомянутого "сковывающего эффекта" и в целом запутанного и многослойного характера самого санкционного режима.
Об этом говорят сами гуманитарщики, прямо указывающие на то, что односторонние антисирийские санкции являются ключевым барьером при оказании гумпомощи, например, при поставках медикаментов и многих других видах деятельности, а гумизъятия неэффективны и неадекватны.
Россия также неоднократно указывала на то, что санкции против Сирии носят незаконный и бесчеловечный характер. Мы последовательно выступаем за полное прекращение или хотя бы ослабление таких введенных в одностороннем порядке ограничительных мер. Особенно сейчас, когда они очевидно препятствуют усилиям государств, в частности Сирии, по эффективной борьбе с COVID-19. С аналогичных позиций высказывались и другие страны, а также ооновские представители. К сожалению, такие призывы пока остаются без ответа. Но в целом круг тех, кто действительно понимает губительный и контрпродуктивный характер санкционных репрессий, постоянно расширяется.
– Россия на международной конференции заявила о выделении Сирии одного миллиарда долларов кредита. В каком виде Дамаск получит эти средства? Когда планируется первый транш или поставка?
– Если вы имеете в виду Международную конференцию по содействию возвращению беженцев на территорию Сирии, которая состоялась в Дамаске в ноябре, то там шла речь не о кредите, а о той сумме – один миллиард долларов, которая уже была выделена Россией на оказание сирийцам в течение нескольких лет гуманитарного содействия и помощи, в том числе в восстановлении электросетей, промышленного производства и объектов религиозного культа.
Хотел бы подчеркнуть, что точно так же, как наша страна в свое время помогла Сирии выстоять в борьбе с вооруженными террористами, сегодня мы не оставляем сирийцев один на один и против стоящих перед ними вызовов, связанных с возвращением страны к мирной жизни.
Экономическое взаимодействие между Москвой и Дамаском выстраивается по различным направлениям, но именно с акцентом на решение задач по содействию сирийцам в преодолении наиболее острых хозяйственных проблем, обеспечении устойчивости сирийского государства в условиях жесточайшего политического и экономического прессинга извне. Сейчас на этот счет прорабатываются новые планы, которые будут более детально обсуждаться с сирийскими партнерами на предстоящем, ориентировочно в марте, очередном заседании постоянной Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Кстати, усилия по поддержке дружественной Сирии нами предпринимаются не только в двустороннем формате, но и по линии ООН. В настоящий момент на предоставленные Россией средства общим объемом порядка 40 миллионов долларов в Сирии реализуются гуманитарные проекты по линии ВПП, ПРООН, ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНМАС.
Конечно, решения по вопросам выделения средств для поддержки сирийцев принимаются очень непросто. Ведь наша страна сегодня и сама находится под воздействием санкций, переживает экономический спад в условиях пандемии – все эти моменты, разумеется, самым тщательным образом учитываются.
Вместе с тем мы исходим из того, что оказание многопланового материального содействия Сирии является вопросом стратегического характера и значения. Ведь речь, по сути, идет о возможности дополнительно подкрепить наши военные усилия по борьбе с терроризмом, придать необратимый характер процессу возвращения САР к мирной жизни и тем самым способствовать долгосрочной стабилизации этой географически близкой и значимой для России части арабского региона и Восточного Средиземноморья.
– Основная тема ноябрьской конференции была возвращение беженцев. Что уже сделано за два месяца? Определены ли новые механизмы для оживления процесса возвращения?
– Прежде всего хотел бы сказать, что сам факт проведения указанного мероприятия – это уже важнейшее достижение как для Сирии, так и России, которая принимала непосредственное участие в подготовке конференции. Несмотря на активное противодействие со стороны западных стран, на их попытки инициировать бойкот форума даже по ооновской линии, все поставленные цели конференции были достигнуты. А именно до широкой международной общественности была доведена объективная информация о реальной ситуации с сирийскими беженцами и о мерах по содействию их репатриации, а проживающим за рубежом сирийцам направлен четкий сигнал о том, что их ждут на родине. Напомню, что в мероприятии приняли участие делегации свыше 20 государств, а также представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Удалось, в частности, наглядно продемонстрировать, кто действительно выступает за скорейшее и достойное решение проблемы сирийских беженцев, а кто лишь использует их в своих политических играх для сведения счетов с законными властями САР.
Другой значимый результат – это налаживание координации соответствующих международных усилий и придание работе на данном направлении долгосрочного характера. В этой связи в ходе конференции нами была поддержана инициатива Ливана о проведении на его территории следующего подобного форума.
Что касается конкретных мер внутри Сирии, то они на самом деле последовательно реализуются здесь уже как минимум с 2018 года. Дамасская конференция в первую очередь позволила оценить проделанную работу и подтвердила, что в деле создания благоприятных условий для репатриации и реинтеграции беженцев властям САР при поддержке России удается поддерживать положительную динамику и в целом двигаться в правильном направлении.
Для скорейшей адаптации в обществе всех репатриантов сирийским правительством даже в нынешних непростых условиях предпринимаются усилия по обеспечению их безопасности, удовлетворению социальных потребностей, созданию рабочих мест. В том числе продолжается работа с гражданами по установлению их статуса, сохранению прав на недвижимое имущество, восстановлению необходимых документов, предоставлению отсрочки от службы в армии и оказанию содействия в установлении судеб лиц, пропавших без вести.
Исходим из того, что развитие целого ряда направлений российско-сирийского двустороннего сотрудничества также будет способствовать более активной репатриации сирийских граждан. К слову, в Дамаск на указанную конференцию из России прибыли представители 30 министерств и ведомств. По итогам их работы подписан ряд двусторонних документов, в том числе в сфере образования, здравоохранения, а также развития жилищного строительства, что особенно актуально в условиях дефицита жилья, уничтоженного в результате боевых действий. Ход реализации этих договоренностей будем оценивать в рамках уже упомянутого заседания постоянной Российско-сирийской комиссии.
Не исключаю, что проблеме возвращения сирийских беженцев будет уделено необходимое внимание и во время намеченной на 16-17 февраля в Сочи очередной Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.
– Ожидаются ли поставки русской вакцины от коронавируса в Сирию? Когда и в каких объемах?
– Разговор на данную тему ведется с сирийскими друзьями. Все пока в работе.
– Стоит ли ожидать снижения активности сил США в Сирии после прихода Байдена к власти?
– Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах. Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили.
В любом случае необходимо понимать, что присутствие США в САР, будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией, незаконно и должно быть прекращено. Американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, о чём я уже говорил, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке.
Американское присутствие затрудняет и решение правительством САР задач по обеспечению безопасности прежде всего в пустынных районах на востоке Сирии, где вновь произошла активизация боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Много вопросов в этой связи вызывает и опека США над бандформированиями, хозяйничающими в лагере ВПЛ "Рукбан" в Ат-Танфе, окончательное расселение и ликвидацию которого осуществить пока не удается.
Плачевная ситуация сохраняется в тюрьмах и лагерях ВПЛ, расположенных также под присмотром американцев в Заевфратье, в которых имеются серьезные гуманитарные проблемы, а также растет уровень насилия, чинимого бывшими игиловцами* и членами их семей.
Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается.
– На каком этапе сегодня решение вопроса с боевиками в Идлибе? Ведутся ли какие-то переговоры с Анкарой? Насколько Турция выполняет соглашения, достигнутые в марте прошлого года?
– Хотел бы напомнить, что достигнутые в марте 2020 года в Москве договоренности по Идлибу между президентом России Владимиром Путиным и его турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом стали важным достижением. Они позволили закрепить освобождение сирийской армией при поддержке российских ВКС значительной территории на северо-западе Сирии, обезопасить ее население и жителей соседних районов от действий террористических группировок, обосновавшихся в идлибском анклаве.
Американское присутствие затрудняет и решение правительством САР задач по обеспечению безопасности прежде всего в пустынных районах на востоке Сирии, где вновь произошла активизация боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Много вопросов в этой связи вызывает и опека США над бандформированиями, хозяйничающими в лагере ВПЛ "Рукбан" в Ат-Танфе, окончательное расселение и ликвидацию которого осуществить пока не удается.
Плачевная ситуация сохраняется в тюрьмах и лагерях ВПЛ, расположенных также под присмотром американцев в Заевфратье, в которых имеются серьезные гуманитарные проблемы, а также растет уровень насилия, чинимого бывшими игиловцами* и членами их семей.
Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается.
– На каком этапе сегодня решение вопроса с боевиками в Идлибе? Ведутся ли какие-то переговоры с Анкарой? Насколько Турция выполняет соглашения, достигнутые в марте прошлого года?
– Хотел бы напомнить, что достигнутые в марте 2020 года в Москве договоренности по Идлибу между президентом России Владимиром Путиным и его турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом стали важным достижением. Они позволили закрепить освобождение сирийской армией при поддержке российских ВКС значительной территории на северо-западе Сирии, обезопасить ее население и жителей соседних районов от действий террористических группировок, обосновавшихся в идлибском анклаве.
– На северо-востоке сохраняется напряженная обстановка. С одной стороны, Турция проявляет активность, с другой – курды. Обращалась ли курдская сторона к России с запросом посредничества для возобновления переговоров с Дамаском? Какова роль России в снижении напряженности в противостоянии между Турцией и курдскими вооруженными формированиями в Сирии?
– Россия внесла непосредственный вклад в успокоение ситуации на северо-востоке САР еще в октябре 2019 года. Заключенный тогда российско-турецкий меморандум позволил остановить опасную эскалацию, возникшую после начала Анкарой военной операции "Источник мира".
Сейчас его выполнение продолжается. На северо-востоке Сирии, в частности, проводится совместное российско-турецкое патрулирование на линии соприкосновения между протурецкими и курдскими формированиями с задачей не допустить возобновления в этой части страны масштабных боевых действий. В этих же целях в декабре в населенный пункт Айн-Исса прибыли дополнительные силы российской военной полиции.
В Москве по-прежнему внимательно отслеживают развитие ситуации в Заевфратье, в том числе в плотном контакте с турецкой стороной.
Россия исходит из того, что сирийские курды являются неотъемлемой частью народа САР, поэтому мы выступаем в поддержку диалога между курдами и Дамаском, в частности, по вопросам будущего обустройства их общей родины. Не секрет, что наша страна по различным каналам способствовала налаживанию и осуществлению контактов между сирийским правительством и курдской администрацией, и российские посреднические усилия ценятся обеими сторонами.
Уверен, что дела на данном направлении пойдут значительно лучше после ухода из Сирии всех незаконно находящихся здесь иностранных сил и восстановления Дамаском своего суверенитета на всей национальной территории.
*Террористическая организация, запрещенная в России

Путин предупреждает
впечатления от Давосского форума
Владимир Винников Валентин Катасонов Михаил Делягин
Общая ситуация
С 25 по 29 января 2021 года в режиме видеоконференции прошло заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), больше известного как Давосский форум, — первый онлайн-саммит в его полувековой истории. По сравнению с «юбилейным» Давосом-2020, это мероприятие, названное «Давосской неделей» или «Давосской повесткой дня-2021», обещало стать куда более резонансным и значимым вследствие целого комплекса экстраординарных причин: как общего, так и специфического (можно даже сказать — местного) порядка.
К причинам общего порядка следует отнести прежде всего феномен COVID-19, с 11 марта 2020 года официально признанный пандемией. Его результатом — вернее, результатом почти повсеместно принятых мер борьбы с этой коронавирусной инфекцией — стало чрезвычайно резкое и весьма неравномерное по странам торможение экономики из-за почти повсеместного локдауна, а также гигантская эмиссия ведущих мировых валют, прежде всего — американского доллара. Наиболее тяжёлыми последствия COVID-19 оказались для США, которые после массовых BLM-протестов и скандальных президентских выборов не только утратили статус «глобального лидера», но вообще оказались на грани раскола (если не гражданской войны) и утраты своей субъектности.
К причинам специфического (или местного) порядка следует отнести написанную главой ВЭФ Клаусом Швабом в соавторстве с французским экономистом и писателем Тьерри Маллере книгу «COVID-19: The Great Reset» (в общепринятом переводе: «COVID-19: Великая Перезагрузка»), презентация которой состоялась в мае 2020 года с личным участием официального наследника британской короны принца Уэльского Чарльза. Идеи «капитализма стейкхолдеров» (термин Клауса Шваба) или «ответственного капитализма» (термин принца Чарльза) в декабре 2020 года были мощно поддержаны «конкордатом» между папой римским Франциском и движением «За инклюзивный капитализм», куда его организатор леди Линн де Ротшильд привлекла ряд крупнейших транснациональных корпораций. Поэтому версия будущего, изложенная Швабом в развитие высказанного Генри Киссинджером тезиса «Мир никогда не будет прежним», по сути своей воспринимается не в качестве прогноза, а как план глобалистских элит по трансформации человечества, который, таким образом, предложено принять всем современным государствам и другим «центрам силы».
С этой точки зрения, Давос-2021 выступает площадкой для тестирования экономических и политических лидеров современности на их лояльность к данной версии «нового дивного мира», что, видимо, во многом обусловило абсолютно нестандартный график его работы. Помимо нынешней «Давосской недели», запланированы также Глобальный саммит ВЭФ по управлению технологиями в Токио 6-7 апреля и завершающая очная встреча избранных в Сингапуре 13-16 мая.
Пока же, по всей видимости, шёл отбор лояльных к «Великой перезагрузке» политических лидеров — точно так же в столице Японии через два месяца состоится перекличка лидеров корпоративных. Хотя многих из них, включая главу Сбера Германа Грефа, активно «окучивали» уже сейчас. Поскольку 46-й президент США Джо Байден и его вероятная сменщица на этом посту Камала Харрис, а также премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон с этой точки зрения никаких вопросов, судя по всему, не вызывают, как и глава правительства Канады Джастин Трюдо, на «Давосской неделе» они блистательно отсутствовали.
При этом стало окончательно ясно, что пресловутый COVID-19 действительно был своего рода «конфетным фантиком», в который с большим трудом удалось завёрнуть далеко не сладкое содержимое глобального системного кризиса. Собственно, такое «заворачивание» было одновременно и первым шагом антикризисной программы, предложенной всему миру управляющими центрами «вашингтонского консенсуса». К нему прилагался и целый набор «бонусов», благодаря чему данный шаг был сделан подавляющим большинством государств (исключая, кажется, только Швецию и Белоруссию). Но сам выход из кризиса не может быть обеспечен только таким «заворачиванием» — или, обращаясь к более содержательной аналогии, возведением коронавирусного «саркофага» над Чернобыльской АЭС современной цивилизации, где продолжают идти разрушительные ядерные реакции, вышедшие из-под контроля. А вот уже со следующим шагом возникли серьёзные проблемы.
Дело здесь в том, что у отмеченных выше глобалистских управляющих центров не осталось в руках ни соответствующей силы «кнута» — из-за новейших систем российского оружия, ни соответствующих размеров «пряника» — из-за того, что КНР стала крупнейшей производящей экономикой мира, а «горизонт событий» для фиатных валют почти наступил. Отношение общего денежного агрегата L (около 3 квадриллионов долларов) к глобальному валовому продукту GDP уже превысило отметку в 25 лет и стремительно приближается к 30. Поэтому даже направление следующего шага, не говоря уже о его размере, остаётся под вопросом.
В этом отношении «инклюзивный капитализм» от британских Ротшильдов и Ватикана — вовсе не идентичен «капитализму стейкхолдеров» («капитализму участия»), откуда и растёт «Большая Перезагрузка» (Great Reset) на основе «Четвёртой промышленной революции» от Клауса Шваба. Скорее, они представляют собой всё более остро конкурирующие концепции — точно так же, как с середины 80-х годов прошлого века конкурировали (и до сих пор конкурируют) вроде бы близкие между собой концепции мондиализма и глобализма.
Напомню, главная разница между ними заключалась в том, что мондиализм предполагал после устранения мировой системы социализма лишить США статуса мирового лидера с созданием сетевой структуры стран «коллективного Запада», а также отобрать у доллара США статус «мировой валюты номер один», с переходом к единой глобальной наднациональной валюте, наподобие евро для ЕС. И тогда следствиями этой конкуренции стало множество различных событий: от распада СССР до бомбардировок Югославии, «террористических атак» 11 сентября 2001 года и т. д. В итоге «мондиалисты» потерпели поражение от «глобалистов». Но сейчас — так сказать, в новых исторических условиях — берут реванш, что было бы невозможно без неожиданного (и насколько неожиданного с такой точки зрения? — авт.) усиления КНР и России.
Нечто подобное можно наблюдать и сегодня. Но пока конкурентные процессы находятся в зачаточном состоянии, не выходя за пределы «элитной матрицы», и развиваются в относительно мирном ключе (если не подшивать к делу случившейся 15 января в Швейцарии внезапной смерти от сердечного приступа 57-летнего барона Бенджамина де Ротшильда, главы семейного холдинга Edmond de Rothschild Group).
В данной связи следует отметить, что концепция «инклюзивного капитализма» предполагает сохранение и даже усиление доминирующей роли традиционных управляющих центров «коллективного Запада», чья деятельность, собственно, и привела к нынешнему кризису. Что, в свою очередь, вряд ли приемлемо не только для «развивающихся» стран за пределами «коллективного Запада» и «золотого миллиарда», но даже для таких безусловных государств «первого мира», как, например, ФРГ и Япония, считающих, что их поражение во Второй мировой войне сейчас является достоянием прошлого, а не действующим фактором настоящего или, тем более, будущего.
Поэтому Давос-2021 представлял собой не только сканирование баланса сил в этих проблемных пространствах, но и такое же сканирование оптимального для приятия «остальным миром» сценария постковидного неоглобализма.
Поэтому в ходе «Давосской недели-2021» лидеры международных структур, типа генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой или председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен явно уступили партию «первой скрипки» главам национальных государств. Их выступления — впрочем, как и речи председателя Европейского центробанка Кристин Лагард, генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, главы ФАО Цюй Дунъюя или генерального секретаря ОЭСР Хосе Анхеля Гурриа — носили откровенно дежурный характер и не раскрывали никакой принципиально новой значимой информации, не говоря уже про выбор пути дальнейшего развития.
Впрочем, практически то же самое можно сказать и о подавляющем большинстве обращений приглашенных на «Давосскую неделю» лидеров национальных государств: от президента Руанды Поля Кагаме и короля Иордании Абдаллы II до премьер-министра Индии Нарендры Моди, бундесканцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга. Коронавирус/локдаун, локдаун/коронавирус — и так по кругу, если не считать мелких вылазок в сферы гендерного равноправия, глобального потепления или зелёной энергетики. За двумя понятными исключениями, о которых — ниже.
И такой «сюрпляс» был вполне предсказуем: «высовываться», выделяться из общей массы в ситуации глобальной неопределённости, не имея у себя на руках хотя бы счётно не проигрышной комбинации «козырных карт», — это из категории недопустимого для политиков такого уровня рисков.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: а у кого на руках такие комбинации имеются? И ответ. Прежде всего, по-прежнему — у США («империя доллара» и контроль медиапространства плюс возможность эффективной проекции военной силы на бóльшую часть земного шара и весь Мировой океан). Но недавний «глобальный лидер» явно вступил в период собственной «перестройки» с избранием и вступлением в должность «зомби-президента» Джо Байдена, которого, если использовать «перестроечную» аналогию с американскими реалиями, можно сопоставить, скорее всего, с товарищем Черненко, пришедшим к власти после «Андропова»-MAGA-Трампа.
Очевидное ослабление США в иерархии «коллективного Запада» означает и ослабление последнего. Наоборот, позиции российско-китайского стратегического партнёрства при этом укрепляются, что в рамках «Давосской недели» было подчёркнуто речами председателя КНР Си Цзиньпина 25 января и президента РФ Владимира Путина 27 января.
О чём сказали Си и Путин
Если сравнивать тексты выступлений этих лидеров, невольно возникает мысль о том, что они носят взаимодополняющий характер, а следовательно, с высокой степенью вероятности, учитывая наличие прямого документооборота между Кремлём и Чжуннаньхаем, могли быть согласованы между собой ещё на стадии рабочей подготовки. И Владимир Путин, и Си Цзиньпин указывали на необходимость 1) мультилатерализма (китайский вариант)/многосторонности (российский вариант) как фундаментальной основы современных международных отношений; 2) преодоления разрыва между развитыми и развивающимися странами; 3) отказа от дискриминации и конфронтации, перехода к сотрудничеству для совместного преодоления глобальных вызовов, стоящих перед человечеством; 4) сохранения многоликости и разнообразия человеческой цивилизации, в рамках которой не может быть единого для всех «правильного» пути развития.
Весьма существенная разница заключалась в адресации этих выступлений. Си Цзиньпин предлагал «пряники» экономического и торгового партнёрства, подразумевая опыт «Одного пояса, одного пути», а также Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (ВРЭП), соглашение о котором было подписано КНР и ещё 15 странами Азиатско-Тихоокеанского региона («десятка» АТЭС плюс Япония, Индия, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия) в Ханое 15 ноября 2020 года.
Путин же предлагал «пряники» военно-политического партнёрства, прежде всего, континентальной Европе. Сделал он это, конечно, не напрямую, а цитируя слова бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, который, по словам российского президента, «говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе... Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции».
При этом путинские слова о том, что нынешняя «игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы» — не оговорка и не случайность. Президент РФ в своём выступлении не уточнял, с чьей конкретно стороны возможно нанесение такого «одностороннего», то есть уничтожающего и безответного удара, но все в мире знают, что сегодня таким потенциалом обладает единственный в мире «центр силы», и это — вовсе не США. Поэтому наши западные «партнёры» и оппоненты, которые сегодня всё активнее пытаются повторить в России сценарий уничтожения СССР, должны понять, что их «игры с огнём гибридной войны» (в том числе — беспрецедентная возгонка через соцсети массовых протестных акций с участием несовершеннолетних) могут обернуться против них самих.
Опять же, сразу после приведенных выше слов президент РФ «закрыл» их следующим пассажем: «Вот в чём опасность: применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это... не может нас не беспокоить».
В результате наши западные «партнёры» и оппоненты оказались перед весьма неприятной дилеммой, из которой вышли в привычном для себя стиле, назвав давосскую речь Путина «конфронтационной» и «агрессивной», но без указания на конкретное содержание этой «конфронтационности» и «агрессивности». Оно и понятно: ведь в противном случае им пришлось бы признавать за нашей страной эксклюзивную возможность нанесения такого «одностороннего удара», что сразу же поставило бы под вопрос адекватность элит «коллективного Запада» — по крайней мере, в отношениях с Москвой.
Поэтому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков мог заявить, что данное выступление Путина не носило конфронтационного характера, а было попыткой докричаться до здравого смысла своих контрагентов — такой же, как и его знаменитая Мюнхенская речь от 10 февраля 2007 года.
Позволю себе поставить под сомнение такую параллель. На мой взгляд, гораздо больше общего у нынешнего давосского выступления (по крайней мере, в его открытой части) с предыдущим, 2009 года, сделанным Путиным в статусе премьер-министра. При сопоставлении двух этих текстов создаётся впечатление, что российский лидер как бы продолжает прерванный на целых 12 лет диалог.
2009 год: «Генерируемое благосостояние распределялось весьма неравномерно, как внутри стран, между слоями населения, причем это касается даже высокоразвитых государств, так и между различными странами и регионами мира».
2021 год: «Результатом… встраивания [развивающихся стран] в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления. Но и социальные издержки. Включая существенный разрыв в доходах граждан…. Как ни парадоксально это звучит, но проблемы расслоения здесь, в развитых странах, оказались ещё более глубокими».
2009 год: «Текущую ситуацию часто сравнивают с Великой Депрессией конца 1920-х—начала 1930-х годов прошлого века. Параллели, действительно, просматриваются».
2021 год: «Ситуация сравнима с тридцатыми годами прошлого века, она может развиваться непредсказуемо и неуправляемо…»
И это — лишь некоторые примеры параллелей и перекличек между двумя давосскими речами Путина. В целом их там гораздо больше. Что ещё раз подтверждает и подчёркивает: путинские слова про «игру вдолгую» — не просто слова, а вполне реальная стратегия, которая очень гибко, но очень последовательно воплощается в жизнь. Отсюда общая оценка речи президента РФ на «Давосской неделе-2021» должна включать в себя минимум три компонента.
Компонент первый — почему возникла 12-летняя пауза в отношениях «хозяина Кремля» с Всемирным экономическим форумом, почему она так затянулась и почему была прервана именно сейчас?
Ответы на этот блок вопросов кажутся очевидными, и вот они уже приводят нас к мюнхенской речи, после которой Путин был публично назван «рычащей вошью» и подвергнут тотальному остракизму со стороны коллективного Запада. От российского президента требовали покаяния и полного ухода из большой политики. «Третий срок» в таких внешнеполитических условиях был не то чтобы невозможен, но не оправдан по соотношению риски/прибыль.
Так возник «проект Медведев» с рокировкой Владимира Владимировича на пост главы российского правительства. И уже в этом «легальном» для Запада качестве Путин, к тому времени уже прошедший вместе с Медведевым горнило южно-осетинского конфликта («война 08.08.08») и оказавшийся в тисках кризиса 2008 года, попытался разъяснить свою позицию на Давосе-2009. Но не нашёл там ни понимания, ни поддержки, в том числе — среди администрации ВЭФ во главе с Клаусом Швабом. То есть, возможно, поддержка и была, но — неофициальная, кулуарная, в духе «не мы такие — жизнь такая», и с многозначительными кивками в сторону заокеанского гегемона.
На ликвидацию этой гегемонии у Путина и ушло 12 лет: фактически два президентских срока Обамы и один — Трампа. В итоге вроде бы само собой вышло так, что США сегодня резко ослабели и расколоты минимум на два враждующих лагеря, а Россия в лице Путина, выдержав все удары в ходе 12 лет «гибридной войны» как бы спрашивает: «Так на чём это мы с вами в прошлый раз остановились? Напомнить?»
Назвать такую позицию сильной можно. Однако по факту это — не просто сильная, а доминирующая позиция.
Компонент второй — а что было сказано с этой позиции? Вернее, что было сказано нового, по сравнению с давосской речью Путина 12-летней давности? Разумеется, было сказано, что обозначенные ещё в 2009 году проблемы за прошедшее время не только не были решены, но и критично обострились, поскольку не были устранены вызывающие их причины. Также было подчёркнуто, что монополия транснациональных корпораций, в том числе «цифровых», вступающих в конкуренцию с национальными государствами, не соответствует интересам человеческого сообщества в целом, поскольку люди — не «новая нефть», не средство, но цель развития. Что стремление создать экономику, работающую на «золотой миллиард» с уничтожением остального человечества, деструктивно и категорически неприемлемо для России. Что надежды, связанные с новым технологическим прорывом, с «Четвёртой промышленной революцией», с созданием «инклюзивной экономики» (это реверансы в сторону Клауса Шваба и выдвинутых им концептов), не могут быть осуществлены при сохранении нынешней архитектуры международных отношений, «заточенной» под глобальный рынок и «вашингтонский консенсус», игнорирующей развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры, образования, здравоохранения и социальной помощи.
Короче, Путин, как и Си Цзиньпин, обращался к участникам «Давосской недели» с позиции вежливой силы, хорошо известной по событиям «крымской весны», но с тех пор изрядно подзабытой. Вместо постковидного неоглобализма он предложил российскую альтернативу: и для мира в целом, и для Европы в особенности. С этой целью он даже заверил всех участников форума, что Россия — страна европейской культуры, более того — часть Европы, а без сотрудничества с Россией в формате «от Лиссабона до Владивостока» у Европы просто нет исторической перспективы. Пусть привыкают. А «мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться». Стоит повториться, что китайские товарищи уже убедили своих соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону в необходимости создания ВРЭП, а их российским коллегам только предстоит убедить в этом не только всё менее единую Европу, но и государства «постсоветского пространства». Впрочем, необходимые и достаточные предпосылки для этого уже имеются — в противном случае, исходя из опыта «путинской эпохи», вопрос даже не ставился бы публично.
Вместо заключения
В целом по итогам «Давосской недели-2021» получилось, что вместо голосования по предложенной неоглобалистскими элитами повестке дня: какой вариант «Великой Перезагрузки» вызовет меньшее отторжение и сопротивление со стороны «остального мира», — эти элиты неожиданно столкнулись с альтернативным вариантом от российско-китайского стратегического союза, который отныне является уже бесспорным фактором «большой политики».
Видимо, решение Путина выступить «в гостях у Клауса Шваба», помимо прочего, было продиктовано и необходимостью манифестации такого союза — с целью повлиять на колеблющихся и в очередной раз «сломать игру» западным оппонентам России, как это уже было с Крымом, Сирией, Венесуэлой. Ещё одной вероятной целью этого выступления было как раз дальнейшее усиление раскола внутри тех же неоглобалистских элит, которые теперь «потеряли» не только США в качестве единственной сверхдержавы «однополярного мира» Pax Americana, но и объективную возможность её восстановить.
Более того, раскол Соединённых Штатов теперь может быть спроецирован и на другие страны «коллективного Запада» — что, конечно, не отменяет, но, напротив, делает абсолютно неизбежными встречные атаки: от медийных до военных, — и против Китая, и против РФ. Во всяком случае, под «Отчётом по России» Комитета по разведке и безопасности британского парламента, объявляющим нашей стране тотальную «войну спецслужб», уже фактически подписались их коллеги не только из «Пяти глаз» (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия), но также из ряда других западных, и не только западных, стран. 2021 год грозит стать годом ещё больших потрясений, чем «проклятый» 2020-й.
***
Михаил Делягин.
На мой взгляд, о нынешней международной ситуации лучше всего говорит тот факт, что недавняя давосская речь Путина была воспринята на Западе в качестве конфронтационной. Это произошло только потому, что президент России в предельно мягкой форме выразил своё неприятие того направления, в котором движется современное сообщество «развитых стран». Впрочем, это не удивляет — переход любой системы от прогресса к регрессу всегда сопровождается агрессией и трансформацией всей системы координат, иногда — несовместимой с дальнейшим существованием данной системы. Как мне помнится, когда в 1997 году был поставлен вопрос о дальнейшей судьбе Экспертно-аналитического совета при президенте Российской Федерации, Чубайс, тогда первый вице-премьер, высказался в том смысле, что с точки зрения проводимой правительством политики любая аналитическая деятельность носит антигосударственный характер.
То же самое, только в ещё большей степени, касается нынешних институций «коллективного Запада». Если реальность не совпадает с их идеологическими установками — тем хуже для реальности. После начала кризиса 2008 года Джордж Сорос по этому поводу сказал: «Музыка закончилась, а они ещё танцуют». И данные танцы, как мы видим, сегодня уже близки к терминальной стадии. Запад умирает, но не отказывается от своих галлюцинаций.
Валентин Катасонов
Выступление президента Российской Федерации на «Давосской неделе» 2021 года лично у меня вызвало определённые вопросы. И главный из них — с какой целью оно вообще было сделано? Это что, была попытка выразить своё несогласие с планами Great Reset, «перепрограммировать» главу ВЭФ Клауса Шваба и те силы, которые за ним стоят? Воззвать если не к их совести, то хотя бы к их разуму? Полагаю, что это априори бессмысленное и бесполезное занятие. Это как если бы Сталин 22 июня 1941 года начал звонить Гитлеру с требованием не нарушать германо-советский Договор о ненападении 1939 года, указывать на опасность предпринятой агрессии для самого Третьего рейха и так далее. Как известно, Сталин пошёл другим путём: призвал советский народ к защите своего Отечества, создал Государственный Комитет Обороны — без этого Победа 1945 года была бы невозможной. У Путина же пока (подчёркиваю — пока) подобной определённости с политическими приоритетами, похоже, нет. Хотя, полагаю, проводись Давос-2021 в традиционном формате, российский президент там не появился бы — в том числе, из соображений безопасности.
В своё время Ален Даллес сказал, что человека легко запутать фактами, но если он понимает тенденции, сделать это почти невозможно. Как человек, полвека изучавший тенденции в международных финансах, а следовательно — в мировой экономике и политике, с уверенностью могу сказать, что ВЭФ — это далеко не личная фирма господина Шваба, который тоже полвека озвучивает интересы и планы тех, кто находится за кулисами публичной мировой элиты.
Эти интересы и планы, как ни прячь их за мудрёными и цветистыми словами, в сути своей весьма примитивны и просты. Они сводятся к установлению прямого контроля над всем человечеством, с постепенным снижением населения Земли до «золотого миллиарда», деиндустриализацией ради экономии ресурсов и снижения «экологической нагрузки» на планету. Для этого требуется размывание национальных суверенитетов, ослабление и отмена «эгоизма государств» с целью создания мирового правительства и цифровизации вплоть до установления глобального «электронного концлагеря», в рамках которого 99% человечества будут низведены до статуса рабов, не имеющих ни прав, ни свобод.
Разные детали такого «образа будущего» содержатся и в работах Римского клуба, и в выступлениях тесно связанного с французской ветвью дома Ротшильдов Жака Аттали, и во множестве других публикаций. Это — тенденция, которую на наших глазах пытаются сделать реальностью.
В своей книге «COVID-19: The Great Reset» Шваб просто разъяснил всё открытым текстом, что стало всего лишь удобным поводом для того, чтобы начать реализацию уже давно подготовленного плана действий. В этом отношении, даже независимо от того, естественной или рукотворной была коронавирусная пандемия, её жертвы — это жертвы стратегии неоглобалистов, которые не остановятся ни перед чем. Их решение по этому поводу принято, все механизмы запущены в действие, вплоть до свержения Трампа в США, и рассчитывать на то, что их остановят по причине каких-то слов российского президента, не приходится.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади, Москва, 3 февраля 2021 года
Добрый день.
Подробно обсудили состояние двусторонних отношений. Подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между Президентом России В.В.Путиным и Его Величеством Королём Иордании Абдаллой II.
Засвидетельствовали поддержку скорейшему проведению очередного заседания российско-иорданской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому развитию и научно-техническому сотрудничеству, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Констатировали хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики (в частности, ядерной), гуманитарной, образовательной и военно-технического сотрудничества.
Подробно обсудили ситуацию в сирийском урегулировании. Подтвердили необходимость подходить к решению всех имеющихся проблем через прямой диалог обеспеченный самими сирийцами, в том числе в рамках Конституционного комитета, в полном соответствии с принципами, одобренными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254.
Выразили удовлетворение форматом нашего сотрудничества в контексте «Астанинского процесса», в котором Иордания участвует в качестве наблюдателя. Обсудили подготовку к очередной встрече в этом формате, намеченной на середину февраля 2021 г. в Сочи.
У нас очень близкие подходы к необходимости искоренить остающиеся еще небольшие очаги терроризма на территории Сирийской Арабской Республики, обеспечить условия для возвращения беженцев и начать международное содействие реконструкции этой страны.
Говорили о той роли, которую может сыграть Лига арабских государств (ЛАГ) в создании максимально благоприятных внешних условий для решения всех этих задач, стоящих перед сирийским народом.
По палестинской проблеме у нас единое мнение о необходимости продвигать задачу двухгосударственного решения. Приветствуем нормализацию отношений Израиля с целым рядом арабских стран. Но это не должно использоваться для того, чтобы создание Палестинского Государства было предано забвению.
Подтвердили роль «квартета» международных посредников, который в сотрудничестве с представителями ЛАГ может сыграть очень важную роль в возобновлении прямых переговоров между палестинцами и израильтянами на основе имеющихся решений ООН и на основе Арабской мирной инициативы.
Обменялись мнениями о ситуации в Ираке, Ливии, Йемене. Заинтересованы в том, чтобы международное сообщество способствовало созданию условий для эффективного, результативного и инклюзивного национального диалога.
Россия и Иордания нацелены на преодоление кризисных явлений в районе Персидского залива, в обеспечении стабильности в этой части Ближнего Востока. Обсуждали имеющиеся на сей счёт инициативы, включая российское предложение о разработке системы коллективной безопасности в Персидском заливе с участием внешних игроков. Привлекли внимание к концепции, продвигаемой Россией, в которой изложены основные параметры этого предложения.
У нас и у иорданских друзей в ближайшее время предстоят новые встречи с нашими другими партнерами, в ходе которых все эти вопросы будут предметно обсуждаться. Условились тесно согласовывать данные шаги, поскольку цели, преследуемые нами по всем этим кризисным вопросам региона, практически совпадают.
Вопрос: Вы затронули тему прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Как Вы оцениваете готовность двух стран к возможному возобновлению переговоров? Как смена руководства США может повлиять на ход мирного урегулирования?
Считаете ли Вы, что внутрипалестинский раскол является преградой для возобновления мирных переговоров? Учитывая, что многие палестинские политические деятели посетили Москву в последнее время, смогут ли они преодолеть эту преграду через выборы?
С.В.Лавров: Что касается готовности Палестины и Израиля к возобновлению прямых переговоров, исходим из того, что такую инициативу нужно активно стимулировать, прежде всего со стороны «квартета» международных посредников и арабских стран. Необходимо иметь в виду, что предстоит ряд событий, которые повлияют на создание условий для прямого диалога.
В марте в Израиле пройдут очередные досрочные парламентские выборы, по итогам которых можно будет говорить о том, что израильтяне готовы рассматривать предложения о прямых переговорах.
Для того чтобы «квартет» международных посредников в полной мере выполнял свою роль, важно дождаться завершения формирования соответствующего блока американской Администрации и подходов новых хозяев Белого дома к палестино-израильской проблеме. После этого будет ясно, на какие позиции может выйти «квартет» в обновленном составе. Для нас очевидно, что эти позиции не могут быть иными, нежели нацеленными на двухгосударственное решение.
Что касается положения внутри Палестины, то, как Вы выразились, «раскол» постепенно, но достаточно устойчиво преодолевается. В том числе благодаря усилиям внешних игроков – арабских стран, прежде всего Египта. Российская Федерация также вносит свою лепту в примирение Палестины. На этом направлении активно работают и наши иорданские друзья. Благодаря всем этим усилиям было объявлено о проведении летом этого года серии выборов – парламентских, президентских, в Палестинский Национальный совет. Считаю, что это будет важным, решающим шагом на пути восстановления палестинского единства.
Вопрос (перевод с арабского): Риторика Москвы по протестным акциям на Западе, в частности, у Капитолия и реакция Запада на несанкционированные акции в России сильно отличаются. Не считаете ли Вы, что российская позиция слишком дипломатична и это в т.ч. даёт Западу больше возможностей вмешиваться во внутренние дела России? Не пора ли Москве тоже начать называть тех, кто был арестован за беспорядки в Конгрессе, политзаключенными?
С.В.Лавров: Не только события, которые происходят в России в связи с А.Навальным, но и вообще всё, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по «делу Навального» зашкаливает. От общественности скрывается, что те законы, которые существуют для проведения демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в Российской Федерации. Полиция на Западе вправе пресекать любые собрания, которые не были согласованы, о которых не было уведомления, и которые, в случае уведомления, нарушают согласованный с властями порядок их проведения. Если демонстранты в Германии, Франции, США и других западных странах выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию общественного транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный штраф и прочие наказания. Полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действуют наши правоохранительные органы в отношении участников незаконных акций.
Освещение этих акций в России и выступлений оппозиционных деятелей на Западе тоже страдает двойными стандартами. Когда говорят о событиях в России, то показывают практически только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром, хотя в интернете можно легко убедиться, насколько агрессивны те, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах. Когда западные СМИ комментируют события такого же рода у себя дома, они, как правило, показывают в основном бесчинства со стороны демонстрантов: разбитые витрины, поджоги автомобилей, а не жестокость полиции, в т.ч. кадры, когда, например, в США полицейская машина переезжает по телам лежащих на асфальте демонстрантов. Это, как правило, остаётся «за кадром», и это можно найти только в социальных сетях.
Для того, чтобы эта дискуссия (если Запад в ней заинтересован) велась на основе здравого смысла и фактов (Запад не любит на основе фактов разговаривать), мы подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий. Вчера передали этот видеосюжет делегации во главе с Министром иностранных дел Швеции А.Линде, которая одновременно является и Действующим председателем ОБСЕ. Сегодня я направил этот же материал в Брюссель Высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики Ж.Боррелю. Хотим, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с объективной картиной, составленной на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на базе голословных утверждений. К ним, к сожалению, наши западные коллеги слишком уже привыкли, будь то «дело Скрипалей», т.н. «отравление» Навального или те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который был вчера вынесен.
Я понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, звучащую из уст западных деятелей. Мы в нашей дипломатической и политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику. Мы – вежливые люди и привыкли добиваться своих целей и справедливости вежливо и культурно. Как говорится: «Не в силе бог, а в правде». У нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить: «Мягко стелет, да жестко спать». Те, кто принимают наши вежливые манеры за проявление слабости, – сильно ошибаются.
Вопрос: В 2018 г. с освобождаемого от террористов и боевиков юга Сирии в Иорданию были эвакуированы активисты организации «Белые каски». В последующем они были вывезены в другие страны, согласившиеся их «приютить». Однако недавно прошла информация, что ФРГ якобы вернула в Иорданию одного из лидеров «белокасочников» Х.Салеха из-за его экстремистских взглядов. Что Вы можете сказать по этому поводу?
С.В.Лавров: Помню, как немецкая пресса писала об эвакуации Х.Салеха из Иордании в Германию. По-моему, Правительство ФРГ даже предоставило специальный правительственный самолет для этой операции (что редко бывает). Не знаю, вернулся ли он назад в Иорданию, выгнали ли его немцы за его экстремистские взгляды. Наверное, мой коллега сможет лучше ответить.
Раз Вы упомянули «Белые каски», хотел сказать несколько слов об этом специальном проекте западных коллег. Эта т.н. «гуманитарная» организация была создана с активным участием представителей западных спецслужб, финансировалась за их счет. Она никогда не предоставляла свои т.н. «гуманитарные» услуги на территориях, контролируемых сирийским правительством; работала исключительно в тех частях Сирии, где «верховодили» террористы, прежде всего «Джабхад ан-Нусры», с кем «Белые каски» очень тесно сотрудничали. На деньги Запада устраивались откровенные провокации, инсценировки, постановочные видео о якобы применении в Сирии химического оружия правительством страны. Эти т.н. «факты», которые любой мало-мальски объективный эксперт сочтет «высосанными из пальца», использовались западными странами для того, чтобы наносить авиационные удары по суверенному государству без каких-либо оснований в виде решений Совета Безопасности ООН.
Когда в результате действий по освобождению сирийской территории под ногами «Белых касок» – провокаторов, жуликов, пособников террористов – стала гореть земля, Запад озаботился тем, чтобы «своих клиентов» спасти и вывести из-под удара. Несмотря на воспевание «Белых касок» как чуть ли не «идеала» гуманитарной организации, на самом деле Запад прекрасно понимал, с кем имеет дело и кого «вскормил». Именно тогда Запад обратился к нашим иорданским коллегам с просьбой на время «приютить» «Белые каски». Было это 2,5 года назад. Как я понимаю, десятки этих персонажей по-прежнему находятся в Иордании. Исходим из того, что надо выполнять обещание забрать их через пару месяцев, хотя мы знаем, как Запад относится к своему слову.
Надеюсь, мой друг с пониманием воспримет комментарии, т.к. речь идет не столько об Иордании, сколько об элементе общей стратегии Запада по смене режима в САР вопреки решениям СБ ООН. Это очень важный вопрос, который мы не можем упускать из виду.
Насчет того, вернулся ли Х.Салех в Иорданию, не владею информацией.

Новый мир вместо затянувшейся войны
Перспектива нерешённых конфликтов в эпоху Байдена
Рами Аль-Шаер
В ходе первого телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом стороны договорились продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Президенты России и США выразили удовлетворение достигнутой в этой связи договоренностью.
В сообщении Кремля говорится, что в ходе беседы был затронут вопрос об одностороннем выходе Соединённых Штатов из Договора по открытому небу, сохранении всеобъемлющего совместного плана действий по ядерной программе Ирана, урегулировании конфликта в Украине и российской инициативе о проведении саммита стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Со своей стороны президент России в своём выступлении на Давосском экономическом форуме охарактеризовал продление Договора СНВ-3 как «шаг в правильном направлении». Далее Владимир Путин сказал: «Тем не менее противоречия закручиваются, что называется по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны».
Президент России выразил надежду на то, что «сейчас такой глобальный «горячий» конфликт невозможен». «Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», - отметил Владимир Путин.
Однако ситуация, по словам российского президента, «может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей, как семья (а Россия дорожит этим), но и базовых свобод, включая право выбора.
После прихода к власти в США Джо Байдена и его «демократической» команды можно, на мой взгляд, с осторожным оптимизмом говорить о том, что открывается новая страница не только в истории напряжённых российско-американских отношений, но и в ситуации, сложившейся в арабском мире.
Судя по всему, Байден преисполнен решимости вернуть Соединённым Штатам «руководство миром» после того, как потерпела крах политика его предшественника Трампа, который поставил задачу «снова сделать Америку великой», то есть страной, для которой в этом мире не существует партнёров и союзников, а есть только нефтяные скважины, клиенты и многомиллиардные сделки. Вместе с тем Байден, по всей видимости, не будет проявлять к Ближнему Востоку такой же интерес, какой был во времена предыдущих американских администраций. Прежде всего это связано с тем, что «традиционная» нефть уже не занимает столь важное место в мировой экономике в результате появления сланцевой нефти в США, что значительно изменило ситуацию на мировых рынках. Кроме этого, новая администрация будет занята поиском путей консолидации расколотого американского общества, а также борьбой со стратегическими вызовами и угрозами в лице Китая и России. Администрация Байдена будет уделять большое внимание перезагрузке в отношениях с западными странами, которые подвергались беспрецедентному давлению в годы правления предыдущей администрации. Приоритетными задачами для команды Байдена станут проблемы изменения климата, борьба с эпидемиями, особенно в свете продолжающейся пандемии коронавируса.
С другой стороны, администрация президента Байдена, не оставляет без внимания ближневосточные проблемы. Так, например, первый в истории Соединённых Штатов глава Пентагона африканского происхождения Ллойд Остин был в своё время главнокомандующим американским контингентом в Ираке, возглавлял Центральное командование вооружённых сил США. Директор ЦРУ Уильям Бернс работал занимал должность американского посла в Иордании, работал помощником госсекретаря США по Ближнему Востоку, возглавлял американскую дипломатическую миссию в Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкин был одним из советников бывшего главы Белого Дома Барака Обамы и тогдашнего вице-президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности во время вторжения американских войск в Ирак в 2003 году. Кстати, Байден поддержал этот шаг. Блинкин был одним из сторонников более активного вмешательства США в сирийский конфликт. Он заявил, что Соединенные Штаты, стремясь не повторить «иракский прецедент», действовали по принципу «не бери на себя слишком много» и совершили большую ошибку, «взяв на себя слишком мало».
В ходе слушаний в Конгрессе США по вопросам утверждения кандидатур на различные должности, связанные с внешнеполитической деятельностью в администрации Байдена, создалось впечатление, что новая команда Белого Дома не намерена ввязываться в очередные ближневосточные авантюры. Вместе с тем совершенно очевидно, что администрация Байдена не хочет, и скорее всего, не может уйти из этого региона. Судя по всему, в Белом Доме рассчитывают на эффективную дипломатическую деятельность, на взаимодействие с региональными союзниками, особенно после того, как ряд стран Залива был назван «главными союзниками Вашингтона в области безопасности», после того, как была создана коалиция этих стран, что дало возможность сочетать ограниченное военное присутствие с активной дипломатией США в целях осуществления стоящих перед Вашингтоном задач в этом регионе.
Президенты России и США обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, касающиеся сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, что говорит о большом внимании, уделяемом этому вопросу новой американской администрацией, и о стремлении Белого Дома выработать новую позицию по этой проблеме. Не исключено, что в Белом Доме стремятся использовать решение Трампа о выходе США из ядерного соглашения, ситуацию, сложившуюся в результате установления союзнических отношений между Израилем и рядом стран Залива, и в целом, новую ситуацию в мире в результате распространения пандемии коронавируса и возникновения нового мирового экономического кризиса, для того, чтобы предложить Ирану некие новые условия, учитывая влияние последнего на ситуацию в регионе.
Обращает на себя внимание тот факт, что новая американская администрация объявила о временной приостановке продажи оружия Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам и одновременно потребовала от Ирана соблюдать условия ядерной сделки. Со своей стороны, госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что если Иран «вернётся в соглашение и будет соблюдать его условия, Вашингтон будет стремиться к выработке долгосрочного и эффективного соглашения, которое будет учитывать и другие чрезвычайно сложные вопросы», среди которых - разработка Ираном баллистических ракет и помощь войскам, действующим «по доверенности Тегерана» в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене.
В ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифом во вторник, 26 января, глава российского внешнеполитического ведомства выразил заинтересованность Москвы в сохранении ядерного соглашения и убеждённость в том, что «путь к этому лежит исключительно в полном и неукоснительном выполнении положении этого важного документа всеми заинтересованными сторонами в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН по этому вопросу». Российский министр также выразил надежду на то, что США вернутся к полному выполнению резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН, что создало бы условия для выполнения Ираном всех пунктов ядерного соглашения.
С другой стороны, американская администрация объявила об открытии представительства Организации освобождения Палестины в Соединённых Штатах, что можно расценивать как шаг, направленный на возобновление мирных переговоров с Израилем и отказ от использования международных организаций против Израиля. В ходе переговоров госсекретаря США Блинкина с его израильским коллегой Габи Ашкенази, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон считает своими приоритетными задачами обеспечение безопасности Израиля, продолжение мирного процесса и борьбу с новыми угрозами и вызовами. Блинкин высоко оценил мирные соглашения и нормализацию отношений между рядом арабских стран (среди которых Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко) и Израилем.
В то же время Блинкин отметил, что Госдепартамент США в срочном порядке изучает решение администрации Трампа включить в список террористических организаций повстанцев-хуситов в Йемене и намеревается проверить работу благотворительных организаций, занимающихся доставкой гуманитарной помощи в Йемен. В своём выступлении на Давосском экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил, что «очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный порядок, эта эпоха завершилась. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации».
По словам президента России, «в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами». Путин также подчеркнул, что «сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов развития не обернулась анархией, чередой затяжных конфликтов».
Касаясь высказанного мной ранее осторожного оптимизма по поводу будущих действий новой американской администрации, хотел бы выразить надежду на то, что выполнение резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН в соответствии с «дорожной картой», одобренной участниками конгресса межсирийского национального диалога, проходившего в 2018 году в Сочи, сделает более гибкой и умеренной позицию администрации Байдена по вопросам урегулирования сирийского конфликта.
Сейчас необходимо прежде всего покончить со страданиями сирийского народа. Ситуация в стране резко обострилась после введения санкций в рамках так называемого «Закона Цезаря», распространения пандемии коронавируса и продолжающейся в течение уже более десяти лет войны. Не укладывается ни в какую логику тот факт, что в ходе проходящего в Женеве пятого раунда заседаний «малой группы» сирийского конституционного комитета обсуждаются такие вопросы, как «арабский цивилизационный фактор и его роль в национальной идентичности», «человеческое достоинство», «необходимость защиты человека, соблюдения прав женщин, завоёванных ими в ходе борьбы».
Да, вот именно об этом идут дискуссии в Женеве.
Что касается Йемена, то никаких перспектив решения конфликта в этой стране не появится, если Саудовская Аравия и так называемая «арабская коалиция» будут продолжать проводить прежний курс в отношении событий в этой стране. Необходимо использовать новые подходы, которые позволили бы Организации Объединённых Наций играть основную роль в урегулировании конфликта и оказать Йемену материальную помощь для того, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе, угрожающей йеменскому народу.
Недавно в МИД России состоялись консультации специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя российского министра иностранных дел Михаила Богданова с министром иностранных дел и международного сотрудничества временного ливийского правительства, базирующегося на востоке страны Абдельхади аль-Хувейджем. В ходе консультаций основное внимание было уделено складывающейся ситуации в Ливии и вокруг неё. При этом акцентировалась задача эффективного содействия устойчивому межливийскому диалогу с участием всех влиятельных политических сил страны в интересах реализации решений Берлинской международной конференции и положений резолюции 2510 СБ ООН.
Москва призывает все противоборствующие стороны в Ливии к сотрудничеству и взаимодействию с ООН, предпринимающей шаги по проведению выборов. Необходимо поставить надёжный заслон попыткам нынешних ливийских руководителей осуществлять новые сценарии, цель которых очевидна - сохранить свою власть. Следует привлекать к участию в политическом процессе новых фигур, дать возможность старейшинам племен и родов проявить себя, сделать всё для достижения всеобъемлющего национального примирения, для осуществления единства и территориальной целостности страны.
Нельзя обойти вниманием и ситуацию в Ливане. Президент Ливана Мишель Аун призвал провести заседание Совета безопасности страны для оценки сложившейся ситуации. В ливанском Триполи и других городах страны проходят массовые протесты. Их участники перекрыли горящими автомобильными покрышками основные улицы Триполи. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. От полученных ран скончался один человек, сотни людей, среди которых протестующие и сотрудники правоохранительных органов, получили ранения различной степени тяжести в результате происшедших в Триполи столкновений.
Стало ясно, что ливанское правительство не справляется со своими обязанностями. Оно не в состоянии даже распорядиться гуманитарной помощью в размере 170 миллионов долларов, оказанной Международным валютным фондом для борьбы с экономическим кризисом, вызванным рядом факторов, и в том числе, пандемией коронавируса. Положение стало невыносимым. Формирование нейтрального правительства технократов, с которым смогло бы эффективно взаимодействовать международное сообщество, стало для ливанцев вопросом жизни или смерти. Эффективное взаимодействие международного сообщества с ливанским правительством необходимо для того, чтобы Ливан смог бы обойтись без помощи, поступающей в страну по линии Всемирного банка и других международных финансовых институтов и стран. Всё говорит о том, что исполняющий обязанности премьера, лидер движения «Тайяр аль-Мустакбаль» Саад аль-Харири является наиболее подходящей кандидатурой, способной сформировать такое правительство. Комментируя события в стране, «Тайяр аль-Мустакбаль» заявило, что «имеется информация, подозрительным образом напоминающая об отсутствии мер безопасности во время вооружённых столкновений, которые происходили в Триполи по заказу определённых кругов».
Совершенно очевидно, что любое затягивание решения вопроса формирования нового ливанского правительства обернётся в течение ближайших нескольких месяцев катастрофическими последствиями для всего ливанского народа.
Что касается ситуации в Палестине, то восстановление единства палестинских рядов и укрепление роли Организации освобождения Палестины стало неизбежным фактом. Все палестинские организации не должны предпринимать каких-либо действий, которые могут воспрепятствовать этому процессу. Принятое президентом Палестины Махмудом Аббасом решение в форме указа о проведении выборов, означает то, что разногласиям между движениями «Фатх» и «Хамас» положен конец. Открывается новая страница в истории Палестины, когда в конструктивной обстановке будет проходить подготовка к выборам. Этот процесс не должен зависеть от узкополитических интересов какой-либо палестинской организации.
Отметим, что урегулирование разногласий между странами Залива является положительным шагом, который повлечёт за собой восстановление прежней важной роли Лиги арабских государств (ЛАГ) как организации, выражающей интересы всего арабского мира. Арабские страны обладают огромными ресурсами и возможностями, которые необходимо использовать в их собственных интересах, и прежде всего, для того, чтобы положить конец невыносимым условиям, в которых вынуждены жить миллионы людей в ряде стран арабского мира. Необходимо сделать всё для развития, восстановления экономики, роста и процветания этих стран.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию в формате видеоконференции, Москва, 26 января 2021 года
Уважаемый господин Министр,
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа,
Прежде всего, хотел бы выразить признательность тунисским друзьям за своевременный созыв сегодняшнего заседания. Очевидно, что откровенный обмен мнениями в Совете Безопасности по проблематике ближневосточного урегулирования (БВУ) давно назрел. Необходимо провести обзор предшествующего этапа, установить причины сохраняющегося тупика в сфере БВУ, а также наметить ключевые направления совместной работы на перспективу.
Задача достижения устойчивого и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования должна оставаться в фокусе внимания международного сообщества. Палестинский вопрос продолжает оказывать серьезное влияние на общую ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки. Этот регион испытывает на себе пагубные последствия геополитических экспериментов в русле продвигаемой западными коллегами концепции «миропорядка, основанного на правилах».
Очевидно, что шаги, направленные на демонтаж одобренных Советом Безопасности международно-правовых рамок ближневосточного урегулирования, на подмену коллективных дипломатических усилий так называемой «дипломатией сделок», не способны привести к желаемому результату. Напротив, подобные односторонние действия лишь отдаляют перспективы справедливого урегулирования имеющихся проблем. Важно, чтобы запущенный в 2020 г. процесс нормализации отношений Израиля с арабскими государствами, который мы в целом приветствуем, был направлен на решение задачи стабилизации всего ближневосточного региона и не использовался для того, чтобы отложить в сторону палестинский вопрос, как говорится, до лучших времен.
Первым шагом на пути к возобновлению мирного процесса должно стать подтверждение решений СБ ООН и других основополагающих документов, включая Мадридские принципы. Это касается незаконной поселенческой активности Израиля, планов аннексии оккупированных палестинских территорий, статуса Иерусалима, проблемы беженцев, границ – всё это должно определяться в рамках прямого политического диалога между палестинцами и израильтянами. Необходимо учесть законные озабоченности Израиля, связанные с обеспечением безопасности. Основой устойчивого урегулирования, отвечающей чаяниям обеих сторон, по-прежнему остается двухгосударственная формула.
Убеждены, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является единственной структурой, которая оказывает эффективное содействие миллионам палестинских беженцев не только на Западном берегу и в Газе, но и в сопредельных арабских странах. Международная финансовая поддержка деятельности БАПОР должна быть продолжена.
Совместно с египетскими и другими партнерами намерены и впредь помогать палестинским политическим движениям восстановить единство рядов на платформе Организации освобождения Палестины. Преодоление межпалестинского раскола позволит создать условия для серьезного диалога с Израилем, стабилизировать общую обстановку, улучшить гуманитарное положение в секторе Газа и вокруг него.
Считаем актуальной скорейшую активизацию международных усилий в поддержку перезапуска прямых палестино-израильских переговоров в целях решения комплекса фундаментальных вопросов окончательного статуса. Убеждены, что для обеспечения прогресса на этом пути необходимо задействовать посреднические функции «квартета» международных посредников – единственного легитимного механизма, одобренного резолюциями СБ ООН. Уверены: «квартет» в плотном взаимодействии со сторонами конфликта и ключевыми арабскими странами способен сыграть весьма эффективную роль.
В России положительно восприняли инициативу Президента Палестины М.Аббаса о созыве международной конференции по БВУ. Наша страна изначально выступала за проведение такого форума, что закреплено в резолюции 1850 СБ ООН.
В поддержку этой инициативы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 г. министерской встречи с участием России, США, ООН и ЕС как членов «квартета», четырех арабских стран – Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также, разумеется, Израиля и Палестины. Важно пригласить Саудовскую Аравию как автора Арабской мирной инициативы. Такая встреча могла бы стать рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога.
Пользуясь случаем, хотел вновь напомнить и о российской готовности организовать в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне в ответ на высказывавшиеся ранее пожелания и просьбы сторон.
Открыты к обсуждению этих и любых других предложений. Будем признательны за возможные комментарии. Призываем региональных и международных партнеров откликнуться на приглашение к диалогу с тем, чтобы найти пути коллективных действий во имя установления мира и стабильности на всем Ближнем Востоке.
Благодарю за внимание.

БАЙДЕНУ НЕ НУЖНА НОВАЯ ПОЛИТИКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
ДЖЕЙМС ДЖЕФФРИ
Руководитель ближневосточной программы Центра Вильсона. Карьерный дипломат, работал в семи американских администрациях. В последние годы был спецпредставителем США по Сирии и специальным посланником глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещённая в России организация).
Придерживаясь конкретных целей, реагируя на актуальные угрозы и действуя через партнёров на Ближнем Востоке, Трампу удалось избежать ловушек, в которые попадали его предшественники. Новая парадигма, скорее всего, будет и дальше определять действия США в регионе. Она позволяет сдерживать угрозы на Ближнем Востоке и в то же время уделять внимание другим геополитическим вызовам.
Администрация Трампа действовала в регионе верно
Как и при восьми предыдущих президентах, во внешней политике Дональда Трампа доминировал Ближний Восток. Несмотря на разговоры о прекращении «бесконечных войн» и приоритетности Азии, национальные интересы по-прежнему заставляют США уделять внимание региону.
Приоритеты Трампа на Ближнем Востоке мало отличались от позиций двух его предшественников: ликвидация оружия массового уничтожения, поддержка американских союзников, борьба с терроризмом и упрощение экспорта углеводородов. Однако в некоторых аспектах его администрация, в которой я работал как посланник по Сирии и коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещённая в России организация – прим ред.), – пошла на заметную смену парадигмы американского подхода к региону. Джордж Буш – младший и Барак Обама поддерживали трансформацию на Ближнем Востоке, ошибочно полагая, что, подрывая определённые страны в политическом и военном плане, Соединённые Штаты смогут ликвидировать причины исламского терроризма и извечную региональную нестабильность.
Реальные политические взгляды Трампа нередко было сложно определить, тем не менее его администрация пошла по другому пути, и это дало результаты. Придерживаясь конкретных целей, реагируя на актуальные региональные угрозы и действуя в первую очередь через партнёров на Ближнем Востоке, Трампу удалось избежать ловушек, в которые попадали его предшественники, но одновременно продолжать продвигать американские интересы.
Несмотря на сегодняшние яростные дебаты по внешней политике, новая парадигма должна сохраниться и, скорее всего, будет и дальше определять действия США в регионе. Она позволяет сдерживать угрозы на Ближнем Востоке и в то же время уделять внимание другим геополитическим вызовам.
Новая стратегия
Большинство новых администраций публикует стратегию национальной безопасности, а потом быстро отправляет её на полку. Однако документ 2017 г. предложил новую модель американской политики на Ближнем Востоке, и администрация Трампа в целом её придерживалась. Стратегия предполагала смещение фокуса с так называемых бесконечных войн на соперничество с великими державами – прежде всего с Китаем и Россией. На Ближнем Востоке первый принцип позволял избежать запутанности локальных вопросов и противодействовать равным и региональным угрозам. На практике всё свелось к сдерживанию Ирана и России и устранению серьёзных террористических угроз.
Следующий принцип – сотрудничество с союзниками и партнёрами в регионе вместо односторонних действий – был более сложным. Это средство, а не цель. Руководствуясь таким принципом, Трамп стремился отказаться от центральной роли Америки в кампании против ИГИЛ после падения Ракки, столицы группировки в Сирии, в 2017 г., а также сократить численность американских войск в Афганистане, передав обе миссии региональным союзникам. Военные советники Трампа хотели, чтобы США продолжали выполнять свои обязательства, некоторые гражданские эксперты настаивали на расширении американского военного присутствия в Сирии и Ираке в целях сдерживания Ирана. В значительной степени внутренний конфликт администрации – продукт этих противоположных целей: вывод войск и борьба с терроризмом как приоритет или сфокусированность на террористах и Иране.
В итоге удалось найти компромисс: значительная часть войск была выведена, а оставшиеся перенацелены на борьбу с терроризмом и миссиях против Ирана.
В рамках второго принципа Трамп чётко дал понять, что будет поддерживать военные действия Израиля и Турции против Ирана и России в Сирии и будет полагаться прежде всего на страны Персидского залива, Иорданию, Ирак и Израиль в противостоянии с Тегераном. США, в свою очередь, будут оказывать необходимое военное содействие подобным усилиям, продавать оружие, наносить точечные удары по террористам и вводить санкции против президента Сирии Башара Асада за применение химического оружия. Тем не менее администрация очень осторожно подходила к использованию военной силы, чтобы избежать потерь среди американских военнослужащих. Но, решив действовать, американские военные были очень эффективны против Асада, террористических группировок, российских подразделений и поддерживаемых Ираном формирований.
В обмен на это дополнительное бремя администрация Трампа игнорировала внутриполитическое поведение таких ключевых партнёров, как Египет, Турция и даже Саудовская Аравия, несмотря на убийство журналиста Джамаля Хашогги. Администрация также дала понять, что будет открыто поддерживать Израиль в вопросах с Палестиной, отбросив давно устоявшиеся постулаты американской и международной политики по трансферу вооружений, Голанским высотам, Иерусалиму и Западной Сахаре. Благодаря этой политике заключены «Авраамовы соглашения» между Израилем и несколькими арабскими государствами – сигнал, что регион готов преодолеть палестино-израильский конфликт.
Иранский вызов
Сдерживание Ирана стало проверкой на прочность для новой парадигмы администрации Трампа. Президент полагал, что иранская ядерная сделка, заключённая при участии администрации Барака Обамы в 2015 г., была ошибкой; срок её действия ограничен, а региональные союзники жаловались, что проблема дестабилизирующего поведения Тегерана осталась нерешённой. В итоге, после безуспешных попыток ужесточить условия сделки, США вышли из неё. Тегеран отреагировал быстро, активизировав деятельность по обогащению урана, но не вышел из соглашения полностью.
Вопреки риторике, целью последующей политики администрации не являлась смена режима, хотя некоторые всерьёз рассматривали такую возможность. Кампания «максимального давления» была направлена на то, чтобы заставить Иран вести переговоры о более широкой сделке, включающей ядерную и ракетную программы, а также поведение в регионе. Американская политика оказала реальное воздействие на экономику и региональный авантюризм Ирана. Тегеран продолжал нелегально продавать нефть и газ по заниженным ценам, но санкции ограничили финансовую помощь, которую он мог оказать союзникам в Ираке, Ливане и Сирии. Ни Китай, ни Россия не собирались брать Иран на содержание, а европейцы фактически ничего не могли сделать, хотя и критиковали политику Трампа.
Критики администрации утверждали, что Иран не пойдёт на более широкие уступки. Но, на самом деле, требования Трампа несильно отличались от первоначальной позиции администрации Обамы. В обоих случаях они были максималистскими. Трамп, как и Обама, хотел договориться о сделке, но с фундаментальным отличием: его приоритетом служило сдерживание регионального авантюризма Ирана и максимальное ограничение ядерных возможностей страны – независимо от дипломатических рамок. Если сделка доступна в этих параметрах, её нужно заключать. В отличие от администрации Обамы, приоритетом которой было именно заключение соглашения, Трамп видел в Иране историческую угрозу и подстраивал все политические возможности, включая ядерное оружие, под эти реалии. Поэтому он закручивал гайки, чтобы добиться выгодных условий сделки или, если не получалось, чтобы серьёзно ослабить Иран. Сработала ли политика Трампа – вердикт пока не вынесен. Время и решения администрации Байдена покажут, открыла пи политика «максимального давления» путь к новому соглашению или подтолкнула Тегеран к ядерному прорыву.
Сирия и Ирак
Трамп сочетал санкционную кампанию с усилиями по сдерживанию региональной экспансии Ирана, особенно в Сирии и Ираке. В Сирии администрации досталась в наследство от Обамы запутанная политика, которую критиковали даже советники бывшего президента: одни предлагали свергнуть Асада с помощью вооружённой оппозиции, другие настаивали на политическом урегулировании под эгидой ООН, третьи считали приоритетом уничтожение ИГИЛ.
К концу 2017 г. администрация Трампа разработала собственную политику по Сирии, опять же основанную на принципах сдерживания региональных угроз и сотрудничества с союзниками и партнёрами: вытеснить Иран, полностью победить ИГИЛ и остановить гражданскую войну в стране. В итоге, несмотря на нежелание военных выходить за рамки миссии по борьбе с ИГИЛ, американским силам на северо-востоке и юге Сирии пришлось выполнять двойную задачу по лишению правительства Асада территории и ресурсов в целях подкрепления этой политики.
К 2020 г. Соединённые Штаты построили прочную коалицию, хотя и стремились сократить свои прямые обязательства. Турция и сирийская вооружённая оппозиция сотрудничали с Вашингтоном, чтобы не допустить военных побед Асада, а поддержанные США израильские удары по иранским объектам в стране ещё больше ограничивали военные возможности режима. В то же время Соединённые Штаты возглавили международную коалицию, которая поддерживала политические усилия ООН по разрешению конфликта, выступала за дипломатическую изоляцию Дамаска и режим санкций, которые должны были нанести удар по экономике Сирии. Как и в политике в отношении Ирана, в которую встраивается политика по Сирии, результатом оказался тупик. Путь к переговорам не найден, и война будет продолжаться, однако такая политика сработала против СССР в Афганистане. Тем не менее следующей администрации придется взвесить все преимущества и риски, включая гибель мирных жителей.
Неудивительно, что такая политика привела к конфликту между Вашингтоном и Москвой, которая считает Сирию основной площадкой для реализации своих дипломатических и военных возможностей на Ближнем Востоке. В соответствии с задачей нейтрализовать региональные угрозы, США неоднократно отвечали на действия российских военных на северо-востоке Сирии и помогали Турции сдерживать наступление правительственных войск на северо-западе. Однако противостояние Турции с Сирийскими демократическими силами – американскими партнёрами на северо-востоке Сирии, которые связаны с Рабочей партией Курдистана, – осложнило отношения. Напряжённость привела к военным и дипломатическим инцидентам в октябре 2019 года. Вашингтону и Анкаре удалось разрешить разногласия, однако кризис продемонстрировал трудности взаимодействия с партнерами – будь то СДС или турки – чья повестка отличается от того, что готовы поддерживать США.
В Ираке американцы пытались разделить военные действия против ИГИЛ и противодействие Ирану. Но местные боевики, лояльные Тегерану, активизировали атаки против американских войск. Трампу пришлось нанести ответный удар: был убит командующий иранского подразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Тегеран в ответ нанёс ракетный удар по американской базе, но без серьёзного ущерба. Результат был очевидным, но не окончательным: победа США. Американские войска остаются в Ираке, но такие группировки, как «Катаиб Хизбалла», по-прежнему представляют угрозу. Ирак остаётся самым волатильным фронтом между Вашингтоном и Тегераном.
Модель для будущего
За четыре года администрация Трампа добилась двух крупных успехов на Ближнем Востоке – это «Авраамовы соглашения» и уничтожение халифата ИГИЛ в Ираке и Сирии. Ей также удалось противодействовать российской экспансии в Сирии и других районах, осознать исходящую от Ирана многофакторную угрозу для стабильности в регионе и мобилизовать коалицию против злонамеренного поведения Тегерана. Трампу, как и Обаме, не удалось справиться с иранским ядерным вызовом. Изначальные ограничения деятельности по обогащению урана исчезли за пять лет.
По нынешним ближневосточным стандартам, это достойный результат. Трампу удалось уменьшить прямые обязательства и расходы, при этом тесно сотрудничая с региональными союзниками. Тем не менее следующей администрации будет сложно сохранить такой подход и одновременно переориентироваться на иранскую ядерную сделку. Сейчас многие региональные союзники хотят дальнейшего давления Соединённых Штатов на иранскую экономику и авантюризм – больше, чем возвращения к сделке. Байдену придется искать баланс между приоритетами.
Foreign Affairs

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов А.Аль Нахайяном, Москва, 14 декабря 2020 года
Уважаемые дамы и господа,
Мы провели переговоры с моим коллегой и другом, Министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов А.Аль Нахайяном. Переговоры как всегда были очень полезными, обстоятельными и охватили весь спектр наших двусторонних отношений, а также региональную и международную проблематику. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов, М.Нахайян в ходе переговоров на высшем уровне в Москве в 2018 г. – определили наши отношения как стратегическое партнерство. Прошлой осенью в ходе государственного визита Президента Российской Федерации В.В.Путина был подтвержден курс на его наполнение конкретным содержанием во всех областях.
У нас неплохо обстоят дела на экономическом направлении. За первые 9 месяцев 2020 года товарооборот вырос более чем на 60%, превысив 2 млрд долл. Активно работает Межправительственная российско-эмиратская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, укрепляются связи между Российским фондом прямых инвестиций и эмиратским фондом «Мубадала». Наши энергетические ведомства тесно взаимодействуют в рамках группы «ОПЕК плюс», в рамках Форума стран-экспортеров газа. Все эти вопросы Министр иностранных дел ОАЭ А.Аль Нахайян более подробно обсудит с заместителем Председателя Правительства России Ю.И.Борисовым и Министром промышленности и торговли Д.В.Мантуровым.
Углубляется наше взаимодействие в сфере высоких технологий, в частности, в мирном использовании космического пространства. 2 декабря с.г. наша ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту очередной спутник ОАЭ дистанционного зондирования Земли.
Развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Арабских Эмиратах начинается третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V». Обсуждается возможность её лицензионного производства.
Подробно рассмотрели международную и региональную повестку дня, в т.ч. положение на Ближнем Востоке и на Севере Африки. У нас близкие или совпадающие позиции по большинству сохраняющихся здесь проблем. Под этим углом рассмотрели ситуацию в Ливии, Йемене, сирийском и ближневосточном урегулированиях с учетом нынешней ситуации в отношениях между Палестиной и Израилем, а также обменялись мнениями о перспективах укрепления безопасности в зоне Персидского залива.
Условились продолжать сотрудничество, координацию наших действий в Организации Объединенных Наций, прежде всего, по мобилизации международного сообщества на формирование подлинно универсального фронта борьбы с терроризмом. На этот счет есть ряд конкретных идей. Будем их прорабатывать. ОАЭ, как и Российская Федерация, уделяет при этом особое внимание борьбе с террористической экстремистской идеологией, противодействию насаждению менталитета ненависти, любых проявлений дискриминации и экстремизма. Считаю, что переговоры были весьма полезными с точки зрения продвижения нашего стратегического партнерства и наполнения его конкретным содержанием.
Вопрос (обоим министрам): В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности в Персидском заливе. Как Вы оцениваете ситуацию? Каковы результаты взаимодействия в регионе?
С.В.Лавров: Россия давно ставит вопрос о необходимости нормализации обстановки в зоне Персидского залива. Много лет назад предложили прибрежным странам совместно с «внешним сопровождением» подумать о принципах, которые могли бы лечь в основу мер доверия и постепенного выстраивания коллективной безопасности в регионе. Не так давно обновили эту концепцию. Осенью прошлого года состоялась встреча политологов, представителей экспертного сообщества с участием делегаций соответствующих стран, на которой концепция была обсуждена и в целом получила позитивный отклик. Считаем, что в нынешних условиях, в том числе учитывая кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также попытки подменить его чем-то иным вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, актуальность усилий на этом направлении становится все более весомой.
Не раз обсуждали российскую инициативу на встречах с министрами иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Понимаем сложности, существующие между некоторыми арабскими странами региона и Исламской Республикой Иран. Выражаем готовность помочь создать условия для начала диалога.
Чтобы все прибрежные страны чувствовали себя комфортно в рамках предлагаемого нами диалога, российские инициативы также предполагают его сопровождение внешними игроками, включая «пятерку» постоянных членов Совета Безопасности ООН, Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Европейский союз. Наши предложения остаются на столе. Готовы к обсуждению конкретных деталей и нюансов их претворения в жизнь.
Вопрос (обоим министрам): В опубликованном две недели назад докладе главного инспектора Пентагона говорится, что ОАЭ могут предоставлять некоторое финансирование ЧВК «Вагнер», воюющей в Ливии. Действительно ли ОАЭ оплачивают присутствие ЧВК «Вагнер» и любое другое присутствие России в Ливии?
С.В.Лавров (отвечает после А.Аль Нахайяна): Неоднократно давали разъяснения в связи с различными докладами, сообщениями о действиях Российской Федерации по урегулированию ливийского кризиса. Наша позиция хорошо известна. Всё, что мы делаем вместе с другими внешними игроками, в том числе партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, прочих стран, нацелено на то, чтобы начался переговорный, политический процесс, в котором были бы представлены все значимые силы этой страны, все её исторические регионы. Важно, чтобы его участники действительно являлись полномочными представителями соответствующих политических групп, регионов, а не были искусственно подобраны кем-то со стороны.
В этих целях с самого начала кризиса контактировали со всеми ливийскими сторонами, побуждая их именно к общенациональному диалогу, отказу от расчета на использование военных средств решения проблемы. Всегда продвигали тезис о том, что любые международные мероприятия по ливийской проблеме должны обязательно проходить с приглашением самих ливийцев и непосредственных соседей этой страны. Именно мы настояли, чтобы такой формат был в итоге выбран для состоявшейся в январе с.г. Берлинской конференции, куда организаторы сначала даже не собирались приглашать ни ливийцев, ни их соседей.
Наша общая задача – восстановить ливийскую государственность, которая была грубейшим образом, в нарушение международного права разрушена в 2011 г. Сначала вопреки действовавшему уже тогда эмбарго на поставки вооружений в Ливию наши натовские коллеги активно вооружали экстремистов и террористов, стремясь использовать их для свержения режима М.Каддафи, а затем НАТО совершила агрессию против суверенного государства-члена ООН, последствия которой мы все вынуждены «расхлебывать» до сих пор. Нужно помнить причины нынешнего ливийского кризиса.
Вопрос: В последнее время наблюдается увеличение числа случаев нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран. Может ли это, на Ваш взгляд, способствовать стабилизации ситуации в Персидском заливе в свете беспокойства со стороны Ирана?
С.В.Лавров: Насчет палестинской проблематики, исходим из того (и в этом мы едины с ОАЭ), что нормализация отношений Израиля с арабскими странами набирает темп. В целом это положительное явление, устраняющее давние противоречия и устанавливающее каналы цивилизованного, опирающегося на правовые методы общения. Излагая свою публичную официальную позицию в связи с этим процессом. Россия всегда подчеркивала, что он не должен отодвигать на второй план, а тем более предавать забвению, палестинскую проблему, которая должна быть урегулирована на основе имеющихся решений ООН, а также предполагать создание Палестинского государства, сосуществующего с Государством Израиль в мире и безопасности. Г-н Министр в очередной раз подтвердил, что это является и позицией Объединенных Арабских Эмиратов.
Международное сообщество должно помочь восстановить прямые переговоры между Палестиной и Израилем. Россия неоднократно предлагала возобновить работу «квартета» международных посредников, куда вместе с Россией входят США, ООН и Евросоюз. При этом многие годы подчеркиваем, что к усилиям «квартета» обязательно необходимо подключать представителя Лиги арабских государств.
Сегодня говорили о том, что рассматривается возможность формирования квартета арабских государств – Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. Считаю (и г-н Министр разделяет это мнение), что можно и нужно постараться объединить усилия международного и арабского «квартетов», для того чтобы согласовать условия возобновления прямых палестино-израильских переговоров.
Конечной целью является полная нормализация ситуации в регионе, создание Палестинского государства, установление отношений Израиля со всеми странами этой части мира, что предусмотрено Арабской мирной инициативой. Напомню, она была не просто одобрена ЛАГ, но и утверждена ОИС. Двигаться к этой цели – наша общая задача.

«Продали душу за Сахару»: как Трамп помирил Марокко и Израиль
CША признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Анна Юранец
Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Таким образом, королевство стало шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивом. Четыре из них — Марокко, ОАЭ, Бахрейн и Судан — сделали это при посредничестве администрации Дональда Трампа. На этот раз президент США для достижения дипломатической победы признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Движение за независимость территории уже призвало ООН оказать давление на королевство.
Марокко стало четвертым арабским государством, нормализовавшим отношения с Израилем за последний год. США снова выступили в процессе дипломатическим посредником и, судя по всему, предметом торга стало признание права Марокко на спорную территорию Западной Сахары.
«Очередной ИСТОРИЧЕСКИЙ прорыв сегодня! Двое наших БОЛЬШИХ друзей — Израиль и Королевство Марокко — договорились установить дипломатические отношения — масштабный прорыв к миру на Ближнему Востоке», — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Стороны договорились об открытии представительств в Тель-Авиве и Рабате, которые отсутствовали вот уже 20 лет из-за территориального конфликта Израиля и Палестины. Помимо этого Марокко и Израиль планируют начать работу посольств. Также стороны установят прямое авиасообщение.
«Свет мира в первый день Хануки никогда не светил ярче на Ближнем Востоке. Это база, на которой мы теперь можем строить мир, возобновить работу бюро по связям в Израиле и в Марокко, работать как можно скорее для установления полноценных дипломатических отношений. Я всегда верил, что этот прекрасный день придет, и постоянно работал ради этого»,— сказал премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе церемонии, которую транслировали основные каналы израильского ТВ.
Дипломатические отношения с Тель-Авивом уже установили ОАЭ, Бахрейн и Судан — и все при посредничестве администрации Дональда Трампа. Эти страны уже приветствовали нормализацию отношений Израиля с Марокко.
Беспокойство Палестины о том, что первое соглашение между ОАЭ и Израилем создаст угрозу арабской солидарности против Тель-Авива в его конфликте с Рамаллой, начинает становиться все более оправданным. О нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами объявил Дональд Трамп 13 августа, с того момента примеру ОАЭ последовали уже три страны. Таким образом, всего Израиль имеет дипломатические отношения уже с шестью арабскими странами. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией — в 1994-м.
Палестина же ссылается на Арабскую мирную инициативу, принятую в 2002 году. Согласно ней, установление отношений между арабскими странами и Израилем возможно «после прекращения оккупации захваченных в 1967 году палестинских земель, создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливого решения проблемы беженцев».
Однако, как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко, в арабском мире уже достаточно давно существует запрос на урегулирование внутренних конфликтов, которому и следуют некоторые страны. А арабская солидарность, к которой призывает Палестина в ее конфликте с Израилем, — далеко не такой существенный фактор.
«Всегда были национальные интересы, в том числе, по отношению к ближневосточному конфликту, в том числе, по отношению к Израилю. Эта тенденция началась не сегодня. Я думаю, что на сегодняшний день Израиль — это не тот фактор, который мог бы сплотить вокруг себя арабов на уровне государств, — отмечает эксперт.
— Этот конфликт всем надоел, есть совсем другие проблемы — те же исламские экстремисты. Поэтому, если мы посмотрим в будущее, отношения между арабами и Израилем, в основном, будут улучшаться».
Этим запросом достаточно успешно удалось воспользоваться администрации Дональда Трампа и в последние месяцы своей работы Белый дом закрепил свой успех на этом направлении. Нетаньяху в своем выступлении поблагодарил президента США за «огромные усилия по установлению мира между Израилем и народами Ближнего Востока» и короля Марокко Мухаммеда VI за «историческое решение о нормализации отношений с Израилем». Этому решению, однако, предшествовал достаточно широкий жест со стороны Белого дома в адрес Марокко.
«Режим готов продать душу»
Речь идет о признании суверенитета королевства над Западной Сахарой.
«Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания», — написал Трамп в своем Twitter.
Глава МИД Марокко Насер Бурита назвал решение президента США «историческим шагом» для королевства.
Рабат контролирует эту территорию с 1975 года и предлагает Западной Сахаре широкую автономию в составе королевства. Однако населяющий эту территорию коренной народ сахарави во главе с Фронтом Полисарио борется за ее суверенитет.
В 1991 году при посредничестве ООН стороны заключили перемирие и договорились о проведении референдума о независимости Западной Сахары. Однако им так и не удалось прийти к компромиссу в вопросе, кто именно будет участвовать в референдуме.
В распространенной пресс-службой Белого дома декларации отмечается, что США «признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары».
«США считают, что независимость территории является нереалистичным вариантом для урегулирования конфликта. Только подлинная автономия в рамках суверенитета Марокко будет единственно возможным решением. Мы призываем стороны начать диалог без промедлений, используя план Марокко по предоставлению автономии как единственную основу переговоров о взаимоприемлемом решении. Для достижения прогресса в этой цели США будут поощрять социально-экономическое развитие с Марокко, включая территорию Западной Сахары, и откроют для этого консульство в Западной Сахаре, в Дахле, чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе», — говорится в документе.
Фронт Полисарио уже осудил заявление президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.
«Решение Трампа ничего не меняет с юридической точки зрения по вопросу сахарави, потому что международное сообщество не признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Это является вопиющим нарушением Устава ООН, основополагающих принципов Африканского союза, и препятствует усилиям международного сообщества по поиску мирного решения конфликта между Сахарской Республикой и Королевством Марокко», — говорится в заявлении Фронта.
В своем заявлении движение также призвало ООН «оказать давление на Королевство Марокко, чтобы оно положило конец оккупации Западной Сахары».
Представитель движения в ООН Сиди Омар в своем Twitter отметил, что статус территории определяется международным правом и резолюциями ООН. «Этот шаг показывает, что марокканский режим готов продать душу ради нелегальной оккупации частей Западной Сахары», — написал он.
В четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш заявил, что «решение вопроса все еще может быть найдено на основе резолюций Совета Безопасности».
Политологи сходятся во мнении, что этот шаг при посредничестве США был продиктован, во многом, опасениями сторон в связи с нарастающем влиянием в регионе Ирана. С Тегераном у Израиля и США откровенно враждебные отношения.
«Трамп пытается создать имидж миротворца. Он президент, который не начал ни одной войны, президент, который наладил отношения с Северной Кореей, который способствует налаживанию контактов Израиля с арабскими соседями. Здесь много может быть целей, одна из них — создать общую коалицию из Израиля и арабских стран против Ирана», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Вперёд, ХАМАС!
Александр Проханов
Лидер палестинского ХАМАС Халед Машаль, мой сердечный друг, прекрасный лицом и душой араб. Сколько было встреч, сколько было задушевных разговоров. Он принимал меня в своей дамасской штаб-квартире, в крохотном зальце, где висел портрет основателя ХАМАС шейха Ясина, которого убил Израиль, пустив в него ракету с геликоптера. Там же — символ, знамёна ХАМАС. Там же — знаменитая мечеть Купол Скалы в Иерусалиме, которая является символом палестинского сопротивления, великой палестинской святыней.
Халед усаживался в кресло, меня сажал напротив, мы вели многочасовые беседы о политике, о религии, о человеческой сущности, о мировой культуре, о великой идее справедливости, за которую человечество сражается тысячи и тысячи лет.
Сам он родом с Западного берега реки Иордан, и отец в детстве подводил его к порубежной черте и показывал, как там, за рекой, светится огонь в их отчем доме. Он стал лидером палестинского сопротивления, пройдя мучительный и долгий путь сражений и борьбы. Когда он жил в Иордании, на него было совершено покушение "Моссада": убийца влил ему в ухо яд, после чего Халед без сознания лежал в больнице и умирал. И только вмешательство короля Иордании, который заставил израильтян прислать антидот, помогло, и Халед встал с одра. Он неустанно в поездках: по Ближнему Востоку, по Европе, по странам Латинской Америки. Он проповедует, объясняет. Благодаря его непрерывной проповеди и политике движение ХАМАС приобретает огромное количество сторонников среди европейских политиков, арабских шейхов, людей, исповедующих справедливость и свободу.
Когда мы встречаемся с ним, он, демонстрируя свою симпатию ко мне, называет меня шейхом шейхов. Я дорожу этим признанием, которое вылетает из его уст.
Он открыл мне путь в сектор Газа, который напоминает огромный, заключённый в израильские тиски мешок, где бьются, страдают и сражаются непокорённые палестинцы. В сектор Газа из Египта ведёт множество подземных ходов, множество пещер. Это своеобразный метрополитен, который прорыли трудолюбивые, умелые палестинские руки, пробивая из оккупированной территории сектора Газа связь с внешним миром. По туннелям в Газу движутся продовольствие, мука, бензин для автомобилей и, конечно, оружие. Газа начинала сопротивление, имея на руках крохотные самодельные миномёты, сваренные из кусков трубы. Теперь у ХАМАС могучая ракетная артиллерия, и в час обострения с территории Газы на соседние израильские города летят тысячи ракет "Кассам", совершая свой удар возмездия. Газу постоянно бомбят, над ней летают израильские дроны, выискивая цели, а в случае обострения конфликта сквозь бетонную стену, отделяющую сектор Газа от остальной территории, ломятся танки, утюжат окопы, и бойцы-палестинцы, пользуясь подземными ходами, ускользают от танковых атак, наносят с тыла удары гранатомётами и бутылками с горючей смесью.
Я увидел эту таинственную, загадочную, закрытую от мира жизнь сектора Газа. Двигался по туннелю. Ночами, когда нет ни одного огня, пробирался улицами, выходил к палестинским постам, к боевым ячейкам, состоящим из пяти или шести человек, вооружённых автоматами, рукодельными миномётами и противопехотными минами, которые стерегут подступы к городу. А где-то близко, во тьме невидимая, стоит бетонная огромная стена, по которой пущен электрический ток, стоят башни с пулемётами, реагирующими на любой шорох, на любую появляющуюся вблизи стены цель.
Не забуду встречи с палестинскими друзьями, с политиками, с журналистами, с молодыми телевизионщиками, которые гибнут под ударами израильских ракет и бомб, но сразу же, как только рассеется дым от взрыва, переходят в другое здание и продолжают вещать на мир.
Я выходил к морю, где вдалеке, чуть различимые, движутся израильские военные катера, блокируя морскую границу с Газой, не давая рыбакам ходить в море, обрекая Газу на полуголодное существование. Я молился в православном храме V века, и священник-грек принимал мою исповедь, благословлял меня на мои деяния.
Под бомбёжками, среди напастей жители Газы на пустырях высаживают тысячи оливковых саженцев, чтобы оливковые рощи росли на многострадальной земле и принесли ей мир и благополучие. Я посадил своими руками оливковый саженец, мял ладонями красноватую палестинскую почву, полил этот саженец, молился на него, как на священное дерево. И теперь моё второе − древесное "я" вырастает в центре Газы и охраняет многострадальный город от жестоких налётов, гонит своею листвою прочь израильские самолёты.
Халед Машаль — великий политик. Его политика среди слёз и молений, среди политических убийств и клеветы. Он по-прежнему для Израиля — цель номер один. Наши тайные встречи с ним сначала в Дамаске, а потом в Катаре, Дохе носили конспиративный характер. И я жду, когда снова его увижу, мы обнимемся, и он, глядя на меня своими весёлыми, мудрыми глазами, скажет: "Здравствуй, шейх шейхов".

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном, Москва, 7 декабря 2020 года
Уважаемые дамы и господа,
Хотел бы еще раз приветствовать моего коллегу, Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна, находящегося в России с первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства. Переговоры прошли в традиционно теплой, союзнической атмосфере стратегического партнерства, которая определяет развитие связей между нашими странами.
21 ноября с.г. в Ереване по поручению Президента России В.В.Путина находилась российская межведомственная делегация. В ходе встречи с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном и бесед с коллегами из Министерства иностранных дел, Министерства обороны и экономических ведомств подробно обсудили ситуацию, сложившуюся после подписания совместного Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября с.г., а также задачи, вытекающие в этой связи в интересах полного урегулирования нагорно-карабахской проблемы и в контексте развития двусторонних связей между Россией и Арменией.
Подписание Заявления от 9 ноября с.г. создает все необходимые условия для долгосрочного урегулирования конфликта на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов, стабилизации ситуации на Южном Кавказе.
Удовлетворены тем, что перемирие соблюдается «на земле» уже почти месяц. Идет возвращение беженцев, есть продвижение в обмене пленными и телами погибших, в поисках пропавших без вести. Заинтересованы в том, чтобы эти острые гуманитарные вопросы решались как можно скорее. Наметили ряд шагов на этом направлении.
Признательны нашим друзьям за высокую оценку деятельности российского миротворческого контингента. На первый план наряду с упомянутым мной решением гуманитарных проблем выходят задачи оказания содействия в восстановлении инфраструктуры, жилого фонда, налаживания нормальной жизни, здравоохранения. Разблокирование транспортных коридоров и всех экономических связей, как предусмотрено в совместном Заявлении от 9 ноября с.г., также должно сыграть позитивную роль в оживлении экономической активности, налаживании нормальной повседневной жизни в этом регионе.
Говорили о вопросах, связанных с созданием по инициативе Президента России В.В.Путина центра гуманитарного реагирования. Предложили сделать его международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы. В ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства.
Обменялись мнениями о подключении к постконфликтной реабилитации региона соответствующих международных организаций. В регионе уже не один год (с середины 90-х) работает Международный комитет Красного Креста (МККК). Его представители есть в Ереване, в Баку и Степанакерте. Штатное расписание будет увеличено, как нам сказал Президент МККК П.Маурер в ходе своего недавнего визита в Москву. Интерес проявляют также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ПРООН, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО заинтересована в сохранении всемирного культурного наследия. Это в полной мере отвечает интересам Армении. Россия поддерживает такой подход.
Нацелены на то, чтобы процесс восстановления экономики, инфраструктуры, систем здравоохранения и жизнеобеспечения способствовал созданию условий для налаживания добрососедских отношений между армянами и азербайджанцами, как на территории Нагорного Карабаха, так и в межгосударственном плане. Это помогло бы формированию в регионе атмосферы доверия и сотрудничества на благо проживающих народов и расположенных здесь стран.
Убеждены, что представители различных национальностей и вероисповеданий должны жить в мире и безопасности где бы то ни было. Южный Кавказ заслужил такой подход. Будем его всячески продвигать.
Отметили призванную сыграть в укреплении этих тенденций роль Минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей – Россией, Францией и США.
Подробно говорили о ключевых аспектах двусторонней повестки дня. У нас интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Несмотря на эпидемиологические ограничения, активно продолжается сотрудничество по линии министерств и ведомств, включая сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вице-премьеры, возглавляющие данную комиссию, находятся в постоянном контакте. На повестке дня проведение очередного полноценного заседания межправкомиссии и Российско-армянского межрегионального форума. Соответствующие мероприятия состоятся, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией.
Приветствовали хороший рост товарооборота в прошлом году на 26 процентов (до 2,5 млрд долларов), а в этом «коронавирусном» году уникальный результат – он сократился всего на 0,7 процента. У России мало с кем из ее торговых партнеров есть такие цифры. Считаем это важным.
Договорились, что внешнеполитические ведомства будут всячески способствовать созданию необходимых условий для дальнейшего углубления торгово-экономических связей. Подчеркнули, что будем укреплять договорно-правовую базу наших отношений. Ускорим подготовку документов в сфере массовых коммуникаций, биологической и международной информационной безопасности.
Придаем большое значение изучению русского языка в Армении. Ценим, что наши друзья понимают значение этого направления сотрудничества. В Республике около 60 государственных школ осуществляют углубленное обучение русскому языку, действуют 6 филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет. Всего в российских вузах обучаются свыше пяти тысяч граждан Армении, из них более двух тысяч – за счет федерального бюджета Российской Федерации. Продолжим выполнять подобные программы, выделять соответствующие квоты. Готовы их увеличивать.
Говорили о задачах противодействия коронавирусу. Подчеркнули важность наращивания усилий по линии общих интеграционных объединений в интересах укрепления единого санитарно-эпидемиологического пространства, о чем недавно в рамках видеоконференции говорили лидеры наших государств.
В двустороннем формате Россия продолжит поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медтехнику. Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.
Высоко оценили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ). Условились продолжать тесную координацию в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), других многосторонних форумах. Рассмотрели ход реализации Плана консультаций между нашими министерствами на 2020-2021 гг. Договорились внести в него соответствующие коррективы, связанные с переносом ряда мероприятий из-за пандемии коронавируса.
У нас состоялся очень полезный, полноценный первый контакт с новым Министром иностранных дел Армении, который любезно пригласил меня посетить Ереван в очередной раз. С удовольствием приеду. По срокам договоримся дополнительно.
Вопрос: В свете Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября с.г. и Совместного заявления глав делегаций стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря с.г. могли бы Вы обозначить основные задачи и направления дальнейшей работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ?
С.В.Лавров: Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели Россия, США и Франция (изначально были Россия и США, Франция присоединилась позднее по просьбе Парижа) проделали за последние годы очень большую работу, в том числе разработали, согласовали со сторонами в целом, хотя и не до последних деталей, базовые принципы урегулирования. Они и легли в основу договоренности, зафиксированной в Заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября с.г. Имею в виду передачу Азербайджану пяти, а потом еще двух районов, также развертывание миротворцев для обеспечения безопасности в регионе, создание Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией и разблокирование всех транспортных и экономических связей и коммуникаций. Всё это закреплено в Заявлении и начинает осуществляться максимально эффективно.
Вопрос: В контексте обеспечения условий для скорейшего возвращения к нормальной жизни как Вы оцениваете уровень взаимодействия Межведомственного центра гуманитарного реагирования с местными властями Нагорного Карабаха?
С.В.Лавров: Миротворцы вместе с Межведомственным центром гуманитарного реагирования активно сотрудничают с местным населением. Содействие, оказываемое возвращающимся людям, предоставляется с первых же минут, когда там появились миротворцы и спасатели – сотрудники МЧС России. Этот процесс сейчас обретает устойчивый характер. Люди приобретают больше уверенности в том, что происходит. Будем всячески укреплять эти настроения. Этому способствуют ведущиеся переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный – с участием Армении и Азербайджана. Соответствующие документы обсуждаются по линии соответствующих структур.
Среди продолжающихся процессов, которые должны детализировать договоренности, есть тема конкретизации правовых аспектов зоны ответственности российских миротворцев. Это та зона, которую они занимают в соответствии с Заявлением от 9 ноября с.г. Миротворцы выполняют функции по обеспечению безопасности, созданию условий для возвращения беженцев, содействию в решении гуманитарных вопросов, обеспечению нормальной жизнедеятельности.
Процесс идет в том направлении, о котором договаривались вместе со сторонами сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Исходим из того, что самое главное – обеспечить всестороннюю поддержку Заявлению трех лидеров от 9 ноября с.г. На состоявшемся 3 декабря с.г. виртуальном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ три сопредседателя на уровне глав внешнеполитических ведомств приветствовали Заявление от 9 ноября с.г. и высказались в поддержку его реализации.
Из тех задач, которые предстоит решать и по которым сопредседатели могли использовать свой вес и авторитет, отмечу подключение международных организаций. Очень важно определить правильные параметры такого взаимодействия. Международный комитет Красного Креста (МККК) работает там давно. А организации системы ООН, хотя и присутствуют в Армении и Азербайджане, но в Карабахе их не было. Сейчас Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш готовит (это займет время, но бюрократия есть бюрократия) оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН. Они рассчитывают направить ее туда в середине декабря. Хотели, чтобы эти миссии максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической, предметной помощи на всех направлениях, являющихся наиболее острыми для тех, кто живет в Нагорном Карабахе: восстановление необходимой инфраструктуры, жилищного фонда, решение других гуманитарных вопросов.
Особое внимание сопредседатели могли бы уделить теме сохранения религиозных объектов, культурного наследия в Нагорном Карабахе. На эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО. Эта организация тоже готовит свою оценочную миссию. В качестве страны-сопредседателя заинтересованы в том, чтобы вместе с французскими и американскими коллегами побуждать международные организации обеспечивать прогресс на этих направлениях. Сохранение, защита культурного наследия, религиозных объектов имеет особое значение. Думаю, что Франция как страна-хозяйка штаб-квартиры ЮНЕСКО может сыграть в этом особую роль. Считаю, что американская сторона тоже может этому поспособствовать.
Вопрос: Договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября с.г., очевидно, стали лишь временным шагом на пути к урегулированию карабахского конфликта. Планируются ли в ближайшее время более содержательные дискуссии по этому вопросу на уровне глав МИД Армении и Азербайджана или на высшем уровне? Когда такие встречи могут состояться?
С.В.Лавров: Я говорил во вступительном слове, что частью устойчивого долгосрочного урегулирования является налаживание нормальной жизни в этом регионе, которая отвечала бы интересам всех национальных, этнических, конфессиональных групп. Это подразумевает сосуществование и добрососедство армян, азербайджанцев и других народов, проживающих в регионе. Выступаем за это и будем приветствовать любые шаги, которые стороны будут готовы предпринять в этом направлении. Будем их к этому поощрять. Когда могут состояться прямые контакты между Баку и Ереваном, в т.ч. на высшем уровне, решать нашим азербайджанским и армянским коллегам.
Вопрос: 3 декабря Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Ж.Боррель употребил в своем блоге термин «астанизация», характеризуя раздел сфер влияния, например, России и Турции. Он заявил, что такой сценарий был в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии. Согласны ли Вы с такой трактовкой и вообще в целом с этим термином?
С.В.Лавров: Не читал блога Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Ж.Борреля с термином «астанизация». Надеюсь, он именно это имел ввиду, а не какие-то другие созвучные выражения. В данном случае я не усматриваю какого-то негативного подтекста. Надеюсь, что он не вкладывал негативное звучание в это слово, которое он изобрел, потому что по большому счету «Астанинский процесс» сложился в контексте сирийского кризиса.
Пока «Астанинский формат» не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще. Целый год ничего не делалось, ссылались на различные проблемы, связанные то с одним, то с другим аспектом: то Правительство было готово, а оппозиции не была готова, то оппозиция была представлена исключительно эмигрантами, а не от них зависит положение на поле боя и многое другое. Тогда Россия, Турция и впоследствии присоединившийся к ним Иран как непосредственно заинтересованные страны, соседи (а Россия как страна, которая понимала страшный риск повторения в Сирии того же, что до этого устроили в Ливии и Ираке), решили воспользоваться своим влиянием на сирийские стороны для того, чтобы хоть как-то начать усаживать их за стол переговоров.
Так появилась инициатива проведения Конгресса сирийского национального диалога. Мы смогли расшевелить ООН, которая именно после «Астанинской инициативы» согласилась участвовать в «Астанинском процессе», где за столом переговоров представлены Правительство и вооруженная оппозиция наряду с Россией, Турцией и Ираном как гарантами «Астанинского процесса». Там присутствуют и наблюдатели от арабских стран (Иордании, Ирака и Ливана), а также представители ООН. Мы должны без ложной скромности признать, что начинания «Астанинского процесса», его конкретные договоренности и сейчас определяют магистральное направление сирийского урегулирования, которому следует ООН при поддержке всего мирового сообщества.
Что касается проецирования этого формата на другие регионы – это дело политологов. Но что касается Южного Кавказа, то и Россия, и Турция, и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона и нам не безразлично, как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами. Это касается и Заявления от 9 ноября с.г., согласованного по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина вместе с его коллегами из Азербайджана и Армении, и той большой серьезной помощи, которую мы оказываем в преодолении последствий горячей фазы этого конфликта и миротворцами, и гуманитарными поставками, и во многих других формах.
Что касается «настроения», которое Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Ж.Боррель изложил в своем блоге, то, как я понимаю, он немного озабочен тем, что кто-то другой кроме Евросоюза может делать какие-то инициативные шаги в современном мире. Напомню, что некоторое время назад предшественница Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Ж.Борреля г-жа Ф.Могерини заявила, что, когда Евросоюз приходит на Балканы или какой-то другой регион, остальным там делать нечего. Потом, когда мы задали недоуменные вопросы, они стали делать вид, что их не так поняли. Но все всё поняли прекрасно. Если «астанизация» вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, наверное, Евросоюзу тогда придется пережить эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно. Очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не будет пытаться представлять современный мир, как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения геополитических выгод и односторонних преимуществ.

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ 2.0: ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
АНДРЕЙ ФРОЛОВ
Кандидат исторических наук, ведущий программы «Полигон» на радио «Говорит Москва».
Осенняя война в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, без сомнения, стала одним из самых значимых событий и так сложного 2020 года. По стремительности течения и результативности её можно сравнить с войной Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств. Глобальные выводы относительно армяно-азербайджанской войны делать ещё рано, но можно подвести промежуточные итоги.
Последнее столкновение между Арменией и Азербайджаном отличалось скоротечностью, что для нынешнего времени нетипично. Азербайджанской армии хватило 45 дней, чтобы практически полностью разрушить военную инфраструктуру армян в Нагорном Карабахе и поставить имеющиеся там силы на грань полного поражения. Это тем более удивительно, что речь шла о столкновении примерно равных противников, причём Армения готовилась к войне на протяжении всех последних 25 лет. На фоне Ливии, Сирии и востока Украины – всё это выглядит действительно новым словом. Помимо прочего, военный эпизод между Арменией и Азербайджаном оказался очень кровопролитным – потери сторон сравнимы с потерями в ходе длившейся почти год «горячей части» конфликта на Донбассе.
Особым можно назвать и то обстоятельство, что стороны вели военные действия без прямого участия третьей стороны, то есть коалиционных войн не было. Безусловно, на стороне как Азербайджана, так и Армении выступали союзники, но если российские действия ограничивались экстренными поставками вооружения, то турецкие военные были задействованы в войне «гибридно» – из штабов и со своей территории, хотя прямых доказательств непосредственного турецкого участия в конфликте нет до сих пор. В то же время обе стороны активно использовали иностранцев – в случае с азербайджанской армией это были протурецкие боевики из Сирии, за армянскую армию воевали этнические армяне – жители других стран. Их участие было не столь велико, тем не менее война в Карабахе продолжила эту «традицию» последних лет, когда на полях боевых действий наблюдается активное присутствие иностранцев в различных формах (частные военные компании, наёмники, добровольцы и так далее). Для полного сходства отметим, что согласно известным данным, сирийских боевиков для войны в Карабахе вербовала турецкая спецслужба МИТ, которая по той же схеме отправляла личный состав из Сирии в Ливию.
Стоит отметить и полную внезапность конфликта. Хотя постфактум многие эксперты стали цитировать свои более ранние публикации, где говорилось о неизбежности столкновения, именно в такой форме его никто не ожидал. Это вдвойне любопытно, так как в июле 2020 г. был «фальстарт», когда в приграничном районе погибло двое офицеров азербайджанской армии в звании генерал-майора и полковника. Но тогда это не привело к каким-либо значимым молниеносным последствиям. К подобному за 25 лет в приграничье все привыкли, и можно допустить, что данный случай усыпил бдительность армян.
Апофеозом беспрецедентных мер по стратегической маскировке планов, дезинформации и жесточайшей цензуре любой информации из приграничных районов стали совместные азербайджанско-турецкие учения в июле-августе. Они позволили безболезненно провести перегруппировку войск, «спрятать» отдельные части и сформировать ударные группировки на границе. Вероятно, последние приготовления шли буквально накануне операции, что позволило предельно минимизировать возможные утечки информации, а также держать армян в неведении относительно истинных замыслов. Армения по понятным причинам не имеет средств космической и авиационной разведки для отслеживания подобных приготовлений, что не позволило ей отследить все эти приготовления. Агентурные возможности армян оценить невозможно. Парадоксально, но задачу по поддержанию контрразведывательного режима азербайджанским военным сильно упростила эпидемия коронавируса, из-за которой ещё с весны в стране была сильно ограничена мобильность населения. Это также сокращало риск нежелательных встреч любознательных граждан с камерами в телефонах с колоннами военной техники на марше.
Война показала важность долгосрочного планирования и создания запасов материально-технических средств и вооружения, так как расход боеприпасов обеими сторонами явно был очень велик. Нельзя не признать стратегическое значение формально гражданской азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way Airlines, чей парк из тяжёлых транспортных самолётов Boeing 747 и Ил-76ТД/МД осуществлял стратегические перевозки из Израиля, Турции и Грузии с первого до последнего дня конфликта. Судя по всему, дефицита в боеприпасах азербайджанская сторона не испытывала. Возможности Армении в сфере воздушного транспорта были намного более ограниченными, однако и в этом случае основная нагрузка легла на формально гражданские борты чартерных компаний (например, Atlantis European Airways и Klas Jet). Можно предположить, что они перевозили в основном относительно негабаритный груз (за исключением Ил-76) и боеприпасы.
Внимание привлекло и применение Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов. Заговорили чуть ли не о революции в военном деле, которая началась именно с Карабаха. Действительно, Азербайджан весьма активно использовал ударно-разведывательные БЛА и барражирующие боеприпасы турецкого и израильского производства, на которые пришлась значительная часть уничтоженной тяжёлой техники армянских войск. Однако преувеличивать этот успех не стоит. Современным средствам поражения противостояли устаревшие ЗРК советского производства, которые создавались для поражения совсем других целей, не говоря уже о том, что довольно много ЗРК «Оса-АК» были закуплены в Иордании, и их состояние неизвестно. Военная хитрость – беспилотные самолёты Ан-2 в качестве ложных целей – усугубила ситуацию, вскрыв систему ПВО армян, но принципиально это не меняло сути и лишь ускорило уничтожение выявленных средств ПВО за счёт массированного удара БЛА. У армян отсутствовала современная эшелонированная система ПВО, не задействовалась пилотируемая авиация, они не подвергали атакам пункты управления и аэродромы базирования азербайджанских аппаратов. При таких условиях уничтожение средств ПВО было только вопросом времени. Безусловно, заслуживающим внимания фактом является отказ сторон от применения пилотируемой авиации для поражения наземных целей – за исключением не очень понятного эпизода, в ходе которого ВВС Армении потеряли штурмовик Су-25 без воздействия противника. Причём этот отказ произошёл в условиях довольно серьёзных авиационных группировок, имевшихся у Азербайджана, и – в меньшей степени – у Армении.
Действия БЛА невозможно отделить и от активного использования подразделений специального назначения и ракетно-артиллерийских частей. БЛА выступали в роли целеуказателей и разведчиков, обеспечивая командование в первую очередь азербайджанской армии информацией в режиме реального времени. Армяне стали применять свои БЛА для разведки только на заключительном этапе конфликта, но, насколько можно судить, они уступали БЛА противника – в первую очередь по автономности и, вероятно, по возможностям оптико-электронных обзорных систем. Так или иначе, благодаря БЛА действия диверсионно-разведывательных групп были чрезвычайно эффективными, предположительно, на них пришлась большая часть успешных засад и операций оперативно-тактического уровня. Например, считается, что Шуша была взята так быстро и практически без потерь именно благодаря тому, что азербайджанские спецназовцы смогли преодолеть горы и выйти к самому городу, не прорываясь через линию укреплений. Соответственно, на счету их армянских визави ряд успешных засад и захватов позиций азербайджанцев, а также целеуказание для собственной артиллерии, которая оказалась единственным средством, способным эффективно тормозить наступления азербайджанской армии.
Война в очередной раз показала важность создания полноценных инженерных укреплений и маскировки в условиях широкого применения БЛА или господства в воздухе одной из сторон. Видимо, в XXI веке слабейшая сторона может уповать на сеть подземных укрытий и капониров для танков и артиллерии, которые могут минимизировать потери от лёгких БЛА, чьи боеприпасы не обладают необходимым могуществом. Это требует существенных затрат стройматериалов, людских и временных ресурсов, но как показывает опыт иррегулярных формирований на Ближнем Востоке и в Афганистане, не является неразрешимой задачей. В то же время развитые укрепления армян на севере не позволили азербайджанской армии продвинуться на этом направлении, хотя фактически никакого штурма и прорыва этих укреплений и не было.
В ходе данного конфликта стала очевидна относительная неэффективность ракетных комплексов. Несмотря на довольно массированные пуски по меркам такого скоротечного и ограниченного конфликта, ракетчики так и не смогли решить ни оперативные задачи, ни задачи устрашения мирного населения. Хотя были отдельные случаи удачного поражения военных целей, на общем фоне погоды они не сделали. При этом оттягивали на себя значительное число подготовленного персонала, ресурсов, материальной части и так далее. Как минимум одна пусковая установка с невыпущенной ракетой комплекса Р-17 «Эльбрус» армян была поражена с БЛА, что является довольно характерным символом, возможно, предвестником перехода к БЛА роли оперативно-тактических комплексов.
Определённые выводы можно сделать и относительно развития военной техники. В очередной раз встал вопрос о необходимости относительно дешёвого ЗРК с дешёвым и многочисленным боекомплектом для поражения «роя» БЛА, сам он при этом будет их первоочередной целью. Боекомплект такой системы должен включать не менее 30 ракет, не менее пары зенитных орудий, нужен собственный комплекс РЭБ, а также возможность автономной работы в автоматическом режиме для снижения потерь в расчёте. Система должна быть модульной, способной монтироваться как на колёсном, так и на гусеничном шасси. На удивление действенной мерой снижения потерь в личном составе может быть оснащение всех автомобилей на линии фронта бронированными кабинами и по возможности кузовами, так как это позволяет снизить потери даже при прямом попадании. Оптимально оснащать эти же автомобили и системой предупреждения о лазерном облучении и противодействия ему, что позволит существенно снизить эффективность авиационных средств поражения с лазерным наведением. Это же касается танков и артиллерийских орудий.
Армения ждала войны, но готовилась к совершенно иному конфликту, а своими политическими шагами по факту только его приближала. Неожиданностью оказалась нескоординированность действий.
Несмотря на формальное разделение «Армии обороны Арцаха» и собственно армянской армии, существовало понимание того, что это единый военный организм. Но в результате карабахский фронт почти никак не почувствовал результаты военных усилий Еревана последних лет в виде закупок современной военной техники. Всё ограничилось сербскими лёгкими вооружениями и боеприпасами, а также автомобильным транспортом, отдельными ЗРС и ПЗРК. В то же время с противоположной стороны было целенаправленное военное строительство, подчинённое одной конкретной задаче и операции.
Война в Карабахе стала первой полноценной войной времён коронавируса, а также первым за долгие годы конфликтом приблизительно равных противников. Она имеет ряд уникальных черт, которые заслуживают самого внимательного изучения и осмысления. Важно, что нововведения, касающиеся военной техники и методов её применения, использовались не порознь, как в предшествующих конфликтах, а в одном месте и в одно время. Это похоже на «эффект айфона», создатели которого творчески применили имеющиеся отдельные наработки и синтезировали их в новый продукт. Нельзя исключать, что некоторые приёмы осенней кавказской войны станут неотъемлемой частью всех конфликтов ближайших лет.

НАША ПЕСНЯ ХОРОША, НАЧИНАЙ СНАЧАЛА
ИЛЬЯ ФАБРИЧНИКОВ
Член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант.
АФГАНСКАЯ И ИРАНСКАЯ ПОЛИТИКА США ПРИ ДЖО БАЙДЕНЕ
У Трампа осталось два месяца для того, чтобы сделать жизнь администрации Байдена совершенно невыносимой хотя бы на двух направлениях: Иран и Афганистан. И хотя бы в среднесрочной перспективе.
Всю вторую половину своего президентского срока на внешнем треке Дональд Трамп построил на стратегии «быстрых побед». Одно направление – закручивание гаек во всём, что касается Ирана (не в последнюю очередь благодаря тесному взаимодействию своего советника по национальной безопасности Джона Болтона с заливными монархиями). Другое – вывод американских войск из Афганистана: их присутствие там сократилось по меньшей мере вдвое, начался процесс мирного урегулирования с запрещённым в России движением «Талибан». Его интеграция в афганский внутриполитический процесс должна завершить во многом бесцельное почти двадцатилетнее пребывание оккупационных сил западной коалиции в этой стране.
Давление на Иран было частью куда более сложной игры трамповской администрации на Ближнем Востоке по созданию широкой антииранской коалиции, а, вернее даже объединенного антииранского фронта, включающего в себя, с одной стороны – заливные монархии (ОАЭ, Бахрейн, Иорданию и, в самой ближайшей перспективе, Саудовскую Аравию), а с другой – Израиль, который получил из рук советника и зятя американского президента Джареда Кушнера желаемую еврейским государством формулу ближневосточного урегулирования: столица в Иерусалиме, посольства в Иерусалиме, сектор Газа. На возмущение палестинцев не стали обращать внимания. Дополнительно ситуацию обострили, ликвидировав заместителя руководителя КСИР, командира спецподразделений «Кудс» Кассема Сулеймани, видимо, чтобы сделать более сговорчивыми иракцев, внешнеполитический и военный приоритет Тегерана.
Иран обещал кары небесные на головы американских дипломатов, разведчиков и военных, работающих в регионе. Однако, предсказуемо, ничего не произошло: даже давно ожидавшееся завершение санкционного режима ООН, которое запрещало продажу иранцам систем тяжёлого вооружения, никак не отразилось на региональных позициях Тегерана – никто из поставщиков ВВТ не спешит заключать с иранцами сделки, боясь реакции Вашингтона. По факту Иран остался «при своих», тогда как администрация Трампа последовательно занималась его окружением со всех сторон. Но даже с помпой разрекламированное примирение суннитских монархий с Израилем (не в последнюю очередь под соусом совместного противостояния Тегерану) принесло Белому дому меньше дивидендов, чем ждали: поддержки еврейского лобби для победы на выборах не хватило.
С Афганистаном ситуация складывалась иным образом. Трамп, в отсутствие серьёзных внешнеполитических прорывов, был исключительно ориентирован на вывод регулярных американских войск из страны, но для этого нужно было создать хотя бы видимость внутриафганского мирного процесса. Открытие в Дохе при поддержке США межафганских переговоров с участием талибов и представителей президента Ашрафа Гани, которые продолжаются уже более полугода, не просто не принесли желаемых результатов: масштабные теракты и в Кабуле, и в других крупных городах стали греметь только чаще (за последний месяц четыре крупных взрыва, последний случай – в Кандагаре), и всё это – на фоне постепенного сокращения военного присутствия США (сейчас в стране около 4 тысяч военных, а в начале 2020 г. их было более 10 тысяч).
Талибы же заняли выжидательную позицию: чтобы просто подобрать власть, когда она сама упадёт к ним из рук всё слабеющего Гани, который не только рассорился с хазарейцами, таджиками и узбеками, но и останется без поддержки американских штыков. В то же время влияние «Талибана» в большинстве провинций растёт, а собственная афганская армия и силы Главного управления национальной безопасности терпят поражение за поражением.
И для Ирана, и для Афганистана приход к власти Дональда Трампа в 2016 г. был трагедией. Иранцы не просто рассчитывали на победу Хиллари Клинтон, они были в ней уверены и возлагали огромные надежды на хотя бы частичную нормализацию отношений: между иранскими МИДом и спецслужбами и Государственным департаментом с ЦРУ были протоптаны надёжные дорожки взаимопонимания не просто на оперативном, исполнительском уровне – министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа и госсекретаря Керри связывали хорошие рабочие отношения. Когда же к власти пришёл Трамп, иранскую повестку стали определять эмиссары движения «Муджахедин э-Хальк», у которых сформировался удивительный симбиоз с помощником Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани. Результат – новые, ещё более жёсткие санкции, включение КСИР в перечень террористических организаций, ликвидация Кассема Сулеймани и частичная утрата «Хизбаллой» контроля над Ливаном. А приписанное иранским диверсионным отрядам нападение на эмиратские танкеры (адвокатом и бенефициаром этой версии выступал лично Джон Болтон) чуть было не взорвало всю ситуацию в регионе.
Что же касается Афганистана, то Ашраф Гани и его приближённые (круг которых таял с каждым месяцем в течение всего последнего года), окончательная утрата влияния США на позицию Пакистана по зоне племён, спешка с мирным процессом и выводом войск для того, чтобы как можно скорее набрать как можно больше внутриполитических очков – всё это привело к тому, что поддерживаемая Вашингтоном центральная афганская власть последовательно торпедировала (и продолжает это делать) любые американские шаги по снижению присутствия в стране. Без американских баз в стране режим в Кабуле обречен, а коалиционные силы с марта 2020 г. не прибегают больше к профилактическим бомбометаниям, которые могут подорвать и без того хрупкий политический процесс.
Изменится ли всё с приходом в Белый дом Байдена? И будет ли готова новая администрация учитывать интересы России в Афганистане, снизить давление на Тегеран?
Демократические администрации стабильно рассматривали Иран как альтернативный центр силы на Ближнем Востоке, а тегеранский истеблишмент им в этом активно подыгрывал, несмотря на сопротивление Израиля и Саудовской Аравии.
Можно уверенно предположить: как только в адрес Тегерана будут транслированы хотя бы какие-то сигналы, которые иранское руководство сможет истолковать как примирительные и позволяющие сторонам хотя бы «откатиться» к статусу пятилетней давности, иранский истеблишмент этим воспользуется. И элиты, и народ объективно устали находиться под санкционным режимом, который усугубляется год от года, а для американской администрации сейчас куда важнее сконцентрировать силы на противодействии Пекину и восстановлении прежних союзнических связей с Европой, которая до последнего противилась любым попыткам Трампа отправить СВПД на свалку. Судьба самого СВПД не ясна, и, скорее всего, американцы при Байдене предложат иранцам какой-то новый формат, новые переговоры (которые будут трудными, но по крайней мере – будут). Не исключено, что разговаривать захотят без участия России: вряд ли новая американская администрация откажет себе в удовольствии ударить по сотрудничеству России и Ирана. По некоторым признакам похоже, что сами иранцы не будут сильно возражать, если взамен получат ослабление давления.
Что же касается афганской политики, похоже, она вряд ли вернется в число приоритетов для приложения американских усилий. Байден и его внешнеполитическая администрация не смогут решить проблему Афганистана – ситуация слишком запущенная, чтобы ей управлять, нужно наращивать и объёмы финансовой и военно-политической помощи, и присутствие войск на афганской территории. Избиратель не поймёт таких шараханий. Но вот использовать афганскую нестабильность (включая потворство экспорту напряжённости) для того, чтобы ещё большое «размягчить» российское влияние на Центральную Азию, Вашингтон вполне может. Байден вряд ли откажется от столь полюбившихся ему тезисов о том, что российские спецслужбы финансировали в Афганистане охоту за американскими скальпами. И те громкие слова, которые Байден произнёс во время предвыборных дебатов с Трампом о необходимости призвать Россию к ответу за её действия в Афганистане вряд ли не будут подкреплены никакими конкретными действиями. Для этого у Белого дома достаточно и политического желания, и ресурсов.
У Трампа же осталось два месяца для того, чтобы сделать жизнь администрации Байдена на этих двух направлениях совершенно невыносимой – хотя бы и в среднесрочной перспективе. Уже были анонсированы новые санкции в отношении Ирана, которые Белый дом будет последовательно включать, как было заявлено, «каждую неделю». А заодно может в форсированном порядке вывести по меньшей мере ещё 2500 американских штыков из Афганистана, что приведёт к окончательной деградации ситуации. Это, правда, способно сыграть на руку новым американским внешнеполитическим руководителям (поговаривают, что ими могут стать бывшая замминистра обороны Мишель Флурной и бывший посол в России Уильям Бёрнс), которые смогут продемонстрировать добрую волю и готовность разговаривать со всеми заинтересованными сторонами.
Залечить раны. Главное, чтобы было что залечивать.

ИСМАИЛ САФИ: ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ И СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ
ИСМАИЛ САФИ
Член Совета при президенте Турецкой Республики по вопросам безопасности и внешней политики. Был одним из учредителей правящей Партии справедливости и развития (ПСР), занимал различные партийные посты, был депутатом Великого Национального собрания Турции.
ИЛЬЯ ФАБРИЧНИКОВ
Член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант.
Развивающаяся и укрепляющаяся Турция будет искать установления более тесных отношений со странами региона. Но почему это нужно называть «неоосманской» политикой? О том, чего можно ожидать от Турции в ближайшей перспективе, рассказал в интервью globalaffairs.ru член Совета при президенте Турецкой Республики по вопросам безопасности и внешней политики Исмаил Сафи. С ним беседовал Илья Фабричников.
ВОПРОС: Как бы вы сформулировали национальные интересы Турции на среднесрочную перспективу – 3–5 лет? И какая внешняя политика, по вашему мнению, будет служить достижению этих национальных интересов?
ОТВЕТ: Интересы Турции на кратко- и среднесрочную перспективу предполагают приоритетную задачу продолжения борьбы против угрожающих ей террористических проявлений внутри страны и вокруг неё. Другим приоритетом является укрепление мира и стабильности на международной арене, в том числе в регионе. Таким образом, Турция будет противодействовать – как у себя, так и за пределами своих границ – террористическим организациям и стараться совершенствовать модель взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами.
ВОПРОС: Какую цель ставит Анкара, активно вовлекаясь на сей раз в карабахское обострение? Президент Эрдоган говорил о необходимости деоккупации территории, но это – очень крупная война. Готова ли Анкара поддерживать Баку в решении этой задачи?
ОТВЕТ: Все мы знаем, что часть территории Азербайджана находится под армянской оккупацией. Есть целый ряд резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающий прекращение армянской оккупации. Турция будет рядом с братским народом Азербайджана в том, что касается необходимости соблюдения законности и международного права. Разумеется, очень хотелось бы, чтобы оккупация прекратилась без войн и чтобы как можно скорее там воцарились мир и благополучие.
Под миром мы имеем в виду прочный мир. Режим прекращения огня в течение тридцати лет, пусть даже с некоторыми перерывами, в целом соблюдался. Но привело ли это к решению проблемы? Конечно, нет.
Продолжение войны тоже не является решением проблемы, но если его не обеспечивает и прекращение огня, то следует стремиться к более всеобъемлющему и основательному урегулированию. Готовы ли стороны конфликта, а также посредники к такому вызову? В действительности ли они намерены добиваться решения проблемы? Вот главный вопрос, который ожидает своего ответа.
ВОПРОС: Рассматривает ли Анкара Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан как зону своего влияния? Зону приложения своих национальных интересов? Не считаете ли вы, что Москва может считать интересы Турции в этих странах противоречащими российским национальным интересам?
ОТВЕТ: Анкара не рассматривает эти страны как зону своего влияния или интересов, а видит в их лице достойные, дружественные и братские государства. Собственно говоря, у неё иной подход. Отнесение этих стран к зоне чьих-то интересов или влияния, было бы несправедливо по отношению к ним, если не сказать унизительно. В нашей внешней политике нет места таким понятиям и подходам.
Исходя из этого, убеждён, что не стоит беспокоиться по поводу возможности начала какой-то борьбы между Москвой и Турцией за сферы влияния в регионе, возникновения там противоречий между их интересами. Мы рассматриваем эти государства как направление сотрудничества наших двух стран на основе общих интересов и принципа взаимного уважения.
ВОПРОС: Министр иностранных дел Чавушоглу сообщил, что Москве предлагали сирийскую схему для Карабаха. Что это значит на практике? Новая формула урегулирования? Зоны деэскалации?
ОТВЕТ: Женевский процесс, к сожалению, оказался недостаточным для обеспечения прекращения многолетнего кровопролития в Сирии. Между тем инициированный Россией, Турцией и Ираном астанинский процесс оказался успешным и, по сути, открыл путь к миру в Сирии. Иными словами, «астанинский процесс» стал для всех нас хорошим опытом и успешно сданным экзаменом.
Аналогичным образом, применительно и к карабахской войне, инициированный Россией и Турцией процесс мог бы обеспечить там мир. Что касается возможных слагаемых формулы урегулирования, то это уже больше вопрос технического порядка.
Деятельность Минской группы ОБСЕ, которая не смогла обеспечить мир и решения карабахской проблемы в течение тридцати лет, к сожалению, не увенчалась успехом. Естественно, наши надежды на урегулирование и восстановление мира всё ещё сохраняются. Но я, однако, полагаю, что сейчас есть необходимость в новых формах взаимодействия, в новых подходах.
ВОПРОС: Внешнюю политику Турции сейчас называют неоосманской. Стоит ли задача возвращения ко всем прежним сферам влияния? Со стороны выглядит именно так.
ОТВЕТ: Наблюдаемая особенно в последнее время тенденция на проведение Турцией на международной арене более решительной и независимой внешней политики, увы, вызывает обеспокоенность у ряда стран, которые таким образом стараются незаслуженно вешать на нас ярлыки. Развивающаяся и укрепляющаяся Турция, естественно, будет искать установления более тесных отношений со странами региона. Но почему это должно называться «неоосманской» политикой?
Думаю, что главная причина подобных оценок кроется не в собственно внешнеполитической линии правительства правящей ныне Партии справедливости и развития. Они скорее обусловлены опасениями некоторых сил, испытывающих тревогу в связи с дальнейшим увеличением роли Турции.
Аналогичным образом – разве не наблюдаются попытки отдельных кругов вешать подобные ярлыки и на Россию, проводящую в последнее время активную внешнюю политику, путём приписывания ей «планов» создания новой Российской Империи или нового СССР?
ВОПРОС: Как вы считаете, Российская Федерация воспринимает Турцию как своего регионального оппонента с учётом соприкосновений в Сирии, дискуссий вокруг Ливии, претензий Турции на спорные месторождения углеводородов в средиземноморском бассейне? Может ли это помешать двустороннему торговому и энергетическому сотрудничеству?
ОТВЕТ: Турция, у которой в районе Восточного Средиземноморья наиболее протяженная береговая линия, твёрдо и решительно намерена отстаивать здесь свои права и интересы. Мы не рассматриваем Россию как регионального оппонента в этом районе, а считаем её партнёром. Более того, обе страны, особенно в последнее время, хорошо понимают важность такого сотрудничества и получают соответствующую выгоду от этого.
В Восточном Средиземноморье нашими конкурентами больше могут считаться европейцы, и это естественно. Но почему там нашим оппонентом должна быть Россия? В принципе если нам удастся избавиться от всех исторических предубеждений и сконцентрироваться на дне сегодняшнем, на сферах наших общих интересов, уверен, что мы с вами будем разговаривать не о противоречиях и соперничестве в регионе, а на темы мира и благополучия.
ВОПРОС: В начале 1990-х президенты Озал и Демирель уделяли большое значение налаживанию тесных связей с тюркоязычными народами бывшего СССР. Стоит ли эта задача сейчас? Согласны ли вы с тем, что СНГ – это зона влияния и безопасности РФ, и с тем, что наши власти могут резко реагировать на попытки «размыть» присутствие России в этих странах?
ОТВЕТ: Не только Демирель и Озал, но и Ататюрк, и другие наши государственные деятели уделяли значение этой теме. Турция, разумеется, будет стараться поддерживать тесные отношения с родственными ей тюркскими народами, а также связанными с ней общей религией мусульманскими странами. Это не может не вызывать понимания. Точно так же, как с пониманием можно отнестись к установлению Россией близких отношений со славянскими или другими православными народами.
Говоря в целом, мы, россияне и тюркские народы, тысячелетиями вместе жили в этом географическом пространстве и продолжим жить вместе и дальше. Никому не удастся отделить друг от друга проживавшие бок о бок тысячелетиями турецкий и российский народы. Исходя из этой реальности, нам необходимо прилагать усилия к тому, чтобы на основе взаимного уважения и сотрудничества внести свой вклад в дело укрепления мира и обеспечения благополучия.
Не знаю, заметили вы или нет, но ваши вопросы преимущественно акцентируются на таких моментах, как «противоречия», «соперничество» и «борьба за влияние». Почему бы не уйти от противоречий, соперничества и борьбы за влияние, и не перевести наш разговор на тему о более тесном взаимодействии на основе, например, турецко-славянского или православно-мусульманского партнёрства?
ВОПРОС: Остаётся ли членство в ЕС целью Турции? С момента, когда официально начались переговоры, ситуация изменилась кардинально, однако формально Турция сохраняет статус кандидата.
ОТВЕТ: Вступление в Европейский союз мы рассматривали как проект, нацеленный на укрепление мира и на экономическое развитие. В течение вот уже долгих лет мы прилагаем усилия для вступления в этот Союз. Сейчас, однако, можно констатировать, что мы, к сожалению, являемся свидетелями применения Евросоюзом по отношению к Турции политики двойных стандартов и проволочек.
Мы и сегодня со всей откровенностью продолжаем вести переговоры с ЕС. Вместе с тем, согласитесь, что ЕС не является для Турции последней и единственной альтернативой.
ВОПРОС: Как бы вы оценили нынешние отношения с Саудовской Аравией? И какова позиция Турции по вопросу об установлении странами залива отношений с Израилем?
ОТВЕТ: Наши отношения с Саудовской Аравией, к сожалению, не находятся на желаемом для нас уровне. Они особенно ухудшились после преступления, совершённого в отношении журналиста Хашогги. Однако, принимая во внимание наличие в регионе общих угроз и общих интересов, нельзя сказать, что наши дела с этой страной непоправимы.
Отношения Турции с Израилем заметно испортились после инцидента с гражданским судном «Мави Мармара». К сожалению, страны Персидского залива, взявшие на себя «антитурецкую» миссию, думают, что они, взаимодействуя с Израилем, смогут обеспечить свою безопасность и сохранить собственную власть.
Турция не занимает в отношении какой-либо страны региона или групп стран, имеющих союзнические обязательства, заведомо недоброжелательную или враждебную позицию. Но придерживаясь своей принципиальной линии и даже осознавая, что это чревато для нас потерями в торгово-экономической сфере, мы не одобряем и не приемлем ошибочные шаги этих стран.
ВОПРОС: Правительство Эрдогана испытывает симпатии к идеологии ассоциации «Братья-мусульмане». Как политический истеблишмент Турции воспринял гонения на это движение в регионе и как это определяет стратегические отношения Турции с Египтом, ОАЭ, Иорданией и Израилем?
ОТВЕТ: На мой взгляд, правительство Эрдогана испытывает симпатию не по отношению к «Братьям-мусульманам», а по отношению к угнетаемым мусульманским народам в целом. Если заглянуть в корень проблемы, то можно увидеть, что авторитарные лидеры Ближнего Востока стремятся подавлять не «Братьев-мусульман», а сам мусульманский народ. И очевидно, что они это делают исключительно ради защиты собственных интересов и личной власти.
Было бы не совсем правильным считать, что проводимая сегодня Турцией внешняя политика является результатом исключительно собственных инициатив правительства Эрдогана. Эту политику поддерживает подавляющее большинство турецкого народа, и она проводится от имени турецкого государства. Таким образом, можно быть уверенным в том, что этот курс будет сохранён и следующими турецкими правительствами.
Я убеждён и настроен оптимистически в том, что в ближайшие годы в стратегических отношениях Турции с перечисленными вами странами произойдут позитивные сдвиги.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова радиостанциям «Sputnik», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва», Москва, 14 октября 2020 года
Вопрос: Добрый день, Сергей Викторович. Мы не здороваемся за руку – все-таки коронавирус, соблюдаем все, что можно, хотя и без масок. Нас предупредили, что времени мало, потому что Вас ждут итальянцы, поэтому мы не будем перебивать, чтобы Вы успели ответить на все вопросы на благо аудитории.
Когда мы готовились к интервью, сказали друг другу в полушутку, хотя это очень грустный юмор, что перед тем, как Сергей Викторович зайдет, надо быстро посмотреть в соцсетях, не началась ли еще какая-нибудь война. В этом году все это случается внезапно. И будет нехорошо, если она началась пять минут назад, а мы Вас об этом не спросим.
Новая война не началась, но продолжается другая, почти новая, несмотря на вроде бы достигнутое перемирие, в том числе Вашими титаническими усилиями (Вы действительно не курили эти 11 часов, не представляю, как Вы вообще с этим справились?), по факту никакого прекращения огня нет. Хочу спросить Вас, оно вообще возможно? Мы, Россия, говорим о безальтернативности мирного подхода к урегулированию. Это можно сделать? Кто-то из них остановится?
С.В.Лавров: Конечно, переговоры были уникальными. Отмечу, что в решающий момент свой вклад внес Президент России В.В.Путин, потому что он контролировал наши «ночные бдения», и уже где-то глубоко в ночи мы с ним разговаривали два раза.
Вопрос: Звонил или заходил?
С.В.Лавров: Звонил. Подключался и Министр обороны России С.К.Шойгу, потому что было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет не совсем достаточным, если не будет механизма контроля за прекращением огня. Второй пункт согласованного документа предусматривает именно это.
За последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване. То же самое делал С.К.Шойгу – общался с министрами обороны обеих стран. В.В.Путин разговаривал с лидерами конфликтующих сторон. Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в тот самом документе, но который пока никто даже не начал обсуждать.
Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил Министр иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамов. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане.
Вопрос: Что это за волшебный механизм контроля за прекращением огня? Это бесполетная зона?
С.В.Лавров: Когда политики и дипломаты в любом конфликте объявляют о договоренности прекратить огонь, для того, чтобы это было успешно выполнено, военные тут же согласовывают «на земле», какие конкретно меры должны для этого приниматься, кто будет объективно наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто «волшебное». Так было и в Приднестровье. И, кстати, в Донбассе, хотя там прекращение огня объявляется уже не один раз, и лишь последнее более или менее действует, и то только потому, что в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине были разработаны дополнительные меры верификации этого режима. Так было и в 1994 г. в Нагорном Карабахе, когда объявление о прекращении огня сопровождалось четким согласованием по линии военных того, как это будет выглядеть «на земле».
Отвечая на вторую часть вопроса, да, конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые прорабатывали и продолжают прорабатывать сопредседатели Минской группы ОБСЕ, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно: это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Нагорного Карабаха при соблюдении гарантий его безопасности и обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен его окончательный статус. Такая схема хорошо известна. Думаю, что не было бы счастья, да несчастье помогло: эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением «на земле» вопросов безопасности.
Вопрос: Сергей Викторович, под надежной связью с Арменией Вы имеете в виду два района – Лачинский коридор, схему «пять – два»?
С.В.Лавров: Все договоренности, которые обсуждались в последнее время и всерьез воспринимались сторонами, предполагали на первом этапе освобождение пяти районов при сохранении двух районов на второй этап, равно как на второй этап откладывался бы и вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха. На первом этапе, помимо освобождения пяти районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты, развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий.
Вопрос: То есть все-таки миротворцы – это тот самый механизм, про который Вы только что говорили?
С.В.Лавров: Нет, этот механизм сейчас должен заработать на линии фактического соприкосновения. Это не пять районов, которые должны быть переданы на первом этапе согласно предложениям сопредседателей. Сейчас было бы даже достаточно не миротворцев, а военных наблюдателей.
Вопрос: Наших?
С.В.Лавров: Мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели. Но окончательное слово должно быть за сторонами. Мы исходим из того, что в Ереване и в Баку будут приняты во внимание наши союзнические связи, отношения стратегического партнерства.
Вопрос: Сергей Викторович, нынешнюю войну в Карабахе, если называть вещи своими именами, вдохновляла Турция. Вообще, мы регулярно «натыкаемся» на Турцию - в Ливии, а также в Сирии, где Анкара становится вовсе не нашим союзником, а военным оппонентом. При этом мы регулярно заявляем о том, что это наш стратегический союзник. Как все это будет сейчас в свете происходящих событий? Где мы, где Турция? Кто мы по отношению друг к другу?
С.В.Лавров: Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это партнер, очень тесный. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер.
Действительно, мы работаем в Сирии, стараемся помогать урегулировать ливийский кризис. Турция тоже стремится продвигать свои интересы в этом регионе. Главное, что это абсолютно законно, если интересы легитимны, будь то Турция, Иран, ОАЭ, Катар. Много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы их государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным.
В том, что касается Сирии, я считаю, такие транспарентность и легитимность были обеспечены, несмотря на то, что турецкие военнослужащие присутствуют на сирийской территории без приглашения законных властей. Президент САР Б.Асад и его правительство приняли и поддержали создание Астанинского формата. Они сотрудничают в выполнении всех тех инициатив, которые выдвигает «тройка» астанинских гарантов. В этом смысле партнерство России, Турции и Ирана играет очень важную роль. Именно оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, по сути дела, до Идлибской зоны деэскалации.
Отдельная тема – это восточный берег Евфрата; к сожалению, американцы нетранспарентно и абсолютно противозаконно продвигают на тех территориях, на которых сейчас хозяйничают, идеи сепаратизма, поощряя настроения курдов к тому, чтобы они там устанавливали отличные от центрального правительства правила проживания и функционирования.
В Ливии мы тоже взаимодействуем с Турцией. Уже не один раз встречались дипломаты, военные, представители спецслужб, чтобы использовать возможности каждой из наших сторон. Мы контактируем со всеми: и с восточной частью Ливии, где расположен парламент, и с западной частью страны, где находится Правительство национального согласия (ПНС). Турки, как Вы знаете, поддерживают ПНС, но прекрасно понимают, что необходимо искать компромиссы между подходами всех регионов, всех ливийских политических сил. Сейчас политические процессы пока достаточно хаотично, но все-таки развиваются и начинают выстраиваться в одном русле. Это касается Берлинской конференции по Ливии, тех инициатив, которые предлагают Марокко, Тунис, Египет как соседние страны – это абсолютно понятно, мы это поддерживаем. Сейчас важно канализировать все это под эгидой ООН в единую схему, которая будет опираться на стимулирование всех ливийских сторон не к тому, чтобы они выдвигали друг другу ультиматумы, как мы наблюдали это между Тобруком и Триполи в последнее время, а чтобы они сели и стали договариваться.
Сейчас наши ооновские коллеги стараются привести к общему знаменателю все эти усилия. Мы этому активно содействуем. Я слышал, что и Турция заинтересована в том, чтобы такие процессы набирали силу. В любом случае, дипломатия предполагает учет позиций всех сторон конфликта внутри той или иной страны, охваченной кризисом, но также и учет интересов региональных государств, которые легитимны и принимаются самими конфликтующими сторонами.
Вопрос: Вы рассказали про учет интересов всех игроков. А мы считаем, что в Карабахе интерес Турции легитимен, собираемся его учитывать?
С.В.Лавров: Я перехожу к Карабаху. Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция и несколько раз высказывал Президент Азербайджана И.Г.Алиев. Здесь нет никакого секрета. Мы не можем разделить заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта. К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что будет поддерживать любые действия, которые предпримет Азербайджан для решения этого конфликта, включая военные.
Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Я несколько раз в период этого кризиса разговаривал с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу. Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения: мирное урегулирование не только возможно, но является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы, потому что все остальное будет сохранять конфликт в приглушенном состоянии. Если не будет долговременного политического согласия, то когда-нибудь решения, достигнутые военным путем, докажут свою несостоятельность, и боевые действия все равно будут.
Вопрос: Эффект отложенной войны?
С.В.Лавров: Да, как мы видим, кстати, с палестинской проблемой.
Вопрос: Невозможно этого не замечать, и практически все обращают внимание на то, что Президент Турции Р.Т.Эрдоган активизировался. Он ведет свою игру в регионе Ближнего Востока: Ливия, Сирия. Однозначно, он считает это зону сферой своих интересов, не скрывая, говорит об этом.
На территории Кипра у него своя игра. Он опять пошел на обострение на греческом направлении. Они были в шаге от войны с Афинами. Плюс, его заявления о том, что Иерусалим – это тоже османский город. Сейчас это то, что они делают в регионе Южного Кавказа. При этом в своей инаугурационной речи, ьяговоря о Турции, он называл ее «Османской Турцией». В самой Турции его называют «новым султаном». Он открыто говорит о том, что хочет воссоздать новую Османскую Империю, поэтому активизировался по всем направлениям. Я уже не говорю про его решение по службе в Храме Святой Софии. Это же явный отход от завещания, которое им оставил К.Ататюрк.
В связи с этой активностью турецкого лидера и всей Турецкой Республики будем ли мы вносить какие-то коррективы в нашу политику на этом направлении?
С.В.Лавров: Конечно, коррективы всегда необходимо иметь в виду, но политика на турецком и любом другом направлении должна исходить из реальности, избегать материализации принципа «война – это продолжение политики». Это мое глубокое убеждение. Хотя наверняка бывают ситуации, когда, если против тебя осуществляется агрессия, то пушки должны перестать молчать.
Вопрос: У нас это называется: «Если не слушаете Лаврова, будете слушать Шойгу».
С.В.Лавров: Я видел майку с этой надписью. Да, речь примерно об этом.
Но сначала я хочу обозначить общую ситуацию, кто, где и как пытается продвигать свои интересы. Везде, где, по Вашим словам, Турция проявляет свою активность, достаточно активны, порой даже более, чем Анкара, страны, расположенные за 10 тыс. миль и дальше от этого региона. Есть государства, которые находятся поближе, но США везде в этих точках играют весьма активную роль.
В Сирии американцы активно подрывают весь смысл резолюции 2254 СБ ООН, подтвердившей территориальную целостность САР и потребовавшей ее уважать. Создают на ее территории квазигосударственные структуры, нисколько не смущаясь. Сначала объявили запрет на закупки сирийской нефти всем странам мира, а потом разрешили своей компании добывать там нефть и использовать вырученные средства на укрепление курдских структур, которые не должны подчиняться Дамаску. Кстати, на том же восточном берегу Евфрата Турция работает, чтобы, как она считает, пресечь курдский терроризм. Озабоченности Анкары в отношении безопасности своей границы с Сирией на восточном берегу Евфрата и в районе Идлиба, по крайней мере, гораздо более легитимны, чем то, что пытается делать Вашингтон, разжигая сепаратистские тенденции в САР.
США весьма активны в Ливии. Также пытаются «разруливать» этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и, между прочим, Российскую Федерацию. Это заявляется открыто. Там тоже нефть играет не последнюю роль, потому что вопрос возвращения ливийской нефти на мировые рынки, снятия моратория, объявленного командующим Ливийской национальной армией Х.Хафтаром, имеет большое политическое и практическое значение, прямо влияя на цены на энергоносители.
По палестинской проблеме, Иерусалиму, урегулированию арабо-израильского конфликта, создания Палестинского государства США отодвинули практически всех остальных, сказав, что разберутся сами. Была Согласно Арабской мирной инициативе, сначала создается Палестинское государство, за чем следует нормализация отношений Израиля со всеми арабами. Но США ее перевернули с ног на голову. Сначала они хотят активно продвигать установление отношений Израиля со всеми арабскими соседями, а потом посмотреть, как можно будет решить, и надо ли вообще решать, палестинскую проблему.
Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями и с другими странами региона улучшались. Мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, закрепленных в той же самой резолюции 181 ГА ООН, провозгласившей и создание Еврейского государства. Оно живет и здравствует, это наш близкий друг и партнер. А палестинского государства пока нет. Конечно, обещанного три года ждут, но эти три года уже давно прошли.
В ситуации, когда объявляется забытым и перечеркнутым решение Совбеза ООН о том, что судьба и положение Иерусалима как столицы трех монотеистических религий должны определяться с учетом позиций сторон, когда доступ к Мечети Аль-Акса, который должен решаться в рамках договоренности об окончательном статусе в контексте создания палестинского государства, опять пересматривается и отменяется, наверное, мы будем слышать такого рода заявления со стороны лидеров исламского мира, к каковым, конечно же, относится Президент Турции Р.Т.Эрдоган.
Еще более широкий контекст: в исламском мире идет очевидная борьба за лидерство. Есть несколько полюсов: Турция, Саудовская Аравия как лидер и местонахождение двух величайших исламских святынь. Не будем забывать, что, помимо тюрков и арабов, еще есть пакистанцы, индонезийцы. Индонезия – крупнейшее исламское государство мира. У нас есть отношения и с Лигой арабских государств, и с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), и с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), которая объединяет все без исключения исламские государства Азии, Африки, где бы они ни находились. К сожалению, в рамках ислама это противоборство, конкуренция за лидерство в последнее время все чаще обретает достаточно ожесточенные формы. В контактах с коллегами из ОИС мы всячески призываем к тому, чтобы они вырабатывали общие подходы, консенсусные позиции, стремились к гармонии между всеми течениями ислама. В 2004 г. Король Иордании Абдалла II проводил саммит всех мусульман, по итогам которого была принята «Амманская декларация», содержавшая подтверждение единства всех мусульман, обязательство его продвигать в различных практических ситуациях. Не получается до сих пор.
В отношении Собора Святой Софии мы признаем право Турции и властей Стамбула определять конкретные параметры использования этого объекта, но, безусловно, с учетом его статуса объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В рамках этой организации дискуссия еще не завершена. Турецкие коллеги давали нам заверения, что все связанное с православной культурой сохранит открытость для доступа посетителей, туристов, паломников. Посмотрим, как это будет реализовано на практике, так как технически соответствующие меры пока еще не реализованы.
По Южному Кавказу - опять же, посмотрите, кто там пытается активничать. Американцы далеко не менее активны.
Вопрос: Американцы откровенно говорят, что зона их национальных интересов – весь мир. Они позиционируют себя как империю. Турки никогда так не говорили, а сейчас находятся на этом пути.
С.В.Лавров: Опять «бык и Юпитер»?
Вопрос: Надо разобраться, что они имеют в виду.
С.В.Лавров: Может, все должны быть «быками»? В противном случае, все должны быть «Юпитерами»?
Вопрос: Процитирую Вас: «Если в ЕС не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, будем вынуждены прекратить с ними общаться». Что Вы имели в виду?
С.В.Лавров: Я не так сказал. Сказал, что у нас возникает вопрос не просто о том, возможен ли «бизнес как обычно», а возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом, который даже не свысока, а достаточно высокомерно, аррогантно посматривает на Россию, требует отчитываться за все грехи, которые, по мнению Евросоюза, мы совершили. Считаю, что мы не должны ни за что отчитываться. У нас есть собственная Конституция, законы, механизмы.
Вопрос: Ваша знаменитая фраза, адресованная бывшему Министру иностранных дел Великобритании Д.Милибэнду, когда он советовал изменить Конституцию России, – «Who are you to lecture me?».
Продолжу предыдущий вопрос. Как мы можем с ними не общаться? И можем ли? Что Вы имели в виду?
С.В.Лавров: Экономические интересы должны сохраняться, экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, а что нет. Бегать и унижаться считаю ниже нашего достоинства. Если они будут разваливать наше экономическое партнерство, включая тот же «Северный поток-2», наверное, всю газотранспортную структуру взаимодействия по линии многих других ведомств и компаний они не разрушат. Пусть это идет своим чередом - от объективных интересов, которые будут совпадать.
Нам заявляют, что мы в принципе не доросли еще до того, чтобы быть геополитическим партнером Евросоюза, как это сделала недавно У. фон дер Ляйен. Министр иностранных дел ФРГ Х.Маас говорит, что разночтения с Россией не означают, что Германия не хочет иметь хорошие или хотя бы разумные отношения с нашей страной. Хорошими они едва ли будут в обозримой перспективе, но не по нашей вине. Мы всегда готовы их возобновлять, нормализовывать, оздоровлять на равноправной и взаимоуважительной основе. Все, что касается разума, сейчас, к сожалению, подлежит анализу по ту сторону нашего диалога. Очень надеюсь, что разум там возобладает. Пока мы этого не видим.
Говоря о подспудных течениях и о том, как может формироваться новый подход со стороны ЕС к России. Недавно близкие Правительству ФРГ «мозговые тресты», политологи публично взялись за выработку новой «восточной политики». По сути дела, они предлагают демонтировать существующую двустороннюю повестку дня. По их мысли, было у нас и «стратегическое партнерство», которое ушло в прошлое. Было «партнерство для модернизации», которое продвигал еще Ф.В.Штайнмайер на посту Министра иностранных дел. Эти политологи считают, что все эти проекты не удалось материализовать. Россия отказалась стать единомышленником Евросоюза и НАТО, не захотела этого делать и окончательно превратилась в противника по принципиальным вопросам миропорядка - так говорят эти мыслители, близкие к Правительству ФРГ. Они предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией. Более того, если до недавнего времени Евросоюз заявлял, что стратегически он с Россией расходится, но нужно избирательно сотрудничать в тех областях, где есть общие интересы, то эти мыслители частью своего нового подхода обозначают такую парадигму, что даже избирательное сотрудничество станет возможным лишь тогда, когда «русские изменят свое поведение». Это вызревает. Когда в кругах политических аналитиков прорезаются подобного рода вещи, то, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока она у лидеров ЕС, включая Францию и Германию, к сожалению, не очень оптимистична. Хотя в Париже, по-моему, гораздо более настроены на сохранение стратегических отношений с Россией. По крайней мере, это позиция Президента Франции Э.Макрона, реализуемая в контексте его договоренностей с Президентом России В.В.Путиным в целом ряде механизмов, созданных между Москвой и Парижем для того, чтобы обсуждать и вырабатывать общие подходы в отношении вопросов стратегической безопасности и стабильности в Европе. Посмотрим, куда будет «выруливать» вся эта ситуация и мыслительные процессы.
Вчера я говорил с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем. По-моему, он как опытный человек прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, интересующие Евросоюз. Поэтому даже инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать объединенную Европу к партнерству и взаимодействию с Россией, но, по моим оценкам, и судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока ЕС не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса и солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с нашей страной.
Вопрос: «Русофобское меньшинство» – это страны Балтии?
С.В.Лавров: Прибалтика, Польша.
Вопрос: «Русские должны изменить свое поведение». Мы же можем его изменить в разные стороны. Например, почему не возбуждается уголовное дело по А.Навальному? Почему Канцлер ФРГ А.Меркель встречается с А.Навальным, большое количество западных лидеров встречаются с С.Г.Тихановской, а мы все время осторожничаем, все время в обороне. Может, нам тоже начать встречаться с оппозицией, хотя бы на уровне Министерства иностранных дел, со своими «симпатизантами» в этих странах? Мы очень осторожные на фоне того, как все пошло «вразнос».
С.В.Лавров: Мы старались вести себя прилично, всегда уважали решения, касающиеся выбора руководителей, парламентариев и т.д, принимавшиеся в странах, с которыми у нас есть отношения. Да, мы видим, как наши западные коллеги всегда встречаются с оппозицией, причем далеко не только с системной. Несколько лет назад эта тема специально обсуждалась. Решили, что будем работать с оппозицией. Мы и до этого не чурались таких отношений, но теперь будем делать это без оглядки на тех, кто пытался нас критиковать.
Вопрос: С кого начнем?
С.В.Лавров: 2017 г. Избирательная кампания во Франции. По приглашению наших парламентариев в Москву приезжала М.Ле Пен - лидер парламентской партии, легитимный, системный политик. Она общалась с парламентариями, ее принимал Президент России В.В.Путин. Тогдашний Министр иностранных дел Франции Ж.М.Эйро публично заявил, что это попытка вмешательства в избирательные процессы его страны, что Париж не хочет вмешиваться во внутренние дела России и надеется, что Москва тоже не будет вмешиваться во внутренние дела Франции. Вы привели примеры, с кем встречаются Э.Макрон, А.Меркель, как принимают С.Г.Тихановскую. Никто даже не обращает внимания на то, что это, в общем-то, является вмешательством во внутрибелорусские дела.
Вопрос: Может быть, именно потому, что мы такие вежливые и осторожные?
С.В.Лавров: У нас сейчас нет препятствий для общения с оппозицией. Если это только не те, кто призывает к насильственному свержению конституционного строя наших партнеров, мы будем общаться со всеми, как, собственно, это уже происходит в целом ряде случаев.
Вопрос: Почему не возбудить уголовное дело по Навальному? Это некий аргумент, мол, мы даже не завели уголовное дело.
С.В.Лавров: Мы много раз объясняли. Уголовное дело должно возбуждаться на основе фактов, позволяющих подозревать наличие уголовного преступления. Такому решению всегда предшествует доследственная проверка, которую сейчас ведет МВД России. Они опросили более 200 человек, взяли показания у врачей, у сотрудников гостиницы, у экипажа самолета и т.д. Даже не буду перечислять. По различным телеканалам сейчас приводится столько фактов того, сколько здесь недосказанностей, несуразиц и прочего: бутылка; почему люди прибежали в гостиничный номер; были в трусах и босиком, но никто больше не заболел... Нестыковок миллион. Мы будем настаивать на том, чтобы наши германские коллеги уважили свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и ее протоколов.
Насчет уголовного преследования и того, кто кому должен чего объяснять. Из уст наших официальных представителей не так давно прозвучала фраза о том, что у нас есть данные о работе ЦРУ с А.Навальным. Тут же адвокат А.Навального потребовал доказать распространяемые сведения. Просто так. Это их позиция. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с А.Навальным, просим немцев показать, что они обнаружили в его анализах, нас спрашивают, неужели мы им не верим. Говорят, что не могут нам это передать, т.к. пациент должен дать согласие, а он не дает.
Вопрос: Это классический принцип всей международной политики последних лет: все животные равны, но некоторые равнее.
Вы упомянули Германию и «Северный поток - 2». Узкий вопрос: что мы будем делать, если Германия все-таки откажется от «Северного потока – 2»? Но я его сформулирую шире, давно хочу задать его и Вам, и не только. Что бы мы ни делали – мы получаем санкции. Есть мнение, что это вообще не зависит от того, что мы делаем, не зависит от нашего поведения. Есть некий набор санкций, который давно придуман и будет внедрятся не с целью изменить наше поведение, а с целью сдержать наше развитие – экономическое, военное, торговое. Всегда найдется «кейс Магнитского» или что-то еще, из-за чего можно влепить санкции. Сколько в американских СИЗО умирает людей – мы же санкции не вводим. Да и у нас возможностей нет таких, чтобы какие-то более-менее чувствительные санкции против них ввести. Если они все равно это делают, может, нам перестать на них оглядываться, более широко защищать свои интересы в мире? Может быть, нам определиться с тем, что мы хотим с интеграцией делать, хотим ли мы вернуться в какой-то форме к более широкому Союзному государству? Может быть, нам это ярче, отчетливее и агрессивнее, в хорошем смысле, позиционировать и добиваться, раз уж санкции все равно будут введены?
С.В.Лавров: Я ровно об этом и сказал. Пора перестать, и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляет коллективный Запад или отдельные западные страны. У нас есть, кому судить действия Российской Федерации как государства. У нас есть Конституция, соответствующие органы власти, есть российский народ, который принимает решения о том, кому он доверяет руководить страной. Всё. Если у нас есть партнеры (а таких подавляющее большинство), которые готовы на взаимоуважительной основе искать баланс интересов, то мы должны с ними продолжать наше сотрудничество. Таких, повторю, большинство.
Да, у нас есть структуры, которые мы во многом по своей инициативе создавали, которые мы хотим укреплять. В военно-политической области – Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). СНГ охватывает и вопросы безопасности на постсоветском пространстве, и экономические, социальные, гуманитарные, образовательные проекты. Есть Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), ЕАЭС, Союзное государство – их надо укреплять. Я считаю, это нужно делать более энергично. Соответствующие поручения были сформулированы Президентом России В.В.Путиным. Они прорабатываются в Правительстве нашей страны.
Конечно, мы должны делать все, чтобы эти проекты были более привлекательными для тех, кто сейчас объединен указанными структурами. Не думаю, что нам нужно постоянно оглядываться на то, что о нас говорит Запад. Я согласен с Вами на сто процентов: поводов для того, чтобы сдерживать наше развитие, Западу особо искать не надо. Он эти поводы умеет создавать сам, как мы убедились.
Вопрос: Может, тогда нам надо немного смелее действовать? Ввели войска в Донбасс, навели порядок в открытую? В чем проблема, если санкции все равно будут введены?
С.В.Лавров: Мы все-таки вежливые люди, как вы знаете. Убежден, что наша позиция отстранения от ситуации, когда мы оглядываемся на Запад и на то, что он о нас подумает, должна все-таки оставаться в рамках международного права. Мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались, включая, если говорить о Донбассе, Минские договоренности.
Другое дело, нам надо самим требовать от тех, кто так или иначе подписывался под решениями об урегулировании тех или иных ситуаций, чтобы они выполняли свои обязательства. Я уже направил, наверное, с десяток писем своим коллегам во Франции и Германии, прямо обращая их внимание на абсолютно неприемлемые действия, диаметрально противоположные Минским договоренностям, которые предпринимаются официальными лицами на Украине, включая Президента страны В.А.Зеленского, главу делегации на переговорах Контактной группы Л.Д.Кучму и Министра иностранных дел Д.И.Кулебу. Ответы абсолютно беспомощные - простые отписки. Я им объясняю, что В.А.Зеленский заявил, что надо пересмотреть содержание и последовательность Минского документа. А они мне говорят: «Мы по-прежнему ему привержены». Я привожу пример, как в нарушение Конституции Украины и ее международных обязательств происходит прямая дискриминация русского языка в законах о языке, об образовании и на практике. Они отвечают: «Да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы». Это еще одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше уровня Российской Федерации. Чувство собственного превосходства очень опасно.
Вопрос: Но его не хватает иногда.
С.В.Лавров: Нам достаточно чувства собственного достоинства, полагаю, об этом надо думать.
Вопрос: Слушатели звонят нам в эфир и все время говорят – в последнее время все чаще и чаще звучит эта мысль: хватит выражать обеспокоенность ситуацией, нужно более активно и, может быть, даже более агрессивно наступать или же самим инициировать какие-то процессы, а не реагировать на чьи-то действия.
Мы вспоминали С.Г.Тихановскою. Она сейчас ездит, встречается с разными президентами, сидит в одной из соседних стран Евросоюза. Готовы ли мы в принципе к тому, что в Белоруссии может поменяться власть? Есть ли у нас какой-то запасной вариант, кроме Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко? Мы очень часто сталкиваемся с тем, что в результате определенных событий меняется власть, где-то в виду революции, где-то по другим причинам, а мы потом оказываемся без запасного варианта и не знаем, что делать.
С.В.Лавров: Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, окружающих Российскую Федерацию, тем более в странах, являющихся нашими ближайшими союзниками. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве. При этом, конечно же, мы не должны вести себя, как ведут себя те же американцы. Я с этим согласиться не могу. Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самому выбирать свою судьбу. Они это право стараются формировать через свои посольства, как это было в Киеве в ходе двух «майданов». Все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ. Они сейчас так же делают в Молдавии, между прочим. Мы видим это и по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья - мы это тоже видим и знаем.
Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Необходимо видеть перспективу развития наших союзников, те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события.
В том, что касается Белоруссии, я убежден, что наша линия в поддержку процесса конституционной реформы, который, как я сейчас упоминал, был впервые предложен Президентом А.Г.Лукашенко, и в котором мы видим (и говорим об этом публично) хороший повод, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны, является наиболее оптимальной.
Мы заявили о том, что признаем результаты президентских выборов. Убеждены, что все попытки наших западных партнеров их оспорить и сказать, что там было меньше процентов, требовать, чтобы мы теперь согласились на приглашение ОБСЕ, которая будет разруливать эту ситуацию, никуда не годятся.
Именно наши западные партнеры и западные партнеры Минска ударили по рукам ОБСЕ, чтобы она не принимала приглашение Президента Белоруссии А.Г.Лукашенко направить наблюдателей для того, чтобы посмотреть, как организуются и как проводятся эти президентские выборы. А сейчас говорить о том, что только ОБСЕ спасет эту ситуацию, когда она просто упустила возможность внести свой вклад в обеспечение событий в том русле, которое будет способствовать развитию белорусского государства, по меньшей мере, некорректно. Президент Белоруссии А.Г.Лукашенко сказал, что он не держится за власть, что он после конституционной реформы готов рассмотреть варианты и досрочных президентских, и досрочных парламентских выборов. Если мы хотим помочь белорусскому народу, сделать так, чтобы он был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, попытки насильственных протестов и, конечно, призывать к тому, чтобы и правоохранители тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально. Это наша позиция. Она неоднократно заявлялась.
Вопрос: Пресечь протесты? Они выходят тут на протесты каждое воскресенье.
С.В.Лавров: Пресечь призывы к насильственным протестам, к перекрытию транспортных магистралей. Мы сейчас эти призывы слышим из Вильнюса из уст С.Г.Тихановской. Я говорю «из уст», потому что, наверное, все-таки писали эти призывы другие люди.
Насчет того, что мы не можем какие-то инициативы выдвигать в своих интересах. Это не так. Минские договоренности в 2015 г. сформулированы однозначно в российских интересах и поддержаны тогдашним Президентом Украины П.А.Порошенко, а также руководителями Германии и Франции. То, что сейчас заявляют на Украине о невозможности выполнить Минские договоренности, потому что Россия хочет выполнять их в своей интерпретации, – это от лукавого. Международно-правовая интерпретация, одобренная Советом Безопасности ООН, и то, что эти соглашения отражают наше внимание к обеспечению интересов украинского народа на устойчивой основе, сейчас раздражает всех тех на Украине, кто понимает, что они не готовы к учету интересов Востока страны.
Вопрос: Они сформулированы в российских интересах, только они не соблюдаются. Именно поэтому, когда Вы говорите, что мы должны действовать и защищать наши интересы в рамках международного права, все время хочется Вас спросить, а оно что существует? Но я не буду, потому что вопрос риторический. Нам-то, журналистам, кажется, что никакого международного права уже нет, а есть только то, что происходит «на земле», что мы видим своими глазами.
Мы видим, как почти полыхнуло в Белоруссии, видим, как полыхнуло в Киргизии. Это то, что сейчас происходит. Карабах уже обсуждали. Наши коллеги из «Sputnik» и в Молдавии, и в Грузии говорят: «Готовимся, потому что тоже будет жутко». Это «жутко» - результат нашего противоборства там с США и с другими упомянутыми силами? Или это результат намеренного раскачивания этих лодок и создания беспорядков у наших границ? Или это просто бардак внутри самих этих стран? Надо ли нам быть активнее, чтобы все это просто прекратить?
С.В.Лавров: Конечно, внутренние передряги в этих странах играют свою немалую роль, и это очевидно. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Во всех перечисленных Вами странах есть внутренние проблемы, особенно, конечно, это было видно в Киргизии и Молдавии. Вы говорили в одном из предыдущих вопросов, что бы мы ни делали, все равно Запад будет пытаться нас стреножить, сдерживать, подрывать наши возможности и в экономике, и в политике, и в технологической сферах. Это части одного целого.
Вопрос: В их собственной стратегии национальной безопасности написано, что они будут это делать.
С.В.Лавров: Конечно, но у них написано это такими формулировками, которые в приличном обществе еще могут как-то пропустить мимо ушей, но в практическом плане они реализуются просто возмутительно.
Вопрос: Вы же тоже умеете сформулировать не так, как Вам хотелось бы сказать, правда?
С.В.Лавров: Наоборот, я могу формулировать не так, как я обычно говорю. Но вывести нас из равновесия, в том числе не только прямыми нападками на Российскую Федерацию во всех возможных и мыслимых сферах путем нечистоплотной конкуренции, нелегитимных санкций и тому подобного, но еще и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя нам сосредоточиться на созидательных делах, – это желание у них, конечно же, абсолютно очевидно. Тем не менее, при всех человеческих инстинктах, при всех искушениях ответить по принципу «сам дурак», я убежден, что мы должны оставаться на почве международного права.
Вопрос: Вы «олдскульный» человек, Сергей Викторович.
С.В.Лавров: Я не «олдскульный» человек. Думаю, что это все равно – будущее, и ничего надежнее Устава ООН человечество не придумало. По крайней мере, моральное превосходство имеет тот, кто всегда может объяснить свои позиции универсальными международно-правовыми нормами, под которыми подписались все без исключения страны, вступая в ООН, а затем развивая международно-правовую договорную базу в многочисленных конвенциях и т.д.
Минские договоренности одобрены Советом Безопасности ООН. Это часть международного права. Карабахское урегулирование, роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где мы на инициативных, передовых позициях, - они тоже зафиксированы Советом Безопасности ООН.
Мы только что говорили о том, что есть попытки расширить количество посредников. В Москве, в Доме приемов МИД, где мы с вами находимся, в ночь на 10 октября был принят документ, крайний пункт которого гласит: переговорный формат остается неизменным. Это тоже теперь часть международного права, так как является договоренностью сторон.
Наверное, в человеческом плане хочется иногда нагрубить и как-то агрессивно проявить свое возмущение поведением коллег, но приходится сдерживаться.
Вопрос: Расшифровывая всё, что Вы сказали, получается, надо договариваться не с Молдавией, а с США. Там осталось несколько месяцев до выборов. У Вас есть какие-то прогнозы, надежды? Видите ли Вы какие-то знаки? Лучше будет или хуже после выборов? Чего ожидать вообще?
С.В.Лавров: Прагматизм тоже является частью нашей внешнеполитической концепции, определенной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, которая предполагает продвижение сотрудничества со всеми, кто к этому готов, на основе равноправия и в тех областях, где у нас есть общие, пересекающиеся интересы. Мы с американцами, кстати говоря, несмотря на непоправимо ухудшившуюся ситуацию в концептуальных подходах к развитию сотрудничества, по ряду конкретных направлений взаимодействуем неплохо.
В той же Сирии мы принципиально не согласны с тем, что американцы, во-первых, пришли без всякого приглашения, по сути дела, оккупировали значительную часть САР. Во-вторых, с тем, что они там делают на практике: разворовывают углеводородные богатства, пускают их на цели, прямо сопряженные с разжиганием сепаратизма и т.д. Тем не менее, по линии военных у нас устойчивые каналы. Это реальность: они летают, мы летаем. Есть договорённость о том, кто и где летает, а также, как реагировать в случае непредвиденных инцидентов. Есть механизм раннего предупреждения.
В политическом диалоге отмечу Афганистан, где есть механизм Россия-США-Китай, к которому подключается Пакистан, и вполне может подключиться Иран. По крайней мере, у всех участников этого диалога нет в этом отношении каких-либо противопоказаний. По Корейскому полуострову худо-бедно мы все-таки взаимодействуем, несмотря на порой диаметрально противоположные подходы к той или иной ситуации.
Вопрос: По Карабаху?
С.В.Лавров: Да, мы сотрудничаем по Карабаху и можем сотрудничать, кстати, по Приднестровью, где есть механизм «5+2». Две стороны – Кишинев, Тирасполь, а также Россия, Украина, США, ОБСЕ, ЕС. Пока, к сожалению, этот механизм по приднестровскому урегулированию не работает. Прежде всего, потому, о чем мы уже говорили. Американцы стараются «подмять» все под себя и создать из Молдавии очередной «нарыв» на постсоветском пространстве, не допустить, чтобы на практике состоялась сформировавшаяся некоторое время назад коалиция между М.Г.Санду и И.Н.Додоном, его социалистической партией, чтобы прозападные силы одержали однозначную победу.
США – это все-таки самая мощная до сих пор страна, но это государство уже не может решать ни один вопрос международной повестки дня в одиночку. Они пытаются это сделать. Это инерция, которая постепенно утихает. Пытаются это делать, прежде всего, в странах постсоветского пространства, где они откровенно продвигают антироссийскую повестку дня, стараются формировать в выгодном им русле процессы дальнейшего становления государств в Центральной Азии, на Украине, в Закавказье, в Молдове, как мы только что выясняли. Знаю, что они приглядываются к тому, как заложить основы для подобного развития событий в Белоруссии. Мы должны этому противодействовать, прежде всего, через выполнение обязательств перед нашими стратегическими партнерами и союзниками. Об этом было достаточно четко заявлено, в том числе Президентом России В.В.Путиным. Плюс у нас есть другие формы сотрудничества на уровне исполнительной, законодательной власти, гражданского общества. Думаю, как раз по линии гражданского общества нам нужно быть гораздо более активными и инициативными, я бы сказал. Это в том числе и вопрос финансирования, потому что хотя их называют «неправительственные организации», все знают, что наиболее активные и эффективные НПО Запада – американские республиканские и демократические институты – все на сто процентов финансируются из бюджета США. Плюс через Агентство по международному развитию, которое тоже является американской государственной структурой (финансируется из госбюджета), получают субсидии сотни, если не тысячи НПО, в огромной степени действующих на постсоветском пространстве.
Вопрос: Мы так же будем делать?
С.В.Лавров: Мы говорим о том, что «мягкая сила» должна быть нами освоена как практическая форма народной дипломатии. Пока, конечно, мы не можем здесь сравниться с американцами. М.С.Симоньян сама признавала в одном из появлений на телевидении, что мы не можем сравниться по финансовым масштабам государственной поддержки, которую получают СМИ на Западе и в Российской Федерации.
Вопрос: Смешно сравнивать.
Вопрос: Главное, у нас есть теперь понимание, что нужно идти этой дорогой. Это хорошо.
Вопрос: Сергей Викторович, Вы вызвали у меня такой парадокс. В США «Комсомольская правда» выходит, а в Белоруссии ее запретили.
С.В.Лавров: Это временное явление. Вы зря сказали, потому что ее сейчас в США точно запретят. Там руки не дошли. Госсекретарь М.Помпео только что заявил, что все исследовательские институты в Соединенных Штатах должны сообщать, кто их финансирует из-за рубежа, кто получает иностранные гранты, прямо сказав, что это наверняка российские и китайские деньги, которые идут во вред американскому государству.
Вопрос: Гулять, так гулять! Может, вмешаемся во внутренние дела США прямо сейчас на глазах у наших слушателей? За кого мы будем «топить»? За Дж.Байдена или за Д.Трампа?
С.В.Лавров: Нас уже записали в главных вершителей судеб Америки. Об этом недавно говорил Президент России В.В.Путин в интервью телеканалу «Россия-1». Зачем нам тратить деньги, когда мы и так уже «в авторитете»?
Вопрос: И все же кого мы будем поддерживать?
С.В.Лавров: Пусть продолжают объективно освещать то, что там происходит.
Вопрос: Это скучно.
С.В.Лавров: Нет, это совсем не скучно.
Вопрос: Кто бы там ни выиграл, все равно скажут, что это мы сделали.
С.В.Лавров: Ну, и хорошо. В.В.Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которые получат поддержку американского народа. Это наша принципиальная позиция. Здесь-то я думаю, не нужно ничего менять. Другое дело, я согласен с Вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит нас. Обе партии - Республиканская и Демократическая - уже в качестве одного из главных используют аргумент о том, что «русские хотят привести их конкурента к власти». Но в любом случае еще в одном можно быть уверенными: ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону.
Вопрос: Хуже не станет?
С.В.Лавров: Может быть, я не знаю. Мы все равно оптимисты. Только пессимист говорит, что хуже не будет. Оптимист говорит: может быть.
Вопрос: Высылают наших дипломатов из Чехии, Австрии, Норвегии, Словакии, Болгарии. Почему? Что за ерунда случилась, что они побежали наперегонки?
Мы все время отвечаем зеркально. У нас принцип взаимности. А можно ответить на это все не зеркально, а как-то более активно, чтобы закончить с этой «эпидемией»?
С.В.Лавров: То, что это сейчас стало признаком хорошего поведения по отношению к США и Великобритании, – это факт. Англичане играют здесь традиционно очень негативную роль, в том числе в последнее время. Вспомните ситуацию со Скрипалями, когда выгнали 60 российских дипломатов только из США. Англичане заставили подавляющее число стран-членов ЕС, в который они тогда еще входили, также выслать наших коллег. Далеко не всем удалось устоять. При этом, мы уже не раз говорили, и наши партнёры - участники такого рода высылок подтверждают, что англичане не предоставили никаких фактов. Ровно так же, как сейчас немцы не собираются предоставлять никаких фактов, несмотря на все международно-правовые обязательства.
Мы отвечаем зеркально. Это дипломатическая практика, дипломатический ответ. Конечно, мы делаем выводы и с той точки зрения, что сами решения наших партнеров о высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже или чем-то еще отражают не только дипломатическую практику (это уже на выходе), а податливость русофобским тенденциям. Американцы пытаются их насадить в Европе и всячески отвадить ее от наших газа, продукции военного назначения и много другого, заменив все это своим товарами подороже. Но зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить. Американцы не будут их слишком сильно теребить. По крайней мере, какое-то время. Потом наверняка наваляться с новой силой. Мы, конечно, в более широком, симметричном, концептуальном плане делаем определённые выводы, насколько надёжны наши партнеры.
Вопрос: Помните выражение: «если драка неизбежна, бей первым»? Давайте мы уже что-нибудь сделаем, чтобы нам не так обидно было, когда против нас вводят очередной пакет санкций.
С.В.Лавров: Я не имею права вдаваться в детали, но мне так кажется, что за последние годы мы так и поступаем в целом ряде случаев.
Вопрос: К.Г.Шахназаров написал недавно пост и в конце поставил знак вопроса. Текст о том, Россия – империя или не империя. От этого очень многое зависит. Вы как министр иностранных дел, как думаете? Мы - империя? Если империя, то тогда и внешняя политика должна быть соответствующей.
С.В.Лавров: Для К.Г.Шахназарова это риторический вопрос. Он однозначно считает Россию империей. Я уважаю его заинтересованность в том, чтобы проанализировать происходящее. Не у каждого практического политика это получается. Просто иногда на это не хватает времени. Его размышления о том, что именно империи имеют будущее в современном мире, учитывая, что слишком малые страны не могут состязаться с крупными объединениями. Он исходит из того, что СССР был империей, как и Российская империя.
Во многом сейчас российские интересы на мировой арене заключаются в том, чтобы сохранить свое влияние и поддержку со стороны непосредственных соседей. ЕС, конечно, тоже является империей по сути. США – империя с глобальным охватом. Китай, продвигая свои проекты «Один пояс, один путь», «Ледовый шёлковый путь», Сообщество единой судьбы человечества, конечно, проецирует свои глобальные интересы и заинтересован во влиянии, которое будет распространяться далеко за пределы его границ.
Наверное, для простоты ощущений К.Г.Шахназаров употребляет термин «империи». Можно придумать более точный для современной эпохи термин, который тем не менее будет показывать, что объективный процесс формирования того самого полицентричного мира, конечно, предполагает возвышение и диалог не между 193 странами-членами ООН, а между крупными державами. Это и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Здесь напомню об инициативе Президента России В.В.Путина о том, что у них по Уставу ООН особая ответственность. А Устав ООН никто не отменял. Это, конечно, и новые, сформировавшиеся за последние десятилетия крупные объединения. Ярчайший пример - Евросоюз. Как и у любой классической империи в прошлом по мере экспансии начинают появляться проблемы. В Евросоюзе целый ряд стран, прежде всего, «Вышеградская четверка», начинает всерьез высказывать недовольство бюрократией, которая, как любая бюрократия, имеет тенденцию воспроизводить сама себя, укреплять свое влияние в ущерб регионам, в данном случае - странам-членам ЕС.
Соединенные Штаты Америки по мере распространения своего влияния сейчас особенно настырного и агрессивного будут наталкиваться на проблемы. Будь то в Афганистане, где они уже стараются всеми правдами и не правдами чего-то добиться, но пока у них ничего не получается и не получится без помощи других стран. Ирак –ярчайший пример. В 2003 г. добрались до Багдада, «объявили демократию», а страны нет. Ливия разбомблена натовцами по инициативе США и, кстати, Франции, в то время одним из наиболее активных «желающих». Б.Обама предпочитал тогда держаться на вторых ролях. Где бы за практически последние пару десятилетий ни развивалась экспансия США, нигде не установилось демократий, хотя это была главная цель. Не наблюдается какого-либо покоя.
Вопрос: Везде хаос.
С.В.Лавров: Везде разрушения.
Вопрос: Нет ни одного примера за последние пару десятилетий.
С.В.Лавров: Думаю, что многосторонность, о которой мы говорим, конечно, должна быть направлена на организацию взаимодействия, на «притирку», поиск компромиссов, баланса интересов между ключевыми центрами современного мира, располагающими территорией, населением, экономическими, технологическими возможностями как в гражданской, так в военной сфере. «Пятерка» СБ ООН для меня очевидна. Но, конечно, придется понять, что Франция и пока еще Великобритания – это часть Европы. Великобритания скоро станет страной через пролив от территориальной Европы. Но ЕС игнорировать очень тяжело.
Вопрос: К другой империи. Что теперь будет с Японией?
С.В.Лавров: Не думаю, что Японию можно причислить к разряду империй.
Вопрос: Я говорю с иронией.
Вопрос: Там есть император.
Вопрос: Она больше империя по формальному признаку.
С.В.Лавров: Были контакты нового Премьер-министра Японии Ё.Суги с Президентом России В.В.Путиным. Они обменялись посланиями. Президент России поздравил его с избранием лидером партии и премьер-министром. Получил развернутый ответ. Недавно они еще пообщались по телефону. Насколько могу судить, с японской стороны еще требуется посмотреть, как будет формироваться практическая политика на многих направлениях. Но пока я ощущаю, несмотря на многие прогнозы, что японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях. Мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые были закреплены в совместных договорённостях с предшественником Ё.Суги. Они гласят, что только полноценное, полномасштабное партнерство в экономике, в сфере технологий, гуманитарной области, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов может вывести отношения на качественно новый уровень, который абсолютно необходим, чтобы можно было всерьез подступаться к любым вопросам, стоящим до сих пор на повестке дня.
Вопрос: С противостоянием с США все понятно. Крупные, сложные страны. Китай. Но есть страны (я про «мягкую силу») полностью от нас зависящие - Абхазия, Таджикистан. Про Белоруссию я уже упомянул нашу драму. Нам там даже запрещают сегодня продавать наши книги. В Абхазии выгнали всех русских бабушек из квартир - Вы знаете эту проблему, этим постоянно занимается российское Посольство. В Таджикистане МИА «Россия сегодня» не может открыть корпункт. «Комсомольскую правду» там тоже закрыли. Страна полностью зависит от нас. Там по-прежнему остались сотни тысяч русских. Ведут себя — как хотят.
У меня два предложения. Может быть, нам как-то сразу закладывать в договора, соглашения момент о нашем «медиапроникновении». Знаете, по-человечески обидно, когда Абхазия, Таджикистан берут и вышвыривают. Я про русских людей, про интересы русскоязычных. Что хотят, то и делают. И мы ничего не можем сделать.
С.В.Лавров: Примеры, которые Вы привели, можно продолжить. В частности, проблемы с нашими СМИ до конца еще не отрегулированы ни в Армении, ни в Казахстане, где переход на новые формы вещания, на создание т.н. общественного мультиплекса автоматически не учел наши отношения союзничества. Минкомсвязи активно было вынуждено включиться в переговоры. Уверен, что мы эти вопросы решим.
Но я согласен, что эти проблемы не должны были возникать. Принимая во внимание наши отношения, все то, что мы делаем на практике, наше участие в многочисленных совместных объединениях, учет наших интересов должен был быть более отчетливым. Но все это у нас на повестке дня. Вопрос собственности этнических русских, да и грузин этнических - граждан Российской Федерации в Абхазии является предметом нашего постоянного внимания.
Надеюсь, что сейчас, когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя, повторю, нас немного удивляет, что эта проблема остается не урегулированной. Теперь после всех этих событий, думаю, мы будем продвигать наши подходы чуть более энергично в отношениях со странами, которые Вы упомянули. В большинстве из этих государств наше присутствие по линии бизнеса является преобладающим, в том числе есть стопроцентные предприятия с российским капиталом и совместные предприятия. В большинстве из них преподавание русского языка все-таки, надо признать, находится на очень хорошем уровне. В Таджикистане по имеющейся договоренности разворачиваются специальные программы подготовки учителей русского языка, создания дополнительных школ в поддержку линии государства на сохранение русского в качестве ключевого языка многонационального общения внутри страны, в рамках СНГ. Те же процессы идут и в Киргизии.
Мне трудно судить, каждый раз занимаясь каким-то практическим аспектом тех отношений, которые складываются у нас с союзниками, со стратегическими партнерами. У вас, наверное, есть возможность более объективно видеть всю полноту картины, поэтому ваши подсказки для нас тоже важны. Но когда у ваших СМИ или других коллег возникают практические вопросы, мы, конечно же, всегда будем готовы эти обращения не просто выслушать и принять во внимание, но и сделать предметом нашей практической политики.
Вопрос: Мы все время говорим о том, что в такой-то стране переписали кусок нашей истории, в другой - снесли памятники нашим генералам, которые командовали в годы Великой Отечественной войны, в третьей - что-то сделали с мемориалом. Это бесконечная история. Мы каждый раз говорим, что мы не позволим. А что мы можем реально сделать, чтобы не позволить?
С.В.Лавров: Это опять же, это к вопросу о том, держаться нам за международное право, или «ну его».
Вопрос: Я за «ну его», честно скажу.
С.В.Лавров: Если за «ну его», тогда я скажу, какой сценарий будет в этом случае реализован. Тогда, например, нужно все мемориальные знаки, которые установлены в память о чешских легионерах, просто взять и разрушить. Сказать населению, что знаки находятся в здесь в соответствии с международно-правовым документом, но теперь «ну его», поэтому куча-мала, кто как хочет, так давайте.
Это будет, конечно же, приглашение к тому, чтобы упомянутые многочисленные проявления, особенно в Польше, а теперь уже и в таких странах, как Болгария, есть единичные проявления, стали нормой. И тогда уже будет ликвидирован последний порог, и сняты все препятствия.
Вопрос: Это и так для них стало нормой. Это для нас не норма.
Вопрос: До сих пор этим занимаются. Мы ехали в Минск на интервью с Президентом Белоруссии А.Г.Лукашенко. Проезжали указатель на Катынь, где случилась трагедия с польским самолетом. У нас там мемориал, он в прекрасном состоянии. Мы следим на государственном уровне за такими местами, и они прекрасно знают, что никогда и ничего Россия как государство не позволит сделать с ними. Это пример свежий, который мне пришел в голову. Но они же не бьют по тормозам, они сносят и сносят. Неужели нельзя их хотя бы напугать?
С.В.Лавров: Повторю, в этой конкретной сфере - защиты памяти и исторической правды - я не вижу другого пути, кроме как настаивать на выполнении международно-правовых обязательств. Да, сносят много. Сносят уже не только в Польше, причем употребляя аргументы, которые, в общем-то, я считаю, непорядочными для любого нормального человека: «А мы демонтируем только памятники, которые расположены не над захоронениями; в обязательствах только то, что над захоронениями». Во-первых, в обязательствах упомянуты все памятники, поэтому они лгут. А, во-вторых, они уже сносили и памятники над захоронениями, так же, как это делали в том же Таллине с «Бронзовым солдатом». Если мы начнем отвечать взаимностью, это уже будет наперекор православным принципам.
Вопрос: Об этом хотела спросить. Вы сначала говорите, что мы так не можем делать, потому что это связано с международным правом. Давайте будем делать так, как в наших интересах: не отвечать взаимностью, потому что мы христиане, потому что это не в традиции России, но не потому, что речь о международном праве.
С.В.Лавров: Нет, потому что это международное право. Православие я упомянул, потому что убежден, что нам разрушать могилы, памятники на нашей территории не пристало. Если мы говорим, что международное право, по крайней мере, в этой сфере больше не существует, в отношении всех наших памятников, которые пока еще остаются в той же Польше (да и в других странах этот процесс станет необратимым), скажут: «Все, у нас нет никаких обязательств, Россия вышла из этих договоров». Не хочу сравнивать, это может быть воспринято как святотатство, но тут, как в покере, кто первый моргнет. И если мы моргнем первыми, скажем, что у нас терпение лопнуло, мы ни за что не отвечаем; если в этой сфере мы должны проявить инициативу, отказаться от международного права, то для чего мы это сделаем? Смысл для нас только в том, чтобы нам можно было разрушать памятники на нашей территории…
Вопрос: Ну если брать эту сферу, то да. А если в принципе?
С.В.Лавров: Ну мы пока про эту сферу говорим. Рассуждаем, что сейчас действительно идет война по поводу истории, происходят грубейшие нападки на итоги Второй мировой войны, которые мы и другие страны, боровшиеся с гитлеровской коалицией, завоевали кровью. Россия ежегодно выносит на Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Она принимается подавляющим большинством. Против голосуют США вместе с Украиной. Евросоюз воздерживается. Считаю это позорным явлением для ЕС. В этом году на 75-ю сессию ГА ООН мы внесли проект резолюции про окончание Второй мировой войны. Там есть новый термин, вернее, новое предложение: чтобы все члены ООН признали Победу во Второй мировой войне всеобщим достоянием человечества. Потому что, Организация Объединенных Наций — всеобщее достояние, а ее создание стало возможным только благодаря этой Победе. Против проект резолюции - США, весь Евросоюз, Канада, Украина и Грузия.
Вопрос: Чем объясняют?
С.В.Лавров: Ничем не объясняют. Говорят, что это лишнее: раньше мы так не говорили, а теперь вы хотите, чтобы мы так сказали. Это неприемлемо, и это показывает абсолютную обоснованность нашего утверждения о том, что они реально хотят переписать историю, не только для того, чтобы обелить своих предшественников, но и для того, чтобы сейчас использовать это в своей практической политике в антироссийских целях. Поэтому мы будем с этим бороться. Но я не могу согласиться с мыслью о том, что в наших интересах отказаться и вообще «похерить» международное право как норму.
Вопрос: Вы все-таки ушли от ответа про светлое будущее с американцами, есть ли какие-то шансы?
С.В.Лавров: Я не уходил, а сказал, что лучше не будет.
Вопрос: Зайду с другой стороны. А нет ли у нас шанса, у российских интересов, поучаствовать в тех противоречиях, которые есть у Китая и США? США сейчас создает по многим признакам антикитайскую коалицию. Нам бы здесь воспользоваться ситуацией. Скажем, немного дистанцироваться от Китая, дать понять, что мы могли бы быть с американцами. Вот здесь есть какие-то маневры для нас с этими новыми союзами?
С.В.Лавров: Мы все-таки идем от жизни во всем, что делаем. По крайней мере, стараемся идти от жизни. И здесь я не вижу причин, по которым мы должны дистанцироваться от кого бы то ни было. Уходить от договоренностей, которые мы рассматриваем как взаимовыгодные и работающие, было бы глупо. Дистанцироваться от договоренностей с Китаем только для того, чтобы показать, что мы тоже можем интриганствовать, -зачем? Это себе в ущерб. Американцы уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами в открытую говорят, что Россия должна им помочь наказать Китай, заставить его разоружаться или заморозить свои вооружения, спекулируют беспардонно, как наперсточники.
Недавно американский представитель сделал заявление, что Россия их поддержала, и мы «выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что замораживаем количество всех ядерных боеголовок»; что «Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну это нечистоплотно.
Вопрос: А вот как реально обстоят дела по поводу СНВ-3? Они говорят, что готовы, предложили русским историю с заморозкой ядерного потенциала, и они уже в шаге от продления Договора на своих условиях?
С.В.Лавров: Мы всегда исходили и продолжаем исходить из того, что договоренности в сфере стратегической стабильности должны базироваться на презентации интересов каждой из договаривающихся сторон, на анализе угроз, которые противоположная сторона представляет для тебя, и на поиски компромисса, учитывающего на сбалансированной основе интересы каждого, и соответственно, реальные угрозы. Это, прежде всего, предполагает те средства, которые могут доставлять ядерные боеголовки на территорию друг друга.
А США сейчас перевернули все с ног на голову. Они хотят оставить в стороне средства доставки, потому что у них появилось немало средств, сейчас не являющихся предметом переговоров. Они все говорят про наши новые ресурсы, о которых было объявлено, которые сейчас активно поступают на вооружение. Но из пяти новых систем вооружения две мы готовы включать в контекст нынешнего договора. Они это знают.
Вопрос: А какие именно мы готовы включить?
С.В.Лавров: Я не буду сейчас вдаваться в детали. Те, которые подпадают под категории, покрытые нынешним договором. А это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики.
Вопрос: А вот американцы на нашем месте сказали бы, что не подпадают. И все. Не подпадают.
С.В.Лавров: Они на своем месте и говорят, что не подпадают. Потому что у них есть программа молниеносного глобального удара. Речь о неядерных стратегических носителях, которые могут по целям этой программы достигать любой точки земного шара за один час. Они пока не включили это в наши разговоры. Равно как и не затрагивается ими тема милитаризации космоса, хотя официально космос в их доктринах, как и киберпространство, включен в арену боевых действий. Мы этого не можем не учитывать.
Они не хотят учитывать тот факт, что сами официально поставили крест на своем присоединении к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), да и многое другое. Вместо того, чтобы заниматься конкретными носителями, которые представляют угрозу для территории друг друга, они предлагают считать боеголовки, боезаряды. Тем самым они хотят ввести в практический оборот тему нестратегического ядерного оружия, т.н. тактические ядерные вооружения. На этот счет было четкое понимание, что, прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссии об их ограничении, американцы должны сначала убрать эти тактические вооружения с ядерными боеголовками на свою территорию. Они находятся на территории пяти натовских стран. Более того, в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Вашингтон привлекает страны НАТО к тренировкам по применению и обращению с ядерным оружием. Это грубейшее нарушение ДНЯО. Вместо того, чтобы выровнить поле для контактов путем вывоза всего этого дела на свою территорию, они хотят принять все как данность и предлагают все посчитать. Не будет этого.
И второе их требование — вернуться к механизмам верификации, которые существовали еще в 90-е годы и были, по большому счету, унизительны. Тогда их инспекторы сидели у проходной соответствующих заводов, измеряли сантиметром контейнеры, в которых вывозили ракеты, измеряли то, что ввозится на эти заводы. Да, у нас тоже было право находиться на объекте в городе Магна. Но при согласовании ныне действующего договора СНВ-3, было решено, что мы уходим от этих интрузивных и не очень партнерских практик, которые в общем-то не годятся в современных условиях, когда мы уже достаточно серьезно перешли к равноправным договоренностям, заключенным в нынешнем документе. Но американцы хотят посчитать все боеголовки и вернуться к упомянутым мною жестким мерам верификации, а еще заставить нас уговаривать КНР. Вот о чем они говорят.
Вопрос: Они же здесь ничего нового не придумали. Много лет назад прямо в этом здании мы снимали, как разрабатывали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. И когда, наконец, уже вышли на этот договор, «носители ядерного оружия» они просто переделали под «носители высокоточного оружия» и на полном серьезе рассказывали, что они сократили число носителей, в первую очередь, самолетов. Но если они сейчас стоят на этих позициях, значит, нет перспективы продления СНВ-3?
С.В.Лавров: Нет, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы. Хотя мы никогда не скажем, что мы хлопаем дверью и заканчиваем все контакты. Нет. Но мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе выдвинутого ультиматума, полностью игнорирующего все те принципы, которые десятилетиями были признаны в качестве основы наших договоренностей по СНВ и т.д.
Насчет Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов, он же был не только юридически обязывающим документом, но политической декларацией, которая на тот момент худо-бедно позволила сохранить на плаву сам процесс поддержания стратегической стабильности.
Вопрос: Кто нам лучше? Дж.Байден или Д.Трамп? И есть ли вообще здесь лучше?
С.В.Лавров: Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, написавший текст со словами «Америка нас не любит».
Вопрос: Я хочу отметить исторический момент, когда Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров в эфире трех больших российских радиостанций цитирует Семена Слепакова. А вопрос у меня в другом. Чтобы уйти от ужасной темы невозможности СНВ-3 - самой пессимистичной, по-моему, из сегодняшних, хочу спросить про Казахстан и шире, как мы обычно тут делаем. Есть мнение, не знаю, согласны ли Вы с ним, и не знаю, согласна ли я сама, поскольку не эксперт по Казахстану, но некоторые аналитики и эксперты сулят нам в этой стране противоречия, близкие к тому, что произошло на Украине. Имею в виду то, что произошло между этническими русскими на Севере и Казахстаном как государством. Я это слышала от нескольких людей и читала в нескольких источниках. Не знаю, так ли это. Надеюсь, что нет. Несколько раз была в Казахстане, правда, очень давно, но ничего такого не заметила. Считаете ли Вы, что есть действительно такие опасения? Замечаете ли Вы рост напряжения? И вопрос шире. Когда мы будем делать что-то, чтобы наши соотечественники (в первую очередь, этнические русские люди) могли вернуться на Родину? Мы говорим об этом много лет, бесконечно что-то упрощаем, а воз и ныне там.
С.В.Лавров: Что касается Казахстана, то, как и Вы, я не вижу угрозы раскола Казахстана по этническому принципу. Власти страны прекрасно понимают необходимость укрепления межэтнического, межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. В этом смысле учет интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет одно из важнейших значений, в том числе и в контексте преподавания русского языка, поддержания русскоязычного пространства, обеспечения права родителей отдавать детей в русскоязычные школы и т.д.
Это все является частью договорённостей в рамках СНГ и двусторонних документов между Россией и Казахстаном. Это, конечно, касается и вопроса о том, чтобы русские чувствовали себя вовлеченными в управление регионами Казахстана и государства. Убежден, что Президент РК К.-Ж.К.Токаев и первый Президент страны Н.А.Назарбаев это прекрасно понимают. По крайней мере, в наших контактах на уровне первых лиц, министров разного профиля мы всегда видим это понимание.
Что касается тех, кто кроме нас поддерживает отношения с Казахстаном, в чистоту их замыслов я голословно поверить не могу. Мы видим (опять же, говоря о том, как американцы осваивают постсоветское пространство, в частности, Центральной Азии), что они пытаются сеять противоречия на очередной территории, не просто географически расположенной рядом с Россией, но очень близкой нам исторически, политически, военно-политически, являющейся нашим союзником. Такие попытки ими предпринимаются. По крайней мере, все НПО, финансируемые американскими фондами, продвигают линию, стремящуюся поощрять националистические тенденции титульной нации и тем самым поддерживать конфликтный потенциал.
Китай тоже имеет свою программу в Центральной Азии. Прежде всего, его интересует продвижение своих экономических интересов. Уже комментировал вопрос, возникший в связи со статьей К.Г.Шахназарова. Китай накопил экономическую мощь, причем сделал это по правилам, внедренным Западом, прежде всего, американцами в контексте концепции глобализации. Сейчас же во многом из-за этого сыр-бор. Американцам не нравится, что Китай поднялся, выполняя те правила и играя по тем нотам, которые были написаны самими американцами. Поэтому сейчас США хотят выходить из ВТО, разрушать остальные договорённости, лимитирующие так или иначе свободу их действий. Китай, проецируя свою экономическую мощь, реализует абсолютно естественные интересы. Мы стараемся в этом участвовать и гармонизировать интересы той же Центральной Азии, других стран постсоветского пространства, включая интересы России, с теми интересами и возможностями, которые предоставляет КНР.
ЕАЭС заключил уже два соглашения с Китаем. Они нацелены ровно на то, чтобы гармонизировать евразийскую интеграцию с китайскими проектами «Одного пояса, одного пути» и более широко - в рамках философии, которую Президент В.В.Путин назвал формированием Большого Евразийского партнерства, куда приглашаются все те, кто расположен на нашем огромном евразийском континенте, в том числе страны АСЕАН и те государства, которые не состоят ни в каких интеграционных объединениях. Плюс, как было подчёркнуто, мы держим открытой дверь для ЕС, потому что не использовать сравнительные преимущества, данные нам Богом - географию наиболее активно растущего и перспективного континента, было бы глупо с точки зрения развития каждой страны.
Еще раз подчеркну, что с Казахстаном, как и с любой другой страной СНГ, у нас идет очень доверительный, развернутый диалог по всем вопросам. Все темы, которые так или иначе могут вызывать озабоченность, ставятся открыто, по-товарищески и успешно решаются в подавляющем большинстве случаев. Надеюсь, что в итоге мы решим удовлетворительно все вопросы такого рода.
Вопрос: Вопрос от наших слушателей. Министр иностранных дел С.В.Лавров объездил весь мир. Пять самых красивых мест с Вашей точки зрения?
С.В.Лавров: Везде по-своему красиво. Но я больше склонен придерживаться тех взглядов, которые выработались у меня и у В.Н.Сунгоркина, кстати сказать. Объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать. В нашей стране красот хватит не на одно поколение.
Вопрос: У нас с Сергеем Викторовичем дискуссия. Он сторонник Алтая, а я - Дальнего Востока. Спор идет.
Вопрос: А мы сторонники Краснодарского края.
Вопрос: Сочи, Черноморское побережье.
Вопрос: Где мы отдыхали в этом году семьями. И заехали еще в Ялту.
С.В.Лавров: С точки зрения физкультуры это пассивный отдых.
Вопрос: Как сказать. Смотря, чем заниматься.
С.В.Лавров: Но это будет не физкультура. Я знаю, чем там занимаются.

Совещание с членами Правительства
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации.
Основная тема встречи – инструменты достижения показателей инвестиционного развития.
* * *
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте!
У нас сегодня доклад Министра экономического развития Решетникова Максима Геннадьевича об основных инструментах достижения показателей инвестиционного развития.
Но начать я хотел бы с другого – с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса – «ЭпиВакКорона». Я попросил бы Татьяну Алексеевну Голикову рассказать об этом поподробнее. Насколько я знаю, у нас на подходе ещё третья вакцина – центра имени Чумакова Российской академии наук.
Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.
Т.Голикова: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Добрый день, уважаемые коллеги!
Действительно, это очень хорошая новость. Сегодня центром «Вектор» получено регистрационное удостоверение.
Хочу отметить, что клинические исследования проводились на ста добровольцах. В отличие от первой российской вакцины «Спутник V», которая является векторной, то есть произведённой на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ, является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус. Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности.
Первые партии вакцины в объёме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время, и «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. При этом я хочу сказать, что одновременно «Вектор» планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет.
Хочу подчеркнуть, что появление второй российской вакцины существенно расширяет возможности вакцинации нашего населения, а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью ковидом.
Также я хочу отметить, Владимир Владимирович, что по «Спутнику V» сейчас производятся пострегистрационные клинические исследования. Сейчас в них уже участвуют 13 тысяч наших граждан, добровольцев, и вакцина уже, как Вы знаете, поступила в субъекты Российской Федерации, пусть ещё не в больших объёмах, но уже поступила.
И ещё одна вакцина, о которой Вы упомянули, это вакцина научного центра имени Чумакова Российской академии наук. Она инактивированная, и сейчас получено разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые производятся на медицинских базах в Новосибирске, Санкт–Петербурге и Кирове. 6 октября в рамках первой фазы было привито 15 добровольцев, серьёзных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо, и 19 октября стартует вторая фаза, в рамках которой будут иммунизированы ещё 285 добровольцев. Предполагается, что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю, и в этом случае к первым двум вакцинам присоединиться ещё одна. Безусловно, мы на это очень рассчитываем. Чем больше мы предоставляем возможностей нашим гражданам, тем увереннее наша работа в победе над коронавирусом.
Владимир Владимирович, можно несколько слов сказать про эпидемиологическую ситуацию и про готовность субъектов Российской Федерации к работе сейчас в сегодняшних условиях?
В.Путин: Пожалуйста.
Т.Голикова: Собственно, как мы и ожидали, с началом осенне–зимнего эпидемического сезона отмечается увеличение числа случаев выявления и заболевания новой коронавирусной инфекцией. На 14 октября у нас зарегистрировано 1 миллион 340 тысяч случаев COVID–19. Средний темп прироста за последние сутки в Российской Федерации составил 1,1 процента, в 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя.
Хочу отметить, что среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю рабочую неделю у нас в стране составили семь с половиной единиц на 100 тысяч населения. И отмечу в этой связи, что Россия в линейке 189 стран, которые публикуют данные о распространении новой коронавирусной инфекции, по этому показателю занимает 54–е место. Это говорит о том, что ситуация в России хотя и достаточно напряжённая и сложная, но тем не менее она находится под контролем. В регионах ситуация различается: по состоянию на конец прошлой рабочей недели в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в восьми регионах на относительно высоких уровнях.
В тех регионах, где фиксируется значительный рост заболеваемости, недостаточно реализовывались и реализуются санитарно–противоэпидемические мероприятия, в том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и общественном транспорте и не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий. В то же время в регионах с низкой заболеваемостью отмечается максимальное применение всех противоэпидемических мероприятий с контролем за их исполнением.
Я приведу примеры.
В Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жёсткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тысяч населения. И в этой связи я ещё раз хочу обратить внимание и региональных властей, и самих граждан на необходимость соблюдения масочного режима и тех требований, которые рекомендованы нашими санитарными врачами, поскольку от них зависит дальнейшее развитие ситуации и загрузка больничной сети.
Очень важно понимать, что нагрузка на медицинскую сеть и дополнительное открытие ковидных коек сужают возможности оказания плановой помощи, оказание которой так же необходимо, как и оказание помощи больным COVID.
Также я хотела бы обратиться к объединениям работодателей и работодателям о необходимости соблюдения мер безопасности в трудовых коллективах и дополнительного внимания к гражданам старшего возраста и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.
Мы неоднократно отмечали, и Вы в своих выступлениях это подчёркивали, что важно поддерживать на высоком уровне тестирование населения. Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 миллиона лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестированием остаётся ниже установленных нормативов, поэтому я хочу просить субъекты Российской Федерации обратить на это самое пристальное внимание.
Также я бы хотела привести данные о том, как развивается заболевание по его структуре. Несмотря на общее увеличение числа случаев, за последний месяц на три процента снизилась доля форм с клиническими проявлениями заболевания с 73 процентов до 69,8. За последнюю рабочую неделю отмечено увеличение бессимптомных и лёгких форм инфекции с 32 до 39 процентов соответственно и снижение госпитализации лиц с острыми респираторными проявлениями COVID с 35,7 процента до 32,6.
Тем не менее нагрузка на коечный фонд в регионах достаточно высокая, и регионы сейчас разворачивают зарезервированные койки. По данным мониторинговой сети, на сегодняшний день регионами развёрнуто 177,7 тысячи ковидных коек, из них 103 тысячи коек оснащены подачей кислорода, и 24,4 тысячи коек оснащены ИВЛ. На утро сегодняшнего дня оставались свободными 24 процента. И я здесь хочу подчеркнуть, что во избежание неправильной трактовки этих цифр – потому что всегда звучат разные цифры – обращаю внимание, что мы пользуемся официальной мониторинговой информацией, и 24 процента – это количество свободных коек, открытых исключительно под COVID.
Учитывая, что в ряде субъектов отмечается значительное число пациентов, которые госпитализируются с лёгкими формами течения заболевания, наряду со своевременным развёртыванием коек, о котором я только что сказала, очень важно обратить внимание на оказание медицинской помощи больным, которые находятся на амбулаторном лечении, в том числе и лекарственном обеспечении. Это очень важная тема, которая является залогом успешного выздоровления.
Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне–зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца, а в некоторых субъектах Российской Федерации – чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем низкий запас лекарственных препаратов, и в этой связи я бы хотела обратить внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, при оказании помощи, при профилактике коронавирусной инфекции.
То же самое относится и к фармпрепаратам, потому что отечественными производителями производится 15 препаратов, которые рекомендованы Минздравом. Недавно на рынок выведено ещё три новых лекарственных препарата, по которым освоен весь производственный цикл, включая синтез субстанции. И 12 октября Председателем Правительства подписано распоряжение Правительства, которое включает эти препараты в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Соответственно, цены на них будут зарегистрированы и пересмотрены в ближайшее время. По этому поводу были нарекания граждан.
В этой связи, Владимир Владимирович, я ещё раз обращаюсь к региональным властям, что должны быть обеспечены необходимые запасы и средств индивидуальной защиты, и лекарственных препаратов, и других материальных ресурсов, для того чтобы обеспечить безопасность работы медицинских работников и безопасность населения.
Хочу также сказать, что в возрастной структуре случаев инфицирования COVID, подчёркиваю, на 100 тысяч населения за последнюю неделю отмечается рост в возрастных группах от 30 до 65 лет и 65 лет и выше. Что касается детского населения школьного возраста 7–15 лет, то здесь отмечено снижение заболеваемости на 5,7 процента, среди детей 16–18 лет – снижение на 15,9 процента. И в этой связи я хочу сказать, что мы отслеживаем ситуацию в школах. В октябре максимальное число закрытых в связи с COVID школ отмечалось 8–го числа, когда было закрыто 109 школ в 41 регионе. С 9 октября число закрытых школ сократилось, стало составлять 103 школы в 36 регионах страны. И в этой связи я также хочу сказать, что решение о закрытии школ, переводе их на дистанционное обучение или введение режима каникул должно приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации.
Как я уже говорила, распространение COVID–инфекции происходит на основе сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам 40–й недели недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены по совокупному населению в 28 регионах, а по населению старше 15 лет – в 56 регионах. При этом преобладают известные инфекции: аденовирусы, вирусы парагриппа и единичные случаи гриппа. В этой связи, как Вы уже поручали, мы максимально расширили категории лиц, которые подлежат прививкам от гриппа. И сейчас, на конец прошлой недели, прививками охвачено 34,7 миллиона наших граждан, что составляет 23,6 процента, и работа продолжается.
В заключение, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я бы хотела сказать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне–зимний эпидемический период настораживают. Но проведённые весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас уже появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики.
Но я ещё раз хочу воспользоваться случаем и обратиться к регионам и гражданам, чтобы они соблюдали все требования безопасности.
Спасибо, Владимир Владимирович.
В.Путин: Спасибо.
Татьяна Алексеевна, Вы сказали о том, что 40 тысяч добровольцев уже изъявили желание принять участие в проверке эффективности новой вакцины – «ЭпиВакКорона». Но, насколько мне известно, Вы сами в числе этих 40 тысяч тоже сделали себе прививку, и Вы, и главный санитарный врач России Попова Анна Юрьевна. Вы сделали себе уже вторую прививку, вторую часть этой прививки, да? Как Вы себя чувствуете? И как Вы себя чувствовали?
Т.Голикова: Да, Владимир Владимирович, мы с Анной Юрьевной сделали даже не в рамках 40 тысяч, а в рамках проведения клинических исследований, то есть на первой и второй фазе, для того чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины.
Действительно, мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии.
В.Путин: Температура не поднималась, да?
Т.Голикова: Нет, Владимир Владимирович, не было. И я хочу сказать, что у всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе, температура не поднималась.
В.Путин: Понятно. Но титры появились, да?
Т.Голикова: Титры появились и на достаточно высоком и хорошем уровне.
В.Путин: Ясно.
Я хочу поздравить учёных, всех сотрудников новосибирского центра «Вектор» с этим успехом. Это, безусловно, очень важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, за вашу целеустремленность в работе. Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами, они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире.
Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнёрами и будем продвигать нашу вакцину и за рубежом. Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцин для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться. Я думаю, что это и так всем понятно, но просто ещё раз об этом напоминаю.
Татьяна Алексеевна, Вы сказали по поводу того, что далеко не во всех регионах должным образом организовано тестирование. И более того, сказали, что в шести из них есть явная проблема с этим. Чуть попозже я Вам позвоню, Вы мне, пожалуйста, перечислите эти регионы.
Т.Голикова: Хорошо, Владимир Владимирович.
В.Путин: Спасибо.
Давайте пойдём дальше.
Дмитрий Николаевич Патрушев мне буквально вчера или пару дней назад докладывал о том, что урожай зерновых в этом году, в 2020 году, может быть как минимум вторым по количеству собранного урожая в истории новейшей России.
Дмитрий Николаевич, Вы на связи, слышите нас?
Д.Патрушев: Владимир Владимирович, на связи, слышу.
В.Путин: Прокомментируйте, пожалуйста, и добавьте что–нибудь к тому, что Вы мне уже докладывали.
Д.Патрушев: Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Несмотря на сложившуюся ситуацию, российский АПК демонстрирует позитивную динамику. Мы продолжаем взаимодействие с субъектами в формате еженедельных штабов по мониторингу ситуации в отрасли. В целом она остаётся стабильной. В весенний период аграрии в штатном режиме провели посевную. Уборочная кампания также, Владимир Владимирович, стартовала своевременно, и сейчас она практически завершена. Её темпы, а также показатели урожайности существенно превосходят прошлогодние.
В настоящий момент зерновые обмолочены с 93 процентов площадей, и, как я Вам докладывал, мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерна превысит 125 миллионов тонн в чистом весе. В том числе пшеницы планируется не менее 82 миллионов тонн, что на 7,5 миллиона тонн выше уровня 2019 года.
Планы по другим культурам следующие.
Сбор картофеля должен составить порядка 22 миллионов тонн, масличных – 21,5 миллиона тонн. В частности, ожидается, Владимир Владимирович, рекордный урожай рапса – не менее 2,5 миллиона тонн. Урожай овощей превысит 14 миллионов тонн. Помимо этого ведётся планомерная заготовка кормов для животноводства.
Параллельно продолжается и сев озимых культур. Его общая площадь составит более 19 миллионов гектаров, что на полмиллиона гектаров больше прошлогоднего уровня. В 38 субъектах работы уже завершены, ещё в 24 – пока продолжаются.
Владимир Владимирович, в целом всё идёт по графику. Семенами аграрии обеспечены в полном объёме, то же самое можно сказать обо всех основных производственных ресурсах. В частности, накопленные запасы минеральных удобрений составляют 3,7 миллиона тонн, что почти на 10 процентов выше прошлогоднего уровня. Сейчас цены на рынке минеральных удобрений стабильные.
Что касается ГСМ, за прошедший период года перебоев с поставками топлива не наблюдалось. Потребность составляет порядка 4,6 миллиона тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн автобензина. Сельхозтоваропроизводители обеспечены ГСМ для проведения уборочной кампании.
Далее: у аграриев имеется свыше 565 тысяч тракторов и комбайнов, при этом продолжается планомерное обновление парка техники. По планам в текущем году будет закуплено 56 тысяч единиц, в том числе за счёт действия постановления № 1432 Минпромторга и льготных программ для сельхозтоваропроизводителей от «Росагролизинга». Компания «Росагролизинг» в 2020 году поставит не менее девяти тысяч единиц техники и оборудования на 36 миллиардов рублей. Это стало возможным, Владимир Владимирович, благодаря средствам, выделенным на докапитализацию компании «Росагролизинг», за это хотел бы отдельно Вас поблагодарить. Это очень нужное решение, которое позволяет обновлять парк сельхозтехники.
Уважаемые участники совещания, коротко остановлюсь на основных параметрах господдержки. В 2020 году на прямую финансовую помощь аграриям в регионы доведено 100,5 миллиарда рублей. Эти средства были направлены в субъекты ещё в декабре прошлого года. На сегодня доведено до непосредственных получателей 72 процента. Отмечу, что темпы освоения выше прошлогоднего уровня, но мы продолжаем держать этот вопрос на особом контроле.
Также в период сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводителям необходимо поддерживать достаточный уровень оборотных средств. Наиболее эффективным инструментом для этого является кредитование, в том числе льготное. На проведение полевых работ в 2020 году только Россельхозбанк и Сбер выдали 479,8 миллиарда рублей, что почти на четверть выше уровня прошлого года.
Далее – об отдельных мерах поддержки аграриев, включая новые. Владимир Владимирович, во–первых, напомню, что с 2020 года мы трансформировали меры господдержки в компенсирующую и стимулирующую субсидии. При таком подходе за основу берутся индивидуальные точки роста каждого субъекта. Это даёт возможность увеличивать объёмы производства по приоритетным сферам АПК конкретного региона и повышает эффективность субсидий.
Во–вторых, ориентируясь на непростую ситуацию текущего года, мы также внесли изменения в наиболее востребованный инструмент – в льготное кредитование. Так, в 2020 году появилась возможность пролонгации краткосрочных кредитов, а также отсрочки платежей по погашению процентов и тела основного долга по инвесткредитам. В период пандемии это стало очень ожидаемой мерой поддержки. Кроме того, в перечень направлений использования льготных краткосрочных кредитов теперь включено приобретение ГСМ, оплата электроэнергии и выплата заработной платы.
Владимир Владимирович, в целом по посевной такая ситуация.
Дальше: есть информация, которую тоже хотел бы представить, по комплексному развитию сельских территорий. Если позволите, я тоже это сделаю.
В.Путин: Пожалуйста.
Д.Патрушев: Спасибо.
Владимир Владимирович, мы не раз говорили о том, что АПК – это не только производственные показатели сельхозпродукции и продовольствия, это в первую очередь люди, занятые в отрасли и проживающие на селе. Для повышения качества жизни граждан в сельской местности Минсельхоз с 2020 года реализует государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Это стало важным этапом в масштабном развитии территорий, где проживает четверть населения нашей страны. Госпрограмма создана на основании мониторинга всех сельских территорий России по основным параметрам, определяющим уровень комфорта жизни, поэтому каждое её мероприятие продумано с точки зрения реальной потребности. Более того, активное участие в создании госпрограммы принимали регионы, органы местного самоуправления и, что очень важно, сами сельские жители. В результате в заявочной кампании на 2020–2021 годы принял участие 81 регион.
Отмечу, что по планам только на первый год реализации госпрограмма затронет территории, где проживает почти пять миллионов человек, что составляет 13 процентов от всей численности сельского населения. В текущем году реализуется 132 проекта, включающих благоустройство территорий, а также строительство и ремонт социальных объектов. 90 из этих проектов завершатся в 2020 году. В результате будет создан 361 объект: это школы, детские сады, ДК, медицинские, спортивные объекты. Кроме того, в 2020 году будет введено свыше 833 километров распределительно–газовых сетей и более 733 километров локальных водопроводов. Помимо этого планируется строительство и реконструкция почти 690 километров дорог.
Владимир Владимирович, особую популярность приобрела сельская ипотека. Ею уже воспользовались более 24 тысяч человек в 80 субъектах. Объём выданных кредитов составил порядка 48 миллиардов рублей. Это позволило приобрести порядка 1,8 миллиона квадратных метров жилья в сельской местности. То есть мы видим колоссальную заинтересованность граждан в вышеуказанной программе. В этой связи мы прорабатываем предложения о её продлении до 2030 года.
Уважаемые участники совещания, обеспечивая население страны достаточным объёмом продукции, наши аграрии активно осваивают и зарубежные рынки. Спрос на отечественную сельхозпродукцию и продовольствие укрепляется благодаря их высокому качеству. В 2020 году ориентир по экспорту установлен у нас на уровне 25 миллиардов долларов. На текущий момент мы уже перешагнули показатель в 20 миллиардов долларов. При этом продолжается работа по замещению импорта. Для развития внешней торговли реализуется целый комплекс мероприятий. В 2020 году, несмотря на пандемию, открыты новые рынки для 18 товарных позиций российского производства. Всего мы имеем возможность поставок в 160 стран.
Разумеется, ведётся плановая работа по продвижению продукции АПК. В частности, Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим указом создаём сеть представителей Минсельхоза за рубежом в 50 странах. После снятия ограничений в связи с коронавирусом первые атташе приступят к своим обязанностям в том числе в Таиланде, Тунисе, Индонезии, Иордании, Мексике и Малайзии. Мы рассчитываем, что это внесёт свой вклад в развитие экспортного потенциала АПК. В целом в текущем году, по нашим прогнозам, установленные показатели внешней торговли будут выполнены в полном объёме.
Уважаемый Владимир Владимирович, в завершение своего доклада хочу выразить Вам, членам Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания, а также руководству субъектов огромную признательность за постоянное внимание к вопросам развития АПК и содействие в достижении задач нашей отрасли.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.
В.Путин: Спасибо.
Дмитрий Николаевич, я правильно Вас понял, что экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?
Д.Патрушев: Да, Владимир Владимирович, Вы абсолютно правы. На аналогичную дату прошлого года мы не достигли ещё суммы в 20 миллиардов долларов. Я сегодня проверял последние цифры, буквально на дату у нас сумма экспортной выручки по продаже продукции АПК уже составляет 20 миллиардов 700 миллионов долларов. Все планы, которые у нас есть на этот год, будут, надеюсь, исполнены.
В.Путин: Сотрудники, работники отрасли продолжают нас радовать. Спасибо им большое. Здорово.
Д.Патрушев: Спасибо, Владимир Владимирович.
В.Путин: По урожаю, я так понимаю, окончательно подведём итоги чуть попозже, да?
Д.Патрушев: Пока, как я сказал, 93 процента площадей обмолочено, осталось чуть–чуть, но тем не менее окончательные итоги имеет смысл подвести попозже, Вы абсолютно правы, Владимир Владимирович.
В.Путин: Хорошо, ясно. Спасибо большое.
Д.Патрушев: Спасибо.
В.Путин: У нас с 1 октября увеличено страховое возмещение для отдельных категорий граждан с 1,4 миллиона рублей до 10 миллионов рублей. Я бы попросил Силуанова Антона Германовича пояснить и для членов Правительства, и, самое главное, для граждан объяснить, что имеется в виду и какие последствия это может иметь для наших граждан.
Пожалуйста, Антон Германович.
А.Силуанов: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Действительно, Правительство постоянно реализует меры по повышению уровня защищённости прав граждан, прав вкладчиков. Только за последнее время в систему страхования вкладов включены такие денежные средства, которые размещаются в микро- и малых предприятиях, создан механизм страхования денежных средств, размещенных на счетах эскроу для долевого строительства, лимит по ним определён 10 миллионов рублей. С 1 октября вступают новые решения, о которых Вы сказали.
Что это за решения? Теперь страхование распространяется на средства на счетах граждан, полученные от продажи жилья, полученные средства в качестве наследства, социальные выплаты, субсидии, которые получают от государства граждане, а также на те деньги, которые приходят гражданам по решениям судов. Лимит по таким денежным средствам в остатках на счетах составляет 10 миллионов рублей.
Кроме того, впервые вводится страхование средств для таких объединений граждан социальной направленности, как благотворительные фонды, религиозные организации, товарищества собственников жилья. Лимит по таким средствам составляет 1,4 миллиона рублей.
Страхование также будет распространяться и на специальные счета, предназначенные для формирования и использования средств капитального ремонта, лимит – 10 миллионов рублей.
По количеству счетов текущие механизмы защиты прав вкладчиков защищают 99,5 процента вкладов, практически 100 процентов. Поэтому решения, которые вступают в силу с октября текущего года, конечно, должны повысить доверие населения к банковской системе.
Спасибо за внимание.
В.Путин: Хорошо. Надо получше информировать граждан, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать, тогда и экономическая активность, может быть, будет более высокой. Собственно говоря, мы об этом говорим всё время, в том числе после выработки соответствующих мер поддержки отдельных отраслей экономики и граждан страны. Одна из этих мер поддержки и строительной отрасли, и граждан – это льготная ипотека по [ставке] 6,5 процента. Она у нас заканчивается 1 ноября.
Михаил Владимирович, с учётом того что ситуация у нас складывается, в общем–то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям ещё тяжеловато, и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года. Как Вы думаете?
М.Мишустин: Уважаемый Владимирович! Уважаемые коллеги!
Да, действительно, как Вы сказали, 1 ноября заканчивается срок действия программы льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5 процента. Она была запущена Правительством по Вашему поручению в апреле. На таких условиях можно купить в кредит квартиру стоимостью до шести миллионов рублей, а если говорить о жилье в Москве и Подмосковье, в Санкт–Петербурге и Ленинградской области, то по цене до 12 миллионов рублей.
В.Путин: Квартиру в новостройке? Речь идёт о новом строительстве?
М.Мишустин: Да.
Владимир Владимирович, сейчас можно с абсолютной уверенностью сказать, что эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Выдано более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей. В целом сейчас на программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. Мы видим её востребованность, то, что она необходима семьям. Кстати, для поддержки строительной отрасли это сыграло свою роль, которая оказалась в непростой ситуации из–за коронавируса.
В связи с этим, уважаемый Владимир Владимирович, мы поддерживаем это: продлить эту программу с льготной ипотечной ставкой в 6,5 процента до 1 июля следующего года, то, что Вы сказали, считаем важным. Мы готовы быстро подготовить все необходимые соответствующие распоряжения.
В.Путин: Хорошо, давайте сделаем это, тем более что это действительно мера популярная, востребованная и реально людей поддерживает. Давайте сделаем это, и с 1 января она не должна прекратить своё функционирование. Продлим её хотя бы до середины следующего года.
М.Мишустин: Есть, Владимир Владимирович.
И ещё один вопрос. На прошлой неделе по Вашему поручению я встречался с лидером политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям. В отношении их действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию.
Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
Уважаемый Владимир Владимирович, если Вы поддерживаете возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, Правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран.
В.Путин: Хорошо. Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен. Тем более если Вы считаете, Правительство считает, что это возможно и пойдёт не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились.
М.Мишустин: Спасибо, Владимир Владимирович, всё оформим.
В.Путин: Спасибо Вам.
Давайте перейдём к основному вопросу. Пожалуйста, слово Решетникову Максиму Геннадьевичу. Прошу Вас.
М.Решетников: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
В июльском указе обновлены национальные цели. Ключевых экономических целей – две: это экономический рост и рост инвестиций. И это недаром, потому что две эти цели очень тесно связаны. В долгосрочном плане экономический рост прежде всего связан с ростом инвестиций.
Все предыдущие годы мы планово создавали необходимые инструменты, инвестиционный климат, стимулирующие налоговые льготы, развивали инфраструктуру, институты развития, причём и на федеральном, и на региональном уровне.
На текущем этапе важно обозначить ещё один приоритет – это поддержка конкретных проектов в отраслях и в регионах. Именно на этой основе предлагается запустить новый инвестиционный цикл.
Работу предлагается выстроить по трём направлениям.
Во-первых, это поддержка частных инвестиций, крупных частных проектов, в том числе в рамках нового инструментария – законодательства о защите и поощрении капиталовложений.
Второе направление – это реализация проекта в регионах.
И третье направление – это содействие в реализации инвестиционных программ компаний с государственным участием.
Первое направление – поддержка крупных частных инвестиций. Этот механизм, я его уже назвал, СЗПК, соглашение о защите и поощрении капиталовложений, даёт инвесторам неизменность долгосрочных условий работы. В первую очередь он стабилизирует основные налоги, которые взимаются при реализации инвестиционных проектов, и основные условия их реализации, связанные с использованием земли, с градостроительством, с обязательными требованиями, а также с условиями государственной поддержки.
В то же время появилась ещё одна новая возможность, которой раньше не было. Инвесторы теперь имеют возможность самостоятельно построить инфраструктуру, которая необходима для реализации инвестиционного проекта: дороги, линии электропередачи, коммунальную инфраструктуру, – а государство им потом компенсирует затраты, связанные с этим, за счёт тех будущих налогов, которые поступят от инвестиционного проекта. На прошлой неделе Правительство утвердило всю необходимую нормативную базу для реализации этого закона. И уже за несколько дней поступили заявления на 15 проектов с общим объёмом инвестиций 850 миллиардов рублей, которые предполагают создание 35 тысяч новых рабочих мест.
До конца года стоит задача заключить как минимум 20 проектов на 900 миллиардов [рублей]. Почему говорю «как минимум»? Потому что механизм заключения соглашения имеет заявительный порядок. Иными словами, если проект удовлетворяет всем требованиям, инвестор обратился, мы обязаны заключить такое соглашение и стабилизировать ему условия инвестиций на будущее.
Создана специальная инфраструктура, которая будет сопровождаться инвестором, Агентством инвестиционного развития. Сейчас создаются необходимые информационные платформы, с тем чтобы этот процесс был максимально технологичен.
Параллельно с этим развиваем действующие инструменты. Один из таких инструментов, у которых большой потенциал, – это «Фабрика проектного финансирования», которую развивает Внешэкономбанк. На сегодняшний момент по «Фабрике» уже принято решение по финансированию 10 проектов с объёмом финансирования 760 миллиардов рублей, то есть это крупные проекты, и ещё на рассмотрении ВЭБ находится 12 проектов на 1,4 триллиона рублей. И мы, конечно, рассчитываем, что эти инструменты будут дополнять друг друга. Одновременно с этим в рамках «Фабрики проектного финансирования» мы сейчас создаём возможность финансирования пулов проектов и проектов с длительными сроками окупаемости.
Развиваем также законодательство о государственно–частном партнёрстве, о концессиях. Подготовлен закон, который уточняет виды финансового участия государства в концессиях, устанавливает минимальный порог частных инвестиций – раньше этого не было, упрощает конкурсные процедуры, вводит в том числе электронный конкурс, позволит компенсировать инвесторам расходы, связанные с предпроектной подготовкой. Закон прошёл все необходимые согласования и представлен буквально днями в Правительство. В целом хочу сказать, что с начала года появилось 100 новых проектов концессии с объёмом инвестиций 300 миллиардов рублей, то есть это, в общем, живой и востребованный механизм.
Второе направление – это поддержка проектов регионов. Здесь у нас стоит задача совместить вопросы развития инвестиционного климата, инструментов поддержки и реализации конкретных проектов. То есть чтобы в конечном итоге всё это приводило к реализации проекта в регионах.
Что предлагается? С 1 апреля заработает механизм региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. И те возможности, которые у инвесторов появились применительно к крупным проектам, появятся и у регионов, для того чтобы поддержать уже проекты средние, но тем не менее важные для регионов.
Развиваем механизм особых экономических зон и территорий опережающего социально–экономического развития. Вообще, практика показала, что ОЭЗ – это очень востребованный инструмент, и даже в это сложное первое полугодие три новые особые экономические зоны были созданы, ещё по пяти зонам все необходимые документы и решения отработаны и представлены в Правительстве. В ближайшее время решения будут приняты.
Но мы, конечно, смотрим практику применения законов и тоже подготовили пакет изменений в законодательстве, который касается унификации зон, снижения административных барьеров для инвесторов при работе с проектами, расширения видов деятельности, которые допустимы в зонах. Но одновременно с этим предлагаем усилить и ответственность регионов, с тем чтобы заявленные при создании особых экономических зон параметры по рабочим местам в первую очередь и по инвестициям сохранялись.
Параллельно с этим готовим новые инструменты поддержки жилищного строительства и инструменты развития городов, я имею в виду инфраструктурные облигации, тоже соответствующая проработка идёт.
Отдельно остановлюсь на инструменте инвестиционного налогового вычета, который у нас появился с 2018 года, но с учётом текущей ситуации и с учётом текущих задач требует модернизации. Что предлагается? Предлагается всё–таки привязать предоставление этого вычета к реализации конкретного проекта, а не к статьям затрат, как это сейчас сделано, и дать возможность предъявлять к зачёту не только затраты, связанные с машинами, оборудованием, транспортом, но и рассмотреть возможность – об этом просили инвесторы и губернаторы – в зачёт брать также затраты на здания, на производственные здания, на корпуса фабрик и заводов.
Предлагаем также предусмотреть в бюджете выпадающие доходы регионов не только в 2021 году, на 2021 год действительно даже в рамках сложного бюджета 27 миллиардов рублей было изыскано, но губернаторы просят дать среднесрочную перспективу, потому что, имея возможность получить компенсацию только за один год, очень сложно принимать решения, которые носят такой долгосрочный характер. В рамках работы Государственного совета мы с коллегами, с губернаторами ещё все эти вопросы обсудим.
В конечном итоге, Владимир Владимирович, в каждом регионе, а не только в двадцатке лидеров инвестиционного рейтинга, должен быть и регулярно обновляться реестр проектов, увязанный со всеми инструментами поддержки, а также учитывающий все возможности, которые в регионах имеются, для того чтобы привлечь инвестиции и создать рабочие места.
И, наконец, третье направление – это поддержка инвестиционных программ компаний с государственным участием. Речь идёт в первую очередь, конечно, об инвестициях в основные фонды, которые создают новые рабочие места. Почему это так важно?
Во-первых, у нас общий объём инвестиций компаний с госучастием больше 20 процентов в экономике, то есть это значимая доля всех инвестиций. Ну а главное, что в рамках этих инвестиционных программ закупается машиностроительная продукция, продукция металлургии, строительные материалы, химия, то есть это те статьи затрат, которые имеют очень большой мультипликативный эффект для всей экономики.
Ну и здесь в качестве примера работы с такими компаниями могу привести пример по инвестиционной программе РЖД. В этом году РЖД столкнулась с дефицитом средств на реализацию инвестиционной программы. Был разработан новый механизм – механизм бессрочных, вечных облигаций, в рамках которого РЖД уже привлекла 150 миллиардов рублей и есть ещё планы до конца года. Именно этот инструмент позволяет стабилизировать реализацию инвестиционной программы РЖД и продолжить реализацию начатых проектов. Сейчас этим инструментом интересуются и другие компании.
Уважаемый Владимир Владимирович, всё, что перечислено, – это мероприятия единого плана по достижению национальных целей, который сейчас готовит Правительство, который сейчас активно обсуждается. Показатели по инвестициям, которые поставлены, они будут доведены и до регионов, и до отраслей, соответственно, до федеральных ведомств. И в конечном итоге, реализуя конкретные проекты – крупные частные проекты, государственные проекты, региональные проекты, мы достигнем поставленных целей.
Благодарю за внимание.
В.Путин: Хорошо. Спасибо.
Антон Германович, есть что добавить?
А.Силуанов: Да, уважаемый Владимир Владимирович.
Действительно, мы всячески принимаем меры по стимулированию инвестиций. Последнее решение: мы существенно снизили налоговую нагрузку по налогу на прибыль и по страховым взносам для такого сектора, как IT, мы докладывали Вам, и в первую очередь создаём преференции для такой активности в ключевых отраслях, которые дают и добавленную стоимость, и являются такими прорывными для экономики. И, кроме того, конечно, важно, что у нас и действующее законодательство тоже на это нацелено: ускоренная амортизация – до 50 процентов можно сразу списывать от первоначальной стоимости приобретённых основных фондов и инвестиций и так далее. Поэтому и через налоги, и через специальные режимы, и через, конечно, бюджетные расходы, через инфраструктурные расходы, на которые в последнее время через нацпроекты выделяются существенные ресурсы, это всё должно давать эффект, это даёт эффект.
Да, единственное, конечно, коронавирус немножко наши планы подкорректировал, но в конце прошлого года, Владимир Владимирович, уже в четвёртом квартале, нацпроекты и решения по стимулированию инвестиций дали эффект: 2,1 процента – рост экономики в четвёртом квартале прошлого года при годовом уровне 1,3. Если бы, конечно, не коронавирус, то мы бы вышли на более высокую динамику, чем сегодня наблюдаем. Поэтому идём по всем направлениям: и бюджетным, налоговым и, конечно, структурным. Должен быть эффект.
В.Путин: Хорошо. Спасибо.
Эльвира Сахипзадовна.
Э.Набиуллина: Со своей стороны Центральный банк также проводит политику, направленную на то, чтобы формировались благоприятные условия для инвестиций, потому что действительно нам нужен новый инвестиционный цикл.
Первое – это ценовая стабильность. Всё–таки снижение инфляции, устойчиво низкая инфляция при прочих равных приводит к удлинению сроков кредита. Мы видим это и по ипотеке. Это стало возможным именно благодаря удлинению сроков кредита, благодаря такой ценовой стабильности. Мы видим, как постепенно удлиняется и срок корпоративных кредитов, что очень важно.
Второе направление – это развитие инструментария финансового рынка, для того чтобы компании могли привлекать средства для инвестиций. Вы помните, несколько лет назад ставилась задача развивать рынок облигаций, чтобы компании могли привлекать заёмное финансирование не только у банков через кредиты, но и на рынке через облигации. И то законодательство, которое было подготовлено совместно с Правительством, и меры регулятивные показали, что этот рынок действительно развивается, и для многих предприятий, прежде всего крупных, привлечение облигаций стало достаточно мощным инструментом финансирования проектов, в том числе инвестиционных.
Сейчас, мне кажется, нужно сделать следующий шаг. Он с чем ещё связан? У нас появился большой класс розничных инвесторов, то есть граждане пошли на финансовый рынок. Это, конечно, связано и с тем, что ставки по депозитам чуть–чуть снижаются, и часть граждан смотрит на альтернативу вложения своих средств, в том числе в фондовый рынок. И важно, конечно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывались, в конечном счёте трансформировались в инвестиции. Поэтому мы намерены здесь развивать разные формы, в том числе коллективного инвестирования, обсуждаем вместе с Правительством.
И со своей стороны также вносим изменения в регулирование, для того чтобы новые инвестиционные процессы поддерживать, как это было по проектному финансированию, которое развивалось в жилищном строительстве, но также проектное финансирование для «Фабрики проектов» ВЭБ. Готовы дальше этим заниматься.
И, может быть, тема, на которую хотела бы обратить внимание на будущее, мы к ней также подступаем и обсуждаем вместе с Правительством, с ВЭБ, – это проекты «зелёного» финансирования. У нас сейчас уже секция на Московской бирже, которая специально организует выпуски «зелёных» облигаций. И нам, конечно, нужно обращать внимание и на то, что происходит на внешних рынках, как они будут меняться под влиянием введения разных экологических требований, и свои инструменты, институты выстроить таким образом, чтобы дать возможность и российским компаниям развивать такого рода проекты. И мы здесь готовы вместе с Правительством посмотреть, что нужно дополнительно сделать, но на эту тему, на наш взгляд, нужно обратить особое внимание.
Спасибо.
В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.
Максим Станиславович, пожалуйста.
М.Орешкин: Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Мне кажется, реагируя на доклад Максима Геннадьевича, очень важно сейчас довести все те инструменты, которые он озвучил, до логического завершения, чтобы они эффективно работали, – механизм СЗПК. Правительство на прошлой неделе часть нормативных документов уже приняло. Важно, чтобы этот инструмент работал, появлялись соглашения и реализовались новые инвестиционные проекты.
По инвестиционному налоговому вычету также я бы хотел здесь Максима Геннадьевича поддержать. Очень важно, чтобы этот инструмент открывал не короткий горизонт, как сейчас это у нас заложено в бюджете, на один год, а как минимум на три года, а лучше в долгосрочной перспективе, чтобы для инвесторов были понятны и предсказуемы здесь условия работы, для инвесторов и для региональных властей. В принципе предсказуемость и стабильность условий – это вообще ключевая история при определении и принятии решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы в том числе изменение налогового законодательства.
Ну а с точки зрения работы по всем этим инициативам, мне кажется, важно понимать, какой у каждой инициативы должен быть результат, кто будет ответственный – будь то отраслевое ведомство, если это отраслевая инициатива, или если это системная инициатива Минэкономразвития, – чтобы понимать, к какому результату в какой момент мы придём.
Спасибо большое.
В.Путин: Спасибо большое.
Алексей Леонидович.
А.Кудрин: Владимир Владимирович, я не планировал выступать по этому вопросу, но могу сказать, что эти механизмы, безусловно…
В.Путин: Я не настаиваю. Просто если Вам есть что сказать, пожалуйста.
А.Кудрин: Я бы хотел сказать, что эти механизмы, безусловно, поддерживают целый ряд проектов. Но для того, чтобы поднять действительно инвестиции, требуются и другие меры, которые находятся в обсуждении. Поэтому я в данном случае мог бы только сказать, что ещё много нужно сделать, чтобы нам по росту инвестиций добиться показателей, которые поставлены даже в прогноз.
В.Путин: Ну да, это понятно.
Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы высказаться либо что–то добавить?
А.Текслер: Владимир Владимирович, разрешите?
Челябинская область, Текслер.
В.Путин: Да, прошу Вас.
А.Текслер: Уважаемый Владимир Владимирович! Коллеги!
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений – инструмент этот мы поддерживаем, он важен для регионов. Видим интерес инвесторов. В частности, в Челябинской области мы завершаем обсуждение пяти крупных проектов на общую сумму 24,5 миллиарда рублей. Ещё три крупных проекта на подходе. Рассчитываю и на другие проекты, в том числе и регионального значения.
Теперь про проекты в регионах, в частности, про инвестиционные и налоговые вычеты, об этом сегодня говорилось. Инструмент уже работает, и многие регионы приняли соответствующие законы. Их сейчас 49 таких регионов, до конца года будет больше. Вы давали, Владимир Владимирович, поручение запустить механизм компенсации регионам двух третей выпадающих доходов по налогу на прибыль. Мы, в частности, под это делаем расширение сферы применения этого инструмента под новые виды деятельности. Сегодня уже говорилось о том, что регионам и инвесторам важна долгосрочность этого решения. Сейчас на федеральном уровне пока принято решение о компенсации выпадающих только на 2021 год, и конечно, инвесторам, регионам нужно явно видеть, что это политика не на год, а на годы вперёд. Поэтому поддерживаем те предложения, которые уже звучали. Нужна отдельная строчка в федеральном бюджете, причём сразу на три года и, соответственно, дальше это продлять.
Далее: правила расчёта выпадающих на федеральном уровне принимаются тоже только на 2021 год, и такие правила, на наш взгляд, тоже должны быть бессрочны.
Второе – это снять ограничения по организациям, льготы которым подпадают под вычет. Сейчас в периметр нормы о компенсации выпадающих попадают только льготы тем, кто впервые воспользовался правом на вычет с 2020 года. У нас, к примеру, в регионе механизм заработал в прошлом году, и по ряду предприятий мы не сможем компенсировать бюджетные потери. Также поддерживаем возможность брать в зачёт расходы не только на приобретение оборудования, как сейчас, но и на стройку, это действительно крайне важно. Просим эти предложения поддержать.
Ещё хочу обозначить одну тему – продление сроков для получения льгот в рамках территорий опережающего социально–экономического развития. Эта тема уже поднималась. Напомню, определяющую роль для развития бизнеса во многих моногородах играют ТОРы и льготы, предоставляемые их резидентам. Мы видим, что инвесторы в этом году в связи с понятной ситуацией осторожно подходят к принятию решений или просто переносят эти решения о запуске новых проектов. А время, когда в ТОРах можно получить наилучшие преференции, в первую очередь льготы по страховым взносам, оно ограничено – это первые три года. И для многих территорий опережающего развития этот срок истекает в этом году или в ближайшее время.
Я Челябинскую область приведу в пример: у нас пять ТОРов, по двум из них льготный период истекает в этом году и ещё по двум территориям истекает в феврале следующего года, то есть совсем скоро. Такая ситуация во многих регионах, поэтому предлагаем продлить льготный период ещё на один или лучше три года, или, как по Дальнему Востоку, сразу определить срок – до 2025 года. Это решение позволит запустить новый раунд привлечения инвесторов в ТОРы моногородов.
Ваше поручение на эту тему было, Владимир Владимирович, год заканчивается, а итогового решения пока нет. Тоже прошу поддержать.
И отдельное спасибо от всех регионов за решение по продлению льготной ипотеки до середины следующего года.
Спасибо.
Доклад закончен.
В.Путин: Хорошо. Спасибо.
Как было сказано, конечно, коллеги только что об этом говорили, привлечение инвестиций, инвестиционное развитие – это важнейшая составляющая развития экономики и страны вообще. И здесь очень много составляющих, очень много факторов. Конечно, это стабильность, причём в самом широком смысле этого слова, и политическая стабильность, и макроэкономическая стабильность, это минимальная бюрократия, это эффективная, но в рамках закона, безусловно, в рамках закона работа правоохранительных органов – мы частенько к этому возвращаемся в последнее время, это разумная антимонопольная, вообще фискальная политика – здесь очень много вещей, на которые нам нужно обращать внимание.
Я очень рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем реализовывать и те мероприятия, эффективно будем использовать те инструменты, о которых сейчас говорили, и в целом будем уделять этому необходимое внимание. Прошу Председателя Правительства держать это под своим контролем.
Благодарю Вас.
Татьяна Алексеевна, я сейчас Вам позвоню, свяжемся с Вами, переговорим.
Спасибо большое. Всего доброго.

НОВЫЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК – ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО
ДЕНИС МИРГОРОД
Кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики ИМО Пятигорского Государственного Университета.
Наибольшую угрозу нормализация арабо-израильских отношений несёт Ирану. Фактически мы наблюдаем перераспределение ролей на Ближнем Востоке, когда именно Исламская Республика становится главным региональным изгоем. Более того, часть экспертного сообщества сходится во мнении о том, что главной целью соглашений является усиление изоляции Тегерана и подготовка к крупному военному конфликту в регионе.
Подписание в сентябре текущего года Объединёнными арабскими эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном соглашений об установлении дипотношений с Израилем, а также многочисленные сообщения о том, что их примеру могут последовать и некоторые другие арабские государства, открывают новую страницу политического развития Ближнего Востока. Нормализация арабо-израильских отношений может стать отправной точкой как для стабилизации региона, так и для нового витка напряжённости, обусловленного указанными качественными преобразованиями.
От де-факто к де-юре
Арабо-израильский конфликт настолько слился с образом современного Ближнего Востока, что стал постоянной, рефлекторно учитываемой переменной при анализе динамики региональных политических процессов. Создание Государства Израиль и последующее его неприятие со стороны практически всех ближневосточных и арабских государств сформировали настоящий «гордиев узел» глобальной политики. Уже невозможно точно подсчитать международные инициативы и проекты по примирению враждующих сторон. Помимо этого, ведущие государства мира соревновались между собой в том, кто именно запустит действенный механизм нормализации арабо-израильских отношений.
Многие эксперты и политики сходились во мнении о том, что полноценное урегулирование является непосильной задачей, решение которой может обрести чёткие контуры в очень отдалённой перспективе или вообще являться предметом футурологии. Казалось, что Египет и Иордания, имевшие на то исторические предпосылки, ещё долго будут оставаться единственными арабскими странами, признавшими Израиль (в 1979 и 1994 годах соответственно). Однако 2020 год преподнёс очередной сюрприз – ОАЭ и Бахрейн установили дипотношения с Израилем, что является поистине значимым событием для Ближнего Востока и всего арабского мира. Хотя с международно-правовой точки зрения произошло относительно стандартное и распространённое в международной практике преобразование: от фактического взаимодействия к юридически установленным связям.
Торжественную церемонию в честь подписания соглашений о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, состоявшуюся 15 сентября 2020 года в Вашингтоне, с позиции изменения характера взаимодействия между государствами следует рассматривать не более как документальное оформление давно свершившегося факта. Власти Израиля уже долгое время сотрудничают с различными арабскими государствами, прежде всего – с аравийскими монархиями, по целому ряду направлений. ОАЭ и Бахрейн попросту сделали шаг к формализации уже существовавших открытых и секретных отношений с Израилем.
Соответственно, историческая важность соглашений связана не со сменой характера взаимодействия между еврейским государством и частью арабского мира. Она привносит качественно новые штрихи и предопределяет значимые региональные и отчасти глобальные тренды, позволяющие смотреть на Ближний Восток по-новому.
Главные бенефициары
Ключевой вопрос в контексте нормализации арабо-израильских отношений – кто является её основным выгодоприобретателем?
В первую очередь это Израиль и лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Для Израиля соглашение имеет большое значение, поскольку оно представляет собой официальное признание третьим и четвёртым арабским государством после Египта и Иордании. Следовательно, снижаются масштабы антиизраильской риторики в отношении страны как «оккупационного режима» на палестинских территориях. Помимо этого, признание позволит Израилю укрепить свою легитимность на международной арене, поскольку в мире остаётся ещё достаточно большое количество государств, отрицающих существование страны как полноценного субъекта мировой политики. Также необходимо отметить, что другие арабские страны, воодушевлённые этим шагом, могут предпринять аналогичные действия для формализации существующих отношений с Израилем – в настоящее время активно тиражируется информация о том, что Оман, Саудовская Аравия и Судан рассматривают возможность пойти по пути ОАЭ и Бахрейна. Таким образом, Израиль меняет свой региональный статус, постепенно переставая быть главным (в глазах большинства арабских государств) «изгоем» ближневосточного политического процесса.
Помимо выгоды израильского государства, сам Биньямин Нетаньяху (и нынешнее руководство страны) лишь выигрывает от этого соглашения. Оно в значительной степени нивелирует потерю им популярности и доверия среди населения в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Нормализация отношений с арабскими государствами, без всяких оговорок, является дипломатической победой действующего премьера и возводит его в ранг одного из наиболее успешных руководителей Израиля.
В качестве второго ключевого бенефициара соглашений выступают США, которые с имиджевой точки зрения выиграли поул-позицию в очередном этапе миротворческой гонки ведущих мировых дипломатий на Ближнем Востоке. Успехи Вашингтона как главного посредника при подписании соглашений в значительной степени компенсируют неудачи американской внешней политики на Ближнем Востоке последнего десятилетия. Также необходимо указать на то, что имя будущего хозяина Белого дома определят множество факторов, к которым, безусловно, следует относить и достижения США на международной арене, включая проблему нормализации арабо-израильских отношений.
Наконец, в теории от соглашений выигрывает весь регион, поскольку любая мирная инициатива способна потенциально привести к снижению конфликтного потенциала Ближнего Востока и его стабилизации. Однако нормализация арабо-израильских отношений имеет множество подводных камней, меняющих течение привычных ближневосточных процессов.
Панарабизм? Вычёркиваем!
Как уже говорилось, подписание соглашений об установлении дипотношений стали формализацией давних интенсивных связей между государствами. Вместе с тем, особенно с учётом множащихся слухов о скором признании Израиля новыми арабскими государствами, следует указать на окончательный крах концепта панарабизма, который был идеологической доминантой консолидации арабов в первые десятилетия их постколониальной жизни.
Безусловно, проект объединения части региональных государств по национальному принципу исчерпал себя раньше вследствие «нефтяного бума» и постепенного обособления отдельных нефтедобывающих государств от панарабских тенденций. В любом случае именно сейчас происходит полный документально оформленный закат Арабского национального движения. Ведь подписание соглашений ОАЭ и Бахрейном не имеют цели решения территориальных споров с Израилем. В этом – главное отличие от предыдущих действий Египта и Иордании, которые всегда использовали именно этот довод при критике в их адрес из-за установления дипотношений с Израилем, что сохраняло относительное арабское единство.
С высокой долей вероятности в нынешней ситуации следует ожидать усиления размежевания арабских государств в отношении ключевых региональных проблем. Так, с осуждением соглашений уже выступили Алжир, Йемен и Катар. В некотором смятении находятся и другие арабские государства, которые не до конца понимают, как им действовать с учётом новых вводных. Очевидно, что нормализация арабо-израильских отношений также станет испытанием для арабских интеграционных объединений, в первую очередь ЛАГ, которая будет вынуждена корректировать свою повестку в соответствии с текущими реалиями межгосударственного диалога на Ближнем Востоке. Например, выдвинутый Палестиной 9 сентября проект резолюции с осуждением ОАЭ за нормализацию отношений с Израилем стал предметом бурной дискуссии и в итоге не был принят, но оставил чёткое ощущение, что нормализация на долгое время останется одной из центральных тем для межарабских спекуляций.
Новые проблемы для Ирана
Наибольшую угрозу нормализация арабо-израильских отношений несёт Ирану. Фактически мы наблюдаем перераспределение ролей на Ближнем Востоке, когда именно Исламская Республика становится главным региональным изгоем. Более того, часть экспертного сообщества сходится во мнении о том, что главной целью соглашений является усиление изоляции Тегерана и подготовка к крупному военному конфликту в регионе.
Поэтому неудивительно, что иранское руководство гневно отреагировало на установление дипотношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что «если соглашение приведёт к расширению израильского влияния в регионе, всё изменится», и с подписавшими соглашение «будут поступать по-другому». Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери также предупредил, что «если что-то случится в Персидском заливе и национальная безопасность Исламской Республики Иран окажется под угрозой – пусть даже незначительной – мы будем винить ОАЭ. И не будем терпеть это».
Возникающий альянс обладает значительным потенциалом для изменения регионального баланса сил в пользу противников Ирана (Саудовской Аравии и Израиля), а это, в свою очередь, может усилить чувство незащищённости Тегерана, что найдёт выражение в усилении поддержки хуситов в Йемене, а также шиитов в Бахрейне и на всём Аравийском полуострове.
Возможно, нормализация отношений направлена именно на это – максимальное облегчение сотрудничества в военной сфере для минимизации / нейтрализации иранского угрозообразующего фактора. Именно Иран является единственной реальной экзистенциальной угрозой для Израиля, который, исходя из своих внешнеполитических принципов, не может допустить снижения своего существенного военного превосходства в регионе.
Данный вывод также связан с постепенно усиливающейся антииранской риторикой Вашингтона, который, тем не менее, пока находится в режиме ожидания в связи со скорыми президентскими выборами.
Палестинский вопрос
Особый интерес в контексте нормализации арабо-израильских отношений также вызывает палестинский вопрос. Палестинцы в сложившихся обстоятельствах чувствуют себя обманутыми и обеспокоены перспективами создания собственного независимого государства. У них стойкое ощущение, что предпринимается попытка окончательно отодвинуть опостылевшую всем проблему на задний план региональной повестки. Однако сейчас мы можем наблюдать за любопытными процессами во внутрипалестинских делах, где происходит консолидация двух группировок: ФАТХ и ХАМАС.
Так, в середине сентября делегация сотрудников египетской разведки была отправлена в Рамаллу для встречи с президентом Махмудом Аббасом перед всепартийной встречей палестинского руководства. Основной целью визита было желание снизить критику палестинских политиков и СМИ в адрес ОАЭ после объявления о нормализации отношений с Израилем. План провалился, о чём свидетельствуют крайне резкие заявления палестинского руководства, последовавшие после визита. Примечательны во всём этом три аспекта. Во-первых, все палестинские политические группировки объединили свои силы на встрече под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП), включая ХАМАС и Исламский джихад Палестины. Уже одно это можно рассматривать как первый за долгое время реальный шаг на сближение различных палестинских политических сил. Во-вторых, Махмуд Аббас отказался от свойственных ему дипломатических выражений и прямо охарактеризовал соглашение как «удар в спину» и «предательство» Иерусалима и палестинского дела. В-третьих, было подтверждено, что палестинцы применят такую же риторику и все возможные методы воздействия на международной арене в отношении других арабских государств, которые нормализуют отношения с Израилем.
Помимо этого, привлекает внимание ещё один ход Махмуда Аббаса, который, вероятно, благословил или напрямую повлиял на религиозное решение (фетву), вынесенное имамом мечети Аль-Акса шейхом Икрамом Сабри, запрещающее гражданам ОАЭ и Бахрейна посещать священное место. Это решение стало беспрецедентным, поскольку такого запрета не было, когда Египет, а затем Иордания установили дипотношения с Израилем.
Таким образом, палестинская тема сохраняет высокую актуальность в ближневосточных делах и может в значительной степени обостриться после соглашений о нормализации отношений Израиля с двумя новыми арабскими государствами. В частности, нельзя не вспомнить недавнее резонансное заявление президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего «Эль-Кудс» (Иерусалим) турецким, читай османским, городом. Возможно, нормализация усугубит проблему Палестины, которая станет инструментом более агрессивной политики Анкары или, например, Тегерана в регионе.
* * *
Заданный ОАЭ и Бахрейном тренд на нормализацию арабо-израильских отношений, в основе которого заявлены принципы мирного сосуществования и повышения безопасности, в итоге может привести к обратным эффектам. Очевидно одно, что на Ближнем Востоке происходит переформатирование регионального порядка, направленное на перераспределение военно-политических и экономических связей между государствами. Следовательно, в новое десятилетие мы войдём со значительно «обновлённым» Ближним Востоком, который, тем не менее, останется одной из наиболее турбулентных территорий на карте мира.

Вячеслав Матузов: «Их цель — Третий храм»
что скрывается за «сделкой века»
Игорь Шишкин Вячеслав Матузов
"ЗАВТРА". Вячеслав Николаевич, во время работы в Международном отделе ЦК КПСС вы курировали вопросы, связанные с Израилем и Палестиной. Поэтому именно у вас хотелось бы спросить: почему Ближний Восток всё время находится в центре международной политики? Даже сейчас, когда внимание мира поглощено "ковидом", в этом регионе по-прежнему фокусируются интересы мировых элит. Не из-за нефти же только?
Вячеслав МАТУЗОВ. Нефтяной вопрос — прикрытие реальной картины той борьбы, которая велась на Ближнем Востоке изначально. Вспомним функции руководителей в советское время. В Министерстве иностранных дел первые заместители министра Громыко всегда курировали три проблемы: разоружение, отношения с США и Ближний Восток. Каждая встреча Брежнева, Андропова, Черненко с американцами затрагивала тему ближневосточного урегулирования.
Проблема Палестины, в принципе, была первоочередной с 1948 года для заседаний Совета безопасности ООН. У меня сложилось стойкое ощущение, что палестино-израильский конфликт играл ключевую роль во всех наших контактах как с американцами, так и с Европой.
Когда я работал в Международном отделе ЦК, то все шифротелеграммы, все распечатки текстов бесед Брежнева или нашего посла с американским руководством обязательно ложились на стол мне как человеку, который курировал палестинцев. У меня всегда была полная картина увязки палестинской темы с позициями ведущих государств мира. Это было логично. Поэтому я был в курсе многих смежных тематик.
Был у меня, например, полный текст переговоров с Рейганом, я знал всё, потому что занимался Ближним Востоком. В этом регионе сталкивались не только экономические интересы, хотя американские компании всегда стремились овладеть ресурсами Ближнего Востока, в первую очередь нефтью. Тогда ещё о газе не заговаривали, но нефтяные компании были все под американским контролем.
"ЗАВТРА". Но поначалу контроль был ведь сугубо британский?
Вячеслав МАТУЗОВ. Да, "Бритиш Петролиум", "Шелл" и прочие.
Когда в конце 90-х годов я приехал к Кабусу бен Саиду, султану и премьер-министру Омана, мне довелось видеться с президентом Национальной нефтяной и газовой компании Салемом Макки. Салем оказался человеком, который отлично говорит по-русски и знает русские реалии в мелочах, вплоть до гастрономических предпочтений. Выяснилось, что он выпускник Менделеевского химико-технологического института 1968 года! И я его спросил: "А кто-нибудь из Москвы к вам обращался с попытками выстроить отношения?" — "Нет, никого! Давайте я устрою вам дружбу с "Шелл", её руководство у нас тут обретается в специальном городке. Мы вам поможем, и будете работать с ними где-нибудь в Латинской Америке, например. Уверен, им нужны партнёры типа вас, потому что американцы задирают цену. Вот они установку бурильную нам поставили, и по той цене, что американцы назвали, приходится покупать. А нам нужна здоровая конкуренция! И пусть ваши станки будут чуть хуже, но тем самым хоть собьём цену монополистам-американцам…".
Мы поехали и обнаружили целый город нефтяников — около 50 тысяч сотрудников с семьями в отдельных домах. Туда была двойная система пропусков… В общем, вся эта история — иллюстрация нашей упущенной выгоды.
"ЗАВТРА". А всё же, почему так важен Ближний Восток? Нефть же не была жизненно необходима тем же Соединённым Штатам, у которых свои огромные запасы.
Вячеслав МАТУЗОВ. Тогда ещё нужна была.
"ЗАВТРА". Но запасы-то у них были, они вполне могли эту отрасль у себя развивать. Да и на Ближнем Востоке мы им конкуренции не составляли.
Вячеслав МАТУЗОВ. У нас и задачи такой не было.
"ЗАВТРА". Тогда что же? Вопрос палестино-израильских территорий? Но сколько на Земле таких нерешённых территориальных конфликтов — полным-полно! Но на них никто не обращает столь пристального внимания, как на Палестину и Израиль.
Вячеслав МАТУЗОВ. Вы правы, конфликты есть везде: и на Украине, и в дальневосточном регионе, и в Африке, и в Латинской Америке, но, несмотря на это, ведущее место продолжает занимать палестино-израильская проблема.
Я был президентом Общества дружбы с Палестиной и в прекрасных отношениях с Ясиром Арафатом; у меня есть много фотографий, особенно когда мы привозили к нему депутатов Госдумы, приехали тогда 15 человек из пяти фракций, это была очень интересная поездка.
Надо сказать, что все годы своей работы я относился к палестинской проблеме как к проблеме политической. Есть противоречия между Израильским государством и палестинским народом, который претендует на территории, которые оказались занятыми Израилем с 1947 года. Беженцев — миллионы, около пятнадцати палестинских лагерей только в Ливане! Я по долгу службы часто бывал в них. Там живут, вернее, существуют люди с глубокой обидой в душе, им даже запрещено иметь паспорт! Во многом это связано с тем, что они — сунниты, а Ливан не желает менять внутренний политико-религиозный баланс. Если дать полумиллиону палестинцев ливанские паспорта, то это сразу выльется в существенную прибавку голосов в пользу суннитской общины, в совершенно иные результаты выборов… А ливанское руководство в руках маронитов — христиан-католиков.
Более того, ни одна арабская страна вообще не позволяла палестинцам получать местные паспорта, поскольку никто не хотел растворения интересов собственной страны за свой же счёт.
"ЗАВТРА". Но ведь миллионы беженцев — это тоже не исключительно ближневосточная беда. Есть миллионы африканских, азиатских беженцев.
Вячеслав МАТУЗОВ. Там всё-таки беженцы политические. А тут люди элементарно лишены своей земли, они покинули жилища в результате агрессии, захвата.
"ЗАВТРА". Но вспомните, пожалуйста, Экваториальную Африку, историю вырезанных тутси и их бесконечных войн с хуту. По некоторым оценкам, свыше миллиона жертв было. Информация об этом проходила второстепенно, фоном, что, мол, одни африканцы режут других африканцев, и ничего там не понятно. Президент США, Совет безопасности ООН постоянно не обсуждали эту тему десятилетиями. И российский президент с президентами США, Франции, канцлером Германии тоже не говорили об африканской трагедии, хотя жертв там колоссальное количество.
Поэтому не верится, что из-за беженцев на Ближнем Востоке, оказавшихся в тяжелейших условиях, цивилизованный мир пришёл в ужас и стал денно и нощно гадать, как же эту проблему решить. Гуманизм прямо зашкаливает! Неправдоподобная версия.
Вячеслав МАТУЗОВ. Вы правы, но все эти годы я был убеждён в том, что это политическая проблема, что решение палестино-израильского конфликта лежит в политическом русле.
А надо сказать, что в конце 1990 года я был в Вашингтоне, возглавляя нашу группу по арабо-израильским переговорам. Это были двусторонние переговоры, когда впервые палестинцев признали израильтяне. Но спустя годы, когда я уже организовал Общество дружбы и делового сотрудничества с народами арабских стран, я пришёл к выводу, что суть проблемы не в экономических, политических или демографических разногласиях, а в духовных, идеологических, религиозных.
Можно решить политическими способами любые вопросы: где-то уступили, чем-то пожертвовали — это нормальная практика любого переговорного процесса. А здесь же упёрлись с 1948 года, и отрегулировать никак не получается!
И мне тут вспомнились разговоры с одним из видных наших политиков (имени его называть не буду) в 2001 году, когда я привёл к нему председателя Прогрессивно-социалистической партии Ливана. Я организовал эту встречу. И я тогда услышал вещи, которые не были известны широкой общественности…
"ЗАВТРА". Что именно?
Вячеслав МАТУЗОВ. В 2001 году в Вашингтоне в резиденции президента США, Кэмп-Дэвиде, состоялась встреча Билла Клинтона, Ясира Арафата, уже получившего статус президента Палестины, хотя израильтяне его не признавали окончательно, и Эхуда Барака, премьер-министра Израиля. И там прозвучало то, что нигде не публиковалось. А именно: Арафату было предложено решить окончательно палестинский вопрос.
"ЗАВТРА". Так ведь американцы это не раз предлагали — Кэмп-Дэвидская сделка в конце 1970-х, например. Или тут что-то новое вскрылось?
Вячеслав МАТУЗОВ. Кэмп-Дэвидская сделка лишь урегулировала отношения Израиля с Египтом при президенте Садате; тогда всё было сделано на межгосударственной основе, и было как раз вариантом политического решения. А здесь даже не рассматривали такой возможности!
И когда лидер ливанской партии задал вопрос нашему политику: "А что же в этом предложении Арафату показалось неприемлемым, почему он отказался подписать соглашение с Эхудом Бараком?". Эхуд Барак, напомню, тогда уходил со своего поста, на смену ему шёл Нетаньяху. Но, видимо, Эхуд Барак хотел задержаться в премьер-министрах, рассчитывая на карт-бланш из рук Арафата. Но Ясир Арафат не дал ему этот карт-бланш, хотя он и был более умеренным, чем Нетаньяху, премьером.
А что же, спросят, предложили Арафату в этом документе? Ни много ни мало: на месте иерусалимской мечети Аль-Акса, вернее, под её фундаментом, построить Третий храм иудейский, храм Соломона — его по-разному называют… За это Арафату обещали президентство, границы государства, признание независимости, возвращение беженцев, компенсацию за ущерб по захвату их собственности.
"ЗАВТРА". Всё, чего палестинцы и добивались. А про мечеть было сказано, что под фундаментом, то есть её саму не затронут?
Вячеслав МАТУЗОВ. Да. Предлагали поднять основание этого комплекса исламских святынь на определённую высоту, а под ним выстроить, восстановить Третий храм, который, по преданию, был на этом месте.
А что такое мечеть Аль-Акса для мусульман? Это третья святыня после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине. В мечети Аль-Акса есть священный для мусульман камень, с которого пророк Мухаммед вознёсся на небеса.
Арафат же, как мне стало известно, ответил так: "Мечеть Аль-Акса не является собственностью палестинского народа. Я не могу распорядиться этой святыней так, как вы мне предлагаете. Это же ценность для всего исламского мира!" Мой собеседник, которого я привёл на эту встречу, был очень воодушевлён ответом Арафата.
А теперь давайте остановимся и подумаем: где здесь все эти истории о созданном Обамой ИГИЛ* и войнах, которые ведутся якобы ради того, чтобы проложить трубу из Персидского залива через Сирию к Средиземному морю и далее — в Европу? Всё это лишь прикрытие той самой единственной, главной задачи! Цель сохраняется и сегодня. Отсюда постоянная острота ближневосточного вопроса.
"ЗАВТРА". Заинтересованность Израиля в этом очевидна.
Вячеслав МАТУЗОВ. Религиозная заинтересованность, да.
"ЗАВТРА". А США? Только ли наличие израильского лобби определяло тот факт, что американцы готовы были всё отдать палестинцам, лишь бы получить разрешение на возведение этого храма? А ведь его строительство означает пришествие Антихриста в мир.
Вячеслав МАТУЗОВ. С точки зрения ислама и с точки зрения православия это действительно так. Православные считают, что создание Третьего иудейского храма, которое стремится осуществить лжемессия, приведёт к появлению Антихриста и скорому концу света, то есть к общему уничтожению человечества.
А с точки зрения иудаизма в центре этого храма должен стоять трон, на который претендует Машиах. Машиах этот для них — спаситель, а не Антихрист.
"ЗАВТРА". У них прямо противоположная точка зрения!
Вячеслав МАТУЗОВ. Да. И если мы внимательно посмотрим на личности тех, кто на глобальном политическом уровне принимает решения, то увидим, например, что большая часть президентов США — сторонники израильской концепции, евангелисты. А евангелизм — своего рода ответвление иудейской религии в рамках христианства, так я считаю. Президент Буш-старший, прежде чем начинать войну против Ирака в 1990 году, посещал маленькую евангелическую церковь, которая находится рядом с Белым домом, Трамп тоже не так давно стоял близ неё с Библией — все видели. Да и Буш-младший, когда начинал войну против Ирака, тоже посещал эту церковь, и он тогда публично заявил, что перед принятием решения выступить против Саддама Хусейна "посоветовался с Богом".
Если вера определяет пути решения ближневосточного конфликта на путях удовлетворения Израиля и оказания содействия приходу Машиаха, это одно. А если другие религии рассматривают это не как Машиаха, а как Антихриста — разрушителя, уничтожителя всего человечества, это совсем другое. Ведь и в исламе знают, что есть дьявол, его называют Даджжаль. Его фигура резко отрицательная, как и в православии. Отсюда проистекают многие противоречия между мировыми лидерами, приверженцами разных конфессий. Вопрос обострён до предела, так как он касается глобального развития человечества.
"ЗАВТРА". Это даже не вопрос взаимоотношения религий, это вопрос существования мира.
Вячеслав МАТУЗОВ. Да. Потому что приход Антихриста, его земное воплощение — это конец человечества. Православные знают и верят в то, что Иисус Христос низложит в итоге Антихриста. Но ведь это тоже процесс борьбы. Можно ли избежать её и нужно ли? Всё это — самые важные религиозные вопросы. Предельные вопросы.
В 2002 году интервью со мной, касавшееся этих тем, было опубликовано на сайте тогдашнего советника патриарха Алексия II. Развернулась дискуссия приверженцев всех конфессий, полсотни страниц комментариев в интернете есть.
"ЗАВТРА". Помнится, вы говорили, что особую остроту дискуссии придали мусульманские СМИ.
Вячеслав МАТУЗОВ. Это было следствие моего интервью одному дагестанскому сайту. Приятные ребята были. Прошло некоторое время, и они мне прислали ссылку на интернет-страницу, где беседа со мной шла под заголовком "Матузов: "Ислам спасает человечество от Антихриста". Я был в шоке, хотя позже признал, что сказанное могло подвести и к такому выводу.
Чуть позже один человек иудейского вероисповедания обратился к патриарху Алексию II и попросил дать разъяснения позиции Русской православной церкви по этому вопросу. Тогдашний советник патриарха на своей странице опубликовал это письмо и предложил его для обсуждения представителям всех конфессий. И тут я понял, что затронул такой нерв глобальной политики, о котором всё-таки стараются помалкивать. Как сейчас помню, один православный священнослужитель подвёл такой итог: "Матузов неправ, хоть и говорит правильно. Спасёт человечество не ислам, а Иисус Христос".
Замечу, что в ходе этого давнего обсуждения представители всех конфессий, кроме православных и мусульман, выступили за изменение статуса иерусалимской мечети, то есть поддержали иудейскую концепцию!
Поэтому надо пристальнее смотреть на религиозные убеждения мировых лидеров, не надо считать религию сугубо частным делом.
"ЗАВТРА". А Трамп? Мало кто, наверное, поверит, что он действует, исходя не из политических интересов США, а из религиозных взглядов?
Вячеслав МАТУЗОВ. Я слежу за внутренней и внешней политикой нынешних США. Относительно Дональда Трампа у меня складывается ощущение, что он автор серьёзных революционных изменений внутри своей страны. За это его будут трепать здорово на выборах, и дай Бог, чтобы он устоял.
На внешней арене Трамп добился колоссального сдвига в деле налаживания отношений арабских лидеров с руководством Израиля. Это и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Бахрейн (помимо давно сотрудничающих с Израилем Египта и Иордании). Трамп отодвинул всех международных посредников по урегулированию арабо-израильского конфликта в сторону.
Там ведь исходно был политический "квартет": Соединённые Штаты Америки, Советский Союз (потом Россия), Европейский Союз и ООН. Ещё при Обаме всех стали потихонечку отодвигать. Да, мы могли что-то сказать вслух, обозначить позицию, но никак не более. А реальный формат развивался в том же ключе, как и в 90-х, когда сложилась "тройка" Ясир Арафат — Эхуд Барак — Билл Клинтон.
И Трамп тут оригинален не был. Вот он выдвинул идею "сделки века"… Я не берусь судить о специфике религиозных предпочтений Трампа, просто обратил внимание на тот факт, что в период пандемии он посещал ту же самую церковь, о которой я уже говорил и которую, кстати, пытались поджечь протестующие.
"ЗАВТРА". Это всё же слабое доказательство, что он исключительно религиозно мотивирован.
Вячеслав МАТУЗОВ. Может быть, может быть… Смущает другое. Ещё до американских выборов 2016 года проходила информация, что дочь Трампа, Иванка, которая приближена к нему и политически — является советником президента — за семь лет до того сменила христианскую религию на иудаизм, прошла для этого необходимый гиюр. А она была евангелисткой. Что такое гиюр, спросите вы? Гиюр — это обряд, который проходит нееврей, принимающий иудейскую религию.
"ЗАВТРА". Этот факт про Иванку не скрывался, но преподносился так: при выходе замуж за верующего иудея Джареда Кушнера она, как достойная невеста, решила принять веру своего жениха.
Вячеслав МАТУЗОВ. Наподобие Екатерины II, которая приняла православие и стала великой русской императрицей? Нет, параллель не работает. Ведь результатом союза Иванки и Джареда будет план Трампа, известный как "сделка века".
"ЗАВТРА". Вот это интересно!
Вячеслав МАТУЗОВ. Ведь автором сделки с американской стороны является именно Джаред Кушнер. Все переговоры с израильскими, арабскими руководителями вёл и ведёт он. Однако есть важный штрих: принятие гиюра Иванкой Трамп в нью-йоркской синагоге не было одобрено израильским раввинатом.
"ЗАВТРА". Почему же?
Вячеслав МАТУЗОВ. Тут как раз никаких "инсайдов" не будет, в открытую говорилось, что Главный раввинат Израиля не признаёт гиюр дочери Трампа, потому что та проводила его в синагоге, принадлежащей хасидскому движению Хабад.
Как видите, религиозные нюансы имеют порой в политике решающее значение. Это вовсе не значит, что дипломаты, политики и военные работают впустую. Просто этому фактору надо уделять больше внимания. В сфере религиозных мотивов кроются подоплёки многих расхождений между странами и многих мировых конфликтов.
"ЗАВТРА". Выходит, вся международная политика с 1948 года "закручивается" вокруг новосозданного государства Израиль и Палестины, мешающей построить Третий храм? И именно в эту сторону направлены усилия всех последних американских президентов? Значит, тут истоки конфликтов и с Ираком — врагом Израиля? И для этого нынешний президент Трамп предложил "сделку века"?
Вячеслав МАТУЗОВ. И заметьте: до сих пор никому толком не известно её содержание. Никому!
"ЗАВТРА". Даже так?
Вячеслав МАТУЗОВ. Наш МИД говорит, что нас так и не проинформировал американский Госдеп о содержании условий этого урегулирования. Хотя мы, между прочим, активный член вышеназванной "четвёрки".
Я несколько месяцев назад долго разговаривал с Махмудом Аббасом, президентом Палестины. Выяснилось, что и он не знает, какие именно пункты значатся в "сделке века". Руководства саудитов и иорданцев тоже заявляют, что им неизвестно содержание этого документа. Вот и выходит, что разговоров вокруг много, а о содержании можно только догадываться.
Я смотрю на эту "сделку века" с позиции не только администрации Трампа, но и преемственности американской политики вообще, несмотря на все противоречия между демократами и республиканцами. В этом вопросе все администрации, скорее, едины. Помните, как забивали нам уши, что американцы вели борьбу с ИГИЛ*? Оказывается, эту организацию создало ЦРУ.
"ЗАВТРА". Но это-то и так все знали, но вот чтобы президент США это признал — такое только при Трампе могло случиться!
Вячеслав МАТУЗОВ. И я вспоминаю все эти планы по построению "Большого Нового Ближнего Востока", которые были сформулированы в 2006 году уже публично, в официальных источниках. Кондолиза Райс, в частности, заявляла. А как раз в это время израильская армия уничтожала государство Ливан. С севера до юга вся инфраструктура страны дрожала от израильских ракетных ударов. Два месяца Израиль разрушал соседнее государство, не обращая внимания даже на маронитов, которые с ним сотрудничали.
"ЗАВТРА". Они всегда сотрудничали.
Вячеслав МАТУЗОВ. Пусть лучше вспомнят Башира Жмайеля, лидера правохристианской коалиции Ливанский фронт, убитого через три недели после его вступления в должность президента Ливана. Есть такой район в Бейруте, Ашрафия, там живут исключительно сторонники Жмайеля. Маронитский район, христианский квартал, центр Бейрута… Он был подвергнут израильским атакам. И построенные миллиардером Рафиком Харири трассы из Бейрута до ливанских Тира и Триполи — великолепные дороги и мосты — были разрушены до основания.
Два месяца наш МИД пытался созвать заседание Совбеза ООН. И два месяца американцы и Кондолиза Райс в частности отказывались дать согласие даже на дискуссию по этому вопросу! Казалось бы, не решение, не резолюция, а лишь обсудить! Просто отказывались в повестку дня вносить эту проблему.
Тогда Кондолиза Райс произнесла историческую фразу: "В огне Ливанской войны рождается Новый Большой Ближний Восток". А несколько ранее была опубликована геополитическая карта этого Нового Большого Ближнего Востока, на которой менялись границы между государствами. Там захватывались, между прочим, и Афганистан, и Пакистан.
"ЗАВТРА". А кто автор этой карты?
Вячеслав МАТУЗОВ. Один из ведущих офицеров, аналитиков в военном ведомстве США.
Эта карта использовалась в учебном пособии для офицеров НАТО. А первыми обнародовали этот документ турецкие офицеры, которые проходили военную подготовку, по-моему, в Италии.
"ЗАВТРА". Немудрено — они ведь увидели, что на этой карте от Турции остались только рожки да ножки.
Вячеслав МАТУЗОВ. Именно так. Потому что в соответствии с этими планами американцев вся восточная часть Турции, где большинство этнических курдов и где есть горловина выхода к Чёрному морю, между Батуми и Турцией, отрезается для будущего так называемого Курдского государства. Видно, что и Сирии американцы не позволяют восстановить контроль над сирийскими северными территориями. Более того, поощряют курдов на создание здесь независимого государства Рожава, Сирийского Курдистана. Есть ещё северный Ирак с его нефтяными промыслами в районе Киркука, Сулеймании и так далее, и западные районы Ирана. Все эти регионы в планах Нового Большого Ближнего Востока должны объединиться в форме Курдского государства, дружелюбно настроенного по отношению к Израилю. Такова стратегия американской геополитики.
"ЗАВТРА". Но цель-то — не геополитическая, вы ведь сами говорили!
Вячеслав МАТУЗОВ. Цель тут — создать благоприятные условия для решения задачи, которую отказался решать Арафат. Чтобы решение было не ответом на просьбу, а единственным выходом в навязанном раскладе сил. Но это крайне опасная линия, которая создаёт вероятность серьёзной войны. И тут для Израиля без ущерба никак не обойдётся. Иран с его ракетным потенциалом вполне может смять Израиль.
И Турция, оккупирующая Идлиб и меняющая статус храма святой Софии, тоже не случайное явление, оно как раз укладывается в игру по изменению ситуации на Ближнем Востоке.
"ЗАВТРА". Наверное, в этом ключе стоит подумать и о событиях вокруг Ливии и Ирана. Не всё ведь упирается в нефть и беженцев, как вы сегодня рассказали. Здесь важна нацеленность верующих иудеев в приход Машиаха, которого они ждут как благо для себя.
Вячеслав МАТУЗОВ. Для себя — исключительно, судя по всему.
"ЗАВТРА". А православные и мусульмане видят тут конец света. Получается, что стандартное объяснение позиции президентов США тем, что на них влияет очень мощное израильское лобби, верно лишь отчасти. На самом деле сами американские президенты принадлежат к тем ветвям протестантства, которые религиозно мотивированы тем же, чем мотивированы и иудеи в Израиле.
Вячеслав МАТУЗОВ. Поэтому возникает вопрос: может быть, вызреет когда-то внятный союз православных и мусульман — именно идеолого-политический? Русская православная церковь и мусульмане Российской Федерации должны сохранить то, что унаследовали от своих предков, а не идти тем путём, по которому, увы, уже идут ведущие конфессии и секты Европы, всё менее и менее напоминающие христианство.
"ЗАВТРА". За это и идёт сейчас борьба. Вячеслав Николаевич, спасибо за этот важный разговор!
* — террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

Антитеррористическая битва
Пять лет с начала операции ВКС России в Сирии
Рами Аль-Шаер
Пять лет назад Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, президент России Владимир Путин отдал приказ Генеральному Штабу Министерства обороны страны ликвидировать террористические группировки, действовавшие в Сирии.
К тому времени эти группировки, возглавляемые ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация), значительно расширили масштаб своих действий на сирийской территории. Получая логистическую, материальную и идеологическую помощь от ряда стран и спецслужб, они поставили перед собой в качестве главной задачи свержение правящего режима и сирийского руководства любой ценой, даже если это привело бы к уничтожению всех городов и населённых пунктов Сирии.
В результате террористическая организация ДАИШ (арабская аббревиатура ИГИЛ) взяла под свой контроль практически всю территорию Сирии, захватила большую часть вооружения, боевой техники сирийской армии, взяла в плен ряд военнослужащих и объявила о создании «Исламского государства» (ИГ), среди целей которого было также вторжение в Иорданию и Ливан после установления контроля над территорией Сирии и ряда районов Ирака. Не исключено, что в планах ДАИШ было также установление мирового господства, «распространение ислама» в соответствии со своей концепцией, предусматривающей введение «норм» исламского шариата на всех территориях, оказавшихся под контролем ИГ, независимо от конфессиональной, этнической и национальной принадлежности местного населения, произвольное установление границ подконтрольных ДАИШ районов, возвращение к таким варварским средневековым методам, как отрубание конечностей, казни, осквернение тел убитых, причём это должно было, по замыслам террористов, происходить на глазах у всего мира, сниматься на телекамеры с участием высокопрофессиональных операторов и режиссёров. Террористы разрушили огромное количество исторических памятников, в том числе в Пальмире и других городах. Эти памятники являлись достоянием не только Сирии, но и всего человечества, всей мировой цивилизации. Вдобавок к этому, многие шедевры культуры были незаконно переправлены за рубеж и проданы на чёрном рынке. Большинство из них, видимо, мы не увидим никогда.
Воздушно-космические силы России начали военную операцию в Сирии с целью ликвидации вооружённых до зубов новейшим оружием и современными средствами связи террористических группировок. Некоторые западные страны передавали террористам полученную при помощи искусственных спутников разведывательную информацию о позициях и передвижениях частей и подразделений сирийской армии. Это происходило под негласным руководством Пентагона. Подготовка к военной операции ВКС России в Сирии велась быстро и в обстановке полной секретности. Она началась сразу же после того, как законное руководство Сирийской Арабской республики официально обратилось к России с просьбой оказать военную помощь в чрезвычайно сложных условиях, в которых оказалась страна. Тогда Дамаск жил в условиях практически полной блокады. Сирийскую столицу тогда отделяло буквально несколько дней от решающих боев, в результате которых город мог быть полностью разрушен, и погибла бы половина жителей не только Дамаска, но и его пригородов. Тогда многие жители стали заложниками в руках террористов, которые использовали их в качестве живого щита.
Россия направила в Сирию элитные боевые подразделения, личный состав которых прошёл специальную подготовку. Это было сделано для того, чтобы избежать жертв среди местного населения в ходе операций по ликвидации террористических группировок на всей территории Сирии. В результате военной операции российские войска совместно с частями и подразделениями сирийской армии, при взаимодействии Генеральных штабов армий обеих стран, отстояли столицу Сирии, спасли Дамаск от угрозы захвата города террористами. Были освобождены находившиеся в плену у террористических банд сотни тысяч сирийцев, ликвидированы более 130 тысяч террористов, в числе которых были иностранные боевики из многих стран. О ходе боев становилось известно из телерепортажей, новостей мировых информационных агентств и сообщений, размещаемых в социальных сетях.
Военная операция российских ВКС в Сирии привела к появлению «астанинского трека» с участием трех стран-гарантов: России, Турции и Ирана, - благодаря чему удалось достичь соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии, объявить о создании четырех зон деэскалации, предпринять шаги по приемлемым для боевиков вооружённых формирований вариантам разоружения и по доставке тех боевиков, кто откажется сделать это (вместе с их семьями) в провинцию Идлиб с тем, чтобы в дальнейшим предпринять соответствующие шаги по урегулированию этой ситуации. Сложность этих действий заключалась в том, что во главу угла ставилась цель - избежать жертв среди гражданского населения на подконтрольных террористам террориториях, то есть женщин, детей и людей преклонного возраста, а также тех людей, кто не по своей вине оказался в плену у боевиков ДАИШ и других террористических организаций и группировок, воюющих в то время на территории Сирии.
Возвращаясь в военной операции российских ВКС в Сирии, начавшейся пять лет назад, хотел бы ответить на клеветнические заявления о том, что Россия якобы «превратила Сирию в полигон для испытания на сирийском народе различных видов современного оружия». Авторы подобных измышлений ссылались при этом на заявления представителей российского руководства о том, что российская армия «приобрела практический боевой опыт в Сирии, испытав многие виды оружия, что сыграло большую роль в повышении боеспособности российских солдат и офицеров».
Хотел бы в этой связи пояснить, что многие учения, маневры и испытания современного оружия действительно были перенесены с российской территории на территорию Сирии. Там учебные маневры превратились в реальные боевые операции. Однако целью этих операций была именно точечная ликвидация террористических группировок для того, чтобы избежать любых жертв среди гражданского населения. Повторю: избежать именно любых жертв, а не «свести к минимуму» количество жертв среди гражданского населения. Эта цель была полностью достигнута. Российской армии удалось совместить выполнение этой сложной задачи с другой задачей – снизить изначально запланированные расходы на проведение военных учений и маневров, которые входят в программу боевой подготовки частей и подразделений российской армии с целью повышения её боеспособности. Именно об этом шла речь в заявлениях представителей российского руководства в той части, где говорилось о повышении боевой выучки и боеспособности российских солдат и офицеров в ходе реальных боевых действий на территории Сирии.
И более важными представляются политические инициативы и шаги, предпринимаемые одновременно с боевыми действиями на сирийской территории, и гуманитарная помощь, оказанная Россией Сирии для преодоления последствий тяжёлого экономического кризиса, возникшего в стране.
После того, как пять лет назад началась антитеррористическая операция российских войск в Сирии, я написал 2 книги.
Первая - «Сражающаяся Сирия». В ней шла речь о необходимости срочной отправки Воздушно-космических Сил и спецподразделений России для помощи и спасения сирийского народа, а также уничтожения террористов, которые базировались на территории Сирии. Тогда же велась подготовка к их переброске в Россию. Также в книге говорилось о том, что благодаря этой операции и оперативным действиям спецслужб, удалось разоблачить террористические ячейки, связанные с террористами в Сирии. Таким образом, было предотвращено около 100 террористических операций в России, направленных против российских граждан и жизненно важных объектов.
Вторую книгу я назвал «Сочи 2018: дорога к миру». В ней я подробно рассказал о политических инициативах, предпринимаемых российским руководством параллельно с антитеррористической операцией России в Сирии с целью урегулирования сирийского конфликта и достижения мира и согласия на всей территории Сирии. В этой книге я разоблачил попытки некоторых сил помешать этим процессам. Сегодня мы все видим, кто действительно заинтересован в помощи сирийскому народу, а кто попросту решает свои глобальные цели за счёт сирийцев и граждан других стран Ближнего Востока. Мы видим, кто выступает против России и проводимой ею внешней политики, направленной на достижение справедливого мира, на активизацию роли ООН в решении международных и региональных конфликтов, как об этом говорил на днях президент России Владимир Путин, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом 75-ой годовщине создания этой авторитетной международной организации. Не исключаю, что и за событиями на Украине, в Белоруссии и Нагорном Карабахе стоят спецслужбы некоторых стран, которые ставят своей целью эскалацию напряжённости вблизи российских границ.
В заключение хотел бы в связи с пятой годовщиной совместной российско-сирийской военной операции в Сирии выразить соболезнования родным и близким павших смертью храбрых на поле боя в Сирии российских солдат и офицеров. Они погибли, защищая не только Сирию и сирийский народ, но и спасая человечество от кошмара международного терроризма, угрожавшего всем нам, а также защищая национальную безопасность России.
Соболезную всем сирийцам, потерявшим своих родных и близких в этой судьбоносной битве во имя великого сирийского народа, за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии!

Эксперт: Сближение с Израилем — это подготовка стран Персидского залива к пост-нефтяной фазе
Соглашение о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном укрепит коалицию, которая была сформирована в Восточном Средиземноморье
В сентябре Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений. Лаури Хайтаян, известный ливанский эксперт по нефти и газу на Ближнем Востоке и в Северной Африке, считает, что это соглашение не только ставит политические цели и направлено на изоляцию Ирана в регионе, но и свидетельствует о подготовке стран Персидского залива к переходу к пост-нефтяной фазе. Материал подготовлен специально для «НиК».
— Как сближение Израиля с ОАЭ и Бахрейном повлияет на энергетический рынок Ближнего Востока?
— Есть много идей, которые крутятся вокруг энергетического сотрудничества между Израилем и ОАЭ, переговоров и первоначальных дискуссий о возможностях транспортировки нефти Персидского залива по трубопроводу из ОАЭ в Саудовскую Аравию, а затем в порты Израиля. Цель — обойти Ормузский пролив или другие «слабые» места в различных морских коридорах в регионе по соображениям безопасности, связанным с напряженностью между странами Персидского залива и Ираном, и небезопасной обстановкой в зоне других проливов, по которым нефть Персидского залива транспортируется в Средиземное море. В настоящее время это всего лишь идеи.
В ближайшее время ничего конкретного не произойдет, по крайней мере, до тех пор, пока Саудовская Аравия не подпишет мирное соглашение с Израилем. Но сделка между Израилем и ОАЭ укрепит коалицию, которая была сформирована в Восточном Средиземноморье через Восточно-Средиземноморский газовый форум (EMGF) между Египтом, Израилем, Грецией, Кипром, Палестиной, Иорданией и Италией, который поддерживается ЕС и особенно Францией. Поскольку существует сотрудничество между Египтом, Францией и ОАЭ в Ливии, это новое мирное соглашение поможет укрепить отношения между странами Персидского залива и Восточного Средиземноморья. Следовательно, страны Персидского залива могут помочь инвестировать во многие общие проекты, которые намечает Восточно-Средиземноморский газовый форум.
— Есть мнение, что, инициировав переговоры о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, США оказывают давление на Иран и его нефтяную промышленность. Вы как считаете?
— Определенно, это мирное соглашение является стратегическим политическим шагом, направленным на изоляцию Ирана в регионе. Это имеет больше политических последствий и последствий для безопасности, чем экономических.
Он не нацелен на нефтегазовый сектор Ирана, но нацелен на то, чтобы остановить угрозу Ирана для Персидского залива и Израиля.
— Связано ли каким-то образом сближение арабских стран с Израилем с кризисом в этих странах после падения цен на нефть?
— Сделка не связана напрямую с падением цен на нефть. Она скорее связана с созданием новой политической коалиции, как я уже сказала, против амбиций Ирана в регионе и открытием дверей для новых экономических возможностей, которые появятся на Ближнем Востоке благодаря нормализации, которая свяжет Восточное Средиземноморье с Персидским заливом и превратит их в центр торговых взаимоотношений между рынками Европы и Азии.
Странам Персидского залива будет очень важно подготовиться к переходу к пост-нефтяной фазе. И, определенно, это плюс для президента Трампа. Даже если он не добьется успеха на предстоящих выборах, он определенно будет заинтересован в инвестировании в эти страны, как бизнесмен, в качестве жеста признания того, что эти страны помогли ему достичь части его мирного плана для Ближнего Востока, что было названо «сделкой века».
— Что происходит со странами Ближнего Востока при нынешних ценах на нефть? Какие меры предпринимают нефтедобывающие страны?
— Как мы знаем, многие страны Ближнего Востока зависят от нефти и газа, как основного источника доходов, поэтому низкие цены повлияли на их бюджеты, а также на их расходы и проекты, которые они уже запланировали. Разные страны использовали разные инструменты для жизни в новой реальности. Многие страны были вынуждены сократить расходы, например, Алжир и Оман. Другие, такие как Саудовская Аравия, использовали свои фонды национального благосостояния и повысили налоги. Катар предпочел взять деньги в долг.
— Как «дружба» Китая с Ираном и полулегальные закупки сырья Пекином отражаются на Ближнем Востоке?
— Любое соглашение, особенно соглашение по нефти и газу между Китаем и Ираном, вызывает беспокойство у других стран, особенно у тех, кто продает сырье в Китай, потому что всегда существует конкуренция за долю на рынке, а Азия является основным потребителем, особенно для производителей Персидского залива. Никто не любит конкуренции.
— Ближневосточные страны ОПЕК возвращаются к политике скидок на свою нефть после слабого летнего сезона. Поможет ли это как-то улучшить ситуацию со спросом?
— Единственный способ улучшить ситуацию со спросом — это восстановление экономики и преодоление кризиса в области здравоохранения из-за Covid-19, который оказывает прямое влияние на экономику во всем мире. V-образное восстановление, которое ожидалось во всем мире, не случилось. Напротив, мы наблюдаем разнонаправленные движения экономик: одни открываются, другие закрываются. Ни восстановление, ни меры по предотвращению второй волны Covid-19 не синхронизированы, и в связи с неопределенностью вокруг вакцины ожидаемого быстрого восстановления не произойдет. Следовательно, спрос будет оставаться слабым, что бы ни случилось.
Мы все еще находимся в ситуации, когда спрос контролирует цены на нефть.
— Миллионы непроданных баррелей остаются в танкерах. Нефтетрейдеры сталкиваются с дилеммой: либо продлить хранение, зафрахтовав суда и превратив их в «плавучие канистры», либо попытаться продать их, рискуя обрушить цены на хрупком рынке. Что правильнее в этой ситуации?
— Китай покупал, чтобы накопить побольше, но и он уже не покупает больше, потому что переживает экономический подъем. Мы видели, что спрос со стороны Китая рос летом, но нефть покупалась больше для хранения, чем для использования в экономике. Рынки очень хрупкие, и именно поэтому мы стали свидетелями встречи ОПЕК+ на прошлой неделе, на которой министр энергетики Саудовской Аравии снова очень жестко отнесся к соблюдению требований и подчеркнул, что все должны подчиняться, нет места несоблюдению, потому что рынок все еще хрупкий.
Необходимо учитывать, что теперь существует вероятность того, что от 200 тыс. до 300 тыс. баррелей ливийской нефти могут вернуться на рынок. Мы все ждем конца года, чтобы увидеть, где окажутся рынки. Все прогнозы таковы, что рынки не восстановятся должным образом, и поэтому будет интересно посмотреть, как будет действовать ОПЕК+. Будет ли реализовано то, что было согласовано в апреле 2020 года, или будет решено сохранить сокращения на текущем уровне до тех пор, пока рынок не восстановится? Увидим.
Зарубежный корреспондент ИРТТЭК Михаил Вакилян

Интервью Посла России в Боливии В.И.Спринчана газете "La Razón" по проблематике продвижения российских медикаментов
Мы предлагаем производить вакцину
г. Ла-Пас, 24 августа 2020 г.
Посол России утверждает, что российское предложение вакцины направлено не только на её продажу, но и на то, чтобы страна её производила.
Автор: ИВАН БУСТИЛЬОС
Владимир Спринчан: Посол уточняет, что вакцина «Спутник-V» будет в первую очередь направлена для групп с самым высоким риском заражения, таких как врачи, учителя (в России); позже, в октябре или ноябре, она будет применена к другим слоям населения. Это будет добровольная вакцинация, по запросу.
Данные
Владимир Иванович Спринчан
Родился: 31 августа 1957 г. в Молдове. Профессия: дипломат.
Должность: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации.
Профиль
Спринчан был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия 26 июля 2017 года.
11 августа Президент России Владимир Путин объявил, что его страна запатентовала первую в мире вакцину против вируса COVID-19 – «Sputnik-V» («Спутник» - на русском языке и «V» - вакцина). В других странах сразу же возникли сомнения относительно эффективности вышеупомянутой вакцины, выступая против рекордного времени, в течение которого она была произведена, и того факта, что, как утверждается, ещё не прошёл третий массовый этап испытаний. Россия сообщила, что этот третий этап начался 12 августа. Для получения вакцины, произведённой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, на сегодняшний день уже поступил запрос как минимум из 20 стран, как пояснил Посол России в Боливии Владимир Спринчан. Но речь идёт не только о продаже продукта, подчёркивает он, но и о предложении передачи технологии, согласно которой страны-покупатели будут её производить. По словам дипломата, объём вакцин настолько велик, что ни одна страна не сможет произвести их в достаточном количестве. На возражение против скорости, с которой был запатентован «Спутник-V», эксперты уже признали, что все работают в рекордно короткие сроки (для закрепления вакцины требуется не менее двух лет); Посол Спринчан добавляет: «И мы не начинали с нуля».
- Почему российская вакцина появилась так быстро? Страны и эксперты выразили свои сомнения.
- Потому что исследования не начинались с нуля. Они были осуществлены на основе вакцины, разработанной 15 лет назад против Эболы, потому что Эбола, как и коронавирус, является разновидностью гриппа; необходимо было лишь немного модифицировать эту вакцину для того, чтобы она была реализована быстрее не только в процессе исследований, но и в проверке на трёх этапах. Кроме того, вчера в России была анонсирована ещё одна вакцина, также против коронавируса, с применением другой технологии; таким образом, готовятся от пяти до шести видов вакцины. Россия не сосредотачивается только на одном; кроме того, «Спутник-V» имеет ограничения по возрасту и весу; та вакцина, которая только что была завершена, предназначена для других категорий населения.
- Как вы планируете распространять или продавать вакцину?
- Внедрение вакцины на внешние рынки поручено Российскому фонду прямых инвестиций, который готов обсуждать с международными партнёрами предварительные заказы на поставку вакцин, их контрактное производство, обучение иностранных компаний, а также возможность передачи технологии и проведения клинических испытаний.
Вы понимаете, что потребность в вакцине очень велика, а также необходимо производить её быстро, поэтому Россия ищет различных иностранных партнёров для передачи российской технологии для производства вакцины в других странах; для Латинской Америки – это Бразилия. Она будет производиться не только в России, но и в других странах; так же, как и с Бразилией, есть контракты со странами Азии, Европы.
- Речь идёт о 20 странах, которые уже запросили российскую вакцину.
- Да, некоторые из них - Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика, Индия, Палестина, Аргентина, Иордания, Израиль; страны Содружества Независимых Государств [бывшего Советского Союза]: Казахстан, Республика Молдова, Кыргызстан и другие.
- Что касается Боливии, какие подходы были осуществлены?
- Мы информируем соответствующие службы Боливии о перспективах сотрудничества в данной сфере, готовы предоставить необходимую помощь контактов (в России) с Минздравом или с компанией, которая будет назначена для переговоров с нашим Фондом.
- Министр здравоохранения Мария Эйди Рока заявила, что не закрывает вопрос о приобретении российской вакцины, однако, её безопасность и эффективность вызывают большой интерес. Когда это станет возможным?
- В случае заинтересованности властей Боливии мы предпочитаем работать с конкретными партнёрами госструктур, избегая бюрократических препятствий, в рамках контракта на поставку; в случае возникновения сомнений, мы гарантируем, что передача покупателям российской вакцины состоится после полной сертификации препарата в России. И она будет продана только тогда, когда национальный регулятор Боливии разрешит его приобретение; вакцина – это медикамент, поэтому она должна соответствовать всем необходимым условиям для какого-либо лекарства; без разрешения и проверки национального регулирующего агентства, конечно, вакцина не будет экспортироваться в Боливию, как и в любую другую страну. Россия не подталкивает, не настаивает на продаже вакцины без разрешения властей страны.
- Всегда ли переговоры о покупке или производстве вакцины будут осуществляться от государства к государству?
- Переговоры могут вестись между частной или государственной компанией, но только с той, которая назначена правительством, потому что здоровье - это ответственность государства. Кроме того, это помощь всем жителям страны, а не только прибыль для компании. Мы понимаем, что когда речь идёт о вакцине против вируса COVID, существует конкуренция, но мы представляем нашу вакцину, не делая отрицательных комментариев по поводу других вакцин и предложений; мы можем предложить сотрудничество, не затрагивая другие контакты.
- Сейчас в борьбе с COVID, кажется, наиболее продвинутым для лечения пациентов является «Авифавир».
- Да, с этим лекарством для лечения людей, инфицированных COVID, дела обстоят лучше. В Боливии есть компания «Sigma Corp» из Кочабамбы; она ведёт переговоры с нашим Фондом и с компанией, которая производит данный препарат, об импорте довольно большого количества этого лекарства в Боливию, которое будет предназначаться не только для Боливии, но и для соседних стран. Боливия станет центром распространения препарата в регионе. Я знаю, что эта компания предоставила «Агемед» [Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения] все необходимые материалы, результаты клинических испытаний для получения сертификата, разрешения на импорт этого лекарства. Я знаю, что сейчас в «Агемед» данные материалы анализируются для того, чтобы принять решение. «Авифавир» уже применяется в моей стране.
Сейчас он используется только для лечения пациентов с «активными» случаями в больницах, центрах медицинской помощи; его нельзя применять для лечения в домашних условиях, он не предназначен для лёгких случаев, а используется в тяжёлых случаях в больницах.
- В настоящее время для того, чтобы боливийский вариант российской вакцины продвигался, мы нуждаемся в хороших отношениях на уровне правительств. Есть несколько проектов, начатых предыдущим руководством. Как, например, сотрудничество между «Газпром» и «YPFB»?
- Когда было сформировано временное правительство, я встречался с разными министрами, которые имели отношение к двустороннему сотрудничеству с Россией. И, конечно же, в первую очередь сотрудничество в сфере углеводородов. Год назад, в июле 2019 года, между компаниями «Газпром» и «YPFB» был одобрен проект соглашения о разведке, добыче, индустриализации и транспортировке газа для проекта Витиакуа в департаменте Чукисака, проект с российскими инвестициями на 1,2 миллиарда долларов; в рамках этого проекта было подтверждено намерение правительства г-жи Аньес продолжать его, поскольку это проект не только разработки сырья, но и индустриализации углеводородов.
- Имеется определённая конкретная работа или всё ещё ведутся переговоры?
- Ведутся переговоры, потому что, как Вы знаете, что, к сожалению, сменился совет директоров «YPFB», и поэтому переговоры продолжаются.
- Что касается Ядерного Центра в г. Эль-Альто, кажется, это было самое передовое из того, что делал «Росатом».
- Да, этот проект является приоритетным в наших экономических отношениях. Это не только проект в экономической сфере, но и в области передовых технологий. До октября прошлого года был намечен прогресс в более 80% строительства, около 60% импорта спецтехники. (Новый) министр энергетики посетил наш центр в феврале. И также подтвердил готовность правительства Боливии продолжать строительство данного центра; сейчас мы взяли паузу в связи с вирусом COVID. Но, помимо продолжения строительства, руководство компаний находится в постоянном контакте для продвижения по различным направлениям.
- Существуют ли какие-либо даты завершения?
- К сожалению, мы не можем гарантировать сроки, которые были установлены при подписании контракта. Речь шла о первом этапе в 2021 году и о заключительном сроке в 2023 году; но теперь я думаю, что это будет немного позже. Основная задача данного объекта, который не является станцией, а представляет собой научный центр, будет заключаться в подготовке материалов ядерной медицины для лечения онкологических заболеваний.
- Другие проекты?
- Важно отметить, что у нас существует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству; в рамках которой анализируются различные вопросы двусторонней повестки дня: сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, окружающая среда, здравоохранение и др. Последнее заседание этой комиссии состоялось 17 мая 2017 года. Россия предложила «дорожную карту» сотрудничества на 35 страницах; временное правительство ожидает выборов для того, чтобы вновь проанализировать эти темы.
- Сотрудничество с Вооруженными Силами? Уже были подписанные соглашения.
- Сфера военного сотрудничества – это деликатный вопрос. Не все объявляется для всех. Но у нас также существует комиссия по военно-техническому сотрудничеству, и на последнем заседании в 2019 г. была представлена заинтересованность в расширении этого сотрудничества в области безопасности, в подготовке офицеров; но, как Вы понимаете, что в условиях временного правительства всё откладывается до выборов.
- Понятно, невозможно решить многие вещи.
- Да, существуют пределы возможностей и полномочий.
- Придётся ждать нового правительства.
- Россия с первых дней работы нового правительства представила свою позицию, что она за мирное решение [конфликтов]. Россия готова сотрудничать с любым законно избранным правительством, независимо от политической окраски.

Что остудит кипящий котёл?
перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке
Рами Аль-Шаер
В последние дни в арабском мире, да и во всём ближневосточном регионе, активно обсуждаются три вопроса: нормализация отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Израилем, международное расследование обстоятельств взрыва в бейрутском порту и перспективы мирного урегулирования ливийского кризиса.
Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем - «огромный прорыв»
Президент США Дональд Трамп назвал подписание мирного соглашения между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Израилем «огромным прорывом» (HUGE breakthrough) в отношениях между «двумя великими друзьями» Соединённых Штатов. Наследный принц Абу Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что обе страны разработают дорожную карту для начала сотрудничества между двумя государствами. Договорённость об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между наследным принцем, президентом Трампом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Согласно договоренностям, Израиль приостановит аннексию палестинской территории. Впоследствии глава израильского кабинета министров опроверг эту новость в ходе созванной им пресс-конференции. Отвечая на вопрос о «приостановке аннексии палестинской территории», Нетаньяху сказал, что «получил от президента Трампа просьбу о замораживании осуществления планов по аннексии Западного берега», пояснив что речь идёт о том, чтобы «временно отложить решение этого вопроса». По словам премьер-министра, «нет никаких изменений в плане по осуществлению аннексии при полной координации этих действий с Соединёнными Штатами Америки».
Единственное, что удивило меня во всей этой истории, это то, как восприняли его все окружающие меня люди, почему-то «шокированные» этими сообщениями. Для меня же эта новость не стала сюрпризом. В течение последних трех лет появлялась информация об идущих прямых (или при посредничестве США и других стран) контактах между некоторыми арабскими странами и Израилем. В ходе этих контактов обсуждался вопрос о том, каким образом развитие арабо-израильских отношений может способствовать решению палестинской проблемы, учитывая нормализацию отношений между Египтом, Иорданией и Палестинской национальной администрацией (ПНА), дипломатические отношения, установленные между Израилем и Египтом и Израилем и Иорданией и подписанное между ПНА и Израилем соглашение о взаимодействии по вопросам безопасности.
В течение последних двух лет Вашингтон приложил максимум усилий по развитию отношений с теми арабскими странами, которых он считает своими союзниками и на территории которых размещены огромные военные базы США. Плоды этих усилий сегодня «очевидны». Это нормализация отношений между ОАЭ и Израилем, после чего такие же шаги будут предприняты и в отношении других арабских стран, о чём заявили президент США и его зять Джаред Кушнер, согласно прогнозам которого, в ближайшее время Израиль и «ещё одна арабская страна» объявят о нормализации отношений между ними. Всех интересует, какова вообще официальная российская позиция по этому вопросу, если не считать заявления МИДа РФ, в котором говорится, что «приостановка Израилем (в соответствии с соглашением между ним и ОАЭ) распространения своего суверенитета на части территорий Западного берега р. Иордан является важным элементом».
Хотел бы напомнить, что Россия в течение последних двух лет приложила много усилий для того, чтобы убедить руководство различных палестинских организаций в необходимости восстановления национального единства на основе национально-патриотической программы во главе с международно признанной Организацией освобождения Палестины как единственным законным представителем палестинского народа. К сожалению, эти усилия не принесли результатов.
Хочу также напомнить, что палестинская национальная администрация не получила международное признание. Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что основополагающие международно признанные основополагающие принципы урегулирования конфликта зафиксированы в национальной программе действий Организации освобождения Палестины. Москва поддерживает эти принципы, главный из которых – создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Что же касается соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, то какой, спрашивается, может быть позиция Москвы по вопросу, являющемуся внутренним делом двух суверенных государств? Речь идёт о суверенном решении, принятом руководством ОАЭ. Понятно, что Москва совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами будет стремиться прилагать максимум усилий для того, чтобы воспрепятствовать любым попыткам израильской аннексии палестинских земель и сорвать планы, о которых идёт речь в так называемой «сделке века». Однако хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что главный шаг, который необходимо предпринять для противодействия любой угрозе, препятствующей решению палестинской проблемы, заключается в скорейшем восстановлении палестинского единства, в необходимости сплочения всех палестинских отрядов вокруг Организации освобождения Палестины, в приверженности основополагающим международно признанным принципам урегулирования конфликта, получившим поддержку Организации Объединённых Наций. Последнее обстоятельство имеет особое значение, учитывая тот факт, что два государства, являющиеся постоянным членами Совета Безопасности ООН (Россия и Китай), поддерживают законные права палестинского народа.
Международное расследование обстоятельств взрыва в бейрутском порту
Убеждён, что международное расследование обстоятельств взрыва в бейрутском порту ввергнет Ливан в ещё более широкомасштабный кризис, чем тот, с которым страна столкнулась в настоящее время. Подобная идея-пустая трата времени. Между тем Ливану сейчас срочно нужна финансовая помощь в размере 25 миллиардов долларов для ликвидации последствий взрыва и для того, чтобы хотя бы частично справиться с экономическим кризисом в стране. Ливанскому государству, правительству страны необходимо срочно предпринять шаги по реанимации экономической деятельности, начать постепенно возвращать банкам денежные депозиты, решить проблему нехватки электроэнергии и другие неотложные вопросы, которые в том числе помогут возродить деятельность туристической отрасли. При этом крайне важно, учитывая нынешнюю ситуацию, в которой находится страна, выступить против любых попыток внешних сил навязать Ливану какие-то условия для оказания помощи стране. Опыт прошлого показал, что ливанцы сами в состоянии справиться со своими проблемами. Кстати, оценки экспертов о необходимости оказания Ливану срочной финансовой помощи в размере 25-30 миллиардов долларов, не являются преувеличением. Думается, что такая сумма не станет непосильным бременем для богатых арабских государств, да и для мирового сообщества в целом.
Не знаю, кто стоит за взрывом в бейрутском порту. Несмотря на все проблемы, стоящие перед Ливаном, на межконфессиональные и политические конфликты и разногласия, у страны нет внешнего врага, который мог бы спланировать и осуществить подобный акт, который привёл к разрушению инфраструктуры порта и значительной части ливанской столицы, в результате чего погибли люди, а многие жители остались без крова. Возможно, что преступная халатность, пренебрежение элементарными правилами безопасности и ряд других проблем привели к этой ужасной трагедии. Вместе с тем не могу согласиться с мнением так называемых «аналитиков» и «военных экспертов», которые говорят о краже «огромного количества взрывоопасных веществ» о том, что в порту хранилось 300 тонн «легковоспламеняющихся веществ». Не могу согласиться со всякого рода слухами и «версиями», имеющими явную политическую подоплёку. Убежден, что Ливан располагает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы как можно быстрее провести расследование обстоятельств взрыва без всякого внешнего и бесполезного, на мой взгляд, вмешательства.
И последнее, о чем я хотел бы сказать в связи с призывами провести международное расследование обстоятельств взрыва в бейрутском порту. Коль скоро в таком расследовании нет необходимости, не лучше ли международному сообществу заняться поиском виновных в разрушении Сирии, (которой, кстати, необходима финансовая помощь в размере около 300 миллиардов долларов для восстановления экономики страны), виновных в том, что многие жители страны лишились жилья, поиском тех, кто щедро финансировал террористические банды, действовавшие на территории страны? Неужели такие особо тяжкие преступления не требуют международного расследования? Необходимо судить тех, кто финансировал террористов и обязать их выплатить соответствующую компенсацию путем участия в восстановлении экономики Сирии. Напомню, что высокопоставленные лица из некоторых стран открыто признавались в финансировании. Международное сообщество обязано найти ответственных за нынешнюю ситуацию в Йемене и Ливии. Ведь сегодня в социальных сетях, в СМИ, а также в спецслужбах можно найти многочисленные фотографии и видеоматериалы, убедительно доказывающие, кто наносит удары по населённым пунктам, кто подстрекает и финансирует террористов, кто пытается навязать свои условия и санкции, приводящим к трагическим последствиям, жертвами которых становятся миллионы невинных людей.
Международный суд в Гааге только что заявил об отсутствии каких-либо доказательств причастности «Хезболлы» и Сирии к убийству бывшего премьер-министра Ливана Рафика аль-Харири. Мы хорошо помним, как некоторые силы в течение последних десяти лет неоднократно пытались использовать фейковые обвинения о якобы причастности «Хезболлы» и Сирии к убийству аль-Харири, и тем самым политизировать данное преступление. Между тем не знающие географии люди использовали бездоказательные аргументы для того, чтобы обвинить «Хезболлу» и Иран в причастности к йеменскому конфликту. Представители этих сил даже не удосужились посмотреть на карту региона и попытаться найти общие границы между Ливаном и Йеменом, или между Ираном и Йеменом. Уверен, что история докажет полную непричастность «Хезболлы» и Ирана к йеменскому конфликту подобно тому, как международный суд в Гааге подтвердил непричастность «Хезболлы» к убийству Рафика аль-Харири.
Сегодня мы опять слушаем ту же самую «пластинку». Представители тех же сил возлагают на «Хезболлу» ответственность за взрыв в бейрутском порту. Можно ли представить себе, что «Хезболла», которая всегда действовала в интересах Ливана и ливанского народа, выступая за единство и территориальную целостность страны, могла решиться на шаг, который нанес огромный ущерб столице Ливана, всей стране, всему ливанскому народу? Именно «Хезболла» является одной из главных сил страны, препятствующих сползанию страны к гражданской войне. Кроме этого, «Хезболла» является своего рода щитом, играя на протяжении последних десятилетий важную роль в защите южных рубежей ливанского государства.
Ливия: перспективы мирного урегулирования конфликта
Перспективы урегулирования ливийского конфликта представляются реальными особенно после того, как противоборствующие стороны выразили уверенность в том, что военное решение проблемы невозможно. Нынешняя ситуация тяжёлым бременем ложится на плечи ливийского народа. Исходя из этого, есть надежда на то, что Турция, Россия, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Катар смогут способствовать реализации достигнутых в Берлине договоренностей. Хочется надеяться, что в ближайшие дни будут предпринятые дополнительные шаги по урегулированию конфликта. В настоящее время есть чёткое представление о том, как можно достичь этого урегулирования с учётом интересов противоборствующих сторон, а также региональных и международных заинтересованных представителей. Во главу угла должны быть поставлены интересы ливийского народа и его суверенитета в соответствии с резолюцией № 2510 Совета Безопасности ООН, в которой отвергается военное решение конфликта и подчеркивается необходимость уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии.
Сейчас необходимо, чтобы противоборствующие стороны соблюдали режим прекращения огня. Важно также определить задачи каждой стороны в подконтрольных им районам, пока не будут созданы условия для того, чтобы ООН смогла бы сыграть эффективную роль в достижении урегулирования ливийского кризиса. В этой связи необходимо назначить нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии. Желательно, чтобы им стал нейтральный представитель одной из африканских стран, исходя из огромного значения Ливии для африканского континента.
В адрес России и её роли в ливийском конфликте звучат фейковые обвинения, выдвигаются разного рода догадки, предположения и версии. Всё это является частью гибридной войны, развязанной против России. Однако факты говорят о другом. Именно усилия России позволили противоборствующим сторонам достичь соглашения о прекращении братоубийственной войны, заключить перемирие. Это создало предпосылки для переговоров между сторонами конфликта. Предполагается, что переговорный процесс начнётся в ближайшее время. Россия намерена сыграть эффективную посредническую роль с целью сближения позиций Турции и Египта и урегулирования разногласий, которые отрицательно влияют на безопасность Средиземноморского региона и на международную обстановку в целом.

НЕВИДИМАЯ СИЛА
УИЛЬЯМ БЁРНС
Американский государственный деятель и дипломат. Заместитель Государственного секретаря США в 2011–2014 гг. Посол США в Российской Федерации (2005–2008), посол США в Иордании (1998–2001).
ГЛАВА ИЗ КНИГИ УИЛЬЯМА БЁРНСА «НЕВИДИМАЯ СИЛА. КАК РАБОТАЕТ АМЕРИКАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ»
В издательстве «Альпина Паблишер» недавно вышел русский перевод книги видного американского дипломата, посла США в России в 2005–2008 гг. Уильяма Бёрнса «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия». Автор подвергает критике внешнеполитическое поведение Соединённых Штатов и призывает пересмотреть подходы Вашингтона. С любезного разрешения издателя публикуем одну из глав.
Вызов, с которым пришлось столкнуться американской дипломатии, когда к власти пришёл Дональд Трамп, оказался несравнимо более серьёзным, чем я предполагал. За время его пребывания в президентском кресле как наше сравнительное влияние, так и наше стремление и способность контролировать ситуацию в мире постепенно ослабевали, причём этот процесс ускорялся. Наша роль становилась всё менее значимой, что приводило в замешательство наших друзей, радовало противников и подтачивало фундамент системы международных отношений, которую мы выстроили и сохраняли в течение семи десятилетий.
Глубоко саморазрушительная кампания против профессиональной дипломатии под девизом «Страх и трепет», развязанная новой администрацией, сделала этот вызов ещё более серьёзным. Придя к власти, администрация сразу же настояла на унилатералистском дипломатическом разоружении, что в равной степени стало следствием её идеологических предрассудков и вопиющей некомпетентности. Это произошло именно в тот момент, когда дипломатия начала приобретать большое значение с точки зрения защиты интересов США в мире, где Америка уже не была единственным влиятельным игроком, но по-прежнему оставалась великой державой, сохраняющей достаточно сильные позиции, позволяющие вести за собой мир в решении стоящих перед всеми нами проблем.
Окно наших возможностей определять стратегию в меняющемся международном пейзаже и играть ведущую роль в мире постепенно закрывается, но оно ещё не захлопнулось.
Стратегия, о которой идёт речь, потребует переосмысления роли дипломатии и нового пакта между ней и американским обществом, необходимого для восстановления нормального финансирования основных функций и направлений деятельности дипломатов и их успешной адаптации к новым вызовам и реалиям. Важно также осознать, что возможность обеспечения лидирующей роли США в мире напрямую зависит от внутреннего обновления в стране.
* * *
Кто бы ни занял пост президента в 2016 г., ему неизбежно пришлось бы столкнуться со множеством сложных проблем, порождённых как быстрым изменением международной обстановки, так и ростом недовольства внутри страны. Эти проблемы создал не Дональд Трамп. Если бы к власти пришла Хиллари Клинтон, ей тоже не удалось бы их избежать. Когда в ноябре 2016 г. американцы пришли на выборы, в мире уже начали происходить исторические сдвиги, которые потребовали бы от любой новой администрации как огромных затрат сил и средств, так и творческого подхода.
Возвращение к соперничеству между великими державами в каком-то смысле стало возвратом к более естественному состоянию международных отношений, чем то, в котором они находились в биполярном мире времён холодной войны или в период американского превосходства после её окончания. Вместе с тем оно несло в себе новые риски, а также ряд других положительных и отрицательных моментов, с которыми американской системе государственного управления не приходилось сталкиваться в прошлом. Стремление Китая восстановить своё традиционное доминирующее положение в Азии уже заставило пересмотреть многие наши привычные, сложившиеся после окончания холодной войны представления о том, как посредством интеграции в контролируемый США мировой порядок заставить эту страну отказаться от своих амбиций или хотя бы ограничить их. Председатель КНР Си Цзиньпин пытался демонстрировать своё влияние не только в Азии, но и в других регионах, вплоть до Европы и Ближнего Востока. И нашим традиционным азиатским союзникам, и новым партнёрам – таким как Индия – приходилось учитывать это и, соответственно, корректировать свои стратегические расчёты, что вело к росту напряжённости в регионе и усиливало ощущение неопределённости.
Динамизм Китая и в целом Азиатско-Тихоокеанского региона сделал более заметными проблемы и противоречия в Европе, страдающей как от внутриполитических кризисов, так и от давления извне, в том числе со стороны возрождающейся России. Путин продолжал провоцировать более сильных противников, используя разделение в Европе, стремясь отомстить нам на Украине и в Сирии и сея хаос во всех направлениях, вплоть до грубых попыток повлиять на президентские выборы в США.
На фоне трений между великими державами углублялся кризис регионального порядка, вызванный как усилением влияния отдельных региональных конкурентов, так и бессилием распадающихся государств. Чемпионом по количеству и сложности проблем и постоянным очагом нестабильности оставался Ближний Восток. Перестав играть традиционную роль мировых поставщиков энергетических ресурсов, большинство арабских стран утратили возможность поддерживать экономику за счёт природной ренты и драпировать проблемы, связанные с неравенством возможностей и неуважением к человеческому достоинству. Они балансировали на грани новых внутренних потрясений, а их слабостью пользовались экстремисты. Будущее Африки несло в себе и новые надежды, и угрозы, учитывая, что численность населения континента к середине XXI века могла удвоиться, а нерешённые проблемы, включая региональные конфликты, плохое управление, а также дефицит воды, продовольствия и медицинской помощи, приобретали угрожающие масштабы. Оба американских континента оставались главной естественной стратегической опорой Соединённых Штатов. «Тихоокеанский век» давал им определённые преимущества и открывал новые возможности, но им мешали диспропорции развития и недостаток внимания со стороны США.
Из-за непрекращающегося соперничества между государствами и разрушения основ региональной стабильности старый послевоенный мировой порядок трещал по швам. Его устаревшие институты уже не могли приспособиться к новым условиям. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН ревниво защищали изношенную систему, а международные финансовые и торговые организации сопротивлялись радикальным реформам. Между тем трансформационный эффект климатических изменений с каждым годом проявлялся всё сильнее. Таяние полярных льдов, повышение уровня Мирового океана и небывалые климатические аномалии, а также другие последствия катастрофического разрушения природной среды, вызванного человеческой деятельностью, создавали проблемы, требующие принятия срочных мер. Достаточно сказать, что всего через два десятилетия половина населения земного шара может столкнуться с острой нехваткой пресной воды.
По сравнению со скоростью изменений и сдвигов, вызванных технологической революцией, темпы перемен, обусловленных в своё время промышленной революцией, выглядят просто черепашьими. Достижения в области компьютерного обучения, искусственного интеллекта и биосинтеза мгновенно изменили ситуацию, не оставив государству и обществу времени на поиск путей максимального использования преимуществ новых технологий, минимизации их возможных негативных последствий и разработки эффективных международных «правил дорожного движения». Авторитарные режимы начали использовать новые технологии, которые, казалось бы, должны были играть децентрализующую роль, для усиления централизованного контроля над гражданами.
Конкуренция, коллизии и хаос, вызываемые всеми этими факторами, нарастали постепенно; их контуры наметились уже в сложный период после окончания холодной войны. В меморандуме, подготовленном в январе 1993 г. для вступившего тогда в должность госсекретаря Кристофера, я указывал на шизофреническую двойственность формирующейся новой системы международных отношений, разрываемой противоречием между двумя разнонаправленными тенденциями: глобализацией мировой экономики и фрагментацией международной политики. Баланс сил и сравнительные позиции конкурентов постоянно менялись, причём разобраться в этих хитросплетениях было непросто. «Результатом этих тенденций, – писал я, – стал хаос, заставляющий некоторых ностальгировать (или почти ностальгировать) по знакомой дисциплине и порядку времен холодной войны»[1]. Четверть века спустя мне всё ещё удавалось побороть ностальгию, но масштабы хаоса значительно возросли.
В этот период глубоких потрясений дипломаты, как и представители всех других оказавшихся под угрозой профессий, испытывали экзистенциальную тревогу и страдали от неуверенности в завтрашнем дне. За долгие годы службы я своими глазами мог наблюдать, как постепенно разрушается почти полная монополия на представительство, доступ к информации и возможность наблюдать за событиями изнутри и влиять на них, которой раньше обладали дипломаты, работавшие в иностранных столицах и напрямую контактировавшие с представителями государства и общества. В начале 1980-х гг., будучи начинающим дипломатом и служа на Ближнем Востоке, я отправлял в Вашингтон с дипломатической почтой так называемые аэрограммы – тщательно подготовленные, подробные аналитические материалы, которые доходили до адресата только через несколько дней. Высшие должностные лица посещали столицы зарубежных государств всё чаще, но низкая скорость коммуникаций делала дипломатические каналы важнейшим направлением работы. Дипломаты играли центральную роль, они были наделены значительными полномочиями и пользовались относительной самостоятельностью.
Десять лет спустя «эффект CNN», проявившийся во время войны в Персидском заливе, ознаменовал начало эпохи доступности информации в реальном времени, а в последующие годы интернет снёс последние препятствия для мгновенного распространения информации и налаживания прямых коммуникаций. Главы государств и высокопоставленные правительственные чиновники получили возможность общаться друг с другом напрямую; необходимость покидать для этого здание министерства иностранных дел или посольства стала восприниматься как анахронизм. Негосударственные акторы – главы крупных благотворительных фондов, активисты гражданского общества и руководители корпораций, а также представители других негосударственных организаций – пользовались все бóльшим влиянием в мире, ставя на повестку дня огромное количество стратегических проблем и финансируя их решение. Пример WikiLeaks наглядно продемонстрировал, что любое сообщение под грифом «секретно» может стать достоянием широкой общественности, а социальные сети разрушили некогда чёткие каналы формирования общественного мнения.
Несмотря на огромные усилия госсекретарей, представлявших обе партии, нам часто не удавалось грамотно адаптироваться к новой реальности. В результате наши базовые навыки атрофировались, а новые ещё не выработались, и мы не успевали вовремя реагировать на происходящие события, вызовы меняющейся политической ситуации и появление новых игроков и инструментов. После окончания холодной войны наши бюджеты значительно сократились – за период с 1985 по 2000 г. расходы на содержание Госдепартамента и внешнеполитическую деятельность в реальном выражении снизились наполовину. Госсекретарь Бейкер открыл более десять новых посольств в бывших республиках СССР, не требуя от Конгресса дополнительного финансирования, а при госсекретаре Олбрайт расходы на дипломатическую службу Госдепартамента фактически были сведены к нулю. После событий 11 сентября 2001 г. общая устойчивая тенденция к милитаризации и централизации управления получила чудовищное ускорение, в результате чего сила и дипломатия поменялись местами; влияние США ослабело, мы оказались в трагическом тупике войны в Ираке; стратегия развалилась, а дипломатические инструменты были повреждены.
Разумеется, нельзя отрицать, что угроза применения силы значительно повышает шансы на дипломатический успех. Нередко лучший способ прочистки мозгов упрямых партнёров за столом переговоров – наглядная демонстрация убедительного силового «аргумента» в фоновом режиме. Именно силовые аргументы помогали Бейкеру проявлять свой талант переговорщика на встречах с арабами и израильтянами в ходе подготовки к Мадридской мирной конференции, а Керри – блистать своим дипломатическим искусством при решении иранской ядерной проблемы. «Вы и представить себе не можете, – отмечал Джордж Кеннан, – каким прекрасным дополнением к дипломатическому обмену любезностями является небольшое, не бросающееся в глаза воинское формирование на заднем плане»[2].
Однако привычка чрезмерно полагаться на военные инструменты разрушительна для политики. Убедительным подтверждением этого может служить эпизод с линкором «Нью-Джерси», обстреливавшим Ливан в начале 1980-х гг. без привязки к реализуемой стратегии и дипломатии. Другое подтверждение, намного более печальное, – наш катастрофический провал в Ираке два десятилетия спустя.
Милитаризация дипломатии – это ловушка, ведущая к избыточному (или преждевременному и непродуманному) использованию силы и недооценке эффективности других инструментов, помимо военных.
Как любил повторять Барак Обама, «если из всех инструментов у вас есть только молоток, то все проблемы кажутся вам гвоздями». Даже Пентагон и военачальники вопреки своим интересам указывали на опасность нарушения баланса между силой и дипломатией. Министр обороны Боб Гейтс постоянно напоминал Конгрессу, что численность чиновников американских военных ведомств превосходит численность сотрудников дипломатической службы Госдепартамента, а одному из его преемников, Джиму Мэттису, принадлежит знаменитое высказывание о том, что сокращение расходов на дипломатию порождает рост расходов на боеприпасы.
Гейтс и Мэттис понимали, что усиление роли и возможностей вооружённых сил ведёт к ослаблению внимания к дипломатии и её способности решать свои главные задачи. В Ираке и Афганистане дипломаты обнаружили, что их постепенно начали использовать для поддержки стратегии военных, занятых борьбой с повстанцами, вынуждая решать задачи, связанные с переустройством социальной структуры общества и укреплением государства, – то есть задачи, которые в принципе не могли и не должны были решать американцы. Временами нас, казалось, заставляли заниматься тем, чем в XIX веке занималось британское Министерство по делам колоний, а не тем, чем подобало заниматься дипломатической службе Госдепартамента США. Нам приходилось использовать наши постоянно сокращающиеся кадровые ресурсы для долгой и тяжёлой работы, направленной на создание институтов государственного управления и экономических структур, построить которые могли только сами иракцы и афганцы. На самом же деле дипломаты, работавшие «на местах», должны были выполнять свои прямые обязанности, решая намного более серьёзные задачи. Они должны были вести кропотливую, чрезвычайно сложную работу с национальными лидерами, убеждая их преодолеть религиозные разногласия, минимизировать коррупцию и начать постепенно создавать некое подобие справедливого политического режима. В широком смысле задачей дипломатов было обеспечение региональной поддержки неустойчивых национальных правительств в зонах конфликта и ограничение внешнего вмешательства.
Ещё одной ловушкой для дипломатии, помимо милитаризации после событий 11 сентября 2001 г., стала чрезмерная централизация управления и склонность раздутого аппарата Совета национальной безопасности к микроменеджменту. Разумеется, в эпоху, начавшуюся после событий 11 сентября 2001 г., пяти десятков специалистов, работавших в аппарате СНБ при Колине Пауэлле в конце 1980-х гг., или примерно такого же количества сотрудников аппарата СНБ времён Брента Скоукрофта и Джорджа Буша – старшего было уже недостаточно для решения множества новых задач. Борьба с терроризмом набирала обороты, ситуация в мировой экономике диктовала свои требования, и Белый дом был вынужден расширять свои координационные функции. Но пятикратный рост аппарата СНБ за четверть века – это явный перебор. СНБ по-прежнему привлекал многих опытных политических назначенцев и лучших карьерных госслужащих из различных министерств и ведомств. Естественно, у них возникал соблазн брать на себя всё больше исполнительных функций. Близость к Овальному кабинету усиливала их ощущение избранности, а энергия, талант и энтузиазм обуславливали стремление не ограничиваться исключительно координационными функциями, но также участвовать в разработке и реализации политики.
Проблема состояла в том, что в результате, как и следовало ожидать, начались жалобы на недостаток инициативы и драйва в других министерствах, прежде всего в Госдепартаменте. На труднодоступных игровых площадках политической бюрократии Вашингтона Госдепартамент часто выталкивали за пределы поля. Заместителей госсекретаря, ответственных за важнейшие регионы, всё реже приглашали на заседания в Зале оперативных совещаний Белого дома, зато задняя скамья была до отказа заполнена сотрудниками аппарата СНБ. Видя, что их оттесняют ещё на взлёте, не допуская к участию в обсуждении стратегии и процессу принятия решений, даже самые добросовестные высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, естественно, считали себя свободными от всякой ответственности за мягкую посадку, то есть за успешную реализацию стратегии. Это никоим образом не оправдывало неспособность нашего ведомства действовать более энергично, проявить изобретательность и решать проблемы собственными бюрократическими методами, оптимизировав организационную структуру и заставив работать корпоративную культуру. Но в условиях чрезмерной централизации и милитаризации делать это было чрезвычайно трудно.
Слишком много было прерванных взлётов и жёстких посадок. Ситуация в мире становилась всё более опасной. Все видели, что наши злоключения обходятся стране слишком дорого. Льётся кровь, тратятся деньги, которым можно было бы найти лучшее применение. Между вашингтонским истеблишментом, глубоко убежденным в необходимости мирового лидерства США, и американским обществом, не разделяющим этого убеждения, образовался и начал быстро расти раскол. Доказывать целесообразность ведущей роли Соединённых Штатов в условиях зарождающегося нового мирового порядка с каждым днём становилось всё труднее.
Администрация Клинтона столкнулась с первой версией этого вызова сразу после окончания холодной войны. Как мы писали госсекретарю Кристоферу, только что заступившему на свой пост, в переходный период, наступивший после окончания холодной войны, «госсекретарю и президенту придётся решать очень сложную задачу. Во время холодной войны оправдывать расходы на национальную безопасность и добиваться поддержки долгосрочных обязательств США за рубежом было относительно несложно. Теперь делать это будет несравнимо труднее». К 2016 г. такие магические формулы, как «либеральный мировой порядок», уже не работали за пределами внешнеполитического «пузыря», ограниченного кольцевой автострадой вокруг Вашингтона, а противоречие между нашей приятной вознёй вокруг ведущей роли Америки и сомнениями граждан США в том, что мы правильно расставили приоритеты, продолжало нарастать.
Наследие первого десятилетия XXI века, включающее две чрезвычайно дорогостоящие и изнурительные войны и глобальный финансовый кризис, не только усилило чувство усталости от зарубежных неурядиц, но и вызвало откровенное разочарование. Многие американцы на собственной шкуре ощутили рост неравенства доходов и возможностей, разъедающий наше общество, и убедились в неспособности ни одной из предыдущих администраций решить проблемы инфраструктуры. При этом они инстинктивно понимали, что некоторые наши решения, касающиеся зарубежных обязательств, оказались неудачными и к тому же были приняты в период, когда внешних угроз нашему существованию или чего-либо похожего на них было куда меньше, чем в любой другой период в течение последних десятилетий. Недоверие и сомнения усиливались вследствие явных успехов наших конкурентов и противников, особенно хорошо заметных на фоне наших потерь и ошибок. Никакие бюрократические реформы и законодательные инициативы не решат проблему, пока не будет преодолено это фундаментальное противоречие.
* * *
Администрация Трампа унаследовала проблемы, накопившиеся более чем за три десятилетия после окончания холодной войны, и способствовала их обострению. Она внесла свой вклад в сокращение возможностей США влиять на меняющуюся ситуацию в мире, разрушение американской дипломатии и углубление раскола внутри страны в вопросе о нашей глобальной роли.
Как и Барак Обама, Дональд Трамп понимал, что подход Америки к внешней политике требует серьёзной корректировки. Как и Обама, Трамп правильно поставил главный вопрос: как изменить стратегию США в период, когда наше доминирующее положение в однополярном мире, сформировавшемся после окончания холодной войны, кануло в историю, а общественная поддержка активной ведущей роли США в мире становится всё слабее? Оба президента видели необходимость восстановления баланса и в отношениях с союзниками, которые слишком долго несли непропорционально малую долю общего бремени, связанного с обеспечением безопасности, и в экономических отношениях с такими конкурентами, как Китай, которые продолжали пользоваться протекционистскими торговыми преимуществами, хотя их статус развивающихся стран давно остался в прошлом. Оба президента были готовы порвать с привычными представлениями и начать договариваться с противниками напрямую; оба с самого начала скептически относились к нашей ортодоксальной внешней политике. Однако их ответы на главный вопрос об изменении американской стратегии были совершенно разными.
Президент Обама стремился адаптировать к новым реалиям и лидирующую роль США, и мировой порядок, который мы в основном сами построили и поддерживали в течение семи десятилетий. Он опирался на понятие просвещённого эгоизма, определявшего американскую внешнюю политику в лучших её проявлениях со времён реализации в Европе плана Маршалла, нацеленного на то, чтобы всё больше людей и государств во всём мире были заинтересованы в соблюдении общих правил и участии в работе институтов, обеспечивающих безопасность и процветание. Его подход основывался на трезвом понимании пределов американского влияния. Хотя в кризисных ситуациях Обама вынужден был играть и короткие партии, он старался не браться за решение непосильных задач. Он был сторонником игры вдолгую, что иногда воспринималось как нерешительность. Но в основе его подхода лежало оптимистичное представление о том, в каком направлении пойдёт история Америки, если будет создана продуманная модель политической и экономической открытости, а участие в обновлённых союзах и партнёрствах будет выгодно отличать США от таких одиноких держав, как Китай и Россия.
В отличие от Обамы, президента Трампа трудно было заподозрить в нерешительности. Его целью была не адаптация, а разрушение. Он пришёл к власти с не основанным на историческом опыте твёрдым убеждением, что Соединённые Штаты оказались в заложниках у созданного ими самими мирового порядка; что Америка – это Гулливер, которому давно пора разорвать путы лилипутов. Союзы – тяжёлые жернова, многосторонние соглашения – помеха, а не инструмент влияния, а ООН и другие международные организации – только отвлекающий или вообще не заслуживающий внимания фактор.
Вместо понятия просвещённого эгоизма, на которое опирался Обама и которое в значительной мере определяло всю послевоенную внешнюю политику США, администрация Трампа, придя к власти, сделала упор на понятие «эгоизм», отринув понятие «просвещённый».
Под девизом «Америка прежде всего» Трамп начал варить дурно пахнущее варево из воинствующего унилатерализма, меркантилизма и непримиримого национализма. На международной арене новая администрация часто прибегала к силовой риторике и использовала бездоказательные утверждения для оправдания отказа от ранее принятых на себя обязательств и быстрого выхода из Парижского соглашения по климату, Транстихоокеанского партнёрства, иранской ядерной сделки и других международных соглашений. Разрушение, казалось, было самоцелью – ни о «Плане Б», ни о том, что будет дальше, когда всё будет разрушено, почти ничего не было слышно. Подход Трампа не был вызван минутным порывом – в его основе лежало стройное мировоззрение, в котором отчетливо просматривалась гоббсовская картина мира. Однако рассматривать его как некую стратегию было трудно. Неудивительно, что наши противники поспешили воспользоваться преимуществом, союзники – подстраховаться, а и без того обветшавшие институты зашатались.
Имиджу США как государству равных возможностей и уважения человеческого достоинства, который, несмотря на все наши недостатки, делал Америку такой привлекательной для многих в мире, был нанесён немалый ущерб. За долгие годы, что я представлял Соединённые Штаты за рубежом, я понял, что наш пример действует куда сильнее, чем вся наша пропаганда. Но теперь мы всё чаще подаём пример грубости, разделения и непродуманных действий, а наша пропаганда направлена не на защиту прав человека везде, где они нарушаются, но чаще всего на оскорбление союзников и оправдание автократов.
Нанося удар по Госдепартаменту, администрация Трампа исходила из своих идеологических предрассудков и природных инстинктов. Будем откровенны: разрушение американской дипломатии началось задолго до Трампа. Десятилетиями непропорционально большие объёмы финансовых ресурсов направлялись главным образом в оборону и безопасность, что привело к негативным последствиям. Сыграла свою роль и неспособность Госдепартамента контролировать собственную контрпродуктивную бюрократию и развивать корпоративную культуру. Но пренебрежительное отношение нового президента к профессиональным дипломатам, как и в целом его подход к роли Америки в мире, усложнил и без того сложное положение дипломатии и довёл её до кризиса.
В июле 2018 г. в Финляндии на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным Трамп назвал себя поборником «славных традиций американской дипломатии». Однако его политика отнюдь не походила на тщательно продуманную, хорошо подготовленную политику таких действительных приверженцев этих традиций, как Джим Бейкер[3]. Трамп воспринимал дипломатию не как институт, а как инструмент самовосхваления. Диалог был не привязан к стратегии; президент, видимо, отказывался понимать, что задача дипломатии – отстаивание реальных интересов США, а не «налаживание отношений» с такими конкурентами, как Путин, и что импровизации на важнейших встречах на высшем уровне – надёжный способ поставить себя в неловкое положение, особенно взаимодействуя с такими опытными автократами, как Путин, который никогда не делает необдуманных заявлений.
Для Белого дома Трампа Госдепартамент – царство ереси, «государство в государстве», прибежище сторонников Барака Обамы и Хиллари Клинтон, целью которых является сопротивление новой администрации. Это его главное, если не просто удобное, заблуждение. Во всяком случае карьерные дипломаты и другие госслужащие, работающие в Госдепартаменте, как правило, лояльны к ошибкам администрации; они обычно ищут возможности угодить ей и надеются, что их экспертные знания будут если не учтены, то хотя бы оценены по достоинству. Но Белый дом ответил им откровенной враждебностью, отражающей его неверие в их приверженность игре по правилам и ценность профессиональных экспертных знаний, лежащее в основе политического феномена Трампа и питающее энергией нового президента.
Первый госсекретарь Трампа Рекс Тиллерсон только усугубил ситуацию. Опытный руководитель, бывший глава Exxon, Тиллерсон придерживался закрытого, деспотичного стиля управления. На государственные учреждения он смотрел скептически, как генеральный директор частной корпорации, а на возможность реформировать дипломатию – линейно, как инженер. Он согласился на самое серьёзное сокращение финансирования в новейшей истории Госдепартамента; начал фатально ошибочный «процесс перестройки»; отдалился от большинства своих сотрудников и замов; вытеснил многих самых способных чиновников высшего и среднего звена; более чем на 50% сократил приём новых сотрудников в дипломатическую службу Госдепартамента и повернул вспять тенденцию, и без того развивавшуюся крайне медленно, к расширению гендерного и этнического разнообразия кадрового состава. Самым пагубным из всех его шагов стало внесение в чёрный список некоторых сотрудников только потому, что при предыдущей администрации они работали над решением таких неоднозначных вопросов, как, например, ядерная сделка с Ираном.
Яростная критика американской дипломатии, начавшаяся сразу после формирования и консолидации новой администрация Трампа, была не первым ударом по дипломатам в нашей истории, но во многих отношениях самым мощным. Пренебрегать дипломатией всегда преступно, но сейчас для этого самый неподходящий момент.
* * *
Алексис де Токвиль писал: «Величие Америки не в том, что это страна более просвещённая, чем какая-либо другая, а в её способности исправлять свои ошибки»[4]. Эпоха Трампа становится испытанием для нашей способности исправлять такие ошибки, которые Токвиль даже не мог вообразить. Было бы глупо недооценивать ущерб, нанесённый нашему положению и влиянию, а также перспективам формирования устойчивого мирового порядка, отвечающего вызовам нового века. Тем не менее наша способность к восстановлению и внутренние ресурсы всё ещё достаточно велики.
Не являясь более главным игроком, каким мы были после окончания холодной войны, и утратив возможность диктовать свою волю и влиять на события (как нам, по нашему мнению, удавалось делать это раньше), мы тем не менее по-прежнему остаёмся ведущей мировой державой, способной обновить мировой порядок с учётом новых реалий, защитив при этом наши интересы и ценности.
В течение следующих нескольких десятилетий, если мы сами не выроем себе яму, никакая другая страна не будет находиться в лучшем положении для того, чтобы играть эту ведущую роль и управлять сложными геополитическими сдвигами XXI века.
Наши возможности огромны. США до сих пор ежегодно тратят на вооружения больше, чем семь следующих за ними стран – лидеров в этой области, вместе взятых. Наша экономика, несмотря на риски перегрева и хронические диспропорции, остаётся самой мощной, гибкой и инновационной в мире. Энергетические ресурсы, нехватка которых когда-то была нашим слабым местом, теперь (благодаря быстрому развитию новых технологий, позволяющих использовать значительные запасы природного газа, а также экологически чистые и возобновляемые источники энергии) обеспечивают нам значительные преимущества. Демографическая ситуация тоже является нашей сильной стороной. По сравнению с крупнейшими конкурентами население США моложе и более мобильно, и если мы прекратим наносить себе материальный и моральный ущерб, решая вопросы иммиграции так, как мы их решаем сейчас, то сможем закрепить за собой это стратегическое преимущество на несколько поколений вперёд. Географическое положение также выгодно отличает нас от других держав – у нас есть два величайших «ликвидных жидких актива»[5] – Тихий и Атлантический океаны. Они до некоторой степени изолируют нас, защищая от многих угроз, чем не могут похвастаться другие ведущие державы. Дипломатия тоже должна стать нашим преимуществом. У нас больше союзников и потенциальных партнёров, чем у любой другой крупной дружественной или конкурирующей с нами державы, что в значительной степени расширяет наши возможности в области строительства коалиций и решения международных проблем.
Наши преимущества не образуются сами по себе и не сохраняются автоматически. Чтобы не утратить их, мы должны прилагать больше усилий, разумно поддерживая наши активы и используя их с умом и осторожностью. Утверждение, что эффективная внешняя политика начинается дома и требует постоянного внимания к национальным институтам внешнего влияния, – это трюизм. Несмотря на все травмы, которые мы нанесли себе сами в последние годы, – на все ошибки и удары и по дипломатии как инструменту реализации внешней политики, и по американской идее как источнику глобального влияния, – у нас всё ещё есть окно возможностей, позволяющее начать участвовать в строительстве нового, более прочного и долговечного мирового порядка, прежде чем это будет сделано без нас.
Разработка американской стратегии в мире, где США утратили своё неоспоримое превосходство, – задача не из лёгких. Самая известная американская стратегия послевоенной эпохи – концепция ядерного сдерживания Кеннана – в течение нескольких десятилетий, прошедших с момента её принятия до окончания холодной войны, претерпела множество изменений[6]. В её основе лежало обязательство поддерживать устойчивость сообщества демократических государств с рыночной экономикой, возглавляемого Соединёнными Штатами, и трезвое понимание того, что слабые места Советского Союза и неповоротливого коммунистического блока рано или поздно приведут к их распаду. Баланс военной силы, экономического могущества и осторожной дипломатии помог избежать прямого столкновения, предотвратить ядерную войну и контролировать конкуренцию в постколониальном мире.
В период после окончания холодной войны нам не хватило творческого воображения, чтобы предложить простой лозунг, идею, равноценную концепции Кеннана. Как мы указывали в меморандуме для госсекретаря Кристофера в январе 1993 г., реализация стратегии, основанной на «экспансии» коалиции и идей, обеспечивших победу в холодной войне, сколь бы соблазнительна она ни была, в силу внутренних ограничений стала невозможной в мире, где назревали угрозы региональному порядку, глобализация создавала свои собственные противоречия и коллизии, а превосходство Америки носило временный характер и неизбежно должно было быть оспорено набирающими силу конкурентами. Возможности «экспансии» ещё более сузились в результате войны в Ираке в 2003 г. и финансового кризиса, разразившегося несколько лет спустя, и мы были вынуждены искать альтернативную стратегию, отвечающую вызовам нового мира после утраты превосходства.
После ухода Трампа успешная американская стратегия, видимо, будет возвращением к важнейшим подходам Обамы, то есть к изменению внешнеполитического равновесия путём пересмотра нашего портфеля глобальных инвестиций и инструментов, усилению внимания к управлению конкуренцией с соперниками – великими державами и использованию рычагов влияния и нашей возможности мобилизовать других игроков для решения проблем XXI века. Эта стратегия должна будет опираться на смелое и непредвзятое видение будущего для свободных людей и свободных и справедливых рынков, где Соединённые Штаты станут более привлекательным игроком, чем сегодня.
Азия, судя по всему, останется нашим главным приоритетом, учитывая усиление Китая как самую устойчивую современную геополитическую тенденцию.
Непредсказуемость и оторванность от реальности президента Трампа создали игровую площадку для Китая, неожиданно быстро открыв ему путь к установлению господства в Азии.
Тот факт, что Китай связан со своими соседями и Соединёнными Штатами экономически, а будущее процветание каждой из этих стран зависит от успеха других, уменьшает возможность конфликта, но не гарантирует его отсутствие. Обеспокоенность других игроков Азиатского региона китайской гегемонией даёт Вашингтону естественную возможность укрепить отношения как с таким традиционным союзником, как Япония, так и с таким новым партнёром, как Индия. Идея сделать долгоиграющую ставку на Индию зародилась ещё в администрации Джорджа Буша – младшего, причём ради получения стратегической выгоды пришлось изменить международное законодательство в области нераспространения ядерного оружия.
Более пристальное внимание США к Азии нисколько не умаляет роли Трансатлантического партнёрства, которое, напротив, становится всё более значимым для нас. Это партнёрство предполагает новый стратегический подход к «разделению труда»: наши европейские союзники должны будут взять на себя больше ответственности за поддержание порядка на своём континенте и в долгосрочной перспективе вносить более весомый вклад в обеспечение стабильности на Ближнем Востоке, а Соединённые Штаты, соответственно, – направлять больше ресурсов в Азию и уделять больше внимания этому региону. Помимо этого, оно требует постоянного развития торгового и инвестиционного сотрудничества, создающего возможность учитывать новые экономические реалии, оправдывать новые ожидания и отвечать на новые императивы. Необходимо также обновление политики атлантизма, базирующейся на общих интересах и ценностях, поскольку она позволяет выработать единый подход к решению проблем в мире, где усиливается Китай, возрождается Россия, а Ближний Восток страдает от постоянных кризисов. В области безопасности нашими главными задачами сегодня являются не расширение, а консолидация НАТО; укрепление суверенитета Украины и оздоровление политической и экономической ситуации в этой стране вне рамок каких-либо формальных военных структур, а также сдерживание российской агрессии. Мы также глубоко заинтересованы в поддержании жизнеспособности Европейского союза после Брекзита[7].
Нам так и не удалось выстроить прочную архитектуру европейской безопасности XXI века, несмотря на все попытки привлечь Россию к участию в этом процессе, предпринимаемые в течение почти трех десятилетий после окончания холодной войны. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится – во всяком случае до тех пор, пока Путин находится у власти. Лучшая стратегия сейчас – игра вдолгую. Мы не должны ни поддаваться на провокации Путина, мечтающего свести с нами счёты, ни отказываться от возможности смягчения отношений с Россией после его ухода. Учитывая, что наши отношения иногда приобретают конфронтационный характер, мы не должны забывать и о необходимости своего рода «поплавков» – налаживания связей между американскими и российскими военными и дипломатами и попыток по мере возможности сохранить то, что ещё осталось от архитектуры контроля над вооружениями. Поскольку медленно нарастающие российско-китайские противоречия в Средней Азии в конце концов могут принять угрожающие масштабы, со временем потребность России в оздоровлении отношений с Европой и Америкой может возрасти. По мере возвращения к конкуренции между великими державами будет расти и наша заинтересованность в господствующем положении США, позволяющем управлять международными отношениями и обеспечивающем возможность влияния по всем направлениям.
Нестабильность на Ближнем Востоке сохранится. Этот проблемный регион ещё в течение многих лет будет находиться в ставшем привычным для него состоянии неустойчивости. Пессимисты почти никогда не ошибаются в прогнозах развития ситуации на Ближнем Востоке и никогда не испытывают недостатка ни в сторонниках, ни в подтверждениях своей правоты. Трезвый взгляд на наши интересы в этом регионе указывает, что нам следует отказаться от активного вмешательства в ситуацию. Мы больше не зависим напрямую от ближневосточных углеводородов. Израиль сегодня более надежно, чем когда-либо прежде, защищён от экзистенциальных угроз. Иран – опасная страна, но достаточно гибкая; его амбиции не выходят за границы территории суннитского большинства; кроме того, там медленно закипает внутреннее недовольство и назревают проблемы, порождаемые агонией экономики.
Несмотря на возрождение России, у нас нет ни одного заслуживающего внимания внешнего противника, как это было во времена холодной войны.
В то же время, как убедился президент Обама, ослабление влияния на Ближнем Востоке иногда способно автоматически дестабилизировать ситуацию. Неустойчивость в регионе – заразная болезнь; для неё не существует границ, и очаги инфекции могут возникнуть где угодно. Соединённые Штаты не должны забывать о своей ведущей роли, но в то же время проявлять максимум смирения и уклоняться от крупномасштабного вооружённого вмешательства и усилий в области государственного строительства, которыми они занимались в недавнем прошлом. Эти усилия заранее обречены на провал. Регион нередко становился кладбищем планов военной оккупации и проектов социального строительства, разработанных чужаками, пускай даже с самыми лучшими намерениями. В рамках долгосрочной ближневосточной стратегии мы должны поддерживать наших традиционных арабских партнёров, обеспечивая им защиту от угроз – будь то суннитские экстремистские группировки или хищный Иран. Одновременно необходимо требовать от суннитских лидеров понимания того, что ради сохранения порядка в регионе им придётся придерживаться определённого modus vivendi с Ираном, который сохранит влияние на Ближнем Востоке, даже если умерит свой революционный пыл. Кроме того, они должны, не откладывая, начать выводить систему государственного управления из глубокого кризиса, ставшего главной причиной «арабской весны». Дружественные отношения с Израилем требуют, чтобы мы настаивали на урегулировании арабо-израильского конфликта с помощью давно назревшего и перезревшего решения на основе сосуществования двух государств, без которого будущее Израиля как демократического еврейского государства окажется под угрозой.
Невнимание президента Трампа к Африке и Латинской Америке – это глупость, поскольку в силу демографических тенденций, множества факторов нестабильности и потенциальных возможностей в этих регионах их стратегическое значение для Соединённых Штатов растёт. Антипатия Трампа к многосторонним соглашениям и международным организациям поставит его преемников перед лицом невероятно сложной задачи восстановления этих институтов, особенно учитывая, что многие из них и так давно нуждаются в обновлении и адаптации к новым условиям. Отказ от Транстихоокеанского партнёрства – это историческая ошибка. При соответствующих усилиях в Европе нам, возможно, удалось бы поднять две трети мировой экономики до уровня, отвечающего высоким стандартам и требованиям, принятым в американской экономической системе; со временем обеспечить вступление развивающихся рынков в члены этого клуба и повлиять на формирование курса Китая и его готовность к реформам. Всё это отнюдь не означало бы отказа от усилий, нацеленных на выработку справедливых, взаимовыгодных условий торговых соглашений и смягчение их воздействия на важнейшие сектора нашей экономики и рынок труда. В любом случае отказ от несовершенных соглашений вряд ли можно считать более удачным подходом, чем попытки постепенно исправить их недостатки.
Выход Трампа из Парижского соглашения по климату и демонстративный отказ от международных обязательств США, касающихся миграции и беженцев, имели самые разрушительные последствия. Они усилили недоверие к мотивам американской политики и посеяли сомнения в нашей надёжности. Руководство нашей страны полностью игнорировало лидирующую роль США в решении множества проблем, связанных с ускоряющимся технологическим развитием, – от киберугроз до последствий быстрого прогресса в области создания искусственного интеллекта, – которые, возможно, в XXI веке полностью изменят характер геополитического соперничества, как промышленная революция изменила его в XIX и XX века. В меняющейся конфигурации центров силы американские ресурсы уже не так значимы, а влияние США не так ощутимо, как десять лет назад, тем более что они подверглись разрушительному воздействию политики администрации Трампа. Тем не менее в решении всех вышеперечисленных проблем Соединённые Штаты по-прежнему могут играть ведущую роль, и ключевое значение для их успеха в этой роли имеет качество нашей дипломатии.
СНОСКИ
[1] Memo to Secretary of State–Designate Christopher, January 5, 1993, “Parting Thoughts: U.S. Foreign Policy in the Years Ahead.”
[2] Отрывок из лекции 1946 г. в Национальном военном колледже. Цит. по: Barton Gellman, Contending with Kennan: Toward a Philosophy of American Power. New York: Praeger, 1984. PP. 126–27.
[3] Выступление президента США Трампа и президента Российской Федерации Путина на совместной пресс-конференции, Хельсинки, Финляндия, 16 июля 2018 г.
[4] Alexis de Tocqueville, Democracy in America, volume 1, chapter XIII (1835). (В одном из переводов на русский эта фраза звучит так: «Самое большое преимущество американцев состоит не только в том, что они более просвещённые, чем другие народы, но ещё и в их способности совершать поправимые ошибки». – Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 180. – Прим. пер.)
[5] Игра слов: liquid (англ.) – жидкий; liquid asset (англ.) – ликвидный актив. – Прим. пер.
[6] John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy During the Cold War. New York: Oxford University Press, 2005.
[7] Michael E. O’Hanlon, Beyond NATO: A New Security Architecture for Eastern Europe. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2017.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
ДЕНИС МИРГОРОД
Кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики ИМО Пятигорского Государственного Университета.
Для Саудовской Аравии и всех ближневосточных государств, возможно, наступает период качественных изменений в механизме взаимодействия друг с другом, что способно привести как к обособлению определённых региональных акторов от королевства, так и к укреплению субъектно-объектных связей с ним.
Одной из наиболее заметных черт современного Ближнего Востока можно считать внутрирегиональную дихотомию, сформировавшуюся по причине длительной положительной конъюнктуры на рынках углеводородного сырья. Этот тренд, начавшийся с середины 1970-х гг., видоизменил статус ряда ближневосточных государств и предопределил смещение центров влияния. С учётом новых реалий в нефтегазовой сфере и сохранения высокой неопределённости из-за пандемии ресурсно-ориентированные экономики Ближнего Востока вынуждены пересматривать расходы. Сокращение трат на внутренние нужды также может повлиять на способность воздействовать (в первую очередь финансово) на региональные процессы.
Саудовская Аравия долго выступала донором для многих государств Ближнего Востока и уже приступила к чувствительному секвестированию бюджета. Потенциально это может негативно сказаться на локальных внешнеполитических амбициях официального Эр-Рияда, который на протяжении трёх десятков лет позиционировал себя в качестве одного из военно-политических и экономических центров региона.
Нефтяной рынок: многопользовательский режим
Качество саудовской нефти и простота её добычи возвели страну в статус игрока, способного де-факто в одиночку регулировать процесс ценообразования на сырьё. Долгое время Саудовская Аравия могла легко выводить на рынок дополнительные объёмы «чёрного золота», исходя из собственных интересов, а также в угоду стратегическим партнёрам. Подобных примеров множество: от ценовой войны 1985 г. с СССР до кризиса перепроизводства 2008 и 2014 годов. К этому также следует добавить особый статус Саудовской Аравии в ОПЕК – самой «первой среди равных». Многие эксперты в нефтегазовой сфере и высокопоставленные сотрудники Организации не раз заявляли о том, что ОПЕК – это и есть Саудовская Аравия, обладающая ярко выраженными конкурентными преимуществами перед другими странами-участницами (мобилизационный потенциал, стоимость добычи, разносторонние рынки и так далее).
2020 г. наглядно продемонстрировал, что качественные изменения затронули и позиции Саудовской Аравии как главного производственного регулятора нефтяного ценообразования. Этот процесс определяется как минимум тремя факторами.
Во-первых, наращивание добывающего потенциала других членов ОПЕК, хотя раньше КСА не предполагало, что они способны в короткие сроки увеличить производство нефти.
Во-вторых, повышение стрессоустойчивости России к негативным последствиям от относительно продолжительных периодов низких цен на энергоносители благодаря диверсификации поставок, бюджетному планированию и преимуществ от транспортировки нефти, главным образом, через трубопроводы.
В-третьих, появление нового серьёзного конкурента на рынке в лице США. Соединённые Штаты, как и Россия, независимы от ОПЕК, но обладают другим преимуществом – разноплановой экономикой, которая гораздо меньше зависит от продаж «чёрного золота». При этом ставка Вашингтона на сланцевую нефть хоть и не оправдалась в полной мере, всё же потребует от производителей традиционной нефти, включая Саудовскую Аравию, более длительного, на основе соглашений формата ОПЕК+, сохранения низких цен на топливо для нейтрализации сланцевой угрозы со стороны США.
Таким образом, игра на нефтяном рынке усложнилась, что формирует целый спектр проблем и угроз для Саудовской Аравии, которая за счёт продажи этого ресурса получает порядка 90% экспортных доходов, 75% бюджетных поступлений и 45% ВВП (средневзвешенные значения за десять лет). Другими словами, нефть является для королевства залогом благополучного существования и гарантией поддержания внешнеполитических амбиций, особенно на ближневосточном направлении, успехи на котором главным образом были связаны с возможностями Эр-Рияда оказывать ощутимую экономическую помощь ряду стран региона за счёт прямых иностранных инвестиций, кредитов, денежных вливаний и так далее.
Урезание расходов
В сложившейся ситуации власти Саудовской Аравии вынуждены корректировать бюджет, принимать болезненные и непопулярные меры и ожидать глубокого сокращения расходов, поскольку страна сталкивается с двойным кризисом, вызванным пандемией COVID-19 и обвалом на мировых рынках нефти. В частности, об этом официально заявил министр финансов королевства Мохаммед аль-Джадаан в интервью саудовскому телеканалу “Al Arabiya”. Он подчеркнул, что «в течение последних десятилетий в государстве не наблюдалось такого серьёзного кризиса», и добавил: «Важно, чтобы мы приняли очень жёсткие и решительные действия. Они могут быть болезненными, но они необходимы».
Примечательно, что ещё до всех глобальных потрясений саудовский бюджет был свёрстан с расчётом на то, что его дефицит составит не более 6,7%, что и так является наивысшим показателем за всю историю страны. Однако перипетии 2020 г. значительно повлияли на прогнозы относительно итоговых показателей соотношения между доходной и расходной частями бюджета Саудовской Аравии. Ожидания различных финансовых институтов и рейтинговых агентств варьируются между 13% и 15% в зависимости от конъюнктуры на нефтяном рынке и скорости восстановления мировой экономики.
С целью демпфирования последствий кризиса Саудовской Аравией принимается целый набор фискальных мер. Так, уже объявлено о том, что королевство утроит налог на добавленную стоимость с 5% до 15% в июле, приостановит надбавку на прожиточный минимум для работников государственного сектора. Также произойдёт сокращение и задержка реализации национальных проектов, являющихся частью Saudi Vision 2030, многомиллиардной инициативы, направленной на диверсификацию и реформирование саудовской экономики с целью снижения её зависимости от продаж энергоносителей. На текущий момент общее сокращение государственных расходов составляет порядка 100 млрд риалов (26,6 млрд долларов), или примерно 10% от общих расходов из первоначального бюджета на 2020 год.
Для Саудовской Аравии ситуация, помимо всего прочего, усугубляется многочисленными финансовыми обязательствами, которые призваны поддержать статус страны как одного из региональных лидеров. В первую очередь, речь идёт об уже упомянутой инициативе Saudi Vision 2030, отсрочка выполнения которой ставит под большой вопрос среднесрочные перспективы королевства по частичной смене ориентации экономики и повышения её маневренности в условиях нестабильных цен на углеводородное сырьё. Также необходимо упомянуть военный бюджет, пока не затронутый сокращением, чрезмерно раздутый, непропорциональный размерам и успехам саудовской армии. Ожидается, что расходы страны на вооружённые силы в 2020 г. составят 67,6 млрд долларов, что уступает только соответствующим расходам США и Китая и практически на 20 млрд превосходит зачастую критикуемый Западом «милитаристский» военный бюджет России. При этом, согласно различным профильным рейтингам, по военному потенциалу в мире Саудовская Аравия не входит даже в десятку, а на Ближнем Востоке уступает Египту, Турции и Ирану, военные бюджеты которых в совокупности не дотягивают до королевства. Наконец, существенная расходная статья бюджета Саудовской Аравии – финансовая помощь иностранным государствам, которую уместно рассматривать как один из основных инструментов её внешней политики, главным образом – в ближневосточном регионе, также может быть урезана.
Экономическая дипломатия Саудовской Аравии на Ближнем Востоке
За последние двадцать лет Саудовская Аравия предоставила более 90 млрд долларов в виде иностранной помощи 79 странам. Основными реципиентами выступают страны Ближнего Востока. Так, за указанный период, Йемен получил около 17 млрд долларов, Сирия – 7 млрд долларов, Египет – 2.2 млрд долларов, Палестинская автономия – 2 млрд долларов, Судан – 1,5 млрд долларов и так далее. При этом речь идёт именно о средствах, направляемых целевым образом на различные гуманитарные и инфраструктурные проекты. В дополнение к этому саудовцы, зачастую совместно с другими монархиями Аравийского полуострова, выдавали значительные кредиты странам региона. В качестве косвенной поддержки Саудовской Аравией других ближневосточных государств также можно указать денежные переводы иностранной арабской рабочей силы своим семьям.
Очевидно, что в текущих кризисных условиях и при сохранении длительной негативной конъюнктуры на нефтяном рынке королевство будет вынуждено корректировать механизмы влияния на сопредельные государства. Основной вопрос в том, какими будут изменения в рассматриваемом сегменте внешней политики Саудовской Аравии? Будут они иметь количественные или качественные преобразования?
Эр-Рияд не смог выработать альтернативные механизмы реализации своей политики на Ближнем Востоке, что означает невозможность резкого снижения расходов на поддержку соседних государств. В свою очередь, для многих стран региона саудовская поддержка является чуть ли не единственным шансом компенсировать внутриэкономические проблемы на щадящих условиях – в отличие от, например, кредитов, предоставляемых международными экономическими институтами. При этом гарантией получения помощи, естественно, выступает лояльность внешнеполитическим императивам Саудовской Аравии. Существуют прецеденты, когда Иордания, Ливан, Палестинская автономия и, в некоторой степени, Египет полностью или частично лишались уже согласованной саудовской помощи из-за расхождения во взглядах относительно региональной повестки. Также королевство не может позволить себе сворачивание помощи, например, Бахрейну и Йемену, поскольку они имеют первостепенное значение для безопасности Саудовской Аравии.
В целом снижение экономического потенциала КСА нанесёт удар по уже сформировавшейся системе внутрирегионального взаимодействия между государствами, что не может устраивать ни одну из сторон, особенно в условиях нынешней неопределённости и сохранения высокого конфликтного потенциала Ближнего Востока. Таким образом, ожидать существенного сокращения экономической помощи странам региона от Саудовской Аравии не стоит. Нехватку средств Эр-Рияд всегда компенсирует за счёт сворачивания своих программ в «дальнем» зарубежье.
Вместе с тем уже давно в экспертных и политических кругах КСА звучит мысль о том, что пора покончить с имиджем «банкомата» и добавить прагматики ближневосточной политике. Перипетии 2020 г. могут ускорить этот процесс, поставив во главу угла внешней политики не только политические, но и экономические цели. Всё это, в свою очередь, поставит получателей помощи со стороны Саудовской Аравии перед сложным выбором – степенью готовности принять позицию Эр-Рияда во внешнеполитических делах и его усиление в экономической жизни своих государств.
Для Саудовской Аравии и всех ближневосточных государств, возможно, наступает период качественных изменений в механизме взаимодействия друг с другом, что способно привести как к обособлению определённых региональных акторов от королевства, так и к укреплению субъектно-объектных связей с ним.

«КЕДРОВАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ: СРАЖЕНИЕ ЗА СВОБОДНЫЙ ЛИВАН
ВАЛИД ФАРЕС
Американский учёный и публицист ливанского происхождения, автор многих книг о ситуации на Ближнем Востоке.
ВОСЬМАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ ВАЛИДА ФАРЕСА
«“Кедровая” революция: сражение за свободный Ливан» – глава из пророческой книги Валида Фареса «Революция грядет: борьба за свободу на Ближнем Востоке», опубликованной осенью 2010 г. в США, когда ничто не предвещало, что через три месяца Ближний Восток и Северная Африка взорвутся волной социально-политических протестов. В 2011 г. книга вышла в издательстве «Эксмо». С любезного разрешения издателей публикуем главу о Ливане, которая – ретроспективно – объясняет многие процессы, происходящие в этой стране сегодня.
Пока Запад наблюдал за афганцами и иракцами, идущими к избирательным урнам после падения «Талибана» и «Баас», многие американские и европейские критики политики доктрины «глобальной демократии», очевидно, не без влияния антиосвободительного регионального картеля, заявляли, что администрация Буша принуждает к демократии народы, которые этого не желают. Набросившись со всей силой на плюралистический политический процесс, «братство противников демократии» выдвинуло идею, что Америка и её союзники насаждают политическую культуру, которую не приемлют афганцы и иракцы. Разумеется, они опустили тот момент, что подъёму либеральной демократии противодействовали доминирующие элиты, а не большинство населения. «Картель» и его союзники на Западе утверждали, что без военной интервенции выборы в Ираке и Афганистане не могли бы состояться.
Ясно, что без насильственного свержения режимов «Баас» и «Талибана» два общества, находившиеся под их властью, не смогли бы добиться свободы. Но рано или поздно они всё равно восстали бы против ужасов, творимых тоталитарными режимами панарабистов и джихадистов. Впрочем, другие общества уже продемонстрировали готовность подняться на борьбу за свободу без присутствия чужеземных солдат на своей территории. Всё, что для этого требовалось – ясная, однозначная, твёрдая позиция Запада относительно права этих народов на собственное освобождение и его моральная готовность оказать помощь в момент, когда этого потребуют обстоятельства. Одно это обещание способно стимулировать глубинные силы угнетённого народа, привести к неожиданному проявлению смелости. Реальность этого подтверждает пример Ливана, страны, с которой связаны годы моей молодости.
Воздействие ливанской «кедровой» революции на души многих американцев и европейцев само по себе стало важнейшим поворотным пунктом в восприятии США и Западом политической культуры региона. Я лично наблюдал этот психологический шок, мотаясь в 2003–2005 гг. между Вашингтоном и Брюсселем, выступая за освобождение этой маленькой страны от оккупантов.
Случай, который я никогда не забуду, произошел в штаб-квартире MSHNC в Секаукусе, штат Нью-Джерси. Я работал у них аналитиком по терроризму и проблемам Среднего Востока. 15 февраля 2005 г., на следующий день после убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, американские и западные СМИ обратили внимание на необычные кадры, поступающие со спутников в отделы новостей по обе стороны Атлантики. Тысячи, затем десятки тысяч, а затем сотни тысяч ливанских граждан, преимущественно молодых юношей и девушек, вышли на улицы, скандируя с невиданной доселе страстью лозунги против сирийской оккупации. «Кто эти люди, кто эти молодые мужчины и женщины? Тысячи скандируют лозунги против сирийской армии и «Хизбаллы». Они такие молодые, такие энергичные. Откуда они взялись?» Отставной полковник Кен Аллард, бывший декан одного из военных колледжей, не мог поверить своим глазам. Он, и бывшие рядом с ним отставной полковник Джек Джейкобс и отставной подполковник Рик Франкона, специалисты по международным конфликтам и корреспонденты NBC, специализирующиеся на вопросах терроризма и вооружённых конфликтах, в изумлении наблюдали за тем, как полтора миллиона человек шли по центру Бейрута с плакатами, требуя прекращения оккупации и угнетения, выступая за демократию и свободу. Джейкобс восторгался красотой и энергией молодых участниц демонстрации. «Клянусь, эти девушки революции – кошмар “Талибана” и реальные конкурентки “Хизбаллы”», – говорил кавалер медали Почёта *.
Отделы новостей Fox News, CNN, BBC и прочих СМИ были, похоже, немало удивлены. Медийная элита Запада, особенно после 11 сентября и тем более после войны в Ираке, была уверена, что народы региона испытывают неприязнь к западной демократии или к демократии вообще, точка. На протяжении ряда лет наш внешнеполитический истеблишмент заявлял, что в Ливане всё хорошо и нет необходимости выводить сирийские войска, поскольку гражданское общество страны этого не требует. Затем наступил 2005 год. И события стали разворачиваться в реальном времени. В Бейруте более трети населения вышли на улицы, сообщая всему миру, что больше не могут терпеть угнетения. На самом деле, это была революция. Одинокий и забытый более чем на четверть века ливанский народ восстал. Без закрытой для полётов зоны, способной защитить их, как иракских курдов, без иностранного военного присутствия, как в Афганистане и Ираке, небольшая, но энергичная нация продемонстрировала всему международному сообществу, что на Ближнем и Среднем Востоке назрел взрыв. Это произошло 14 марта 2005 года.
Из всех средневосточных стран Ливан – наиболее сложная в плане социально-этнической и политической структуры стран. До войны 1975 г. в Ливане действовала демократическая политическая система, сопоставимая с израильской и до некоторой степени с турецкой. Его гражданское общество в различные времена и при различных обстоятельствах пробовало и проверяло на себе демократическую культуру. Потребуются целые тома, чтобы описать и проанализировать ливанский опыт взаимодействия с феноменом демократии, но очевидно, что среди всех членов Лиги арабских государств в этой стране произошла одна из самых первых демократических революций, хотя исход восстания до сих пор окончательно не ясен. Получившая широчайшее освещение «кедровая» революция 2005 г., удивившая мир и обратившая на себя внимание мировой общественности в целом и ООН в частности, с 2008 г. ведёт борьбу за выживание.
Феномен мирного переворота в регионе, пережившим одну из самых жестоких и продолжительных войн, заслуживает называться наивысшим достижением освободительного движения на Среднем Востоке – даже при том, что в настоящее время этот свободный анклав демократической культуры окружают объединённые силы джихадизма и авторитаризма. Ливан не первый раз в своей истории сопротивляется оккупантам и угнетателям. Вторжения и мятежи преследуют эту многострадальную страну с античных времён.
Исторические предпосылки
Я рос в Бейруте, поэтому острый интерес к ливанской истории у меня не случаен. Нескончаемая война, которая опустошала страну, заставила меня попытаться понять, что же такое есть в геноме этой страны, что продуцировало такой ошеломительный уровень насилия и нетерпимости между воюющими фракциями. Но сначала недоумение у меня вызывал отказ Сирии признать возникшую в 1943 г. независимую Ливанскую республику.
Для арабского мира, преимущественно управляемого диктаторскими и авторитарными режимами, особая ливанская демократия уникальна. В отличие от большинства арабских стран, Ливан знал политические кампании, выборы, парламентские переговоры, правительственные коалиции и энергичную свободную прессу. Всё это беспрецедентные явления для Ближнего и Среднего Востока. Под давлением регионального авторитарного «Халифата» ливанский эксперимент с плюрализмом и свободами рухнул. Однако он бросил серьёзный вызов «братству против демократии». Убитый в результате покушения ливанский президент Башир Жмайель однажды сказал в своём выступлении: «Ливанцы одновременно ангелы и дьяволы Востока». Может быть, точнее было сказать, что Ливан – земля, где столкнулись и ведут борьбу ад и рай, угнетение и свобода. Здесь проходит линия раскола между ними.
Ливанские националисты всегда считали своими предками финикийцев – первый народ, оставивший след в письменной истории цивилизации на побережье восточного Средиземноморья, преимущественно в античных городах Библос, Тир, Сидон и Угарит. Историки страны с гордостью заявляют о финикийском наследии, которому мы обязаны созданием алфавита, первых законов мореплавания и, до некоторой степени, первой консультативной демократией, возникшей в городах-государствах на ливанских берегах раньше греческой. Несмотря на исторические дискуссии, свидетельства говорят о том, что на протяжении тысячелетий ранние обитатели Финикии, преимущественно амореи, арамеи и ханаане, осваивали различные формы протодемократических институтов. Там очень рано распространилось христианство, и уже к V веку христиане жили на всей территории современного Ливана.
В течение следующих столетий мозаика восточнохристианских народов, включая маронитов и мелькитов, заполонила прибрежные и горные районы. В VII веке на эти земли с юга вторглись войска Халифата, захватив приморские города и долину Бекаа. Так здесь появилось арабское население. Начиная с VIII века, конфигурация Ливана оставалась почти неизменной и состояла преимущественно из христиан в Горном Ливане и мусульман на равнинах. На протяжении семи столетий марада, вооружённые формирования маронитов, противостояли армиям Халифата, сохраняя свободный анклав на окраине обширной империи.
После падения христианского государства в Горном Ливане в XIV в. и оккупации Османской империей, начавшейся в XVI в., автономное княжество продолжало существование в горах и долинах Ливана вплоть до европейской интервенции, которая в XIX в. формально установила протекторат над государством Горный Ливан. Новое образование получило наименование Petit Liban, или Малый Ливан. Большинство его населения составили христиане, меньшинство – друзы. Во время Первой мировой войны жители этой маленькой автономной страны испытали жестокие притеснения со стороны турок. Треть населения Горного Ливана погибла, другая эмигрировала, оставшиеся образовали ядро современной республики.
После краха Османской империи в 1919 г. Франция получила мандат на управление регионом и намеревалась постепенно наделить Le Petit Liban полной независимостью. Христианские политики попросили прибавить территории к Горному Ливану, и в сентябре 1920 г. возник Большой Ливан. Он стал мультиэтническим и в определённой степени биконфессиональным государством с христианами-ливанцами, ориентированными на Средиземноморье, и мусульманами-ливанцами, аффилированными с арабским миром. В 1943 г. правление французов закончилось, для новой республики настал «золотой век», однако на почве национальной идентичности страну охватил серьёзный кризис. В 1975 г. грянула война.
Специфика ливанской демократии
К 1943 г. большая часть региона находилась под властью Османского халифата, и только в автономии Горный Ливан существовало хрупкое равновесие между христианами и мусульманами, и квазидемократическая система, сформировавшая конституционную демократию с религиозным представительством. Президент был маронитом, премьер-министр суннитом, спикер парламента шиитом; места в парламенте и все должностные посты распределялись между религиозными общинами. Эта необъявленная «федеральная система» была уникальной для арабского мусульманского Среднего Востока, в странах которого правили либо панарабисты, либо авторитарные исламисты.
В 1945 г. арабские националисты вынудили страну присоединиться к Лиге арабских государств, поставив её международные отношения под контроль организации, тон в которой задавали авторитарные режимы. В 1948 г. Лига арабских государств втянула Ливан в совершенно ненужную, растянувшуюся на десятилетия войну с Израилем, вынудив последнего принять сотни тысяч палестинских беженцев и дав указание Бейруту содержать их все эти десятилетия в бедственном состоянии неопределённости. «У нас нет причин ввязываться в войну между арабскими режимами и Израилем», – говорил мне в 1982 г. основатель Ливанского университета, эрудированный мыслитель Фуад Афрам Бустани. Бывший президент Чарльз Хелоу говорил мне, что в 1974 г. большинство ливанцев не хотело вступать в Лигу арабских государств или вмешиваться в арабо-израильский конфликт. «Это показало бы режимам региона, как мы управляем нашей демократией в Ливане», – сказал бывший президент, которому в 1968 г. пришлось иметь дело с первым вооружённым восстанием палестинцев.
В Ливане конца 1960 – начала 1970-х гг. многие критиковали «конфессиональный режим» за то, что он даёт привилегии маронитам и христианам в ущерб нарастающему количеству мусульман. На самом деле республика управлялась группой политических и экономических элит из всех сообществ, получавших огромные прибыли от ливанского свободного рынка и процветающей экономики. Несмотря на споры о её уникальности, фактом оставалось то, что граждане свободно голосовали за своих представителей в муниципальной и законодательной власти, а свобода слова более или менее защищалась. Если бы не длившаяся десятилетия кампания панарабистских и исламистских движений по подрыву этой неустойчивой демократии, Ливан мог бы постепенно присоединиться к клубу демократических государств Средиземноморья и стал бы исключением для всего арабоязычного мира. Вместо того чтобы превратиться в полухомейнистскую страну, маленькая республика могла бы намного раньше выпестовать демократическую революцию.
Но «братство противников демократии» уже с конца 1940-х гг. стало нервничать по поводу появления «Швейцарии на Среднем Востоке».
Вскоре авторитарные режимы Египта, Ирака и в особенности Сирии вместе с шайкой радикальных организаций региона ополчились на бейрутскую модель плюрализма. И после иранской революции хомейнизм раздавил ливанскую демократию.
В 1958 г. египетский президент-диктатор Гамаль Абдель Насер поддержал военный мятеж против прозападного ливанского правительства Камиля Шамуна, спровоцировав первую гражданскую войну. Ливанская демократия выжила, но возможности страны обратиться за международной помощью сократились, а влияние соседних авторитарных режимов на Ливан возросло многократно. Нападения палестинских организаций, позже вооружённых сирийской партией «Баас» и другими режимами, в том числе ливийским и иракским, на ливанскую армию и обычных граждан нарастали на протяжении всех 1960-х и в начале 1970-х гг. Целые районы были выхвачены из-под власти закона, граждан похищали, ливанская демократия постепенно оказалась парализована. В результате нескольких схваток с вооружёнными террористическими группировками, финансируемыми радикальными арабскими режимами, рухнули все демократические институты, оказалась разрушенной демократическая культура страны. Распад власти вызвал появление в христианских и мусульманских районах гражданских военизированных формирований, что, в свою очередь, привело страну ко второй, более продолжительной и разрушительной гражданской войне и иностранной интервенции.
13 апреля 1975 г. уникальный демократический эксперимент республики Большой Ливан рухнул. Страна оказалась поделена между военными диктаторами и гражданскими вооружёнными формированиями, раскололась на две крупные зоны. Одна оказалась под контролем Организации освобождения Палестины (ООП) и группы исламистских, марксистских и панарабистских сил. В этой части страны о демократии и свободах пришлось забыть. Верх взяли военизированные формирования, целью которых была ликвидация либеральной ливанской системы. В другой части страны, разорванной войной, христианские силы теоретически держались за многопартийную демократию, но на самом деле военизированные формирования установили авторитарную власть и там. Либеральные и умеренные мусульмане оказались погребены под наслоениями исламистских и панарабистских сил, их коллеги в христианских зонах попали под власть военных диктаторов правого толка. Таким образом, возникла идеально подготовленная сцена для действий сирийского диктатора Хафеза Асада.
Сирийское вторжение: 1976–1990
После того, как многочисленные военизированные формирования захватили ливанское государство и раздавили конституционные институты, в июне 1976 г. сирийский диктатор направил в страну регулярные войска. В выступлении, которое прозвучало через несколько недель, Асад открыто признал, что его режим поддерживает радикальные силы и он считает сирийцев и ливанцев «одним народом в двух государствах». Ни одна международная коалиция не выступила против вторжения – в отличие от ситуации, сложившейся двадцать лет спустя, когда другой баасистский диктатор Саддам Хусейн вторгся в Кувейт.
Я своими глазами видел сирийские танки, расползающиеся по моей родной стране, и пропускные пункты, устанавливаемые на перекрёстках. Уникальную ливанскую демократию развалила не только гражданская война. Возможность возрождения свободы раздавила сирийская армия. Так продолжалось тридцать пять лет – до «кедровой» революции. Баасисты установили контроль над преимущественно мусульманскими территориями и рядом захваченных христианских районов, создав слоёный пирог диктатуры, которую возглавляли сирийцы в компании с разного рода радикальными силами – палестинскими, ливанскими и, с начала 1980-х гг., движением «Хизбалла», поддерживаемым Ираном.
У демократии в Ливане, оказавшейся под контролем Сирии, практически не было шансов выжить.
Впрочем, в риторике о так называемом «Восточном Бейруте» сохранялась надежда: обещание возвращения свободы после того, как будут выдворены сирийские и прочие оккупанты. Христианские силы объединились под командованием главы вооружённых формирований партии «Катаиб» («Ливанские фаланги») Башира Жмайеля, получив наименование «Ливанские силы». В этом «христианском сопротивлении» были свои авторитаристы, в основном среди фалангистов, свои либералы, в том числе сторонники президента Шамуна, и некоторое количество интеллектуалов, в частности, бывший председатель Генеральной ассамблеи ООН Чарлз Малик и Фуад Бустани. Эти силы имели поддержку коалиции политических партий, в задачи которой входило образование федеративного и плюралистического Ливана. Короче, Восточным Бейрутом правили авторитаристы, но их официальный нарратив оставался привержен либеральным демократическим принципам, в то время как баасисты, панарабисты и джихадисты, доминировавшие в Западном Бейруте, не оставляли и малейшей лазейки для плюрализма.
В период сирийской частичной оккупации Ливана между 1976 и 1990-м гг. у меня была возможность работать со многими политиками и интеллектуалами, а затем и сформировать собственную философскую позицию в рамках тех границ свободы, которые были в моём распоряжении. Во время ливанской войны встал вопрос, к какому лагерю примкнуть? Многие утверждали, что демократия разрушена, поэтому, если ты выбираешь свободу на любой стороне, то оказываешься в изоляции. Действительно, господствующие силы в Западном и Восточном Бейруте препятствовали подъёму демократии, но отдельные лица и группы в пределах своих сообществ неустанно ратовали за расширение освободительной борьбы. Различие было в одном: если в Восточном Бейруте долгосрочной целью большинства политических сил было освобождение Ливана от сирийских, иранских и палестинских (ООП) сил и возвращение к плюралистической демократии, то долгосрочной целью господствующих сил в Западном Бейруте – замена республиканского либерализма образца 1943 г. зловещей идеологией баасизма, панарабизма, коммунизма или, позднее, джихадистского исламизма.
В самые мрачные дни ливанского конфликта перед защитниками демократии стояла трудная задача: оказывать из Восточного Бейрута сопротивление силам, подконтрольным Сирии и поддерживаемым Ираном, и бороться в пределах «свободных зон» против тоталитаризма и фашизма. Именно такой выбор сделали многие демократически настроенные группы, находившиеся в христианских районах, в то время как либералы, оказавшиеся под властью ООП и сирийцев на остальной территории Ливана, вынуждены были ждать многие годы, прежде чем национальная революция против сирийской оккупации дала им возможность поднять головы.
В 1977 г. ряд поселений на юге Ливана сформировали местные вооружённые группы для противодействия палестинским и просирийским силам. Изолированный от свободных зон и всего остального мира, южный анклав не имел иного пути, кроме как искать помощи от приграничного Израиля. В результате Освободительная армия Ливана под командованием майора Саада Хаддада, позже переименованная в «Армию Южного Ливана» (АЮЛ) была заклеймена просирийскими силами и «Хизбаллой» как «агенты Израиля». С 1978 по 1982 гг. между сирийскими силами и их союзниками и ливанскими силами под командованием Башира Жмайеля шли нескончаемые ожесточённые бои. Жмайель был прозападным политиком и мечтал об альянсе с Израилем, который в 1982 г. вторгся с юга на территорию страны и дошёл до Бейрута. В какой-то момент сирийцы были на грани изгнания из Ливана, но президент Асад, проницательный стратег, сумел нанести поражение противнику.
В сентябре 1982 г., спустя несколько дней после избрания президентом, Жмайель был убит, новым президентом стал его брат Амин, у которого была более примиренческая позиция по отношению к Сирии. Через год «Хизбалла» организовала взрывы в казармах американских морских пехотинцев и французов, заставляя многонациональные силы покинуть страну. Наступление возглавили сирийцы, постепенно выдавившие христианские силы из Восточного Бейрута и загнавшие их в небольшой анклав. Невероятно, но последний очаг сопротивления раскололся в 1990 г., началась гражданская война между христианскими вооружёнными отрядами во главе с Самиром Гиги и ливанской армией под командованием Мишеля Ауна.
Пока свободный анклав вёл внутреннюю борьбу, а Запад беспокоился по поводу вторжения Саддама в Кувейт, Асад предложил Вашингтону маккиавелиевскую сделку: я поддержу вас в изгнании Ирака из Кувейта, но моя добыча – Ливан. Он изложил свои условия в сентябре 1990 г. Государственному секретарю США Джеймсу Бейкеру. Соединённые Штаты под нажимом нефтедобывающих региональных режимов согласились, и 13 октября того же года танки Асада прогрохотали по улицам свободного анклава Ливана, завершая пятнадцатилетнюю войну. Вторжение Асада положило конец надеждам на демократическое возрождение как Восточного, так и Западного Бейрута. Вся страна оказалась под игом баасистов. Я покинул Ливан 24 октября 1990 г., через несколько дней после убийства либерального политика Дани Шамуна и его жены. В Ливане открылся путь террору, который продлится пятнадцать лет.
Сирийская оккупация: 1990–2005
В считанные недели сирийский «Мухабарат» установил контроль над всей страной, за исключением южного анклава АЮЛ, оставшегося под контролем Израиля. Настойчивому Асаду и его иранским союзникам понадобилось десять лет, чтобы вынудить Израиль отойти за государственную границу, разоружить АЮЛ и установить полную власть над Ливаном. Первые десять лет сирийской оккупации Ливана (1990–2000) получили известность как самая мрачная эпоха в современной ливанской истории. Всё руководство республики, от президента до чиновников и служащих, контролировалось Дамаском. В Бейруте установился режим наподобие режима Виши в оккупированной фашистами Франции, под жёстким контролем сирийского «гестапо», которым много лет руководил генерал Гази Канаан. В это мрачное десятилетие происходило тотальное уничтожение всех противников сирийской оккупации. В христианских районах, захваченных в 1990 г., масштабы репрессий были наивысшими. Сотни активистов и обычных граждан подверглись арестам, избиениям и пыткам. Многие оказались в сирийских тюрьмах. Молодые мужчины и женщины зачастую бесследно исчезали из своих домов. За всеми СМИ велось тщательное наблюдение. Всё демократическое движение в стране было подавлено. Тем не менее сопротивление оккупации никогда не прекращалось.
В 1990-е гг. последователи генерала ливанской армии Мишеля Ауна и сторонники различных групп бывшего «Ливанского фронта», таких, как «Стражи кедров», были вынуждены уйти в подполье или эмигрировать. В 1991 г. сирийский режим заключил с Бейрутом «договор о братстве и сотрудничестве», который давал сирийским разведслужбам и «Хизбалле» полную свободу действий на ливанской территории. В этот год были разоружены все вооружённые формирования, за исключением поддерживаемых Ираном сил и радикальных палестинских организаций. Вся страна оказалась под властью сирийско-иранского режима. В 1994 г. Самира Гиги обвинили в нескольких преступлениях и посадили в тюрьму, его движение «Партия ливанских сил» было распущено.
К середине десятилетия практически вся оппозиция сирийскому режиму была ликвидирована. Спорадически происходили лишь студенческие демонстрации, но они почти не имели народной поддержки. Сторонники бежавшего из страны Мишеля Ауна, сидевшего в тюрьме командующего Самира Гиги, а также независимые активисты сформировали в эмиграции действующую оппозицию, но она не имела существенного влияния на международное сообщество. На юге Ливана израильтяне совместно с армией Южного Ливана под командованием генерала Антуана Лахада удерживали так называемую «зону безопасности». АЮЛ контролировала 10% ливанских территорий и противостояла всей мощи «Хизбаллы» и её союзников.
Постепенно сирийско-иранский альянс стал оказывать давление на южный анклав, и в результате премьер-министр Израиля Эхуд Барак в 2000 г. решил уйти из зоны безопасности, а армию Южного Ливана распустить. 23 мая того же года отряды «Хизбаллы» вышли к государственной границе, и Сирия установила полный и неоспоримый контроль над Ливаном. Сил, оказывающих сопротивление оккупантам, не осталось, и притеснения ливанцев возросли многократно. Но под глубочайшим гнётом в стране зарождалось движение протеста, которое переросло в восстание.
Путь к восстанию: 2000–2005
Со смертью диктатора Хафеза Асада в июне 2000 г. Сирия не утратила господства над Ливаном. Баасистская машина немедленно подобрала замену: его сына Башара. Смена отца на сына дала антисирийским голосам в Ливане небольшой просвет для робкой критики сирийской оккупации. Среди первых, кто начал публиковать в стране оппозиционные статьи, был Гебран Туэни, издатель ежедневной газеты Al Nahar. 20 сентября Епископальный совет маронитов сделал заявление, призывающее к выводу сирийских войск и освобождению заключённых. Постепенно патриарх маронитов и ряд его сторонников подняли голос против баасистской диктатуры в стране. Стало нарастать количество студенческих демонстраций, в университетские городки были направлены силы безопасности. Эмигрантские группы, активизировавшиеся с конца 1990-х гг., принялись лоббировать западных законодателей и ООН. Череда официальных ливанских правительств, действовавших в интересах Сирии, тщетно пыталась подавить активность эмигрантов. В мае 2000 г. лидеры эмиграции собрались на конференции в Мехико и решили обратиться в ООН и попросить её поддержать призыв к выводу сирийских войск из Ливана. На тот момент это казалось весьма маловероятным.
Однако сколь бы энергичными ни были все эти действия, если бы не теракт 11 сентября, события в Ливане могли бы развернуться иначе. После атак «Аль-Каиды» в сентябре 2001 г. США объявили войну террору, Иран и «Хизбалла» объявлены членами «оси зла». Лидеры ливанской диаспоры, преимущественно из США, быстро выступили с заявлением о поддержке американских антитеррористических действий и вышли с инициативой передать дело о выводе сирийских войск на рассмотрение в ООН. Состоялось несколько встреч в Конгрессе, Государственном департаменте и Белом доме. Ливанская делегация настоятельно требовала активизации действий США в Совете безопасности ООН. На одной из таких встреч в марте 2004 г. Эллиот Абрамс, который был главным по Среднему Востоку в Государственном департаменте, спросил лидеров неправительственных организаций: «Если мы усилим давление извне, поддержит ли ливанский народ нашу инициативу?»
Американские лидеры не были уверены, что народные массы Ливана готовы к демократическому восстанию. Вдоволь нахлебавшись джихадистской и апологетической пропаганды в связи с вторжением в Ирак, администрация Буша-младшего с опаской относилась к развязыванию новой кампании, которая могла вызвать ответный огонь. Критики и так без устали нападали на Вашингтон за политику «поддержки демократических революций». New York Times и американские научные круги утверждали, что народы Среднего Востока не готовы к демократии и по своей воле не сделают выбор в её пользу.
Я отвечал так: «Если Америка и другие демократические страны помогут Ливану освободиться от сирийской оккупации, ливанское гражданское общество пойдёт вам навстречу». У меня не было данных, подтверждавших эту мысль; в своём утверждении я опирался на собственную веру в человеческую натуру и на основные инстинкты человека, находящегося в опасности.
Если ливанцы не перестали надеяться на свободу, они воспользуются возможностью и восстанут. Спустя несколько месяцев мои слова подтвердились: вспыхнула «кедровая» революция.
Администрация Буша была наготове, и перед нами открылся путь в Совет безопасности ООН.
Встреча с послом США в ООН Джоном Негропонте в марте 2004 г. стала первым шагом. Неправительственная делегация объяснила свой план, цели и передала записку послу и его помощникам. Так было положено официальное начало битве за освобождение Ливана. Мы проинформировали главу американской делегации, что ливанская миссия в ООН, подконтрольная сирийскому режиму, называет ливийско-американскую команду «ренегатами». Негропонте только отмахнулся. Затем мы встретились с французской и британской делегациями, которые положительно отнеслись к нашему проекту. Состоялись также встречи в Совете безопасности с послом России и китайскими дипломатами. Проведя переговоры с пятью постоянными членами Совбеза, затем мы пообщались и с временными членами, и с представителями Лиги арабских государств.
Следующим шагом стала перегруппировка политических сил. Правители Бейрута и Дамаска получили информацию, что в Нью-Йорке что-то происходит, но не придали этому значения. К середине лета тысячи бумажных и электронных писем, написанных американскими гражданами ливанского происхождения, поступили в Конгресс США и администрацию президента, а также во французские посольства по всему миру. Ливанская диаспора всячески подталкивала Совет безопасности к рассмотрению резолюции. Башар Асад занервничал, его разведка выступила с обвинениями ООН в нечестном поведении по отношению к ряду ливанских политиков, в том числе к бывшему премьер-министру сунниту Рафику Харири и бывшему министру друзу Марвану Хамаде. Дамаск полагал, что Харири оказал влияние на президента Франции Ширака, чтобы тот поддержал Буша по ливанскому вопросу, но на самом деле ливанские политики не имели к этому никакого отношения.
Инициатива ООН была проектом, выдвинутым исключительно ливанскими неправительственными организациями в изгнании. Харири вызвали в Сирию, где как сообщали американские СМИ, Асад обрушился на него с угрозами. 18 сентября 2004 г. Совет безопасности ООН принял резолюцию № 1559, призывающую Сирию вывести войска, а «Хизбаллу» и прочие вооружённые формирования – сложить оружие. После июня 1976 г., когда Хафез Асад отдал приказ о вторжении в Ливан, и после террористических атак «Хизбаллы» в 1982 г. на многонациональные миротворческие силы в Бейруте, это стало первой акцией ООН, направленной на прекращение баасистско-хомейнистского господства в Ливане. Яростной реакцией Дамаска стала попытка убийства либерального политика друза Марвана Хамаде осенью 2004 года. В январе 2005 г. лидеры ливанской эмиграции призвали ливанское гражданское общество к восстанию против сирийского террора. 14 февраля 2005 г. в результате мощного взрыва в центре Бейрута были убиты Рафик Харири, несколько других политиков и их охранники. Друзья погибших обвинили в заказном убийстве Башара Асада, но спустя несколько лет появились сообщения о том, что за этим террористическим нападением стояла «Хизбалла». Через несколько месяцев в ООН был создан специальный трибунал для расследования действий террористов. Жестокое убийство Харири вызвало серию массовых демонстраций в центре Бейрута. Впервые после 1990 г. десятки тысяч граждан, преимущественно христиан, суннитов и друзов, выступили с маршами и лозунгами против сирийской оккупации. Гражданское общество действовало согласно своим свободолюбивым инстинктам. Мои предсказания оправдались: инициатива в ООН вызвала встречное движение народных масс в Бейруте.
8 марта 2005 г. «Хизбалла» и просирийские силы собрали около трёхсот тысяч сторонников для выступления против назревающей революции. В тот день ведущий телекомпании Fox News спросил у меня, правда ли, что большинство ливанцев хотят демократии, ведь организованный «Хизбаллой» гигантский марш «в поддержку Сирии» собрал четверть миллиона людей. Я объяснил ему, что это – максимальная сила трёх режимов, иранского, сирийского и ливанского, которую они могут мобилизовать для сохранения власти господствующей элиты, и что это – решающий момент для молчаливого большинства, готового поднять свой голос в защиту свободы. Действительно, через неделю полтора миллиона мужчин, женщин, молодёжи прошли маршем по столице, призывая «Свободе – звенеть, Сирии – уходить, “Хизбаллу” – разоружить». 14 марта 2005 г. началась «кедровая» революция.
«Кедровая» революция: 2005 – 2008
Международное сообщество не могло не отреагировать на появившиеся в СМИ фотографии и видеокадры, демонстрирующие народные массы, высыпавшие на улицы Бейрута. «Кедровая» революция (термин, придуманный в Вашингтоне, но не чуждый истории ливанского сопротивления сирийской оккупации) была немедленно признана всеми странами западной демократии, включая США, Францию, многих членов Европейского союза, и поддержана арабскими правительствами таких стран, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет. Успех демократической революции, обеспеченный не вооружённым насилием, а исключительно мирными массовыми демонстрациями, поразил многих. Все обратили внимание на резкий контраст между демократическим движением в Ливане, созревшим до такой степени, чтобы объединить различные сообщества, и сирийскими, иранскими и представляющими движение «Хизбалла» силами, господствовавшими в регионе. В Афганистане и Ираке выборы, формирование политических партий, свободные дискуссии, появились благодаря военным кампаниям США и союзников. В Ливане авторитарное правительство, поддерживаемое баасистами и джихадистами, рухнуло от песен безоружных граждан и давления эмигрантских неправительственных организаций.
Вскоре после полуторамиллионной демонстрации в Бейруте Вашингтон и Париж попросили Башара Асада немедленно вывести войска из Ливана. Сирийский диктатор оказался перед выбором: либо направлять дополнительные войска для подавления революции, либо уходить. При наличии американских вооружённых сил на востоке, в Ираке, и на западе, в Средиземноморье, военное командование Сирии быстро сообразило, что в случае международных действий у них нет ни единого шанса.
Оказавшись перед лицом мощной народной революции «снизу» и стратегически зажатым между военными группировками Запада, Асад выбрал третий вариант: вывести свои регулярные войска, но сохранить на ливанской территории «вторую армию». В её состав вошли «Хизбалла», сирийские разведслужбы и радикальные палестинские группировки. К концу апреля план Асада был приведён в действие: армия стала быстро покидать Ливан, оставляя за собой лишь несколько позиций вдоль протяжённой границы между двумя государствами.
Политики, которые появились, чтобы возглавить народное восстание, окрестили свою коалицию «Движение 14 марта». К ядру антисирийской оппозиции, которая вела освободительную борьбу с 1990-х гг., присоединились политические деятели из числа суннитов и друзов. Движение объединило сторонников из многих различных ливанских сообществ.
«Кедровая» революция показала, что большинство ливанского народа лелеяли глубокие надежды на свободу и демократию и были готовы вести борьбу с иностранной оккупацией, тоталитарными идеологиями и терроризмом.
Они справились со сложнейшей задачей: после пятнадцати лет оккупации, которую апологетическая пропаганда во всех средствах массовой информации подавала как «стабилизирующую силу», продемонстрировали окружающему миру подлинную волю народа.
«Кедровая» революция сохраняла свою девственную чистоту до тех пор, пока за дело не взялись политики. Вместо того, чтобы довершить начатое дело и полностью сокрушить просирийский режим и отстранить от власти символы периода оккупации – президента Эмиля Лахуда и спикера парламента Наби Берри, – оппозиционные политики предпочли провести выборы в законодательные органы, а некоторые из них вступили в альянс с «Хизбаллой». «Кедровая» революция завоевала огромное большинство в парламенте, но её политики пригласили в кабинет террористическую группировку.
Первые революционные недели оказались сопоставимы с теми днями, когда иракцы и афганцы шли к избирательным урнам, реализуя свои демократические права. Единственным отличием было то, что избиратели в Месопотамии и Афганистане шли на выборы под защитой американских солдат. В Бейруте треть населения, выступая против двух наиболее деспотичных режимов региона, вышла на улицы без присутствия иностранных сил, которые могли бы их защитить.
К июлю 2005 г. наиболее искренние дни демократической революции закончились. В правительство вошли политики движения «14 марта» и, как это ни странно звучит, просирийски и проирански настроенные деятели, хотя и в меньшинстве. Революционные «политики» остановились на полпути. Они не могли просить большей международной поддержки из страха перед «Хизбаллой» и не могли распустить правительство «национального единства», в которое вошли вместе с террористами. К полному смятению населения, стратегическое преимущество быстро перехватили политики, пользующиеся поддержкой Сирии и Ирана. До конца года трое выдающихся лидеров «кедровой» революции были убиты. Погибли политики левого толка Джордж Хави и Самир Кассир, а также недавно избранный в парламент либеральный издатель Гебран Туени. На следующий год «Хизбалла» втянула политиков движения «14 марта» в бесплодный процесс так называемого диалога. В июле лидер «Хизбаллы» Насралла дал команду на начало обстрелов Израиля. Но главной его целью было слабое правительство Фуада Сениоры. После военных действий лета 2006 г. «Хизбалла» отомстила кабинету министров, организовав городские волнения в Бейруте и парализовав центр столицы.
Расчёт Асада и шиитских аятолл был безупречным: со сменой большинства в Конгрессе США администрация Буша оказалась беспомощна в вопросах международной политики. С 2007 г. Америка больше не могла оказывать стратегическое давление на «Хизбаллу» и Сирию. Контрреволюционное движение против демократии набирало в Ливане ход. Росло количество террористических атак и покушений на законодателей, членов правительства, военнослужащих, политиков, лидеров неправительственных организаций и рядовых граждан. 7 мая вооружённые отряды «Хизбаллы» вторглись в суннитские районы Восточного Бейрута и напали на населённые друзами районы Горного Ливана. Его жители с оружием в руках оказали яростное сопротивление отрядам «Хизбаллы», однако политики движения «14 марта» вынуждены были сдать парламент и признать «легитимность» проиранских вооружённых формирований.
«Хизбалла», государственный переворот: 2008–2010
После захвата основных правительственных территорий Бейрута «Хизбалла» стала главным игроком на политической карте страны. Любопытно, что новые выборы в законодательные органы власти, состоявшиеся в июне 2009 г., опять обеспечили политикам движения «14 марта» парламентское большинство. Старшие лидеры коалиции, опасаясь новых вооружённых действий «Хизбаллы», уступили политическое большинство силам, тесно связанным с Дамаском и Тегераном. За два года «кедровая» революция оказалась вытеснена из правительственных институтов и выдавлена назад на улицы, в мир беспомощных неправительственных организаций. Новый президент республики Мишель Слейман признал власть «Хизбаллы» и возобновил старые сирийско-ливанские «переговоры». В 2010 г. новый премьер-министр Саад Харири, сын убитого суннитского лидера Рафика Харири, тоже подчинился влиянию Сирии и «Хизбаллы». Просирийский альянс сил «Хизбаллы» быстро установил контроль над рядом министерств, в том числе министерством иностранных дел, формируя политический курс посольств по всему миру и в ООН, членом Совета безопасности которого Ливан стал в 2010 г. С помощью чиновничества сирийско-иранская «ось» начала активные действия против сторонников «кедровой» революции, вычищая кабинеты и службы безопасности от сочувствующих движению «14 марта». К началу 2010 г. политическое руководство «кедровой» революции в Ливане практически отказалось от борьбы. Лидер друзов Валид Джумблат встречался с лидером «Хизбаллы» Насраллой; премьер-министр суннит Саад Харири посещал Башара Асада в Дамаске; христианские лидеры неохотно, но признали «Хизбаллу» как легитимное «движение сопротивления».
Возврат к власти «Хизбаллы» и сирийских союзников, хотя и не полный, означает конец первой «кедровой» революции или, по крайней мере, первой её фазы. Противники подконтрольного хомейнистам и попавшего под влияние баасистов государства втайне у себя на родине и открыто в эмиграции собирают силы для второй «кедровой» революции.
Демократические силы Ливана
Я встречался с лидерами Ливана, которые появлялись и исчезали, которые были убиты, оказались в изгнании или в тюрьмах. И понял, что демократические идеалы в этой маленькой стране переходят от поколения к поколению, от сообщества к сообществу и возрождаются как феникс. Непрестанное стремление к свободе столь же древнее, как и народы, населяющие горные и приморские районы Ливана.
Жители глубоких ливанских долин относятся к числу очень немногих народов, которые веками боролись против Омейядов, Аббасидов, мамелюков и османов. Эта борьба запечатлена в истории и будет продолжена. Причина многих неудач и поражений от сил «Халифата» всегда крылась во внутренних разногласиях между лидерами сопротивления.
В настоящее время демократические силы рассредоточены по многим сообществам, образующим современный Ливан. Единомышленникам по освободительному движению из разных этнических групп не всегда удаётся координировать свои действия. Христианское сообщество с 1975 г. ступило на путь борьбы с сирийской оккупацией и вело её пятнадцать лет, прежде чем развалиться в ходе христианской гражданской войны 1990 г. В годы войны либерально мыслящие представители мусульманских сообществ жестоко преследовались вооружёнными формированиями и сирийскими разведслужбами. Примеров героизма активистов и писателей в избытке. Например, литератор либерального толка мусульманин Мустафа Джиха, который был убит джихадистами 15 января 1992 г. Джиха выступал против аятоллы Хомейни, «Хизбаллы» и сирийской оккупации. В 1985 г. я спрашивал его, почему он, шиит, выступающий против иранских хомейнистов, не боится преследований со стороны террористов. Он ответил: «Мусульманские интеллектуалы, которые, подобно нам, бросают вызов господствующим исламистским силам в арабском мире и, в особенности, в Ливане, очень хорошо понимают, что все мы – живые мученики за свободу. Некоторые из нас увидят наши общества свободными отсюда. Другие увидят это оттуда». В начале 2010 г. другой Мустафа Джиха направил электронное письмо ливанской эмиграции, заявив о возобновлении борьбы путём переиздания книг убитого литератора. Это его сын, который решил подхватить знамя и продолжить борьбу.
Начали подниматься демократы суннитских и друзских общин, особенно после 2005 г., когда Сирия вывела свои войска из Ливана. В этот решающий для выступлений год было убито несколько либеральных деятелей из числа суннитов.
В Восточном Бейруте за демократию и права человека выступали многие знаменитые личности. Среди них – д-р Чарлз Малик, бывший президент Генеральной ассамблеи ООН и один из авторов Всеобщей декларации прав человека; ректор Ливанского национального университета. Фуад Афрам Бустани; бывший президент университета cв. Джозефа Селим Абу; либеральный юрист Муса Принс, активисты и профсоюзные лидеры. Защитники демократии поддерживали борьбу, одновременно продолжая оказывать давление на политиков, заставляя их придерживаться принципов плюрализма мнений и основных демократических свобод. В 1990-е г., в период сирийской оккупации, либеральные авторы и комментаторы находились под особым прицелом. Но драма достигла своего апогея в 2005 г., когда началась революция. Было совершено покушение на журналистку Мэй Чидиак. В её машину была заложена бомба, Мэй лишилась руки и ноги. Объектами нападений становились и журналисты левого толка, такие как Самир Кассир, автор ежедневной газеты Orient Lejour. И последнее, но не менее важное: взрыв автомобиля в декабре 2005 г. унес жизнь члена парламента либерала Гебрана Туэни. Это – высокая цена, которую приходится платить за демократию в Ливане.
Тем не менее демократические силы в Ливане набирают силу. Те голоса звучали в разгар «кедровой» революции. Либеральные силы мусульманских сообществ прилагали страния, чтобы сбросить ярмо тоталитарных идеологий. Революция дала исторический шанс демократам суннитского сообщества. Как говорил мне один из их молодых лидеров, «сунниты ещё удивят ливанцев, поскольку они являются реальным противовесом джихадистским экстремистам». Член парламента Мисбах аль Абдах – один из многообещающих суннитских лидеров. Абдах представляет Триполи, один из крупнейших суннитских городов Леванта. Он согласен с мыслью о том, что в мультиэтническом Ливане каждое сообщество живёт по своему ритму и времени, «но в итоге демократы всех религиозных конфессий станут силой, которая способна произвести изменения».
Восходящий молодой лидер шиитов Ахмад Асад говорил в 2007 г. на брифинге в Вашингтоне, организованном, среди прочих, и Фондом в защиту демократии, что «даже в среде шиитского сообщества реформаторы и демократы полны энергии и готовы к восстанию, несмотря на силу “Хизбаллы”». Эти слова, произнесённые за три года до того, как в Иране вспыхнула «зелёная» революция, говорят о многом. Асад, который выступал против сирийской интервенции в Ливан ещё до «кедровой» революции, говорил мне, что дух демократии распространён повсеместно даже среди шиитов долины Бекаа и южного Ливана – традиционных опорных пунктов поддерживаемой Ираном «Хизбаллы».
С мая 2008 г. «Хизбалла» постепенно начала повторное проникновение в страну. В 2010 г. её вооружённые формирования блокировали все попытки восстановления плюралистической демократии. Международный суд предъявил ей обвинения в совершении террористических актов, но «Хизбалла» продолжает угрожать возобновлением насилия, чтобы не допустить повторения «кедровой» революции.
Перспективы на будущее
Сражение за демократию в Ливане имеет решающее значение для Среднего Востока. В статье, опубликованной в 2004 г. и основанной на записке, которая была направлена в Администрацию президента и Конгресс США, я доказывал, что Ливан является «нервным центром» всего региона. При наличии пяти крупных университетов, множества СМИ, традиции демократических выборов до 1975 г. и мультиэтнического сообщества на перекрёстке между Востоком и Западом любой прорыв к демократии в Бейруте окажет влияние на весь регион. «Кедровая» революция была первым шагом в этом направлении.
Члены «братства противников демократии», несмотря на внутренние разногласия, сплотились, чтобы остановить возникновение передового свободного общества в Ливане. Авторитарные режимы и джихадистские движения Среднего Востока увидели для себя огромную опасность в ливанской демократической революции, успех которой мог дать толчок глубоким изменениям в политической культуре региона. Изменения на «земле кедров» более чем в любой другой недемократической стране региона способны стереть в порошок «идеологический Халифат», который мечтают установить джихадисты и прочие тоталитаристы.
Перевод: Калинин А. А., Лаирова Антонина, Бавин С. П.
--
СНОСКИ
* Медаль Почёта (Medal of Honor) – высшая военная награда в США; учреждена в период Гражданской войны в 1862, вручается президентом США от имени Конгресса. – Прим. пер.

Лекарство от кризиса
генеральный секретарь Коммунистической партии Сирии Аммар Багдаш о правоте Маркса
Екатерина Глушик
"ЗАВТРА". Аммар Халедович, в мире уже и не сыскать уголков, кроме затерянных где-нибудь в океане островов, где было бы спокойно. Но в современном мире почти нет вспышек народного волнения, которые не были бы организованы или поддержаны некими силами, отнюдь не из числа бедствующего и униженного народа, основной боевой силы этих действий. Но вот сейчас и Америку, которую многие считают организатором "цветных революций" по всему миру, сотрясают волнения.
Аммар БАГДАШ. Позвольте не согласиться с мнением, что беспорядки организуют исключительно извне. Когда происходят массовые волнения, нельзя говорить, что все участники — чьи-то агенты. Если бы не было почвы, то не было бы и волнений, как бы ни старались внешние силы. Другое дело, что внешний фактор действительно играет определённую роль во многих странах. Почва для волнений возникает из-за многих причин. Основными, конечно, являются причины социально-экономические. В некоторых странах внешний фактор старается направить объективное недовольство народа в выгодное ему русло.
Так что в утверждении, что волнения вызваны лишь внешним влиянием, есть большая доля субъективизма.
Что касается нынешних событий в Америке, то следует учитывать, что все центры мировой империалистической системы подвержены очень сильному экономическому кризису, имеющему циклический характер, о чём мы говорили в прошлой нашей беседе "Политэкономия кризиса". И вследствие усиления бедности, безработицы, социальной неустойчивости, неуверенности в завтрашнем дне недовольство у широких народных масс накапливается. А поскольку это недовольство объективно, поскольку у него есть реальные основания, то его нельзя изъять из общества, избавиться от него. И для финансовой олигархии очень важно направить это недовольство в нужное ей русло, в нужный фарватер. Чтобы это недовольство не вылилось в классовые выступления с ясными классовыми требованиями, его направили в сторону антирасистских выступлений, которые мы и наблюдаем.
Несомненно, расизм в Америке имеет глубокие корни, и от него одним махом не избавишься. Но почему эти выступления столь активны сейчас, после гибели довольно неоднозначной фигуры, упокой Бог его душу. Он не был ни революционером, ни значительным деятелем антирасистского движения. Он был известен в других сферах, не будем сейчас о них говорить.
Но его задержание чётко сняли на видео, широко распространили, и в итоге накопившееся в обществе социальное недовольство пошло по нужному олигархии руслу. То есть вместо гнева против капитализма, вместо выступлений против него стали выступать против расовой дискриминации, которая, конечно, — явление отрицательное. Но её испытывают, от неё страдают 13% населения США. А от бедности и неуверенности в будущем, что является результатом этого кризиса, страдает большинство населения. Так что финансовой олигархии очень выгодно свернуть зреющие "гроздья гнева", о которых говорил в своём известном романе Джон Стейнбек, когда описывал кризис 30-х годов прошлого века, в выгодное ей русло. А самое безопасное русло для них сейчас как раз связано с расовой проблемой, проблемой расовой дискриминации. Поэтому можно сказать, что финансовая олигархия с помощью рычагов, которыми она владеет, то есть средств массовой информации, смогла свернуть народный гнев с магистрального направления: не против капитализма, не против власти финансовой олигархии, а в сторону расовых волнений, которыми, конечно, не будет охвачено всё население Соединённых Штатов Америки.
Так что пока у них получилось направить недовольство людей в нужную сторону. Но таким лекарством не могут быть вылечены последствия экономического кризиса, который только начинается. Осенью произойдёт его углубление: все признаки этого налицо, все данные свидетельствуют об этом.
"ЗАВТРА". Вы учились в Советском Союзе, знаете историю нашей страны, менталитет людей, следите за ситуацией во всём мире, в том числе и в России. Возможно, вы знаете, что наблюдается удивительная тенденция: люди у нас сейчас более нетерпимо относятся в коррупционерам, чем к убийцам. И уже больше тех, кто настаивает на смертной казни для расхитителей, чем тех, кто ратует за смертную казнь даже для маньяков.
Аммар БАГДАШ. Я не намерен вмешиваться во внутренние дела вашей страны, вам лучше знать настроения людей. Но коль подходить к этому вопросу в общем, то надо отметить, что если в какой бы то ни было стране господствует власть буржуазии, а вы ратуете за смертную казнь, то надо смотреть, в руки какой власти вы даёте то или иное оружие. Нет понятия "надклассовое государство". Любое государство представляет классовые интересы. Поэтому требовать тех или иных мер наказания при социализме — это одно. А то же самое оружие при капитализме может повернуться совсем в другую сторону. Вообще, во время экономического кризиса усиливается тенденция ужесточения власти. Это можно наблюдать во многих странах, потому что если власти капитала не помогают справиться с недовольством людей социал-демократы, то эта власть просит помощи у крайне правых. Так было в посткризисной Европе в 1930-е годы. Тот же Гитлер был результатом большого экономического кризиса, который охватил Германию, и крупный немецкий капитал решил, что альтернативой социализму, который был очень возможен в ситуации посткризиса, является фашизм, с его террористическими методами против широких слоёв трудящихся, и вообще против всего населения.
Поэтому смертная казнь едва ли в этой ситуации будет использоваться как средство борьбы с коррупционерами, думаю, она будет применена против прогрессивных сил и антикоррупционеров.
"ЗАВТРА". Речь о настроении людей: они более терпимо относятся к убийцам, чем к коррупционерам. Понимают ли коррупционеры опасность для себя? Если им придётся куда-то убегать со своими капиталами, осознают ли они, что вне страны они защиту не обретут?
Аммар БАГДАШ. Нужно понимать, что единичные меры против отдельных коррупционеров малоэффективны. Система, которая порождает такую коррупцию, — вот проблема. Что такое коррупция? Это ограбление государства и народа одновременно. Тут вопрос не в лечении единичных случаев, исправлении отдельных недостатков. Кардинально нужно подходить к этой проблеме, что было очень успешно сделано во многих странах мира, в том числе — в Советском Союзе.
"ЗАВТРА". Экономический кризис уже завершается, пик его, наконец, пройден?
Аммар БАГДАШ. То, что происходило в конце 2019—начале 2020 годов, является лишь первой фазой, или преддверием кризиса. А впереди — неизбежная вторая фаза, которая обычно характеризуется сильным падением производства, банкротством, распространением бедности на широкие слои, обнищанием масс. Первая фаза кризиса совпала с карантином, и люди уже не знают, кого ругать, в чём искать причину своего бедственного положения: в этом коронавирус или корона капитала виноваты? Накопления закончились, работы нет — значит, продолжится снижение уровня реальных доходв, ухудшение во всех областях жизни. Это очень болезненный для большинства населения процесс. Но если этот процесс не направить на правильный путь социально-экономического протеста, то капитал выкрутится. Как говорил мой большой учитель Карл Маркс: капитал может найти выход из любой ситуации, если не найдётся той силы, которая его подтолкнёт, чтобы он упал.
А эта сила — сила организованного народа. Именно она может положить конец господству капитала.
Кризис развивается. И тут не только внутренний фактор играет роль, не только внутреннее напряжение действует, но также внешняя экспансия. Обычно внешняя агрессия вызвана тем, что страны, проявляющие агрессию, хотят перенести внутренний кризис за границу, и тем самым смягчить последствия для себя. Как правило, это бывает в посткризисный период. Сейчас можно заметить, что эти агрессивные намерения проявляются всё сильнее и сильнее, и это будет продолжаться вплоть до окончания кризиса. В этом ряду многое можно перечислить, но возьмём самые яркие примеры. Например, усиление напряжения между американским империализмом и Китайской Народной Республикой. Ливийское противостояние, в котором участвует целый ряд международных игроков, в том числе и Россия. Это недавние эксцессы между Азербайджаном и Арменией. Это постоянное нагнетание обстановки между США и Израилем — с одной стороны, и Ираном — с другой стороны. К этому числу можно отнести и всё то, что происходит вокруг Сирии. Сейчас воспаляются старые конфликтные очаги, но в то же время появляются новые, и каждый из них несёт угрозу большого военного противостояния. К этому надо относится со всей серьёзностью.
"ЗАВТРА". Хотя, казалось бы, куда уж серьёзнее те противостояния, которыми охвачен мир!
Аммар Халедович, в Сирии прошли выборы, вы избраны в парламент страны. Поздравляем вас.
Аммар БАГДАШ. Спасибо. В парламент я избран в пятый раз, это значит, что люди доверяют коммунистам, особенно — население столицы, это у нас традиционно. Первый депутат-коммунист в арабском мире был избран в сирийский парламент в 1954 году именно от Дамаска.
"ЗАВТРА". Это был ваш отец, легендарный Халед Багдаш. Достойная династия.
Аммар БАГДАШ. Благодарю.
"ЗАВТРА". А виден ли конец страданиям сирийского народа и возможен ли выход из сложившейся ситуации?
Аммар БАГДАШ. Что касается положения в Сирии, тут играют роль многие факторы. Мы боремся за полную независимость, за полный суверенитет и за единство национальной территории. Надо не забывать, что в настоящее время значительная часть нашей территории оккупирована иностранными войсками. Я имею в виду северо-восток Сирии — тот район, который иногда называют Заевфратьем. Большая часть его оккупирована американскими войсками и их ставленниками. Там стоят несколько американских военных баз. Есть ещё одна крупная военная база на юге Сирии, в треугольнике границ Сирии, Иордании и Ирака, эта база создана в интересах Израиля. И значительная часть территории Сирии на севере, северо-западе, около 10 тысяч квадратных километров, оккупирована войсками Турции — страны, которая тоже является членом НАТО. И сейчас основное направление нашей борьбы — это полное освобождение национальной территории от оккупантов.
К сожалению, даже некоторые дружественные нам государства не вполне понимают важность именно этой борьбы — за освобождение от оккупантов, под каким бы благим прикрытием те не действовали. И на полосах вашей газеты в некоторых материалах как альтернатива освободительной борьбе предлагается империалистический суррогат, чем является решение Совета безопасности ООН 2254. Ведь что предлагает этот документ? Рекомендуется беспринципное соглашение с силами, являющимися союзниками империализма. Надо заметить, что это решение Совета Безопасности ООН 2254 основано на соглашении, принятом на первой международной конференции по Сирии "Женева-1", которая состоялась 30 июня 2012 года. Она была проведена в рамках "Группы действий по Сирии". Но на принятии этого соглашения не было ни одного представителя Сирии: ни от правительства, ни от так называемой оппозиции. Просто собрались представители мировых центров и стали решать судьбу народа Сирии. Это практика конгрессов времён колониализма. Когда на Берлинском конгрессе решали судьбу славянских балканских народов без участия их представителей. Есть и другие примеры, когда судьбы народов решали без их участия, составляя те или иные договоры. Могу привести в качестве примера Севрский договор, Лозаннский договор и так далее. Эта практика идёт от времён и психологии колониализма. Собираются большие страны и решают судьбы народов так называемой периферии. Это договоры между империалистическими центрами.
Мы будем бороться против такой колониальной направленности, мы твёрдо уверены в том, что судьбу Сирии может решать только сам сирийский народ, и не собираемся находиться ни под чьей пятой. Что нам предлагают? Достигайте соглашения с агентами империализма — и всё будет хорошо. Но такое соглашательство может привести к очень плачевным результатам.
Вспомним в этой связи судьбу Слободана Милошевича. Ему сказали: согласись с тем-то и тем-то — и мы тебя больше не будем трогать. Он договорился с сателлитами империализма, и через 3 года его убрали в результате так называемой цветной революции. Надо извлекать уроки из истории.
Но, как бы ни разворачивались события, я — исторический оптимист. Мой оптимизм исходит из материалистического понимания истории, из понимания того, что общество капитализма, угнетающего большинство населения мира, в особенности — населения так называемого "третьего мира", должно закончиться. Как сказал Карл Маркс: "Исчезновение капитализма не будет происходить постепенно, он взорвётся".
Он обязательно взорвётся. Но главное, чтобы он при этом не взорвал всё человечество. И когда речь идёт об альтернативе "обществу джунглей", то есть капитализму, мы не витаем в облаках. Мы с вами, человечество, видели реальную альтернативу, которой был Советский Союз. Некоторые говорят, что в СССР производили только галоши. Но хочу этим господам сообщить, что там производили ракеты, космические спутники, высокотехническое оборудование.
Общество можно оценивать по его отношению к детям. Вы знаете, какое отношение было в Советском Союзе к детям, я это видел собственными глазами.
Мы не будем вдаваться в причины падения Советского Союза. Мы просто говорим, что на земле было общество, которое антагонистически противостояло капитализму, и люди в этом обществе были уверены в своём будущем и в будущем своих детей.
Мы будем бороться за такое общество, но уже в улучшенном варианте. Мне очень нравится надпись на памятнике Марксу и Энгельсу в Восточном Берлине: "Товарищи, в следующий раз будет намного лучше".
И я говорю: "Товарищи, в следующий раз будет намного лучше!"
"ЗАВТРА". Вы — экономист. Ныне экономическая наука предлагает какие-то методы улучшения экономической ситуации, или она только объясняет стихийные движения рынка, следует за ними?
Аммар БАГДАШ. Как экономист я вижу правоту Маркса. И кризисы, которые сотрясают общество каждые 10- 15 лет, доказывают правоту марксистского учения. Это признают даже буржуазные деятели. Однако они признают правильность марксистского диагноза, но не признают, марксистских методов лечения. Эти методы, требующие замены капиталистического строя социалистическим, для них неприемлемы. Но здесь невозможно достичь результата ретушированием или пластическими операциями. Требуется кардинальное изменение общественного строя: только власть масс, социалистическая власть может сменить производственные отношения в пользу трудящихся. Это я говорю именно как экономист.
"ЗАВТРА". Современные экономисты обслуживают строй и объясняют, как, почему кризисы идут один за другим. Начинают искать этому какие-то оправдания и причины. А это уже не наука.
Аммар БАГДАШ. В данный момент они не могут найти кризису даже такого рода оправданий. В прошлый кризис, 2008-2009 годов, они говорили, что во всём виноват либерализм, что это пережиток. А сейчас развивается кризис пострашнее прежнего, и они говорят, что во всём виноват вирус. То есть уже не находят объяснений в экономической сфере, а ищут в биологической.
"ЗАВТРА". Вот комета пролетела — она тоже оказала влияние на финансовое положение…
Аммар БАГДАШ. Когда не можешь найти социальное оправдание своей системе, а ищешь биологическое, зоологическое, расовое и бог знает, какое ещё, — это показатель бессилия. С каждым днём фиаско капитализма всё яснее. И у вас это тоже будет сильно выражено.
Повторюсь: я ни в коем случае не вмешиваюсь в дела вашей страны, но говорю как экономист: возможно, в военном плане вы — сильная держава, но по экономической структуре вы ближе к государству, существующему за счёт сырьевых поставок на международный рынок. Кризис обязательно ударит по данному сектору — возможно, не одновременно с ударом по центрам, но удар будет, и он окажется даже посильнее. Вспомните дефолт 1998 года, вспомните головокружительное падение рубля в 2014 году. Такие явления больше свойственны странам капиталистической периферии, чем странам-империалистическом центрам. От каждой экономики следует ожидать того, чем она является, последствия исходят от её структуры. То, чего можно ожидать от развитых экономик, таких, как Соединённые Штаты, Германия, Франция, Британия, Китай, нельзя ожидать от Аргентины, России, Саудовской Аравии, Мексики. Результаты работы экономик, последствия кризиса у этих стран будут разные, способы проявления разные. Но результат один и тот же — обеднение масс, притом очень сильное. Капиталистические центры ещё как-то могут с этим бороться, в том числе — за счёт периферии, а вот самой периферии будет намного тяжелей.
"ЗАВТРА". На этой не вполне оптимистической ноте позвольте закончить и поблагодарить вас за беседу. Но всё-таки возьмём с вас пример и будем оптимистами.
Аммар БАГДАШ. Благодарю и вас.

Главное оружие Ирана
беседа с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
Андрей Фефелов
Андрей ФЕФЕЛОВ. Господин Посол, Иран много лет находится под санкциями Западной Европы и США. Как ваша страна преодолевает эти санкции?
Казем ДЖАЛАЛИ. Во имя Всевышнего! Да, Исламская республика Иран с самого своего основания, с начала Исламской революции 1979 года находится под санкциями. Сегодня все народы мира знают, что Иран постоянно боролся и борется с этими санкциями.
Если мы будем перечислять причины, почему иранскому народу удаётся так долго сопротивляться, это будет очень длинный список. Однако можно указать на главное.
Первый фактор — это мудрое руководство. И Имам Хомейни, и аятолла Хаменеи — мудрые лидеры.
Второй фактор — это народ Ирана, который очень хорошо осознал философию своей революции. Философию, которая заключается в независимости, в том, чтобы не разрешать чужим вмешиваться в наши дела. Мы можем видеть это осознание народа на различных аренах нашей революции. Так, наш народ восемь лет сопротивлялся Саддаму Хусейну, которого поддерживали тогда многие страны мира.
Третья причина заключается в том, что мы следуем заветам Имама Хомейни — доказать, что мы можем стоять на своих ногах. Поэтому во многих сферах мы сейчас сами являемся производителями.
Санкции настолько велики и тяжелы, что если бы не было этих трёх факторов, на которые я указал, любая страна была бы уничтожена.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Исламская республика Иран сильно пострадала из-за эпидемии COVID-19. Насколько велики потери? Каков ущерб, нанесённый экономике страны?
Казем ДЖАЛАЛИ. Мы потеряли примерно 15 тысяч человек. И сейчас, к сожалению, некоторое число наших сограждан ежедневно умирает.
Нет сомнений, что пандемия есть везде, и, к сожалению, многие люди во всех странах мира каждый день из-за неё уходят из жизни.
Однако в Иране в некоторых смыслах эта ситуация отличается. Мне кажется, что санкции очень влияют на гибель людей. В первую очередь — в плане обеспечения медикаментами. Американцы сказали, что у Ирана нет никаких проблем с поставками медикаментов, и что Иран может обеспечивать людей необходимыми препаратами. Однако это ложь и лицемерие.
Во-первых, мы не можем пользоваться финансовыми ресурсами, которые "заморожены" в других странах. Ими не разрешается пользоваться даже в ситуации, когда наш народ находится в тяжёлом состоянии. Во-вторых, американцы заблокировали банковскую систему, и даже если у нас есть деньги, мы не можем производить с ними какие-либо операции.
Конечно, в ситуации коронавирусной пандемии мы и не ждали, что с нас снимут санкции. Мы не просили, чтобы нас жалели. В этой сложной обстановке наше правительство, наши вооружённые силы, наш народ явили такие картины действия, подобных которым нет в мире.
Андрей ФЕФЕЛОВ. А какова позиция Ирана в связи со статусом Каспийского моря? Насколько Иран удовлетворён существующим положением вещей?
Казем ДЖАЛАЛИ. В последние годы были проведены очень успешные переговоры относительно статуса Каспия. В Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в августе 2018 года всеми пятью прикаспийскими странами: Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Туркменистаном, — очень много положительного. Почти по 90% вопросов у нас есть консенсус и единая точка зрения. По очень важному вопросу окружающей среды на Каспии у пяти стран есть полное взаимопонимание. По ещё одному важному вопросу, о недопущении чужих иностранных сил к Каспию, тоже есть согласие всех сторон.
Некоторые вопросы мы надеемся обсудить в ходе дальнейших переговоров. Это вопросы исходной линии и недр. С учётом взаимопонимания, которое существует между пятью странами, это решаемо.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Вновь, увы, разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном. Какова позиция Ирана в этом вопросе?
Казем ДЖАЛАЛИ. Армения и Азербайджан являются нашими соседями. Поскольку конфликт между ними может распространиться на весь регион, все страны должны стремиться как можно быстрее его затушить.
Мы считаем, что наилучшим способом разрешения конфликта являются прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном. Исламская Республика Иран всегда старалась в этой связи играть положительную роль. И мы надеемся, что путём терпения и сотрудничества между соседями и странами региона это вопрос будет решён.
Андрей ФЕФЕЛОВ. "Астанинская тройка" в составе России, Ирана и Турции была создана с целью урегулирования ситуации в Сирии. Насколько устойчиво взаимодействие держав в рамках Астанинского процесса?
Казем ДЖАЛАЛИ. Я думаю, что Астанинский процесс являлся и является одним из самых успешных механизмов для разрешения сирийского конфликта. Если вы посмотрите на другие механизмы, которые были предложены или созданы с той же целью, вы поймёте, что это именно так.
В любом случае сирийский вопрос — это такой вопрос, на который надо смотреть под несколькими углами. Первое — это нахождение в Сирии террористов, которые очень опасны и для региона, и для мирового сообщества. И они до сих пор опасны. Иран и Россия очень успешно вместе борются с терроризмом.
Второе — это поддержание стабильности внутри Сирии и существование там центральной власти. Посмотрите на Ливию! Центральная власть уничтожена в этой стране, и до сих пор Ливия не может обрести стабильность. Эту вторую задачу в Сирии мы смогли решить благодаря солидарности Ирана и России.
Третье — это вопрос будущего Сирии. Чтобы можно было в рамках политического процесса, в рамках межсирийских переговоров, собрать всех сирийцев и решить вопрос будущего. Благодаря Астанинскому процессу для этого созданы хорошие условия.
Таким образом, мы смотрим на Астанинский процесс как на интеграцию между Ираном, Россией и Турцией и оцениваем его положительно.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Влияние Ирана в Сирии достаточно велико, и оно, скорее всего, будет расти. Какие цели ставит перед собой Иран, осуществляя это влияние?
Казем ДЖАЛАЛИ. Наши отношения с Сирией — это исторические отношения, они имеют давние корни. Даже во время войны Саддама против Ирана Сирия была одной из самых верных арабских стран, то есть государство и народ Сирии поддержали Иран. Иранский народ — благодарный народ. У нас хорошая историческая память, и мы не забываем ни добра, ни зла.
Сейчас уже доказано: всё, что Исламская Республика Иран и Россия говорили о Сирии, — это были правильные вещи. Если бы правительство Сирии было свергнуто, представьте, кто бы сидел на его месте? На месте правительства Башара Асада сидели бы террористы, которые ножами отрезали головы своим жертвам. Сидели бы те люди, которые из высоких зданий выбрасывали людей. Сидели бы те люди, которые заживо сожгли иорданского лётчика внутри клетки. Сидели бы те люди, которые продавали сирийских женщин на рынках в качестве наложниц.
Террористы, которые были в Сирии и в Ираке, — это новое поколение террористов, отличающееся от старых. У новых террористов были деньги и возможности, хорошее оборудование. Их поддерживали региональные и внерегиональные державы. Поэтому противодействие иранского народа террористам и помощь центральной власти в Сирии — это была принципиальная борьба. И это, конечно, способствовало укреплению отношений между двумя народами в эмоциональном плане.
Мы верим, что судьба сирийского народа в его руках, и сирийцы своим выбором будут определять эту судьбу. Мы не вмешивались и не намерены впредь вмешиваться во внутренние дела Сирии.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Недавно прошла операция специальных сил Исламской республики Иран в Курдистане. Параллельно шла операция и со стороны военных Турции. Значит ли это, что отношения между Ираном и Турцией на этом направлении укрепились?
Казем ДЖАЛАЛИ. У нас с Турцией по многим направлениям близкие позиции. Турция — наш сосед, и мы всегда стремились к тому, чтобы иметь хорошие отношения с турками. Наши страны имеют большой экономический, исторический и культурный потенциал. Нас многое сближает. Турецкий народ — это мусульманский народ, мы единоверцы. Во многих сферах мы сотрудничаем.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Ещё одна проблемная зона — Афганистан. Есть ли какая-то координация дипломатических усилий Москвы и Тегерана на этом направлении?
Казем ДЖАЛАЛИ. Афганистан — страна, которая является нашим соседом. И, естественно, стабильность или нестабильность в этой стране влияют на национальную безопасность Исламской Республики Иран. У нас протяжённая общая граница с Афганистаном. Есть много вопросов, которые обязывают нас стремиться к тому, чтобы в этой стране были мир и стабильность.
Как вам известно, недавно состоялся успешный визит министра иностранных дел Афганистана в Иран. А заместитель по политическим вопросам министра иностранных дел Ирана уважаемый Аббас Аракчи совершил хорошую поездку в Афганистан. Мы надеемся, что межафганские переговоры вскоре будут проведены, и будет достигнуто некое единство между афганцами по вопросам будущего этой страны.
Для Исламской Республики Иран стабильность, безопасность и целостность Афганистана очень важны. Также для нас важно, чтобы в этой стране был республиканский строй, демократия, чтобы корни терроризма внутри Афганистана высохли.
Всё это требует налаживания диалога между различными группами в Афганистане. Мы считаем, что присутствие внерегиональных сил: хоть в военном, хоть в политическом плане, — нанесёт вред Афганистану.
Исламская республика Иран всегда приветствует консультации с региональными странами по вопросу Афганистана. Естественно, Россия является одной из важных стран, с которой мы советуемся.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Похоже, что Израиль любой ценой готов ограничивать влияние Ирана в Сирии и в регионе в целом. Как вы считаете, политика США идёт в канве интересов Израиля?
Казем ДЖАЛАЛИ. Это действительно так. И американцы, и израильтяне стремятся не позволить Ирану иметь влияние в регионе. Однако корни их взглядов, их подходов имеют дефект. Поскольку они не разобрались в сути вопроса, они предлагают неправильные решения.
Они говорят, что Исламская республика Иран с помощью денег и оружия распространяет своё влияние в регионе. Но тогда возникает вопрос: мы же страна, которая находится под санкциями, и у нас нет особых финансовых ресурсов. А рядом с нами есть очень богатые страны, которые тратят в регионе миллиарды долларов. И в нашем регионе, и вне его пределов есть государства, которые поставляют в регион огромное количество оружия. Почему же эти страны не имеют и десятой доли того влияния, которое есть у Исламской республики Иран?
Мы не отрицаем своего влияния. У нас есть влияние, однако наше влияние не основывается на деньгах или военной силе. Главное оружие Ирана — это комплекс идей. Наше влияние опирается на наш диалог, на наш дискурс, инициированный Имамом Хомейни в Иране и распространившийся на весь регион. Наш лозунг сопротивления исходит из принципа справедливости, из принципа "верить себе". Поэтому мы советуем американцам и израильтянам: если хотите уничтожить наше влияние, побольше читайте, и тогда будете знать, о чём идёт речь.
Аналогичную ошибку они совершают и по внутренним вопросам Ирана. Некоторые оппозиционеры, которые очень любят деньги, из Ирана поехали на Запад. И постоянно дают, как говорится, неправильный посыл американцам. Уже 40 лет они говорят: "Исламская Республика Иран вот-вот (через два месяца, через три) исчезнет!"
А эти западные страны ни разу не спросили у оппозиционеров: "Почему вы доставляете нам неверную информацию? Почему вы говорите, что через два-три месяца Исламская Республика исчезнет, а она до сих пор на месте?" Ответ очевиден: иранская оппозиция хочет получать деньги и потому должна произносить те слова, которые нравятся США и другим западным странам.
И ещё возникает вопрос: почему у американцев, которые очень много тратят в нашем регионе, нет влияния? Ответ ясен: потому что американцы не выполняют в регионе того, о чём заявляют на мировом уровне. Американцы говорят, что придерживаются принципа либеральной демократии, а на деле поддерживают самые деспотические страны в регионе. У молодёжи, которая живёт в этих странах с очень опасными режимами, нет работы, нет никаких возможностей. Они на кого смотрят и какую причину ищут? Поэтому и секрет нашего влияния и секрет невлияния Америки и других стран очень легко можно понять.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Провокации нынешнего года, в том числе теракт в отношении генерала Сулеймани, показали, что какие-то силы в США и в Израиле заинтересованы в эскалации конфликта. Насколько этот сценарий реалистичен?
Казем ДЖАЛАЛИ. Это верно. Они добиваются эскалации ситуации в регионе. Террор в отношении генерала Сулеймани — это, с одной стороны, потеря. Но с другой стороны, это для нас победа. Потеря в том смысле, что мы потеряли великого генерала. Однако наша победа и потеря для американцев заключается в том, что лицо генерала Сулеймани, как генерала сопротивления, стало известным и ясным для всего мирового сообщества.
Посмотрите на церемонию похорон генерала Сулеймани, проходившую от Ирака до юга Ирана, потом через города Тегеран, Мешхед и Керман! Мы сами не ожидали такого масштаба похорон. Подумайте, сколько нам потребовалось бы потратить денег, чтобы создать образ генерала Сулеймани и показать миру! Его смертью этот вопрос для мирового сообщества решён. Позиции, которые заняли разные страны и ООН в этом вопросе, показывают, что действия США были абсолютно противозаконными.
Андрей ФЕФЕЛОВ. А каково состояние военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном? А также сотрудничества в области ядерной программы?
Казем ДЖАЛАЛИ. Сотрудничество Ирана и России в области ядерной энергии имеет давнюю историю. Россия — это страна, которая создала первую атомную станцию в Иране. Нами были заключены контракты на создание второго и третьего блока АЭС в Иране, и русские сейчас занимаются строительством этих блоков. Наше сотрудничество в области мирного атома очень серьёзно.
С другой стороны, с Россией, как сильной страной, которая является членом СВПД, мы сотрудничаем и в области политического атома.
Что касается военно-промышленного оборонного комплекса, то во время войны с Саддамом мы почувствовали, что нам надо укрепиться. Тогда никто нам не помогал. С того времени мы начали работать в этом направлении и приобрели много технологий. Однако мы заинтересованы в том, чтобы продолжать военно-техническое сотрудничество с дружественными нам странами. Одной из таких стран с большим потенциалом является Россия. Мы сотрудничали с Россией и раньше, и в дальнейшем будем сотрудничать.
Андрей ФЕФЕЛОВ. Большое спасибо, господин Посол!
Казем ДЖАЛАЛИ. Я также благодарю вас и желаю вам успехов!

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом, Москва, 21 июля 2020 года
Уважаемые дамы и господа,
Мы провели переговоры с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом. Ценим, что он прибыл в Москву уже второй раз за месяц, несмотря на известные проблемы, которые коронавирусная инфекция создает для дипломатии.
Перед нашими переговорами господин Министр передал послание Президента Исламской Республики Иран Х.Рухани Президенту Российской Федерации В.В.Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, и затем мы провели переговоры в Особняке МИД России.
С удовлетворением отметили насыщенный характер двустороннего политического диалога, в том числе на высшем уровне. Как вам известно, 16 июля состоялся телефонный разговор двух президентов.
Поступательно развиваются прямые межведомственные связи, включая контакты по линии министерств здравоохранения, которые обмениваются опытом по противодействию распространению COVID-19. С нашими иранскими друзьями мы также едины в том, что совместными усилиями побороть вирус проще и эффективнее.
Отметили успехи по продвижению торгово-инвестиционного сотрудничества, достижению которых способствовала последовательная реализация договоренностей наших лидеров. Акцентировали недопустимость и нелегитимный характер односторонних ограничительных мер, которые нацелены на блокирование внешнеэкономических связей Исламской Республики Иран. Подтвердили планы по дальнейшей реализации перспективных двусторонних проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Высоко оценили деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С учетом ситуации с коронавирусной инфекцией постараемся провести ее очередное заседание осенью в России.
Приветствовали интерес как российских, так и иранских регионов к расширению сотрудничества, который мы будем и впредь поощрять.
Сверились по ключевым глобальным и региональным проблемам. У нас в оценках есть полное совпадение или значительная близость позиций. Подробно обсудили различные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). 14 июля этому важному соглашению исполнилось пять лет. Соглашение действительно способствовало обеспечению глобальной стабильности и безопасности. Мы едины в необходимости приложить все усилия, чтобы его сохранить. Убеждены, что только равноправное и конструктивное взаимодействие как между его участниками, так и в рамках МАГАТЭ будет способствовать сохранению компромиссных договоренностей, закрепленных резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.
Обменялись мнениями по положению дел в Сирии, в том числе с учетом итогов организованной 1 июля по инициативе иранской стороны трехсторонней видеоконференции глав государств – гарантов Астанинского процесса – России, Ирана и Турции. Условились и далее координировать наши действия в целях достижения долгосрочного мира и улучшения гуманитарной ситуации в этой многострадальной стране.
Обменялись также оценками ситуации в Афганистане и вокруг него, в отношении кризиса в Йемене и ближневосточного урегулирования, решения проблем, связанных с палестино-израильским конфликтом.
Считаем итоги переговоров весьма удовлетворительными. Договорились поддерживать плотные контакты по всем этим вопросам.
Вопрос (перевод с фарси): В своём выступлении Вы отметили Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Через восемь месяцев ему исполнится 20 лет. Хочет ли Россия продлить действие договора или, может, расширить его и придать всеобъемлющий характер?
С.В.Лавров: Мы сегодня об этом говорили. Безусловно, договор является очень важным документом в наших двусторонних отношениях. Он так и называется: Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Документ охватывает ключевые направления нашего сотрудничества. В нём самом заключено положение о возможности автоматического продления в следующем году на очередные пять лет. Это всегда можно сделать, но мы сегодня сошлись во мнении, что 20 лет – это большой срок, тем более именно последние 20 лет, в которые произошли серьезнейшие, глубинные изменения на международной арене в том, как развивается миропорядок с точки зрения экономики, политики и угроз, стоящих перед всем человечеством. Это терроризм, другие виды организованной преступности, изменение климата, вирусы, которые сегодня у всех на слуху. По этим вопросам у нас общая позиция, которую мы будем докладывать руководителям наших стран – о том, чтобы подумать о согласовании нового документа, отражающего глубинные перемены, произошедшие в мире, и формулировать наши совместные позиции в этих новых условиях.
Вопрос: Какую роль может сыграть Российская Федерация в урегулировании ситуации в районе Персидского залива, в диалоге между Ираном и арабскими странами? По Вашему мнению, имеет ли еще право на существование инициатива России по коллективной безопасности в то время, когда американцы и европейцы пытаются ее «снести»?
С.В.Лавров: Мы всегда выступаем за то, чтобы проблемы любого региона, а Ближний Восток, Север Африки - это один из ключевых регионов мира, решались через диалог с вовлечением всех соответствующих государств через поиск баланса интересов. У каждой страны есть свои законные интересы в тех регионах, где располагаются соответствующие государства. Их нужно уважать. Внешние игроки, конечно, по нашему глубокому убеждению, должны содействовать созданию условий для такого инклюзивного диалога и всячески избегать попыток «вбивать клинья» в отношения между соответствующими странами, сеять конфронтацию в расчете получить геополитические односторонние преимущества. Такие попытки мы, к сожалению, наблюдаем. Печально, что этот подход некоторых наших западных коллег распространяется и на мусульманские страны, когда в исламский мир пытаются привнести противоречия, которые в значительной степени носят искусственный, ненужный, контрпродуктивный характер.
Мы убеждены, что провозглашенные в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС) принципы должны уважаться и претворяться в жизнь. Эти принципы требуют формулирования общих подходов исламского мира к ключевым проблемам современности и взаимодействия между всеми исламскими странами, что прямо вытекает из названия ОИС. Россия как наблюдатель в ОИС стремится всячески способствовать созданию именно такой позитивной, объединительной атмосферы.
Опыт взаимодействия России, Ирана, Турции по урегулированию сирийского кризиса показывает, что это очень правильный, позитивный путь. Упомяну, что в рамках Астанинского процесса вместе с Россией, Ираном и Турцией участвуют и арабские страны, в частности Иордания, Ирак. Это показатель того, как мусульмане, будь то арабы или другие этнические группы, могут с пользой для дела объединять свои усилия. Такое сложение усилий всех мусульман и всех заинтересованных внешних игроков требуется не только в отношении сирийского кризиса, но и Йемена, Ирака, Ливии и, конечно, вывода из тупика ближневосточного, палестино-израильского урегулирования, которое сейчас весьма остро сказывается на всей обстановке в этом регионе.
Что касается ситуации в Персидском заливе, то мы подходим к ее решению с тех позиций, о которых я только что сказал. Единственный путь - это не создавать какие-то коалиции наподобие «ближневосточного НАТО», о чем сейчас говорят наши американские коллеги. Это опять конфронтационный подход, основывающийся на стремлении изолировать кого-то одного и продолжать насаждать конфронтационные подходы в этом, повторю, ключевом регионе.
Мы продвигаем нашу инициативу по обеспечению безопасности, мира и сотрудничества в Персидском заливе на основании подхода, объединяющего все прибрежные страны, которые могут содействовать этому процессу. Предлагаем, чтобы в этом процессе участвовали и внешние игроки, включая постоянных членов СБ ООН, ЕС, ЛАГ, ОИС. Думаю, в конечном итоге именно такой подход возобладает, поскольку иначе обеспечить устойчивое, стабильное развитие региона в интересах всех проживающих здесь народов просто невозможно. В этом же направлении идет иранская инициатива о безопасности в Ормузском проливе, о которой только что упомянул мой коллега и друг.
Честно говоря, не могу сказать, что инициатива о выстраивании системы коллективной безопасности в Персидском заливе встречает противодействие со стороны стран этого региона. Наверное, застарелые фобии, обиды, проблемы из прошлого, которые переносятся в сегодняшний день, затрудняют согласование общих подходов. Но то, что этот путь верный, и то, что мы будем добиваться формирования здесь консенсуса, у меня сомнений не вызывает.
Вопрос (перевод с фарси): Американцы говорят о «максимальных» и «минимальных» шагах для продления оружейного эмбарго против Ирана. Иными словами, они хотят на неопределенный срок продлить санкции, которые должны быть сняты через несколько месяцев в соответствии с СВПД. Какова позиция России как одного из позитивных участников ядерной сделки?
С.В.Лавров: Совет Безопасности ООН не вводил оружейного эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Исламской Республики Иран. СБ ООН ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран. Этот режим применяется на ограниченный период времени, который истекает в октябре. Любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить его, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких правовых, политических, моральных оснований.
Отмечу, что соответствующее положение в резолюции 2231 было не просто внесено на временной основе, но включено в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, причем не имеющая никакого отношения к иранской ядерной программе как таковой. Поэтому наша позиция ясная: мы против подобного рода попыток. Не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом. Мы распространили в Нью-Йорке нашу позицию в рамках соответствующего документа. Там изложены все те основания, на которых мы ее выстраиваем.
Вопрос: Иран подал заявку на членство в ШОС в 2008 г. Если в 2017 г. Индия и Пакистан стали полноправными участниками этой организации, то Иран продолжает оставаться наблюдателем. Какие препятствия есть для вступления Ирана? Когда можно ожидать его полноценного участия в ШОС?
С.В.Лавров: Препятствий для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, мы не видим. Считаем, что Иран по всем критериям отвечает этому статусу. Россия с самого начала активно поддержала иранскую заявку. Для того чтобы она была одобрена, необходим консенсус, над формированием которого мы сейчас работаем.
Вопрос: Действительно ли у бывшего советника по нацбезопасности Президента США Дж.Болтона были основания цитировать в своих воспоминаниях якобы слова Президента Российской Федерации В.В.Путина, что «русским в Сирии иранцы не нужны»?
С.В.Лавров: Думаю, что у господина Дж.Болтона не было никаких оснований, как вы сказали, цитировать Президента России В.В.Путина, хотя бы потому, что Президент ничего подобного никогда не произносил. Это не в наших правилах, традициях и уж тем более не в правилах лично Президента России В.В.Путина пытаться разыгрывать подобного рода вещи за спиной наших партнеров.
Мы активнейшим образом взаимодействуем с Ираном и Турецкой Республикой в САР. Напомню, что именно формирование этой тройки в качестве гарантов Астанинского формата позволило сдвинуть с «мертвой точки» никуда не развивавшийся т.н. женевский процесс. Именно после того, как Иран, Турция и Россия решили помочь сирийцам двигаться в направлении урегулирования и решать проблемы в военно-политической, гуманитарной и политической областях, началось какое-то движение и со стороны ООН. Сейчас именно наша тройка играет роль катализатора всех тех процессов, которые международное сообщество стремится продвигать в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.
Не буду комментировать в принципе стремление или уже привычки американских отставных деятелей писать мемуары, причем в такой форме и в таком виде, который сопряжен с судебными разбирательствами, предъявлением друг другу претензий. Это, наверное, часть того, что можно было бы назвать специфической политической культурой, если бы это не было совсем другим явлением, нежели то, что мы обычно понимаем под словом «культура».

Главное, есть о чём писать
Лучшие друзья человечества не стрелы и лук, а литература и знания
Ермакова Анастасия
В канун своего 60-летия известный писатель, председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов делится с «ЛГ» своими тревогами о судьбе отечественной словесности.
– С каким настроением подходите к своему юбилею? Всё ли удалось осуществить, что задумано, или есть ещё какие-то грандиозные планы на будущее?
– В первую очередь я хочу выразить сердечную благодарность «Литературной газете» за то, что вспомнили о моём юбилее. Огромное спасибо!
Что касается настроения, то я считаю, что шестьдесят лет – это возраст зрелости и наибольшей ответственности писателя. Поэтому настроение рабочее. Так и должно быть, если выбрал этот путь.
На него я вступил уже в зрелом возрасте, уже был некий опыт, который, как мне кажется, помог совершить этот увлекательный, интересный, трудный и порой очень опасный путь в современной литературе.
Получилось или нет? Не мне судить. Но я очень рад, что двенадцать лет работал над подготовкой книги «Академик Пётр Захаров». Это труд про художника, и в нём немало открытий.
Литература и писатель – особый мир, проекция состояния общества. И это не только история, описание каких-либо событий, это вектор будущего развития. Я удовлетворён тем, что в своё время с натуры смог объективно, на мой взгляд, отобразить трагические события, которые разворачивались на моей родине. При этом я не занимал ничьих позиций. Я пытался смотреть на ужасы войны глазами наиболее пострадавших: хилого старика – «Прошедшие войны», одинокой женщины – «Аврора» – или ребёнка-сироты – «Детский мир».
Благодаря литературе я побывал в Хазарии, Алании и Византии – «Учитель истории». Я участвовал в сражениях Тимура и Тохтамыша на Тереке – «Сказка Востока». Я узнал, как развалился Советский Союз – «Седой Кавказ» – и как становилась новая демократия и свободные выборы в России – «Дом проблем». А сейчас заканчиваю роман под красивым названием «Маршал».
Литература – это моя жизнь и стихия! И я в последнее время осваиваю новые жанры: эссе, драматургию, поэзию. Это то, с чего я в юности начинал. А ещё тянет к мемуарам. Ведь я и моё поколение повидали немало. Столько событий. Столько радикальных изменений в жизни, политике, культуре. Столько встреч с разными людьми. Словом, планов много. Что смогу осилить – не знаю. Но, подводя рубежный итог, скажу, очень и очень рад, что осуществил мечту своего детства – стал писателем, и постараюсь писать до конца.
– Как переживают писатели Чечни это сложное время, связанное с пандемией? Существенно ли изменилась лично ваша жизнь с приходом вируса? Повлияла ли тревожная обстановка на творчество?
– Писатели Чечни, как и все люди, с тревогой и волнением переживают это неожиданно сложное время. Лично моя жизнь с наступлением коронавируса изменилась значительно.
Так, к примеру, с 15 по 21 апреля в Дубае должна была состояться ежегодная Международная книжная выставка-ярмарка, где Россия была бы почётным гостем, и в рамках этого события планировалась презентация моего романа «Стигал», изданного на арабском языке. Также в апреле была запланирована поездка на международную конференцию в Саудовскую Аравию. В мае должны были состояться поездки в Грузию, где вышли мои три романа, там сейчас работают над переводом и изданием собрания моих сочинений и постановкой моей пьесы; во Вьетнам, где тоже вышли в свет мои романы… Всё изменилось, всё перенесено.
Пандемия, будем искренне верить, пройдёт! Мир, как разбухшая по весне река, чуть вскипит, вспенится и вновь прильнёт к привычным берегам. А литература, настоящая литература, обогатившись и запечатлев новые события и идеи, останется навсегда.
– Знаю, что Союз писателей Чечни активно поддерживает литераторов республики. Какие программы есть в этом году, какие культурные мероприятия планируются?
– История любого народа – в книгах. Мой дед постоянно сокрушался, что из-за депортации исчезла небольшая уникальная семейная библиотека. С возрастом я стал думать об этом в сравнении с иными потерями. Так, у моих деда и бабушки было двенадцать детей. В 1958 году, когда они вернулись из Казахстана на Кавказ, у них осталось только четверо детей. Об этом плакала бабушка, а дед вновь и вновь – о книгах… Из-за депортации наш народ понёс колоссальный урон в материальной культуре.
Распоряжением главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова несколько лет назад разработана программа по восстановлению исторического наследия. В рамках реализации этой программы немаловажную роль исполняет Союз писателей. Мы занимаемся поиском и классификацией исторического наследия во многих фондохранилищах России и мира.
Найденные архивные материалы возвращаются к жизни и на родину тогда, когда они органично проникают в структуру высокохудожественной литературы. Так что чеченским писателям, и прежде всего лично мне, есть о чём писать. И надо писать.
Что касается поддержки членов Союза, у нас, как и в иных писательских организациях, много пожилых и тяжелобольных писателей. И мне приятно сообщить, что в это тяжёлое время руководство республики оказало значительную помощь писателям – ветеранам и их семьям. Также поддерживаем и молодых поэтов и прозаиков. Хотя 2020 год очень непростой. Я думаю, что из-за эпидемии более всего пострадают творческие общественные организации. Это уже ощутимо.
Тем не менее в этом году Союз писателей Чеченской Республики уже выпустил шесть книг, и три из них мне особенно хочется отметить, потому что они связаны с особой датой – 75-летием Великой Победы. Это переизданная в серии «Классики чеченской литературы» книга Халида Ошаева «Брест – орешек огненный» – о наших земляках, героических защитниках Брестской крепости.
Также в рамках этой серии ко Дню чеченского языка мы выпустили книгу участника Великой Отечественной войны Умара Гайсултанова.
И наконец, ко Дню Победы мы подготовили юбилейное красочное издание о писателях Чечено-Ингушетии – участниках Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, я хочу упомянуть некоторых из них: это Герой Советского Союза Мовлид Висаитов, Михаил Лукин, Бисолт Габисов, Багаудин Зязиков, Сергей Златорунский, Али Пайхаев и другие.
– Традиционный, но очень важный вопрос: как обстоит в республике дело с переводами с чеченского на русский и наоборот? На каком языке больше пишут и много ли билингвальных авторов?
– Как только затрагивается тема перевода, то сразу вспоминаем эталонное советское время, когда взращивалась школа литературных переводчиков. Ныне всего этого нет и перевод произведений в основном дело энтузиастов. Вместе с тем, говоря о переводах, нельзя не отметить проведённую в последнее время работу Организационного комитета по поддержке литературы и чтения в Российской Федерации, который реализовал программу поддержки национальных литератур народов нашей страны, и уже вышли в свет антологии «Проза», «Поэзия» и «Детская литература». Ждёт выхода антология «Драматургия». Это очень нужный и важный проект для единого и сплочённого звучания национальных литератур на великом русском языке.
– Насколько востребованы литературные журналы чеченскими читателями? И вообще книги современных чеченских авторов? Или чтение остаётся уделом избранных?
– Мы живём в одном культурно-историческом пространстве, и поэтому те проблемы, которые есть в Москве и других регионах России, есть в той или иной степени и у нас.
Литературные журналы выходят всё реже и реже. Тиражи бумажных версий журналов всё меньше и меньше. Гонорары авторов – мизерны или вообще отсутствуют. Финансирование слабое. Тем не менее, на мой взгляд, материалы в журналах очень интересные, разнообразные и свежие.
Что касается книг и чтения, то и здесь ситуация общая: читают мало. Покупают ещё меньше, потому что, например, все мои книги – пиратские версии – есть в свободном доступе в Сети. И меня сейчас это даже радует. Значит, востребованы, спрос есть, читают. Уже хорошо.
– Развивается ли детская литература? Читают ли детям произведения современных авторов или всё-таки в основном классику?
– Несколько лет назад мне позвонила знакомая из Европы и попросила прислать книги для ребёнка на чеченском языке. Я пошёл в книжный магазин, а там книг для детей на родном языке нет. С тех пор Союз писателей каждый год выпускает более десятка красочных детских книг современных авторов на чеченском языке. Правда, в этом проекте тоже много проблем. Очень мало профессиональных художников-оформителей детских книг, учитывающих национальный колорит и стиль. А детская книга должна быть яркой, качественной, без вредных типографских красителей, по доступной цене и с большим тиражом.
– Как в целом оцениваете литературный процесс в республике? Вы сами стали известным автором всероссийского масштаба. А каковы шансы добиться известности у национального автора и какую поддержку ему надо оказать на государственном уровне?
– Каждый год Союз писателей Чеченской Республики издаёт более двадцати книг на русском и чеченском языках. При этом выпускаются в основном только новые произведения. Ежегодно проводятся литературные конкурсы. При Союзе создан молодёжный семинар «Синмаршо», дважды в год издаются сборники произведений молодых авторов.
Сегодня наши произведения переводятся на многие языки мира, участвуют в престижных всероссийских и международных конкурсах, книжных ярмарках и литературных фестивалях.
Регулярно члены Союза писателей встречаются со школьниками и студентами, пропагандируя чтение и литературу.
Ежегодно в Союз писателей принимаем более десятка авторов, в основном это молодые люди. И мне хочется особо отметить, что в наших рядах и с нами тесно сотрудничают писатели не только из Чечни и России, но и авторы, проживающие в Европе, Турции, Иордании, США и Израиле.
В целом, по моему мнению, литературный процесс у нас развивается. Тем не менее острые вопросы и проблемы есть, и они всегда были и будут.
Мне кажется, что на первую часть данного вопроса я ответил. А что касается шансов добиться известности у национального автора и какую господдержку оказать? Вопрос очень сложный, многогранный, и однозначного ответа на него у меня нет. Но пару слов по этому поводу хочется сказать. В основе успеха и известности – усердный труд. А меня всегда подбадривает откровение Эйнштейна: «Я занимаюсь любимой физикой, а мне за это ещё и деньги дают». Это я к тому, что не литература, а учёная степень помогла мне жить все эти годы. К сожалению, сегодня у нас и учёные не в почёте. Профессор-преподаватель получает меньше, чем участковый лейтенант. А если этот преподаватель читает экономику, где во главе всего закон стоимости и всё по труду, то получается, что литература – хобби. А некоторые творческие союзы и литобъединения – словно кружки художественной самодеятельности.
Впрочем, никто меня об этом, в смысле писать, не просил. И никто мне ничего не обещал и не обязан помогать. Лишь бы не мешали... А вообще, мне кажется, что возникшая в данный момент в мире ситуация с коронавирусом показала, что лучшие друзья человечества не стрелы и лук, а литература и знания. И если государство и общество не поддерживают свою литературу и своих писателей, то начинают господствовать другие литературы, культуры и языки.

Горячие темы холодной войны
Правда ли, что высокопоставленные российские лица встречались с Риядом Хиджабом?
Рами Аль-Шаер
Создается такое впечатление, что одновременно с вступлением в силу так называемого «Закона Цезаря» развернута информационная кампания, цель которой – помешать усилиям России и «астанинской группы» по урегулированию сирийского кризиса.
В последнее время в ряде СМИ, на сайтах, в программах различных спутниковых телеканалов появились сообщения о том, что «Франция и Россия обсуждают проблему Идлиба, игнорируя Турцию». В этих сообщениях также делается попытка объяснить цель контактов «российских дипломатов» с сирийскими политическими деятелями в Дохе и Женеве.
В этой связи хотелось бы отметить, что в соответствии с традициями российской дипломатии, как правило, публикуются официальные сообщения о встречах между российскими дипломатами и представителями сирийской оппозиции, особенно если речь идёт о встречах на высоком уровне. Однако в настоящее время бросается в глаза та огромная разница, которая существует между фейковыми сообщениями и реальными шагами по урегулированию сирийского конфликта, облегчению страданий сирийского народа, попытками убедить сирийскую сторону в необходимости активизации межсирийского диалога, работы конституционной комиссии, запуска мирного политического процесса на основе решений, принятых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН. К числу таких реальных шагов относятся и встречи российских дипломатов с представителями оппозиции и правящего режима в Дамаске. На этих встречах речь идёт о межсирийском диалоге, о сирийской инициативе, касающейся шагов по скорейшему достижению соглашения между представителями всех политических сил о конституционных поправках, запуске процесса политического транзита власти в соответствии с волей сирийского народа, подготовке к парламентским и президентским выборам при активном участии ООН в наблюдении за выборами. Именно в этом суть российской позиции по отношению к сирийской проблеме, участия России в разработке дорожной карты урегулирования конфликта в Сирии.
В резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН подтверждена необходимость диалога между двумя сторонами – правящим режимом и оппозицией. В этом документе речь идёт не о свержении режима, а о механизме диалога и переговоров как единственном пути для достижения сирийцами соглашения о решении всех стоящих перед страной проблем, и в том числе, проведения парламентских и президентских выборов как естественного и законного права граждан Сирии выбирать руководство страны.
Поэтому всё, что говорится в последние дни об «обсуждении» проблем, о «контактах» с новыми фигурами сирийской оппозиции, о неких «обходных путях», ложно приписываемых российской дипломатии, о не соответствующих истине «заявлениях» для прессы, не имеет ничего общего с теми встречами и другими шагами, которые, насколько мне известно, предпринимают российские дипломаты на различных уровнях. Единственным заслуживающим доверия источником информации здесь является официальный сайт Министерства иностранных дел России.
Тенденциозная информационная кампания, развернутая одновременно с вступлением в силу так называемого «Закона Цезаря», предусматривающего введение более жестких санкций в отношении Сирии, направлена на то, чтобы помешать предпринимаемым Россией совместно с партнерами по «астанинской группе» усилиям и шагам, которые привели к соглашениям о создании зон деэскалации на всей территории Сирии, к проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, и что самое важное – к ликвидации международных террористических организаций, действовавших в Сирии.
Эта информационная кампания направлена также на то, чтобы вбить клин в отношения между Россией, Турцией и Ираном, помешать координации усилий между этими странами, расколоть «астанинскую группу». В этой связи достаточно привести в качестве примера сообщение о том, что «Франция и Россия обсуждают проблему Идлиба, игнорируя Турцию». Эту новость буквально подхватили многие СМИ и информационные сайты, не удосужившись обратить внимание на то, что её содержание противоречит логике и здравому смыслу. Такое впечатление, что все СМИ, получив указания «сверху», из «единого оперативного штаба», немедленно приступили к выполнению возложенной на них задачи – искажению сути российской внешней политики, предпринимаемых Россией усилий по решению других международных и региональных проблем, таких, как ливийский конфликт. Всё это совпало во времени с очередным обострением отношений между Египтом и Эфиопией, действиями Турции на севере африканского континента и влиянием этих событий на позицию ближневосточных стран, и в частности, государств Персидского Залива. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с целенаправленной информационной кампанией, в которой участвуют различные СМИ, получающие указания из единого центра, обслуживающего интерес определённых международных и региональных сил. Цель этой кампании – помешать усилиям и шагам ООН по урегулированию сложных международных проблем на основе соблюдения международного права, уважения государственного суверенитета и признания права народов на самоопределение. Именно такой является российская внешняя политика, основанная на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся урегулирования упомянутых проблем.
На мой взгляд, арабские страны должны присоединиться к усилиям, прилагаемым «астанинской группой» для того, чтобы положить конец страданиям сирийского народа. Лига арабских государств также должна поддержать все шаги и инициативы, направленные на прекращение страданий народов региона.
Сегодня информация становится главным и эффективным оружием. Однако в ход часто идут нечистоплотные методы, во многих случаях средствам массовой информации не хватает объективности в освещении той или иной проблемы. Этим пользуются некоторые международные силы, преследующие свои собственные интересы. В ряде случаев не соблюдаются те принципы, к которым мы все привыкли в прошлом. Речь идёт об объективности, непредвзятости, нейтральности, соблюдении профессиональной этики. Зачастую жертвами информационных атак становятся целые народы – жертвы смут, заговоров, межконфессиональных и межрасовых конфликтов, угроз и разногласий, которые перерастают в локальные и региональные конфликты. Последние, в конце концов, приводят к войнам, жертвами которых становятся десятки и даже сотни тысяч невинных людей.
Среди сфабрикованных недавно новостей обращают на себя внимание широко освещаемые в СМИ сообщения о встрече российских представителей с бывшим премьер-министром Сирии Риядом Хиджабом в Турции. Известно, что несколько лет тому назад Рияд Хиджаб перешел на сторону оппозиции и бежал в Иорданию. Тогда же появились сообщения о том, что в его распоряжении находится «обширное досье» о «преступлениях сирийского режима» против Сирии и сирийского народа.
Давайте порассуждаем логично и зададимся рядом вопросов:
Во-первых, мыслимо ли представить, что человек, который стал премьер-министром после ряда повышений по службе в государственном аппарате, а затем перешёл на сторону оппозиции, пополнив ряды так называемых «диссидентов», не участвовал сам, занимая высокие государственные должности, во всех «преступлениях», о которых он говорит?
Во-вторых, мыслимо ли представить, что такое мощное огромное государство, как Россия, которую связывают с Сирией прочные отношения сотрудничества, и которое прилагает максимум усилий совместно с партнёрами по астанинской группе, защищая Сирию и её интересы, будет участвовать в «реабилитации» такой, сыгравшей неблаговидную роль в прошлом, фигуры, как Рияд Хиджаб, коему якобы предстоит сыграть некую «роль» в будущей Сирии?
В-третьих, удивителен и наводит на определённые размышления факт снятия с Рияда Хиджаба американских и европейских санкций. Интересно, какими же критериями руководствуются те государства, которые вводят санкции в отношении миллионов граждан Сирии, моря голодом и пытаясь поставить на колени сирийский народ, оказать на него давление, и в то же время снимают эти санкции с тех, кто «присягает на верность» Западу?
Среди фейковых новостей обращает на себя внимание сообщение о встрече российской делегации с «алавитскими деятелями» в Женеве. Если же речь идёт о Ливии, появляются сообщения о «российской помощи» Халифе Хафтару, об «антитурецком взаимодействии» Москвы и Каира, с одной стороны, и об их «антиэфиопских мерах» по проблеме водных ресурсов, с другой.
Речь идёт об использовании информационного оружия для разрушения системы международных отношений, маргинализации роли ООН в урегулировании международных и региональных кризисов путём диалога и дипломатических действий, о попытках исказить роль российской дипломатии на международных форумах, позицию России, выступающей за укрепление мира и международной безопасности, за уважение государственного суверенитета и политической воли стран, за невмешательство во внутренние дела государств путем подготовки переворотов, цветных революций и разжигания гражданских войн.
Россия никогда не скрывала своё постоянное взаимодействие с представителями сирийской оппозиции, свои консультации с оппозиционерами, предложения которых передаются сирийскому руководству в Дамаске. Всё это делается с целью сближения различных точек зрения, содействия запуску процесса политического транзита и активизации межсирийского диалога. Россия делает всё это открыто. Ей нет необходимости скрывать свои действия, использовать те или иные политические и информационные каналы для вбрасывания «пробных шаров», как это делают некоторые другие страны. Россия считает диалог, дипломатические шаги и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН основными принципами своей внешней политики, направленными на урегулирование разногласий между государствами, на решение международных конфликтов.
Каждый вечер, возвращаясь к домой, 9 миллионов сирийцев видят своих голодающих детей. Каждый второй сириец не знает, сможет ли он найти сегодня кусок хлеба. В этих условиях живут не только сирийцы, но и йеменцы и ливийцы. Очень скоро с такими же проблемами могут столкнуться ливанцы и палестинцы.
Именно об этом, на мой взгляд, должны рассказывать сегодня СМИ.

ИСХОД США ИЗ АФГАНИСТАНА: ПРИМЕТА НОВОЙ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ?
ГЕОРГИЙ АСАТРЯН
Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам (РСМД).
Интересные и исторические события происходят вокруг Афганистана. США объявили устами президента скорый исход с «кладбища империй». Дональд Трамп убеждён в бесполезности афганской истории: самая долгая военная кампания «не имеет смысла» и противоречит интересам США. Она нерентабельна и не приносит никакой финансовой прибыли. Соответственно, с ней пора заканчивать.
В рамках системы постхолодной войны Исламская Республика Афганистан (ИРА) оказалась в сфере интересов победителя. Советы ушли, распались. США пришли и остались. За двадцать американцы стали менее влиятельны, а регион Ближнего и Среднего Востока – более конкурентным и самодостаточным. Ключевым фактором (кем-то вожделенной) многополярности стало в первую очередь развитие целого спектра стран. Конец XX и начало XXI века щедро наделили развивающиеся страны, вчерашних аутсайдеров, возможностями, технологиями, образованием.
Афганистан – не актор международных отношений. С классической точки зрения, это архиважный объект-территория, на который проецируют своё влияние сверхдержавы. Сегодня и в приходящей новой системе международных отношений роль Афганистана останется прежней. Однако существенно трансформируется система международных отношений вокруг него. Борьбу за влияние над этой страной всегда вели сверхдержавы: США – СССР, Российская Империя – Великобритания. В период холодной войны сложно было представить, чтобы за афганский пирог наравне с Москвой или Вашингтоном боролась Индия или Тегеран.
Разумеется, многие государства региона пытались проецировать свои интересы, но почти всегда они плелись в хвосте политики сверхдержав. Да и в целом, история международных отношений XX века – была историей отношений сверхдержав. Новый мир ведёт к повышению роли региональных сил. Уже сегодня в некоторых вопросах афганской политики Иран, Пакистан, Индия не уступают влиянию Америки. А что будет после вывода войск? Влияние Соединённых Штатов в Афганистане снизится. Вакуум начнут заполнять страны региона, и Россия в их числе.
В Афганистане всегда шла война. Эта страна жила в периоды гражданских и региональных противостояний дольше, чем в мирное время. География, антропология, флора и, наконец, геополитическое расположение сделали жизнь афганцев испытанием. Нынешняя война началась с терактов 11 сентября 2001 года. В Афганистане правило движение «Талибан» (запрещено в РФ), а страна называлась Исламский Эмират. Террористы «Аль-Каиды» (запрещено в РФ) нанесли удары по США. Среди организаторов и исполнителей не было ни одного афганца. Однако руководство талибов предоставило убежище (о чём позже официально пожалеет) лидеру «Аль-Каиды» Усаме бен Ладену и его соратникам.
Абсолютному доминированию и сверхдержавной недосягаемости был нанесён сокрушительный удар. Теракты стали причиной самой долгой войны в американской истории. С точки зрения системы международных отношений афганское вмешательство много дало Америке, но много и отняло. Соединённые Штаты стали абсолютным гегемоном Ближнего и Среднего Востока. Неоконсервативная администрация фактически заново воссоздала всю систему региональных международных отношений. Правительства практически всех стран региона (за некоторым исключением) стали проамериканскими, у Вашингтона появились восточные союзники в «войне с террором». У последних просто не было выбора.
Однако всё, к чему привело американское вторжение в Афганистан, стало скоротечным и временным. На это есть четыре причины: две американские, две – международные.
Во-первых, росло недовольство. Технологичный XXI век с возможностью обратной связи не позволяет вести долгие непопулярные войны, не очень их афишируя (как это было в период советского военного присутствия в Афганистане). Мнение широких слоёв населения, простого народа, игнорировать не получится. Данные соцопросов Pew Research показывают, что никогда ещё процент американцев, считающих, что страна должна «заниматься своими делами», не был выше с момента окончания Вьетнамской войны. Разумеется, по их мнению, Афганистан и Ирак – не есть дела американские.
Во-вторых, разные группы элиты по-разному видят роль и место Америки в мире. У восточных войн всегда были серьёзные противники внутри истеблишмента. Так, с приходом изоляциониста Трампа количество американских солдат на Востоке уменьшилось на 30%. Контингент в Ираке сокращён на 13%, в Турции (22%), Иордании (96%), Египте (45%), Кувейт (83%), Катаре (84%), ОАЭ (82%). Этот процесс продолжается медленно, но верно. Трамп уводит США из Афганистана.
В-третьих. Когда Америка после терактов 11 сентября входила в Афганистан, весь мир поддержал это решение. К слову, первой была именно Москва. Тогда Владимир Путин первым позвонил Джорджу Бушу и высказал полную поддержку. Спустя двадцать лет Россия и все страны по периметру – выступают против американской кампании. Ещё несколько лет назад спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что, если США «решат вывести контингент из Афганистана – всё рухнет». А летом 2017 г. дипломат в беседе с автором этих строк заявил: «Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана». Именно на это обращает внимание Барнетт Рубин, объясняя своим коллегам в Америке, почему так мало успехов и так много критики. Раньше все были «за», сейчас все «против».
И, в-четвёртых. За последние два десятилетия страны региона существенно трансформировались. Из отсталых, полуколониальных, вассальных государств они превратились в региональные державы. Амбициозные и непослушные, они желают сами выстраивать баланс сил, сферы влияния и систему региональных международных отношений. Ни США, ни кто-то другой им не указ. Это касается Индии, Ирана, Турции, Саудовской Аравии. Во многом тезис применим даже к Пакистану, Узбекистану и Катару. И, наконец, Россия и Китай уже давно проводят свою политику, даже не думая согласовывать её с «главным акционером» афганской политики.
Это не позволяет США играть, как прежде.
Исход Америки из Афганистана приведёт к окончательному оформлению новой системы международных отношений регионального формата.
В региональных конфликтах сверхдержавы впервые в истории будут обладать меньшим влиянием, чем новые региональные акторы. На первое место по влиянию выйдут региональные мусульманские страны. Пакистан, Иран, саудиты, Турция, Катар. Не меньшим влиянием будет обладать Индия. Влияние почти всех вышеперечисленных стран со временем превзойдёт американское. Россия и Китай также продолжат играть достаточно заметную роль, но значительно меньшую, чем перечисленные страны. Соединённые Штаты станут сознательно отдаляться, региональные акторы – намеренно углубляться. Разумеется, это долгий процесс, ход которого не гарантирован. Дело пойдёт быстрее в случае победы Трампа на выборах в ноябре. Если победят демократы-глобалисты, данный процесс замедлится, но не остановится.
Есть два фактора, которые будут тормозить полный и быстрый исход Америки из Афганистана. Так или иначе «кладбище империй» ещё долго останется одной из важных тем для вашингтонских стратегов. Во-первых, процессы на Ближнем или Среднем Востоке не могут игнорироваться сверхдержавой. США будут таковой ещё достаточно долго. ИРА – ключевая страна и узел противоречий этого региона. Во-вторых, по мнению вашингтонских стратегов, главная угроза исходит от Ирана. Исламская Республика – основной актор почти всего, что происходит в регионе. Афганистан имеет протяжённую границу с Ираном. Соответственно, логика тоже простая – геополитически противодействовать Тегерану из Афганистана. Лоббисты из Саудовской Аравии и Израиля не позволят снизить давление на Иран, а значит, США полностью ИРА едва ли покинут. А это означает, что региональная система международных отношений, как одна из ключевых опор новой глобальной системы будет выстраиваться долго и болезненно. Но контуры её уже ясны.

Не думай о хирургах свысока
Александр Киденис
Российская медицина займется самоисцелением
Сегодня всем абсолютно ясно: российская медицина нуждается в коренном реформировании. Но власти почему-то начать решили с... пересмотра норм времени посещения больными амбулаторных врачей. Чтобы пациенты не засиживались и не залеживались. Это действительно главная проблема?
«У нас иметь свое мнение особенно опасно, — говорил в знаменитом фильме «С легким паром!» хирург Женя Лукашин. — А вдруг оно неправильное?». Заметьте: мудрый киношный хирург не был великим кардиологом, онкологом или, например, специалистом по удалению аппендиксов. Он работал на приеме в обычной московской поликлинике — вынимал занозы из пальцев на руках и ногах, вскрывал поверхностные гнойники на теле пациента, ставил предварительные диагнозы при растяжениях и переломах — с дальнейшим направлением пациента в ближайшую больницу.
Больших знаний и таланта от бога на такой работе не требуется — при всем нашем уважении к профессии врача. Достаточно знаний из институтских учебников и старательности для правильного заполнения историй болезни пациентов. А вскоре всем российским Женям Лукашиным добавят по пять минут на осмотр и лечение каждого больного — и в оте-чественной хирургии, видимо, наступит полная благодать.
Дополнительные минуты на общение с пациентом (всего до 26 минут) получат не только хирурги, но и врачи-инфекционисты (до 20 минут), онкологи (23 минуты), гематологи (специалисты по заболеваниям крови — до 20 минут), фтизиатры (по туберкулезу — до 35 минут) и пульмонологи (до 26 минут). Такое новшество в амбулаторном звене отечественной медицины вводит нынче в наше здравоохранение Минздрав — чтобы «точнее прогнозировать потребность системы ОМС в таких специалистах». В документе, уже обнародованном на портале regulation.gov.ru, указано, что заполнение документации не должно отнимать больше 40% от времени приема — то есть непосредственно на больного все равно остается совсем немного.
Для сведения: в зарубежных клиниках врачи тратят на историю болезни пациента считаные минуты. Потому что записи там делают медицинские сестры, а сами врачи лишь контролируют, чтобы не было содержательных ошибок. Все правильно: время врача очень дорого. А в России в ходе реформирования (с упором на «оптимизацию») медицины с введением в нее страхового принципа было сокращено около 700 тысяч человек — до 1,3 млн сотрудников. А производительность врача зависит от них. Помимо этой ошибки была допущена и другая — зарплату среднего и младшего медицинского персонала почти сравняли.
Теперь после устроенной пандемией встряски в Минздраве обещают новые перемены — с исправления прежних ошибок в реформах первичного звена здравоохранения на периферии, обновления кадрового состава фельдшерских пунктов и больниц, а также их инфраструктуры. За счет привлечения более 50 млрд рублей обещают удвоить финансирование учреждений. Однако начинают почему-то с подсчетов минут и секунд, отведенных на первичный прием в поликлинике.
Здесь вы, наверное, можете спросить: а с чего, собственно, нужно начинать? Наверное, с диагноза. А их множество, причем ставили их люди, которые должны были лечить эту болезнь. Например, нынешний «социальный вице-премьер», а в 2007-2012 годах министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова провела оптимизацию здравоохранения в регионах, которую нынче признала неудачной. Сменившая ее на министерском посту, теперь уже тоже бывшая министр Вероника Скворцова горевала, что с конца 50-х годов никто системно не трогал медицинскую инфраструктуру, — и сама ее не трогала. Ежегодно сокращавший бюджеты здравоохранения министр финансов Антон Силуанов, став ненадолго первым вице-премьером, заявил, что российские медучреждения находятся «в ужасном состоянии».
В итоге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков совершенно справедливо назвал российскую систему здравоохранения «неспособной к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности». Фактически повторив тем самым евангельское изречение Cura te ipsum — «Исцели себя сам».
Сегодня от медицины тоже требуют чуда самоисцеления, ссылаясь на пандемию коронавируса. Которая показала, что, во-первых, отечественное здравоохранение «никуда не годится», а во-вторых — «можем, когда хотим!». В доказательство приводятся цифры очень щадящей коронавирусной смертности — в отличие от общемировой, общеевропейской и особенно «хваленой американской».
Но при этом не учитываем, что нынешнюю борьбу с коронавирусом ведет не российская медицина, а российское общество и российская власть во главе с президентом и столичным градоначальником, временно возложившим на себя обязанности «главврача страны». Губернаторы стали в своих регионах «заведующими отделениями — начлебами». Вспомните, когда еще проливался на отечественное здравоохранение такой денежный ливень, как нынче, обеспечивалась такая забота о нуждах медиков. СИЗы (средства индивидуальной защиты) шьются для них без всякой очереди, оборудование закупается по первому требованию, в недельный срок вырастают новенькие больницы, докторов бесплатно кормят ресторанными обедами-ужинами, а после смен заселяют в номера дорогих гостиниц. И если когда-то вслед за Чеховым мы говорили: «Вся Россия — палата № 6», то теперь удивляемся: вся страна стала большой «кремлевкой».
А что будет завтра? Ведь еще в конце прошлого года президент Владимир Путин признавал: «Финансирование здравоохранения в этом году составило 3,7% ВВП, в следующем году будет 4,1% ВВП». Зато в Мексике оно 5,5%, Белоруссии — 6,3%, Туркмении — 6,6%, Литве и Эстонии — по 6,7%, Чили −8,5%, Италии — 8,9%, Великобритании — 9,8%, Германии −11,1%...
Есть другие данные: в Европе все чиновники лечатся в тех же больницах, что и средний класс, и офисный планктон, и пенсионеры, и домохозяйки. А в России почти в каждом регионе еще с советских времен остались местные «кремлевки» с особым финансированием и особым снабжением. Борьба с привилегиями, затеянная в разгар перестройки, закончилась созданием таких привилегий для нынешней власти, которые советским начальникам и не снились. Кстати, я говорю «почти», ибо в Псковской области такая схема «элитной медицины для начальства» провалилась. Причина простая: по рассказам тамошних медиков, все госслужащие области, начиная со среднего уровня, состоят на медицинском учете в соседней Эстонии. Там же лечатся и успешные псковские бизнесмены. Как вы думаете, почему?
Российская медицина заслуженно гордится своими лучшими врачами, к которым стремятся попасть многие «трудные» пациенты из-за рубежа, готовые платить за выздоровление немалые деньги. Но медицинская статистика удручает: если иностранные пациенты оставляют в кассах российских клиник 154 млн долларов, то российские больные ежегодно вывозят за рубеж более 1 млрд все тех же «зеленых». Даже по официальной статистике, 70 тысяч граждан РФ регулярно поправляют здоровье за границей. Их было бы больше, но зарплаты россиян не позволяют. И только потому, согласно исследованию Visa, в рейтинге популярных для медтуризма стран Россия по-прежнему занимает «почетное» 34-е место из 41, между Иорданией и Оманом.
Сергей Кадыров — старший детский хирург государственной больницы «Ихилов», известной россиянам как медицинский центр Сураски. Кадыров учился в Уфе, потом уехал в Тель-Авив, где получил гражданство Израиля и начал карьеру врача. Он рассказывает, чем отличается израильская медицина от российской. Во-первых, обучением: «Если учебник по терапии в СССР был 300 страниц, то в Израиле учебник 3000 страниц мелким шрифтом». В Израиле обучение проходит на английском языке, и это правильно: 95% мировой медицинской литературы выходит на английском — то есть все современные знания медицины проходят мимо российских медиков. В России есть очень хорошие центры, снабженные супероборудованием, но у врачей, которые расшифровывают результаты, видимо, недостаточно опыта со специфическими, врожденными патологиями. Но вторая причина — отсутствие медикаментов и химиопрепаратов, а третья — отсутствие среднего медицинского персонала, медсестер, которые умеют преданно и добросовестно лечить...
А самый главный диагноз российской системе здравоохранения ставит сама израильская медицина: если 20-30 лет назад каждый второй-третий врач в этой стране был приехавшим из России, то теперь россияне здесь не требуются — не тот уровень, не те знания, умения, уровень компетенции.
Вместо послесловия
И все же не забудем: вопреки всему в последние три «коронаровирусных» месяца российские врачи оказались на переднем крае борьбы за тысячи жизней россиян и стоя-ли на посту достойно и самоотверженно, не щадя сил, а зачастую и своей жизни. Причем их бой не закончен — пандемия грозит новым наступлением. Пожелаем же нам всем удачи, и особенно людям, которые временно сменили белые халаты на «противочумные костюмы»: через неделю, 17 июня, вся страна будет поздравлять их с Днем медицинского работника.

Поднебесная становится ближе
китайская экономика и проблемы её интеграции с российской
Николай Вавилов
Китайская экономика и проблемы её интеграции с российской
О себе — пару слов… Я окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «китайская филология». Направлениями моей научной деятельности были китайская диалектология, среднекитайский язык и китайский традиционный календарь.
С 2006 по 2016 год я жил в КНР, работал в нескольких китайских регионах: в Пекине, в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян, а также учился в провинции Аньхой. Внутрикитайские этнические группы и, вообще, китайцы разных провинций отличаются порой столь же разительно, как чехи или болгары от нас. Доводилось мне работать и с разными слоями китайского общества, в том числе связанными с академической, медийной, производственной сферой и сферой государственной службы.
Моё выступление посвящено китайской экономике и вопросам её интеграции с российской. Начну несколько издалека, с династии Тан. Это VII — начало X века. Есть ряд исследований, которые говорят о том, что в эпоху династии Тан на экономику Китая приходилась, говоря современным языком, половина ВВП всего мира. Тогда же развился проект Шёлкового пути как первый акт средневековой глобализации.
Столицей империи Тан был город Сиань (провинция Шэньси), он тогда назывался Чанъань — «вечное спокойствие». Кстати, нынешний лидер Китая Си Цзинпинь, как и многие из его группы, ведёт свой род именно из этой провинции. Там сейчас находится эпицентр нового Шёлкового пути, который призван восстановить древнюю модель континентальной торговли.
К концу XVIII — началу XIX века на империю династии Цин приходилось, по подсчётам западных экономистов, около 30% мирового ВВП. Ещё порядка 20-25% приходилось на княжества и государства Индии.
С этими двумя гигантами экономики и имела дело поднимающаяся Европа времён первой промышленной революции. Китайская и индийская системы лежали на пути глобального господства Британской империи, препятствовали её интересам. С индийской системой британцы достаточно быстро справились, так как она представляла собой, по сути, конфедеративный конгломерат.
А с китайской системой история вышла куда более драматичная. Проблема была в том, что торговля с Китаем была не в пользу британцев, поскольку цинский Китай был крупнейшим производителем базовых продуктов. И британцы к началу XIX века окончательно поняли, что если Китай не разрушить, то глобального доминирования им не достичь.
Что было предпринято? Силами Ост-Индской компании в западных частях Индии развернули масштабное производство опиума — единственного товара, который китайцы охотно выменивали на золото и серебро. Огромные плантации опиума были развёрнуты в Бенгалии.
Уже в начале XIX столетия торговля опиумом приобрела колоссальный объём. Первые британские крупные опиумные склады появились на территории острова Гонконг нелегально. Впоследствии Гонконг стал частью Британской империи.
Результатом английской наркоторговли стал масштабный финансовый кризис в империи Цин. Что не удивительно, ведь огромные средства стали перекачиваться оттуда в Британию.
Китайская империя стала рушиться. В том числе морально, идеологически. В Маньчжурской армии империи Цин не было, наверное, ни одного офицера, который бы не употреблял опиаты. Эта проблема озаботила верхи династии, с торговлей зельем стали бороться. Но это был запоздалый шаг, и по итогам Первой и Второй опиумных войн, которые совпали с нашей Крымской войной (британско-французской коалиции с Россией) — Китай проиграл. Маньчжурская армия показала свою слабость. Коррумпированные, не способные вести полноценную войну военачальники оказались бессильны против англичан, а внутрикитайские элиты обозначили вектор на децентрализацию.
Британцы к тому времени уже довольно глубоко внедрились в китайские элиты, особенно в те региональные слои, которые были ущемлены инородным маньчжурским «игом». В итоге обозначился курс на распад Цинской династии, и уже к концу XIX столетия суверенная экономическая система Китая прекратила существование.
В последующие годы полным ходом шла инкорпорация производственных сил и рынка Китая в британо-французскую, российскую и американскую капиталистические системы.
Что случилось потом? Период после Синьхайской революции (1911-1912) до создания КНР (1949) был заполнен ожесточёнными гражданскими войнами между отдельными китайскими государствами. Всё это сопровождалось работорговлей, торговлей опиумом и тому подобным.
Надо заметить, что Чан Кайши, уроженец провинции Чжэцзян, был тесно связан с британским капиталом. При нём встраивание китайских государств в британскую систему усилилось. Китайские банки вообще были тесно связаны с британскими, французскими, американскими… По сути, вся производственная мощь Китая служила в те годы условной Антанте.
К моменту создания КНР в Китае было три основных силы. Во-первых, национально ориентированные силы — те, кто был нацелен на помощь отечественному капиталу и производству.
Во-вторых, силы, нацеленные на вхождение Китая в мировую систему. Это Шанхайская группа, очень мощная. Она до сих пор сохраняется как один из существенных векторов китайской политики и экономики.
И, наконец, группа, заинтересованная в создании планового государственного сектора. Её, естественно, поддерживал Советский Союз. Эта группа — команда маньчжура Гао Гана, деятеля всё той же провинции Шэньси, — была первой уничтожена после смерти Сталина. Власть тогда временно перешла в руки проамериканских сил и тех, кто рассчитывал на усиление роли собственно китайской буржуазии.
До сих пор вокруг фигуры Мао Цзэдуна идут дискуссии о том, красным он был или белым и так далее. Надо сказать, что и Мао Цзэдун, и Лю Шаоци вполне открыто во время обсуждения будущей модели развития Китая заявляли, что китайская буржуазия — союзник пролетариата и крестьянства. То есть они рассчитывали на создание сильного класса малых и средних собственников. К этой же системе взглядов тогда склонялся заместитель Мао Цзэдуна Чжоу Эньлай. Но он больше поддерживал интересы гоминьданской бюрократической буржуазии Шанхая и Нанкина.
А Гао Ган и входившие в его группу Жао Шуши, Пэн Дэхуай и Си Чжунсюнь (отец Си Цзиньпина) были сторонниками плановой экономики по советскому типу.
Про помощь Советского Союза в деле создания экономики КНР достаточно много написано. Речь идёт о сотнях крупнейших производств, инфраструктурных проектов, о десятках тысяч инженеров, которые были посланы нами в Китай.
Надо отметить, что Китай вернул через 15 лет все кредиты, которые были выданы сталинским Советским Союзом. Сама же наша помощь была масштабной — она в десятки раз превосходила пресловутый План Маршалла в Европе. Наша программа экономической помощи Китаю, выстроенная в конце 40-х — начале 50-х годов, предполагала включение китайских производственных сил в систему Советского Союза. Но Мао Цзэдун, как я уже сказал, расправился с Гао Ганом, который умер в 1954 году.
Гао Гана называли «маленьким Сталиным». На одном из совещаний руководителей Китая он в присутствии других руководителей предложил Иосифу Виссарионовичу включить Маньчжурию в состав СССР как семнадцатую союзную республику. Почему семнадцатую? Шестнадцатой была Карело-Финская ССР. Об этом предложении Гао Гана не сохранилось прямых документов, но есть много косвенных свидетельств сотрудников нашего и китайского посольств о том, что такой разговор был. О нём, кстати, был материал в газете «Жэньминь жибао».
Но в итоге Китай свернул с пути плановой экономики.
Далее произошёл конфликт «проамериканцев» с левыми популистами. Началась леворадикальная политика «Большого скачка», была развязана «культурная революция», обрушившая экономику КНР.
Примерно к середине 60-х годов Китай начал судорожный поиск внешней опоры для модернизации отсталой аграрной экономики. Были попытки установить связи с ФРГ, Японией, другими странами капиталистического блока. И с социалистическими тоже. Однако было очевидно, что все эти страны порознь не обладали мощью, способной «вытянуть» модернизацию КНР.
Китай стал прощупывать американскую сторону. Это было очень непросто, потому что американцы искренне полагали, что КНР — часть советского блока и все разногласия между китайцами и СССР носят «внутрисемейный» характер.
Но представителю Шанхайской группы Чжоу Эньлаю, первому премьеру Госсовета, удалось найти подход к американцам (в частности, к Киссинджеру) через свои французские связи, поскольку связь Франции с шанхайскими группами капитала и организованного преступного мира в сеттльментах этого города была довольно-таки тесной.
В итоге с конца 60-х годов Китай стал проводить чёткую линию на сближение с США. Президент Никсон смог убедить американский Совет национальной безопасности в том, что китайцы не враги.
Началась интеграция Китая и США, которая ненадолго была прервана в связи с Уотергейтским скандалом и импичментом, объявленным Никсону. Но решающий поворот к Китаю был уже совершён.
Тем не менее, Китай долгое время находился в орбите советской экономики. Первое поколение российских бизнесменов, которые начинали работать с Китаем в постсоветское время, рассказывали, что в Гуанчжоу ещё в начале 2000-х годов можно было видеть такси — «Жигули» шестой модели. Этот маленький факт, на самом деле, говорит о том, что глубина советского влияния в Китае была огромной. Поэтому одномоментно развернуть Китай к США было невозможно. Это было задачей десятилетий.
Реформы Дэн Сяопина и южнокитайских военно-политических групп были направлены на установление тесных связей с рынками Великобритании и США, на получение новых американских технологий. Это делалось точечно, но интенсивно. В результате за двадцать лет — с начала 1980-х до 2000-х — Китай смог встроиться в американскую экономику. От советского технологического лобби китайцы оторвались, в том числе, с помощью открытых экономических зон. В первую очередь в провинции Гуандун — месте сосредоточения китайского субэтноса хакка, к которому принадлежал, кстати, заместитель Дэн Сяопина, второй член Политбюро маршал Е Цзяньин.
С 2002 года, когда к власти пришёл Ху Цзиньтао, взаимоотношения Китая и США углубились ещё больше. Товарооборот увеличился в несколько раз и к концу 2018 года составил почти 650 миллиардов долларов, включая сферу услуг. Для сравнения: российско-китайский товарооборот составлял тогда 90 миллиардов — в семь раз меньше.
В то же время китайцы наращивали своё присутствие в США — как в научном секторе, так и в инфраструктурных корпорациях. Так продолжалось до 2019 года — поворотного момента, когда Си Цзиньпин перерезал, наконец, этот «шланг». Впервые за 30 лет китайско-американская торговля сократилась на столь значительную величину — 15%, что в переводе на деньги составляло 150 миллиардов долларов.
Это был мощный удар, который лично я считаю одним из первых симптомов того кризиса, который мы все сейчас наблюдаем. Мы должны понимать, что к началу правления Си Цзиньпина Китай во многом представлял собой (примерно на две трети) криптоколонию США. Двери для американских корпораций были в Китае открытыми. В Китае во многом царил культ Соединённых Штатов, американские корпорации были везде: автомобильные заводы, кофейная компания «Старбакс», рестораны «Макдоналдс» и так далее…
Председатель КНР эту линию оборвал и начал движение к экономическому взаимодействию со странами Евразии. Своим неприятием доминирования США на рынках Китая, привязкой к странам Евразии и попыткой выдавить американцев из Европы Си Цзиньпин открыл новую главу в китайской внешней политике.
В итоге удельный вес торговли со странами европейского и азиатского сегмента "Одного пояса и одного пути" составил 31,7%. В принципе, за счёт этой внешней торговли Китай может существовать вообще без привязки к США. Это важная внешнеэкономическая модель.
Вторая модель, уже внутренняя, связана с тем, что до мирового кризиса 2008 года демократы США щедро предоставляли места белых американцев китайским рабочим. И их товарам. Китай рос за счёт увеличения потребления в США и странах Евросоюза и некоторого потребительского дериватива в странах Юго-Восточной Азии. С началом кризиса потребление стало падать, и в 2008-м китайская экономика забуксовала.
Что тогда сделали находящиеся у власти проамериканские силы, в частности, бывший генсек компартии Китая Ху Цзиньтао? Они включили программу «эмиссионной накачки» китайского рынка с помощью стимулирования внутреннего спроса. Эта программа была принята в начале второго срока Ху Цзиньтао в 2008 году. С тех пор денежная масса в Китае увеличилась примерно в десять раз.
При этом реальная экономика Китая в десять раз не увеличилась. И в стране образовался — даже по официальным данным — внутренний долг в 300% ВВП. В первую очередь он приходится на крупные корпорации. Во вторую — на домохозяйства. О чём это говорит? О том, что китайцы, как и американцы, стали жить в долг!
И здесь встал ключевой вопрос об эффективности китайской экономики. Насколько она эффективна, чтобы выдавать долги, насколько добавленная стоимость китайской продукции способна закрывать кредитную накачку? Оказалось, не способна. Потому что в Китае, несмотря на очень быстрый его рост, не произошло качественного изменения технологий, роста эффективности производства.
Китай в среднем потребляет в четыре раза больше энергии на единицу производства, чем в развитых странах. У него большие проблемы с эффективностью производства.
Перед внешним наблюдателем китайская экономика предстаёт как урбанистическое чудо: красивые небоскрёбы, многокилометровые автобаны, скоростные железные дороги… Но реально Китай больше похож на колосс на глиняных ногах, который во многом не способен решить проблемы собственного развития.
Когда программа «накачки» внутреннего спроса, а, по сути, печатания денег в Китае началась, правительство стало публиковать данные о том, как доля этого спроса в росте ВВП замещает долю экспортных контрактов. Однако уже в 2012 году такие данные публиковать перестали, что говорило о том, что внутреннее потребление оказалось не способным заместить внешние рынки. Китай остался экспортно зависимым государством.
При этом выявилась ещё одна проблема: в связи с тем, что экономику «накачали» деньгами, товары стали менее конкурентными — выросла себестоимость труда. Раньше китайцы брали мировые рынки дешевизной продукции. А после «накачки» зарплата китайского рабочего выросла, и тем самым национальная экономика подорвала собственное конкурентное преимущество на внешнем направлении. Такие вот «ножницы» получились! Как Китай будет из этого выползать — вопрос отдельный.
Эпидемия COVID-19 стала ещё одним звеном в этой трагедии. Сейчас в китайских государственных СМИ много говорят о том, что своевременное закрытие проблемных городов и прочие принятые меры способствовали быстрому выходу из эпидемии и восстановлению производства. В Китае стало модным слово «фугун», означающее «восстановление промышленности». Вот, например, агентство «Синьхуа» отчитывается, что люди стали выходить на работу, что всё хорошо…. Есть заявления государственных СМИ о том, что 100% крупных предприятий государственных заработали. И что есть небольшие проблемы у малого, среднего бизнеса, но они решаемы, поскольку возникнет эффект отложенного спроса: люди, месяцами отрезанные от кинотеатров, «макдоналдсов», покупки новой одежды, поторопятся всё наверстать. Но, на мой взгляд, всё это вряд ли компенсирует потери, которые может понести китайская экономика, если она лишится своих рынков в США и Европе. По состоянию на конец апреля китайская экономика так и не вышла из пике даже при условии масштабной помощи – показатели прибыли промышленного сектора, транспортных перевозок не только вопреки логике отложенного спроса не вышли «в плюс», но и продолжают оставаться в отрицательной зоне.
К тому же есть косвенные показатели падения экономики. Во-первых, это количество потребляемого угля, которое на середину марта составляло около 70% от докризисного. Это удивительно! Ведь в северных районах Китая ещё зима не закончилась. Во-вторых, китайцы не вышли на прежний (докризисный) уровень потребления нефти. В-третьих, на прежнее количество потребляемого сжиженного газа. В-четвёртых, неполная загруженность транспортной системы: аэропорты наполовину пусты, пассажиропоток в метро заметно не отличается от карантинного. Автоперевозки также не преодолели кризис.
И, зная все эти официальные данные, невольно задаёшься вопросом: восстанавливается ли китайская экономика? Ведь 80% китайского населения связано с малым и средним бизнесом, а для них месяцы простоя — смертельны.
Теперь о позитивных вещах для Китая. На фоне кризиса в китайско-американских отношениях происходит переформатирование модели внешней торговли в целом. Китай перенаправил основные торговые потоки в страны Юго-Восточной Азии, а также в Пакистан, Турцию, Иран, Иорданию и прочие страны Ближнего Востока.
Удивительно, но в тройке «бенефициаров» нынешнего падения китайской экономики невольно оказались Россия, Вьетнам и Малайзия. Россия увеличила свой экспорт в Китай на 25%. Притом импорт китайских товаров в Россию сократился, китайская промышленность всё меньше конкурирует с нашим импортозамещением. Аналогичные процессы происходят в отношениях Китая с Вьетнамом и Малайзией, в которой, надо сказать, очень большая китайская диаспора.
Данные китайского Госстата по промышленному производству, транспорту и розничному потреблению в Китае, конечно, отличаются от прогнозов «Блумберга», который не так давно предрёк Китаю падение промышленного производства на 3% (это 22-летний минимум, с 1998 года). По прогнозам того же агентства, розничные продажи в Китае могут упасть на 3-4%. Соответствующим будет падение и всех остальных экономических показателей.
Что на самом деле будет в Китае, с учётом существующей там серой экономики и различных форм теневого «банкинга», мало кто может предсказать.
Несомненно одно: при нахождении у власти нынешнего военно-политического руководства Китая наши отношения с ним будут успешно развиваться и впредь. То, что российская торговля с Поднебесной вырастет на 20% к концу 2020 года, тоже вызывает мало сомнений. Таким образом к концу текущего года товарооборот России и Китая может составить 120-130 миллиардов долларов США. Товарооборот Соединённых Штатов и КНР (если надеяться, что до войны не дойдёт) составит порядка 400 миллиардов долларов. Как видим, пока примерно на треть больше, чем с нами. Но если тенденции сохранятся в течение лет пяти, то Россия неизбежно станет ведущим партнёром КНР. А это — серьёзные геоэкономические изменения, которые повлияют и на Китай, и на Россию. Роль Российской Федерации при таком сценарии может возрасти до той роли, которую Советский Союз играл в Китае.
Для российских производителей рынок Китая будет открыт. Сейчас это уже очевидно по решениям, принятым совместно главами наших государств. Таков, например, важнейший проект «Сила Сибири», который, по сути дела, вытеснил американский сжиженный газ. Если отказы по американскому газу сейчас идут в рамках форс-мажорной ситуации, связанной c коронавирусом и агрессивными выпадами США, то отказов по российским нефти и газу нет и, по всей видимости, не будет. Существует вполне объективная геостратегия наших двух стран, направленная на интеграцию.
Сейчас, на фоне бушующего «ковида», сложно делать прогнозы, но нельзя не заметить открывшегося поля возможностей, немыслимого ещё полгода назад. Интеграция России и КНР будет, по моему мнению, углубляться. Для нас Китай становится более доступным. Идея наращивания экспорта пищевой российской продукции в Китай может приобрести вполне реальные очертания. Сейчас даже те агрокомплексы, для которых Китай был далёкой «планетой», начали поставки рапсового и подсолнечного масла, других продуктов питания. В связи с тем, что из Китая будут уходить крупные американские корпорации, наша продукция с высокой добавленной стоимостью может вполне занять достойное место на китайском рынке. Китайские партнёры готовы к этому. Конечно, есть в Китае и те, кто настроен скептически, но воля политического руководства Китая —открыть нам двери.
Конечно, далеко не любой потенциальный экспортёр может реализовать свои возможности у китайцев. Но усилия будут вознаграждены сторицей по мере нахождения подходящих партнёров. Для этого необходимо выстроить программу действий на ближайшие 5-10 лет. Это могут быть, например, поставки какой-нибудь мебели, которая сегодня не нужна китайскому рынку, но завтра, в связи с ростом себестоимости китайской продукции, она станет конкурентной, необходимой. Нужно больше изучать предпочтения китайских покупателей, тогда нам будет сопутствовать успех.
Конечно, COVID-19 изрядно попортил ситуацию в китайской банковской сфере. Центральному банку пришлось спасать региональные, поскольку далеко не все они смогли исполнить свои кредитные обязательства. Например, выкуплены 44% акций Банка Цзиньчжоу (крупнейшего регионального банка в провинции Ляонин), руководителем которого когда-то был нынешний премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. Есть мнение, что кризис в банковском секторе будет только разрастаться.
Вообще, интересная смена парадигмы развития в Китае происходит. Например, из-за неявок трудовых мигрантов на производство, некоторые из которых в панике отказывались приехать к месту работы, а другие не смогли это сделать из-за ограничений, связанных с транспортом, блокировкой дорог. В итоге производства не досчитались немалого количества рабочей силы. И тут же скакнул спрос на облачные технологии, развитие дистанционного мониторинга производства. Новый импульс получил процесс роботизации производственных процессов. Очевидно, что нынешний кризис ещё шире открыл ворота для цифровой экономики. Полагаю, этот вектор в Китае будет только усиливаться.
По состоянию на конец апреля проблема безработицы не решена и является предметом серьезной обеспокоенности не только в Китае, но и широко обсуждается в западных СМИ.
***
Доклад на сделанный на научно-просветительской конференции «Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее»

Николай Платошкин: «Привлечь Китай к ответственности за коронавирус – не утопия»
Президент США Дональд Трамп в последнее время постоянно поднимает тему привлечения Китая к ответственности за распространение коронавируса по всему миру. Доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин обсудил с «НИ» перспективы подобной инициативы.
Прецедентов получения компенсаций от государств за причинённый ущерб огромное количество: например, Аргентина и Уругвай судятся из-за загрязнения бассейна Ла-Платы, Иордания и Израиль – по использованию вод реки Иордан, по Евфрату и Тибру был судебный процесс между Сирией и Турцией. Если Китай сбрасывает дерьмо в реку Амур, которое потом течёт на нашу территорию. Мы что, не имеем права требовать компенсацию ущерба? Конечно имеем!
Если сейчас американские штаты выиграют дело в суде, Китай может отказаться выплачивать, но американцы смогут арестовать китайское имущество на отсуженную сумму.
Россия не поставляет нефть в Америку из-за проигранного суда по делу «Юкоса». Есть принятые судебные решения, поэтому поступившая нефть будет конфискована властями США, продана с торгов и деньги получат бывшие акционеры «Юкоса».
Американцы заморозили иранские деньги после конфликта 1979 года, заморожены деньги кубинцев после прихода к власти Кастро. Всё делается по решению судов.
Американцы в истории с иском по коронавирусу пошли по верному пути: это не государственный иск, а иск в американском суде с требованием получить компенсацию. Китайцам придётся либо выплатить ущерб, либо будут применены санкции на эту же сумму. Это каждодневная, а не уникальная история.
Есть особенности американского законодательства. Я столкнулся с этим, когда вёл переговоры с Германией по поводу выплат рабочим, угнанным на работу в Германию во время войны. От нас требовали документы по каждому рабочему: сколько он был в лагере, какие потери понёс. На это бы ушла вся жизнь. Но я ответил, что подам коллективный иск по закону США в суде Нью-Йорка. Была история, когда девушка-курильщица подала на компанию «Филип Моррис» от имени всех курильщиков мира. Ей присудили 18 миллиардов долларов. Вы можете без согласия других потерпевших подавать иск. Там мы с немцами и договорились о компенсациях рабочим. Поэтому, можно подать коллективный иск от имени всех потерпевших против Китая и на 5 триллионов, сумму общего ущерба, причинённого пандемией COVID-19.В Америке это возможно.
Всё очень просто. Китайцам предъявляют конкретную претензию: то, что они поздно сообщили о возникновении вирусного заболевания. Это может быть не преступный умысел, а преступная халатность. Ответственность разная, но она существует. Все случаи коронавируса завезены из Китая, так что он должен отвечать.

Ближний Восток могут ждать новые испытания
На фоне эпидемии коронавируса в регионе назревает очередной всплеск напряжённости.
Обмен угрозами между США и Ираном, как и очередной удар израильской авиации по сирийским объектам, побуждает экспертное сообщество вновь заострить внимание на ситуации на Большом Ближнем Востоке. Выясняется, что пандемия нового коронавируса отнюдь не сняла с повестки дня напряжённость в регионе. На эту тему наш обозреватель беседовал с ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН доктором политических наук Александром Фроловым.
– Как-то уж много противоречий проявилось в последнее время в регионе…
– А что вы хотели? Они копились последние сто лет как внутри самих ближневосточных стран, так и между ними. И так называемая пандемия не сможет их сгладить: антагонизм между шиитами и суннитами остаётся, как и проблема нехватки водных ресурсов, справедливого решения палестино-израильского вопроса пока не предвидится, тлеющие региональные конфликты могут разгорется с новой силой.
Не будем скрывать, что державы-победительницы Первой мировой – Великобритания, Франция, Италия – кроили арабские земли поверженной Османской империи по своему разумению, исходя из собственных геополитических амбиций и экономических интересов. Последствия соглашения Сайкса – Пико и иных закулисных договорённостей сказываются до сих пор. Тот же патовый курдский вопрос. Не говорю уже о том, что происходило после Второй мировой, о некоторых обстоятельствах создания государства Израиль, а будущее Иерусалима – это вообще взрывоопасная тема…
Все эти противоречия постоянно подогреваются извне. Вот недавно «Нью-Йорк таймс» предрекла, что коронавирус вызовет вторую «арабскую весну». В подтверждение тому газета приводит проблемы, которые обострились в странах региона из-за новой пандемии, и делает вывод, что в поисках их решений возникнет протестное движение против существующих режимов. При этом издание ни слова не говорит, что первую «арабскую весну» породили не некие вирусы, а во многом вмешательство внешних сил, иностранных спецслужб.
Добавлю, что социальную почву для протестов подготовили не только джеймсы бонды, но и ошибки экономической политики самих арабских правительств, не сумевших, в частности, найти адекватный ответ на беспрецедентную засуху в конце первого десятилетия нашего века. На эту проблему, к сожалению, до сих пор закрывают глаза в ряде столиц. Великие реки Евфрат, Тигр, Нил неуклонно мелеют.
– В Вашингтоне всё же есть понимание того, что политику на Ближнем Востоке надо менять. Те же поездки в регион Джареда Кушнера, старшего советника и зятя Трампа, чтобы подготовить «сделку века» для урегулирования палестино-израильского конфликта…
– Понимание в части политического класса, безусловно, есть. Американское издание National Interest пишет, что какой бы хаотичной ни была ситуация на Ближнем Востоке после бури коронавируса, Вашингтон должен выстроить в регионе свою политику так, чтобы она помогла ответить на вызовы, там возникающие, и отстаивать интересы США. Однако вопрос в том, а интересы палестинцев и арабских стран за океаном учитывать готовы? Пока такого стремления не просматривается.
– На ситуации в регионе будет сказываться также нефтяная политика?
– Нефть является, с одной стороны, огромным достоянием для большинства стран региона, а с другой – их же бедой. Нельзя не видеть, что экономический спад, который усугубил коронавирус, привёл к падению спроса на нефть и цен на неё. От этого пострадали все добывающие страны – от Ирака и Алжира до богатых монархий Персидского залива. Косвенно это бьёт и по тем, кто рассчитывал на их спонсорскую помощь, – по Египту, Иордании, Палестинской автономии, ХАМАС в секторе Газа.
Негативную роль в падении цены на нефть сыграло немало факторов, в том числе игры, затеянные вокруг нефтяных фьючерсов биржевыми спекулянтами. Некоторые страны решили, что смогут какое-то время поставлять нефть на мировой рынок даже себе в убыток. Представляется, что в развитии ситуации появились и антироссийские нотки, желание повторить комбинацию середины 1980-х годов, когда на фоне афганской войны Вашингтон и Эр-Рияд договорились обрушить цену на нефть, чтобы вызвать кризис советской экономики и последующую трансформацию режима.
Нынешнее обрушение цен на нефть, конечно, скажется на наполняемости бюджета Саудовской Аравии, ведь эта аравийская монархия живёт лишь за счёт чёрного золота да туризма. К тому же она фактически находится в состоянии войны с северной частью Йемена. Ожидаемого там блицкрига не получилось. Движение «Ансар Аллах» – военизированная группировка шиитов-зейдитов, поддержанная частью бывшей йеменской армии, – устояло, умело используя противоречия между аравийскими монархиями. Ни Объединённые Арабские Эмираты, ни султанат Оман не хотят усиления саудовской династии. ОАЭ благосклонно относится к идее раздела Йемена на два государства и поддерживает Южный переходный совет, выступающий за воссоздание южнойеменского государства со столицей в Адене.
– А что вы можете сказать относительно деятельности международного терроризма в регионе?
– Пандемия коронавируса неизбежно сказалась на деятельности экстремистских организаций. На действия радикальных исламистов повлияли не только те ограничительные меры, которые многие государства, прежде всего западные, ввели на передвижение лиц – произошёл отказ от приёма мигрантов. Сказывается и недавнее сокрушительное военное поражение так называемого второго халифата в Ираке и Сирии, его вооружённые формирования понесли огромные потери, выбиты из населённых пунктов, фанатики укрываются в пустынной местности.
COVID-19 не щадит никого, и неудивительно, что в газете «Аль-Наба», издаваемой ИГИЛ*, была даже опубликована памятка для боевиков с указаниями необходимых действий для борьбы с коронавирусной инфекцией. Рекомендовано чаще мыть руки, не приближаться к больным и, самое главное, воздержаться от поездок в Европу и другие заражённые территории.
Вместе с тем снижение интенсивности контртеррористических действий даёт возможность экстремистам «собраться с мыслями», перегруппироваться, набраться сил, восстановить взаимодействие между собой. Свою социальную базу в среде арабов-суннитов они утратили лишь отчасти, пропаганда игиловцев продолжает паразитировать на социальных проблемах, особенно в сельской местности. Окончательную победу над экстремистскими идеями необходимо одержать в умах людей, силовые действия позволяют разрушить оргструктуры террористических группировок, нейтрализовать их главарей.
К тому же нельзя сводить всё к игиловцам. Радикальные исламисты группируются не только вокруг ячеек ИГ. В Сирии в провинции Идлиб по-прежнему сохраняются структуры «Аль-Каиды»* – то, что теперь экстремистский альянс прошёл несколько переименований и теперь именуется «Хайат Тахрир аш-Шам», по сути ничего не меняет. Никуда не исчезли и «Братья-мусульмане»*, возникшие ещё до Второй мировой войны не без участия британской разведки. Они сегодня активны в Ливии, до конца не сломлены в Египте…
– И какой же вывод вытекает?
– Каков будет мир после выхода из войны с пандемией – через три месяца, через полгода – точно не скажет никто. Пока неясно, как элиты Запада решат распорядиться возникшей ситуацией временного ограничения прав и свобод, появившимися технологиями социального контроля. В западных СМИ много «информационного шума», скрывающего подлинные намерения сильных мира сего. Что касается Ближнего Востока, то страны там пострадали, на удивление, сравнительно легко. Хотелось бы верить, что арабским государствам и Израилю пандемия дала повод задуматься о хрупкости нашего привычного бытия. Оказалось, все народы уязвимы и судьбы всех – мусульман, христиан, иудеев – связаны между собой.
Вопрос в том, смогут ли они без вмешательства извне создать механизм для разрешения существующих политических, экономических, мировоззренческих противоречий? До сих пор этого им не удавалось и в силу собственного эгоизма, и интриг извне. Очень важно, повторюсь, справедливое палестино-израильское урегулирование. Оно способно заложить фундамент эры добрососедства на Ближнем Востоке. Но опять же дают знать о себе силы, заинтересованные в поддержании напряжённости в регионе. Так что боюсь, что Ближний Восток по-прежнему ждут испытания.
_______________
* Террористическая группировка, запрещённая в РФ.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Олег Сыромолотов: пандемия не снизила уровень противодействия терроризму
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости, не помешала ли пандемия коронавируса контактам Москвы и Вашингтона в области антитеррора, как эта ситуация повлияла на цифровую безопасность и не ослабила ли она возможность стран противостоять терроризму в целом.
— Некоторое время назад США заявили, что предложили России бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* на юго-западе Сирии. Действительно ли американская сторона обращалась к Москве с таким предложением? Как именно Вашингтон предлагает бороться с ИГ* в этом районе Сирии?
— Напомню, что принципиальные взаимопонимания между Россией и США по борьбе с ИГИЛ* отражены в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, принятом в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) от 11 ноября 2017 года. В документе, в частности, подтверждена решимость двух стран нанести поражение ИГИЛ* в Сирии и продолжить усилия вплоть до окончательного разгрома группировки. При этом была отмечена необходимость поддерживать военные каналы связи (деконфликтинг) для обеспечения безопасности российских и американских военных. Такое взаимодействие поддерживается и по сей день, что позволило эффективно предотвращать опасные инциденты и продолжать России с одной стороны США и их союзникам — с другой борьбу с игиловцами. Что касается юго-западных районов Сирии, то в свое время (в 2017 году) там была создана зона деэскалации, странами-гарантами которой выступили Россия, Иордания и США. Это стало важной мерой для снижения насилия "на земле", установления режима прекращения огня и улучшения гуманитарного доступа. Летом 2018 года данная зона деэскалации прекратила свое существование в результате успешной операции сирийских правительственных сил при поддержке ВКС России. В результате удалось вернуть юго-запад под контроль Дамаска, ликвидировать там очаг терроризма, в том числе игиловцев, восстановить статус-кво на Голанских высотах при возобновлении деятельности миротворческих сил ООН (UNDOF). Попытки террористических вылазок ИГИЛ* на этой территории успешно пресекаются сирийскими правительственными войсками, у которых сил для этого достаточно.
— Проводятся ли между российской и американской сторонами консультации по антитеррору? Или из-за пандемии коронавируса все контакты поставлены на паузу?
— За последние пару лет мы восстановили механизмы взаимодействия по антитеррористической проблематике со многими западными странами, в том числе с ключевыми игроками в глобальном противостоянии террористам, включая США. Соответствующий диалог с Вашингтоном был возобновлен по указанию руководства двух стран еще в декабре 2018 года. После снятия ограничений в связи с повсеместным распространением коронавирусной инфекции надеюсь на знакомство с моим новым визави по этому формату Стивеном Биганом.
Текущая обстановка в мире вынуждает нас говорить о том, что контртеррористическая повестка дня по сей день не теряет своей актуальности. Никакая пандемия просто не в силах на это повлиять, и разговора о постановке сотрудничества на паузу просто и быть не может.
Мы по-прежнему продолжаем обмениваться данными о готовящихся терактах по линии правоохранительных органов и спецслужб. В этом вопросе, как вы знаете, у нас есть примеры конструктивного и, что самое главное, результативного взаимодействия. Достаточно упомянуть партнерское сотрудничество Москвы и Вашингтона при подготовке и проведении Олимпиады-2014 в Сочи или, например, своевременную передачу американскими спецслужбами информации о готовившихся терактах в Санкт-Петербурге в 2017 году и в декабре прошлого года, которая помогла нам предотвратить страшные трагедии. Наше партнерство в контртерроризме – дорога с двусторонним движением. Могу привести пример, получивший широкую огласку. Мы, в свою очередь, заранее предупреждали американских коллег об опасности, исходящей от братьев Царнаевых, совершивших теракт на Бостонском марафоне в апреле 2013 года.
Важными площадками нашего взаимодействия с американцами остаются вспомогательные органы Совета Безопасности ООН – Контртеррористический комитет, а также комитеты 1267/1989/2253 по санкциям в отношении ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* и 1988 по санкциям в отношении движения талибов.
— Российская сторона уже заявляла, что в преддверии выборов президента США наверняка последуют обвинения в адрес России в кибератаках и так далее. Готова ли Россия по-прежнему создать такой механизм с США, чтобы обсуждать эти вопросы? Ведем ли с США переговоры по этому поводу?
— Что касается темы так называемого вмешательства в американские выборы, считаем позицию наших заокеанских партнеров несостоятельной.
Между Москвой и Вашингтоном существуют закрытые каналы связи для построения доверительного диалога и прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность двух стран. Они, в частности, были успешно задействованы в ходе предвыборной кампании 2016 года. Нами были предоставлены развернутые ответы на запросы американской стороны. Еще в 2017 году мы предложили обнародовать детали переписки, которая велась по указанным каналам, на что США ответили отказом, сославшись на "чувствительный характер" передававшейся информации.
Наши неоднократные попытки активизировать сотрудничество на данном треке Вашингтон неизменно оставляет без реакции. Отсутствие экспертного деполитизированного диалога между Россией и США в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) – путь не только тупиковый, но и опасный, чреватый углублением недопонимания.
В ходе недавнего телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров вновь напомнил о российском предложении возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности. Во избежание очередного, уже набившего оскомину потока обвинений в наш адрес по поводу вмешательства теперь и в нынешнюю предвыборную кампанию мы предлагаем воссоздать механизм, который был бы уполномочен рассматривать любые вопросы, вызывающие обеспокоенность той или иной стороны.
Все наши предложения по активизации российско-американского диалога по МИБ остаются в силе. Рассчитываем на то, что на этот раз американская сторона будет руководствоваться рациональными соображениями и направит, наконец, свои усилия в конструктивное русло.
— Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил Россию в кибератаках на британские университеты и научные организации, разрабатывающие вакцину от коронавируса. Представила ли британская сторона какие-либо доказательства таких обвинений?
— С сожалением констатируем очередной виток антироссийской кампании по бездоказательному обвинению нашего государства в организации кибератак. Такой сценарий отрабатывался в случае с Грузией, Чехией, а теперь и Великобританией. Каждый раз мы имеем дело со все более изощренными нападками на Россию, направленными на дискредитацию ее имиджа в международном информационном пространстве.
Считаем уместным напомнить о том, что в соответствии с положениями принятого консенсусом доклада Группы правительственных экспертов ООН по МИБ 2015 года и закрепившей его рекомендации резолюции ГА ООН № 70/237 любые обвинения в организации и совершении преступных деяний, выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными.
Конкретно в упомянутой вами ситуации официальных запросов от Великобритании в адрес России не поступало. Тем более не приходится говорить о каких-либо вразумительных доказательствах совершения кибератак на британские университеты и научные организации нашей страной или с ее территории. Вызывает сожаление, что западные партнеры вновь ищут подтверждение "российского следа", чтобы приступить к шельмованию в стиле highly likely.
— Как пандемия коронавируса повлияла на цифровую безопасность, на способность международного сообщества противостоять кибертерроризму? Нужно ли выработать какие-то новые правила в этой сфере?
— Ситуация с коронавирусной пандемией наглядно продемонстрировала уязвимость всех государств перед лицом острых глобальных проблем вне зависимости от их политической ориентации и уровня экономического развития. Однако беда, как известно, не приходит одна. Меры по борьбе государств с коронавирусом только усилили тотальную зависимость человечества от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В условиях форсированного перехода предприятий, бизнес-структур и государственных учреждений в режим удаленной работы резко возрос уровень киберпреступности. Нельзя исключать и возникновение еще более опасной тенденции активизации террористической деятельности в информпространстве. К числу обострившихся в нынешних условиях стратегических вызовов относим также риск межгосударственной конфронтации в цифровой сфере, которую нельзя удержать в локальных масштабах в силу трансграничности ИКТ, переплетения национальных экономик и образа жизни. Все это можно назвать рукотворной киберпандемией, лечение которой усугубляется серьезной политизацией данного вопроса.
Со своей стороны последовательно выступаем за налаживание профессионального и конструктивного сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности. В нынешних условиях как никогда очевидно, что без универсальных договоренностей мир рискует погрузиться в киберхаос, последствия которого могут оказаться без преувеличения катастрофическими. Настаиваем на необходимости скорейшей разработки правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, а также создания глобальной международной конвенции по борьбе с преступностью в сфере использования ИКТ.
Принципиально важно, чтобы в поиске общеприемлемых рецептов от киберпандемии участвовали все без исключения государства, а также заинтересованные силы (бизнес, гражданское общество, наука). Обеспечить подлинно инклюзивный характер соответствующей дискуссии можно лишь на площадке единственной универсальной организации – ООН. Речь, в частности, идет об учрежденных по инициативе российской стороны Рабочей группе открытого состава по МИБ, а также Межправительственного специального комитета открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против использования ИКТ в преступных целях. Призываем все государства принять ответственное участие в их работе.
— Как вы считаете, не ослабила ли пандемия способность и возможности стран противостоять терроризму в целом? Отразилась ли она на борьбе с ИГ*, ан-Нусрой* и другими?
— Вы знаете, что коронавирус, как и терроризм, затрагивает разные страны в разной степени. Причем ситуация динамично и зачастую непредсказуемо меняется. В ряде стран, в том числе и в нашей, приняты беспрецедентные меры по охране госграниц и общественного порядка, объективно затрудняющие возможность проведения терактов. Вместе с тем в отдельных, давно слывущих неспокойными регионах мира положение не может не беспокоить.
Особую тревогу в этом плане вызывает ситуация в ряде регионов Африки, хотя я бы не стал говорить об ослаблении террористической угрозы и в других странах. Так, например, террористические организации, стремясь заработать очки на волне пандемии, резко активизировали свою деятельность в регионе Ближнего Востока, прежде всего в Сирии и Ираке. В нынешних условиях вынужденной социальной изоляции Европы, в связи с распространением коронавируса, угроза там также не исчезла, несмотря на отсутствие массового скопления людей. Затаившиеся в этих странах спящие ячейки международных террористических организаций никуда не исчезли.
Мы надеемся, что на фоне коронавирусной эпидемии мировое сообщество не утратит своей сплоченности и решимости в совместной борьбе с терроризмом. Разумеется, антитеррор — это сфера, где много чувствительных вопросов, и не все из них можно обсуждать в открытых форматах, включая видеоконференции. Однако все контакты с нашими иностранными партнерами по-прежнему поддерживаются, готовятся важные международные встречи, в том числе на площадке ООН, прорабатываются новые совместные шаги в этой сфере. Речи об отказе от каких-то ранее запущенных инициатив или переговорных форматов не идет, даже если какие-то мероприятия приходится переносить на более поздний срок. В целом с учетом усиления фактора непредсказуемости, вызванного мировой пандемией, мы продолжаем и будем продолжать неустанно работать по глобальным проблемам новых вызовов и угроз с повышенным вниманием. Наша общая задача – бороться с ИГИЛ* и иными террористическими организациями и террористами в целом до их полного разгрома.
* Запрещенные в России террористические организации

Понятие "жилой дом" должно кануть в Лету
Длительный карантин не пройдет бесследно ни для экономики, ни для населения, ни для городов. Вице-президент Союза архитекторов России, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский утверждает, что пандемия повлечет кардинальное переустройство нашей жизни. Как будем работать и где будем жить, он рассказал в интервью "РГ".
Дмитрий Михайлович, пандемия заставила многих покинуть квартиры и уехать на дачи или просто снять на время жилье за городом. Все ли вернутся назад или жизнь уже не будет прежней?
Дмитрий Наринский: Уверен, что в ближайшее время будут формироваться новые запросы на стандарты жизни, и эти запросы изменят облик городов. Жизнь на 39-м этаже 45-этажного жилого дома в 12-миллионном Ухане уже никогда не будет привлекательной моделью, которую мы захотим копировать и предложить своим детям.
В понятие комфорта войдет не только качество уличного покрытия и игровых площадок во дворе дома, но и плотность населения, возможность получения услуг рядом с местом проживания, а также уровень телекоммуникаций. В конечном итоге это приведет к изменению пространственной структуры городов, она будет развиваться не в сторону моноцентричных территорий. Скорее, эту структуру можно назвать сотовой.
Все обоснуемся в деревнях и малых городах?
Дмитрий Наринский: Малые города с населением менее 100 тысяч - не очень устойчивые образования. Наиболее перспективно развитие территорий с населением от 100 до 250-300 тысяч человек. Если такие города будут эффективно интегрированы в общую систему телекоммуникаций, то жизнь в них ничем не будет отличаться от жизни в миллионнике.
Вы верите в то, что какой-нибудь менеджер из офиса в "Москва-Сити" поедет жить, скажем, в город Лиски Воронежской области?
Дмитрий Наринский: Начнем с того, что, скорее всего, этот менеджер потеряет работу. Как минимум его условия работы сильно трансформируются. Это не вопрос поведения отдельного человека, это вопрос моделей трудовой активности в целом. Практика работы на карантине покажет, что функции менеджера легко можно выполнять, не находясь в офисе. Работодатель поймет, что ему незачем снимать большой офис в центре Москвы - там останутся только те, чье присутствие действительно необходимо.
Остальные переедут в другие локации, которые будут дешевле. У города Лиски появится новый шанс на создание новых рабочих мест, если там смогут развить телекоммуникационную инфраструктуру. Место работы уже не будет таким обособленным от места проживания. Это очень долгосрочный тренд, которой должен привести к системным изменениям отношения к городу.
Что вы имеете в виду?
Дмитрий Наринский: Вся система регулирования градостроительной деятельности сейчас основана на функциональном зонировании. Мы разграничиваем места проживания, работы, отдыха и иной деятельности. Этот принцип родился в начале ХХ века и сегодня катастрофически устарел. Мы нормируем жилье, места приложения труда и т.д. Новые принципы изменят не только отношение к этим, казалось бы, привычным вещам, но и ко всей сфере сервиса и услуг. Само понятие "жилой дом" должно кануть в Лету. Человек может жить, работать, питаться и отдыхать в пределах одного здания.
Изменения затронут не только отношение к зданию, но и к территории в целом. Если люди будут больше работать вне офисов, то меняется их транспортное поведение. Понятие "час пик" вызвано трудовым поведением, характерным для ХХ века.
Еще несколько лет назад в Москве в качестве действенной меры по борьбе с пробками экспертами предлагалось дифференцировать начало трудового дня по социальным группам. Официально от этого отказались, но на практике процесс плавно шел. Теперь это произойдет явочно и обвально. Если человеку не нужно ехать на работу в центр города, то он будет стремиться найти весь набор услуг и сервисов рядом с местом проживания и желательно в пешей доступности.
Получается, новые ветки метро и авторазвязки, которые в последнее время появились в наших мегаполисах, окажутся не нужны?
Дмитрий Наринский: Мы до последнего времени жили в логике ХХ века - логике наращивания показателей: числа людей, машин, квадратных метров и т.д. Последние сто лет Россия точно шла по пути уплотнения и централизации городов. Москва росла, и никакие кризисы не могли остановить ее рост. ХХ век затянулся. Так было и с XIX, который закончился только с началом Первой мировой войны, а не по календарю. ХХ век закончится только сейчас, в 2020-м.
Так что помешает нам вернуться в наши мегаполисы?
Дмитрий Наринский: К нам придет осознание ценности меньшей плотности населения. Ведь это не столько эстетический комфорт, сколько социальная необходимость. Еще совсем недавно нам активно предлагали концепцию пространственного развития страны, базирующуюся на мегаполисах, и ратовали за большее количество городов-миллионников у нас в стране. Нам активно навязывали китайскую модель развития. Идеологи мегаполисов говорили об экономических эффектах этой модели: город как машина по продаже товаров и услуг. Авторы этой концепции не хотели ничего слышать про экологию и другие факторы городского развития, в том числе эпидемиологические.
Нынешние события доказали уязвимость этой позиции: никому не нужны деньги, если люди умирают. Когда мы повышаем плотность населения запредельно, у нас автоматически падает качество жизни. Необходимо изучить всю историю появления массовых инфекций за последние 10 лет, чтобы понять, что многие из них появились как раз в перенаселенных городах Китая. Если человек сам не может регулировать плотность населения, то ее будет регулировать природа самыми страшными методами.
Если люди понимают, что город несет не только возможности, но и угрозы, вероятно, их отношение к городам будет меняться. В этом смысле концепция, близкая России, - распределенное население по средним и мелким городам - должна получить импульс развития.
Вы полагаете, люди после карантина будут готовы расстаться с этими возможностями (прежде всего по зарабатыванию денег) в пользу качества жизни?
Дмитрий Наринский: Во-первых, последние события доказали, что люди и в крупных городах могут потерять доход, ради которого они в них поехали. То есть город не гарантирует стабильность дохода. Во-вторых, я уверен, что будут появляться отрасли и виды деятельности, которые будут развиваться в малых городах. С развитием интернета и других средств коммуникации удаленная работа с таким же успехом может осуществляться, например, из Тарусы. Ты можешь жить в Тарусе и работать преподавателем в Москве.
Есть предприятия, на которые физически надо каждый день ездить на работу. Нельзя же на удаленку перевести молокозавод.
Дмитрий Наринский: Современные технологии будут развиваться во многих направлениях, в том числе в сторону роботизации процессов. И доля физического труда, связанного с необходимостью пребывания у станка, будет неизбежно уменьшаться. Классическое производство - заводы с большим числом сотрудников - будет уходить в прошлое.
Россия стоит на пороге четвертой промышленной революции. Вся та индустриализация, которая происходила в стране в 30-х годах ХХ века - это была вторая промышленная революция. Мы ее тогда пережили бурно, активно и видели следы этой второй промышленной революции. Третью мы переживали плавно. Она фактически совпала с распадом страны. И поэтому в памяти у людей осталось в большей степени переживание от политических потрясений, чем от третьей промышленной революции. Но она к нам пришла в виде цифровизации.
Теперь будет следующий шаг - роботизация. До пандемии этот процесс шел медленно, такими темпами он мог бы растянуться на десятки лет. Но нынешние события, несомненно, подстегнут этот процесс - думаю, все случится в пределах ближайших 10 лет. При этом новое производство и, соответственно, сотрудники будут также распределены в пространстве. И это точно не фантастика, а вполне реальные перспективы ближайшего десятилетия.
История учит
В истории планеты есть немало примеров, когда люди покидали обжитые города. Самые известные из них - Мачу-Пикчу (Перу), Теотиуакан (Мексика), Ангкор (Камбоджа), Петра (Иордания). Так, в Теотиуакане проживали свыше 125 тысяч человек. Город возник в III веке до н. э., а был заброшен в VII веке. По мнению ученых, гибель города была спровоцирована засухой, которая привела к голоду и социальному конфликту. Ангкор был центром Кхмерской империи и считался самым крупным городом того времени. 800 лет назад в нем проживали около миллиона человек. Город опустел в XV веке. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, почему люди его покинули. Одна из версий - борьба с эпидемиями.
Текст:
Татьяна Карабут
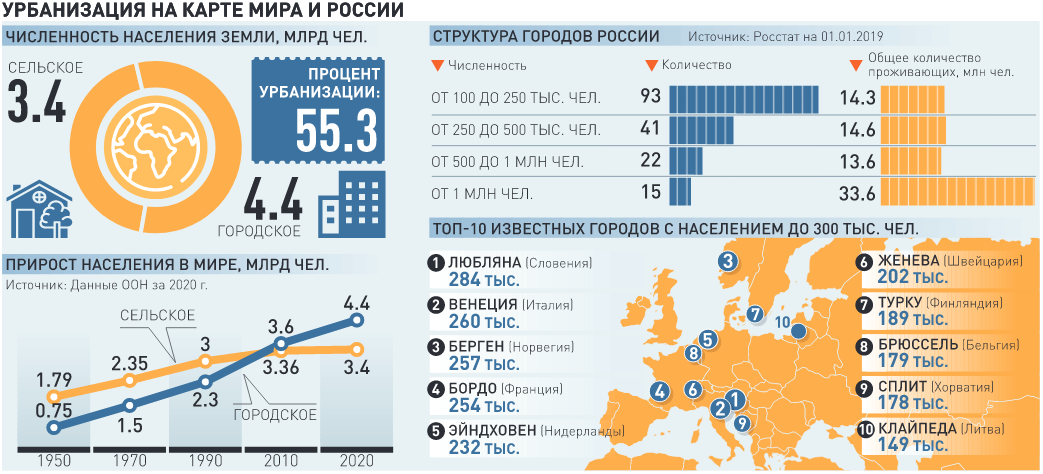

Образумит ли коронавирус конфликтующие государства?
Рами Аль-Шаер
Сейчас, когда медицинские учреждения и научно-исследовательские центры во всём мире заняты поиском путей борьбы с коронавирусом и осуществлением необходимых профилактических мер, эта проблема стала предметом особого внимания со стороны всех без исключения мировых лидеров и руководителей.
Проблема коронавируса стала преобладающей и в сообщениях СМИ и в социальных сетях во всём мире. Важнейшее международное событие произошло накануне. Речь идёт о проведении чрезвычайного виртуального саммита «двадцатки». Лидеры стран-участников саммита подтвердили, что безусловным приоритетом сейчас являются меры по ограничению распространения пандемии и ликвидации ее последствий, затронувших все области жизни, и создание единого международного фронта для осуществления этой цели.
Одним из самых важных событий саммита, впервые в истории проходившего в режиме видеоконференции ввиду невозможности его обычного проведения в силу известных причин, стали предложения, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. Среди них – разработка общего экономического плана с целью обеспечения стабилизации ситуации на мировых рынках, проведение совместных исследований для создания вакцины против нового коронавируса covid 19, создание так называемых «зелёных коридоров», свободных от торговых, экономических, обычных войн и от санкций. Кроме этого, Путин подчеркнул в своём выступлении, которое можно охарактеризовать как «обращение к мировой совести», что гуманитарная миссия в настоящее время гораздо важнее любых политических соображений, что диктует необходимость отмены санкций и замены их оказанием срочной помощи прежде всего государствам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса. Он также предупредил, что любое промедление здесь может обернуться пагубными последствиями для всего мира.
С другой стороны, моё внимание привлекло сообщение военного ведомства США о повышении уровня безопасности на базах по всему миру. Первый вопрос, который приходит в голову, после прочтения этой новости, можно сформулировать следующим образом: какой уровень безопасности могут повысить Соединенные Штаты Америки или любая другая страна? При помощи каких баз, каких видов оружия, каких боеприпасов можно ликвидировать этот вирус, который можно разглядеть только через мощный микроскоп?
Целью принимаемых мер является защита американских солдат и офицеров в связи с распространением коронавируса. Эти меры вызваны тем, что Пентагоном зафиксированы случаи заражения военнослужащих. Но ведь очевидно, что коронавирус не делает никаких различий между гражданином Ирака и американским военнослужащим, между богачом и бедняком, между высокопоставленным политическим деятелем и рядовым служащим или рабочим. Этот вирус беспрецедентным образом угрожает всему без исключения человечеству. Все государства, как богатые, так и бедные, в равной степени сталкиваются с этой опасностью, угрожающей их существованию. В этой чрезвычайно опасной ситуации, с которой сталкивается весь мир, все политические аналитики, журналисты, лидеры и руководители государств, все кто готовит и принимает важные решения на разных уровнях, должны объединить свои усилия, внести свой вклад в спасение человечества от этой опасной эпидемии, принять участие в решении вопросов, связанных со скорейшим изобретением вакцины для лечения заразившихся. Необходимо выдвинуть новые инициативы, направленные на оздоровление международных отношений, анализ причин международной напряжённости, на отказ от использования военной силы, экономических санкций, блокады, от политики диктата и навязывания народам чужой воли. Именно об этом говорил президент Путин, выдвинув в своём выступлении соответствующие инициативы. Мы все сегодня находимся в одной лодке, любая брешь в которой может иметь необратимые последствия.
С другой стороны, в отличие от предпринятых Пентагоном мер, министерство обороны РФ создало воздушный мост с Италией, направив туда специалистов, технику и медицинское оборудование в рамках оказания итальянскому правительству и народу помощи в борьбе с инфекцией и решении разрастающегося медицинского кризиса. Между тем, Италия является членом Евросоюза, который ввёл экономические санкции в отношении России, а также членом НАТО, размещающего и расширяющего военные базы в странах Восточной Европы, то есть в непосредственной близости от российских границ. Кроме этого, Россия стала оказывать помощь Ирану – стране, являющейся одним из очагов эпидемии на азиатском континенте, наиболее сильно пострадавшей от распространения коронавируса и вдобавок живущей в условиях американской экономической блокады. Россия помогает и многим другим пострадавшим от эпидемии странам.
Хотелось бы также коснуться визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Сирию – единственное иностранное государство, в котором находятся российские вооружённые силы, в отличие от Соединенных Штатов Америки, чьи военные объекты развернуты во многих точках земного шара, как об этом говорится в соответствующем заявлении американского военного ведомства. Одно из главных целей этого визита было распространение режима прекращения огня на всю территорию Сирии в свете договоренностей по ситуации в провинции Идлиб, достигнутых на последней встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеба Тайиба Эрдогана. О содержании этих договоренностей был проинформирован президент Ирана Хасан Роухани. Кроме этого, одной из целей визита Шойгу в Сирию было обсуждение мер по противодействию распространения коронавируса в Сирии. Это очень важно, учитывая сложные условия, в которых находится страна, раздираемая внутренними конфликтами, ведущая борьбу с международным терроризмом и противостоящая экономическим санкциям и блокаде. Это привело к резкому ухудшению экономической ситуации, когда большинство граждан Сирии живёт в катастрофических условиях. Министр обороны РФ проинспектировал район дислокации российских войск, выполняющих конкретные боевые задачи на территории Сирии с целью ликвидации террористов, включённых Организацией Объединенных наций и Евросоюзом в списки международных террористических организаций. Министр ознакомился с обстановкой в зонах деэскалации и в районах совместного патрулирования на севере Сирии, о чём ранее была достигнута договоренность странами-гарантами астанинского процесса – Россией, Ираном и Турцией, а также с обстановкой «на земле» вообще и с ролью российских военнослужащих, оказывающих помощь сирийским властям в борьбе с распространением коронавируса covid 19.
Несмотря на очевидную разницу подходов военных ведомств России и США к проблеме коронавируса, хотелось бы отбросить в сторону существующие разногласия, забыть даже о развёртывании военных баз НАТО в различных странах мира. Хотелось бы надеяться на то, что США предпримут шаги, направленные не только на защиту американских войск и баз, расположенных за рубежом, но и расширят рамки своей стратегии в борьбе с коронавирусом, мобилизуют свои огромные возможности, силы и средства, развёрнутые в различных странах, и прежде всего, в Ираке, Афганистане, странах Залива, неподалеку от Ирана, Йемена, Ливии, а также в Иордании, то есть по соседству с Палестиной, направят свои военно-воздушные и военно-морские армады и флотилии на борьбу со смертоносным вирусом, на доставку гуманитарной и медицинской помощи в эти страны, живущие в катастрофической ситуации и превратившиеся в вероятные очаги распространения эпидемии в масштабах, которые будет трудно взять под контроль. Эти страны рискуют превратиться в места массового захоронения сотен тысяч, а возможно, и миллионов людей. Эта беда касается всех без исключения. Вряд ли эпидемия не выйдет за границы этих государств. Мы видели на карте, как распространяется вирус, начиная с Китая, в Иран, Италию, Германию, Францию, Великобританию, США и другие государства.
Именно об этом говорил в своём выступлении на саммите «двадцатки» Владимир Путин, подчеркнув приоритетный характер «гуманитарной миссии», которая должна быть выше любых политических соображений, что диктует необходимость незамедлительной «отмены санкций и замены их гуманитарной помощью для того, чтобы избежать пагубных последствий эпидемии для всего мира».
Сейчас, когда всё человечество сталкивается с угрозой пандемии, наступил момент истины. Мировые лидеры должны пересмотреть свою политику, базирующуюся на конкуренции интересов, стремлении расширить зону контроля и господства и сколачивании блоков, что мешает созданию позитивной международной обстановки, при которой было бы возможно аккумулировать интеллектуальный и научный потенциал, технологические и цифровые инновации, поставив их на службу человечеству.
В чём состоит ценность богатства или силы, когда мы видим израильтянина, живущего с опорой на силу и стабильность, а рядом – на расстоянии нескольких километров (а иногда и нескольких метров) - палестинцев, страдающих от ужасов блокады, бедности, голода и болезней?
В чём ценность процветания, урбанистического и технологического развития, высокого уровня развития экономики в странах Залива в то время, как рядом с этими странами страдает и живёт в катастрофических условиях, подобных которым не знала история, йеменский народ?
В чём смысл демонстрации силы, самодовольства и «ослепительного» превосходства флотилии НАТО возле побережья Ливии – страны, большинство народа которой втянуто в истребительную беспощадную войну, когда ливиец ежедневно, ежечасно убивает своего соотечественника?
Мы все равны перед угрозой этого проклятого вируса. Мы все подвергаемся опасности, угрожающей всему роду человеческому.
Существует шанс, который можно использовать, если лидеры входящих в эту группу крупных международных и региональных держав договорятся об урегулировании разногласий и конфликтов в вышеупомянутых странах. Это можно сделать в течение буквально нескольких дней, если все лидеры проявят политическую волю. Сейчас не хотелось бы вдаваться в детали, особенно, если учесть тот факт, что большинство пострадавших стран прекрасно понимает, что происходит. Однако нынешняя ситуация обязывает нас принимать смелые решения, при помощи которых можно завершить длящиеся годами и десятилетиями конфликты, отвлекающие ресурсы, время и людей, и направить весь наш потенциал, все наши ресурсы сегодня, а не когда-нибудь «потом», на борьбу с опасным вирусом.
Так человечество могло бы извлечь пользу из нынешнего кризиса, вызванного распространением коронавируса, для того, чтобы избавиться от более опасной «эпидемии», вызвавшей бесчисленное количество катастроф и трагедий, жертвами которых стали миллионы людей. Речь идет об «эпидемии» местных, региональных и международных конфликтов.
Хотелось бы подчеркнуть, что механизм преодоления этой «эпидемии» существует так же, как существует набор инструментов, при помощи которых можно осуществить эту цель. По каждому конфликту – в Палестине, Йемене, Сирии и Ливии – имеются соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Существует институт спецпредставителей Генерального секретаря ООН по этим вопросам. Однако вмешательство иностранных военных и разведывательных ведомств, противоречащее принципам уважения суверенитета государств, препятствует выполнению резолюций ООН и не дает этой международной организации выполнять свою роль по обеспечению стабильности и безопасности в мире.
Когда закончится этот кризис, и мы покончим с эпидемией коронавируса, хотелось бы, чтобы у человечества вновь пробудилась совесть. Хотелось бы, чтобы международное сообщество вновь вернулось к осознанию семейных ценностей, к добрососедству, к другим принципам, таким, как солидарность, толерантность, учёт других мнений. Все эти вещи появились у многих людей в мире в результате карантина, который они соблюдали и соблюдают в течение дней и недель, в результате чего человек смог побыть в своей семье, пообщаться с соседями, а главное – заново обрести себя.
Думаю, что так же обстоят дела и со странами. Человечество превращается в единую семью в борьбе с общими вызовами. Давайте же в этих беспрецедентных исторических обстоятельствах используем предоставившийся нам шанс для усиления роли и места ООН как единственного механизма, объединяющего всех нас. В своё время мы участвовали в формулировании и разработке международного законодательства, гарантирующего соблюдение прав человека. Действуя через свои гуманитарные, общественные, научные, экономические и законодательные институты и организации, этот международный механизм выполняет задачу осуществления устойчивого развития всего человечества, обеспечения процветания, роста благосостояния и счастья всех людей на Земле.

Чиновники, поживите как все!
Крашенинникова Вероника
Прошёл первый месяц работы правительства Михаила Мишустина. Весомых результатов ожидать сложно, но планы и первые шаги обсуждать как раз и нужно.
Ожидания россиян складываются в первую очередь из двух составляющих. Одна касается материального: люди хотят, чтобы денег в кошельке стало больше. Это не прихоть лентяев, а законное требование упорно работающих людей – получать достойную зарплату. Во-вторых, в экзистенциальном плане, россияне хотят справедливости – от снижения вопиющего неравенства в доходах до доступности высшего образования и честного судопроизводства. Хотят также, чтобы правительство чётко и быстро ответило на ожидания. Ждать годами никто не настроен. Можно сказать, что год – максимальный срок для Белого дома показать результат.
Какие меры могут соответствовать и материальным, и системным ожиданиям перемен?
Введение прогрессивной шкалы налога на физических лиц, с необлагаемым минимумом, – самая чёткая и ясная мера. Действующий в РФ «плоский» налог в 13% для всех – предмет гордости А. Кудрина, был установлен в 2001 году, до того верхняя ставка составляла 30%. Но стричь всех под одну гребёнку – удел мелких развивающихся стран, «освобождённых от социализма», или банановых республик. Меньше, чем у нас, только в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Казахстане (по 10%), в Белоруссии и Макао (12%). Чуть выше в Иордании (14%), в Литве, Сербии, Коста-Рике, Гонконге, Судане, Йемене и Маврикии (15%), в Венгрии и Румынии (16%), Анголе (17%). Даже на Украине – 19%.
В «цивилизованном» капиталистическом мире, к которому мы вроде как примыкаем, налог, во-первых, прогрессивный – единого нет ни в одной стране! Во-вторых, он гораздо более высок по всей шкале. Вот примеры: Австрия – 36,5–50%, Бельгия – 25–50%, Великобритания – 0–50%, Германия – 14–45%, Дания – 38–59%, Люксембург – до 38%, Норвегия 28–51,3%. В США сумма налогов – федерального, штата и муниципального – может доходить до 50%. Причём повышение налогов – нередкая мера при экономическом спаде. Президент США Гувер в 1932 году поднял налог на богатых до 63%, а Рузвельт в 1936-м довёл до 79%.
Самые ходовые аргументы против повышения налогов для состоятельных слоёв – «они уйдут в тень или уедут». Уедут куда? Туда, где 50%? А насчёт «уйдут в тень» – так недавний главный налоговик, ныне премьер Мишустин как раз и создал такую систему сбора налогов, когда «тени» нет. Если система научилась дотягиваться до миллионов рядовых граждан, то уж с нескольких десятков тысяч известных персон, наверное, соберёт.
Для более справедливого распределения доходов между разными слоями населения прогрессивный налог – самый мирный способ. Пока слои не закрепились в классы – с классовым сознанием и жёсткими требованиями.
Но чтобы что-то поменялось в жизни, должно измениться целеполагание в сознании чиновников. Вот по части необходимости социальных мер вроде бы всё ясно. Кто, например, может не согласиться с бесплатным горячим питанием для всех учеников 1–4-х классов? Оказалось, в какой-то момент «все были против»! Это уже сюрреализм. На чьи интересы люди из правительства работают, если даже на обеды для младших школьников не готовы раскошелиться? Копят деньги на субсидии богатым банкам и корпорациям?
Как помочь правительству осознать, что оно призвано работать на интересы граждан? Похоже, ничто не действует, даже отставки уроком не служат. У Всемирного банка, при всей неоднозначности организации, есть хорошая практика: отправлять чиновников на пару месяцев пожить в те страны, которые они «курируют». В Сомали, Зимбабве, Бирму и так далее.
Давайте предложим своим чиновникам, начиная с министра и ниже – каждому и по очереди, поехать в регион и пожить месяц-другой на среднюю там зарплату. Не Сомали же, в конце концов, а родная страна.
Это предложение – не популизм. Как ещё помочь чиновному классу – или уже сословию? – соприкоснуться с реальностью?! Пока не стало поздно

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади, Москва, 19 февраля 2020 года
Уважаемые дамы и господа,
Мы провели очень полезные, конкретные, ориентированные на результат переговоры как по двусторонней повестке дня, так и, прежде всего, по региональным и международным делам.
Из двусторонней повестки дня особое внимание уделили необходимости воплощения в жизнь всех тех договоренностей, которые были достигнуты на последнем заседании Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, которое состоялось в ноябре прошлого года в Аммане.
У нас активно развиваются региональные связи. В конце прошлого года Иорданию посетили руководители Чечни и Адыгеи.
Укрепляются традиционно насыщенные, богатые гуманитарные контакты. Особо отмечу нашу благодарность иорданскому руководству, лично Королю Абдалле II за неизменное внимание к нуждам российских паломников.
У нас единый подход с иорданскими коллегами к урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Севере Африки. Прежде всего, он опирается на необходимость уважать суверенитет, единство и территориальную целостность стран региона, содействовать налаживанию инклюзивного национального диалога с участием всех этноконфессиональных и политических сил каждого государства, будь то Сирия, будь то Ирак, будь то Ливия.
В том, что касается сирийского урегулирования, мы ценим тот вклад, который вносит Иордания в качестве наблюдателя в работу Астанинского формата. Мы и наши иорданские друзья исходим из абсолютной безальтернативности окончательного искоренения террористической угрозы, исходящей с территории Сирии и из других стран региона.
Мы много внимания уделили такому аспекту сирийского урегулирования, как создание условий для возвращения беженцев. В Иордании их немало. Во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках созданного несколько лет назад в иорданской столице российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, удается достигать, пока еще не очень крупных, но, тем не менее, реальных успехов.
Сегодня мы обсуждали иорданские инициативы по реализации на юге Сирии конкретных проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию других условий для возвращения беженцев из Иордании. Мы эти проекты поддерживаем.
К работе российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев в Аммане периодически подключаются представители ООН и США. Мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию и снять политические, любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения, в том числе в интересах возвращения беженцев.
У нас общий подход и к проблеме, касающейся палестино-израильского урегулирования. Сегодня мы об этом тоже много говорили. Россия и Иордания традиционно последовательно привержены созданной международно-правовой базе урегулирования этого конфликта, включая резолюции ООН и Арабскую мирную инициативу.
Сегодня на наших переговорах мы подчеркнули, что попытки преодолеть конфликт с опорой на политику свершившихся фактов, методами односторонних действий в пользу одной из сторон конфликта контрпродуктивны, что подтверждается реакцией подавляющего большинства стран мира на т.н. «сделку веку», которую нам предложили американские коллеги.
Для решения любой проблемы необходим диалог и согласие всех вовлеченных сторон. В этой связи мы выразили поддержку принятым в начале февраля в Каире на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) решениям, в которых, в частности, записано предложение о переходе к многостороннему переговорному процессу под международной эгидой. Мы готовы к такой работе. По нашему мнению, основой такого многостороннего процесса мог бы стать «квартет» международных посредников с участием представителей ЛАГ.
Мы, конечно, особо ценим стремление Иордании помочь найти решение этой палестинской проблемы. Особо отмечаем, что здесь эта роль важна с учетом того, что Король Абдалла II является хранителем мусульманских святынь в Иерусалиме.
В любом случае так получилось, что сейчас, когда «сделка века» была выдвинута США, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была «в загоне». Поэтому всегда нужно видеть плюсы и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости «тупика» в этом вопросе, постараться все-таки мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решения, которое будет приемлемо обеим сторонам.
Мы приветствовали шаги, которые были предприняты в Ираке по преодолению внутриполитического кризиса. Очень важным шагом стало формирование нового Правительства в результате диалога с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп этой страны. Мы будем и дальше поддерживать движение наших иракских друзей в направлении стабилизации обстановки. Здесь, конечно же, недопустимо какое-либо вмешательство извне.
Необходимость избегать вмешательства извне во внутренние дела актуальна и для усилий по созданию условий для урегулирования в Ливии. У нас общая позиция, что и этот кризис может быть тоже урегулирован исключительно через общеливийский национальный диалог. А все те, кто, так или иначе, влияет на различные политические и иные силы в Ливии, должны стимулировать их к тому, чтобы они сели за стол переговоров. Первые шаги в этом направлении были сделаны, но сейчас опять возникают дополнительные трудности.
Мы в России убеждены, что для обеспечения устойчивости процесса в ливийском урегулировании необходимо, чтобы внешние игроки избегали разнонаправленных, конкурирующих инициатив и сконцентрировались на необходимости выстраивать все действия в интересах побуждения ливийских сторон к диалогу на основе тех решений, которые приняты СБ ООН.
В целом итоги переговоров подтвердили очень большой и перспективный потенциал нашего двустороннего партнерства и координации действий на международной арене.
Вопрос: Мы слышали от Министра иностранных дел Турции М.Чавушоглу, что не исключается встреча в верхах Президента России В.В.Путина и Президента Турции Р.Эрдогана в случае, если переговоры в Москве по Идлибу не дадут результата. При этом только что Президент Турции Р.Эрдоган, выступая в Парламенте, сказал, что он не удовлетворен результатами переговоров в Москве, военная операция Турции в Идлибе – дело времени, a сам регион не оставят режиму и соратникам, и это последнее предупреждение. Турция сказала уже об этом. Как Вы оцениваете результаты московских переговоров? Ожидается ли встреча в верхах? Будет ли это двустороння встреча или саммит в Астанинском формате? Пару часов назад Иран сказал о том, что такая встреча пройдет в ближайшее время.
С.В.Лавров: Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договорённости Президента России В.В.Путина и Президента Турции Р.Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры. Напомню, что ключевой договорённостью по Идлибу было размежевание вооруженной оппозиции, которая сотрудничает с Турцией, от террористов. Террористы в соответствии с договорённостями по Идлибу никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня, режима прекращения боевых действий. Размежевать подопечных нашим турецким друзьям боевиков и террористов в установленные Сочинским меморандумом от сентября 2018 года сроки не получилось и через год. При этом провокации из идлибской зоны, обстрелы позиций сирийских вооруженных сил, гражданских объектов и российской авиабазы «Хмеймим» продолжаются.
Уже на второй встрече Президента России В.В.Путина и Президента Турции Р.Эрдогана по Идлибу осенью прошлого года была достигнута договорённость создать внутри идлибской зоны деэскалации демилитаризованную полосу, в которой не должно быть ни боевиков, ни тяжелых и любых других вооружений, шириной 15-20 километров, чтобы не позволять боевикам, террористам обстреливать позиции за пределами идлибской зоны в грубейшее нарушение договорённостей президентов России и Турции. Такая демилитаризованная полоса на всем протяжении периметра идлибской зоны до сих пор не создана. Более того, обстрелы позиций сирийской армии, гражданских объектов, попытки атаковать нашу военно-воздушную базу «Хмеймим» продолжаются. Естественно, что сирийские вооружённые силы, подтверждая свою приверженность изначальным договорённостям по Идлибу, включая договорённость о соблюдении режима прекращения огня, отвечают на такого рода неприемлемые провокации. Мы их в этом поддерживаем. Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают от периметра с тем, чтобы они были максимально удалены от объектов, по которым пытаются наносить удары. Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшее нарушение договорённостей по Идлибу. При этом вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, восстанавливая тем самым контроль законного Правительства САР над своими землями. В процессе оттеснения бандитов, которые не соблюдают режим прекращения огня, сирийские вооруженные силы уже вышли на трассы М-4 и М-5, обеспечение движения по которым также было неотъемлемой частью договорённостей по Идлибу президентов России и Турции. До недавнего времени это условие не выполнялось.
Я так подробно об этом говорю, потому что, судя по освещению происходящего в Идлибе, можно подумать, что никто не помнит, о чем договаривались еще в сентябре 2018 – октябре 2019 гг. Судя по истеричным комментариям некоторых западных представителей, можно составить впечатление, что в свое время по Идлибу Россия и Турция договорились просто «заморозить» там ситуацию, не трогать террористов и разрешить им делать, что они хотят, обстреливая все подряд из т.н. «зоны деэскалации». Это не так. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне. Почитайте договорённости Президента России В.В.Путина и Президента Турции Р.Эрдогана, и все встанет на свои места.
Разумеется, мы продолжим с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, пути выполнения того, о чем договаривались. Причем выполнения не с точки зрения воссоздания первоначальной ситуации полуторалетней давности, а выполнения договорённостей с точки зрения достижения результатов, о которых я упомянул. Мы готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем. Об этом говорилось вчера в комментарии Пресс-секретаря Президента России Д.С.Пескова. Пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов, я не видел.
Вопрос (обоим министрам, перевод с арабского): Сегодня много говорилось про ситуацию в Идлибе и Алеппо. Какова, по Вашему мнению, текущая обстановка в другой части Сирии – на сирийско-иорданской границе, в том числе в районе лагеря «Рукбан», где, как известно, находятся вооруженные оппозиционные группировки?
С.В.Лавров (добавляет после А.Сафади): Мы активно пытались помочь сирийцам в «Рукбане», которых подконтрольные США бандиты использовали в качестве «живого щита», вернуться в свои дома. Привлекали к этому ООН. Было несколько попыток направить туда конвои с гуманитарной помощью. Не всегда бандиты пропускали эти конвои к желающим получить помощь. У нас было подозрение, что она используется для того, чтобы поддерживать боевиков. Впоследствии ооновцы стали ссылаться на условия безопасности и постепенно отошли от активности в этом вопросе, так что в целом у нас ощущение, которое существует уже не один год, что «Рукбан» сохраняется в нынешнем виде, чтобы США имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата.
Устойчивое урегулирование сирийского кризиса предполагает вывод всех незаконно находящихся в этой стране вооруженных контингентов, как того требует резолюция 2254 Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается необходимость полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























