Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Кратковременное безвизовое пребывание в Москве для иностранцев, как в Санкт-Петербурге, поможет поднять туристическую конкурентоспособность столицы, заявил председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы Сергей Шпилько.
Выступая на обсуждении государственной программы российской столицы "Развитие индустрии отдыха и туризма" на 2012-2016 годы, Шпилько сказал, что Санкт-Петербург в полной мере воспринимается на мировом рынке как туристический город.
"Питер прошел тот Рубикон, который не прошла Москва. Он стал одной из столиц европейского туризма", - подчеркнул чиновник.
Он заявил, что если использовать опыт Санкт-Петербург, то нужно, прежде всего, прорабатывать безвизовое пребывание иностранцев в столице на 72 часа при наличии ваучера на размещение.
"Если не возникнет такой визовой бреши, то конкурентоспособность Москвы будет системно снижаться. Потому что во всем мире развивается единое туристическое пространство", - пояснил Шпилько.
Безвизовые 72 часа в Санкт-Петербурге для пассажиров круизных судов дали за период действия этих правил, с мая 2009 года более 500 тысяч дополнительных туристов.
На матч "Челси"-"Манчестер Юнайтед" в мае 2008 года в Москву приехало 50 тысяч британских болельщиков, которым сделали двухдневный безвизовый въезд

Великая иммиграционная катастрофа
Резюме: Последние статистические данные, обнародованные Управлением национальной статистики Великобритании (УНС), свидетельствуют о том, что в 2010 г. гипериммиграция в Великобританию не сбавляла обороты.
Последние статистические данные, обнародованные Управлением национальной статистики Великобритании (УНС), свидетельствуют о том, что в 2010 г. гипериммиграция в Великобританию не сбавляла обороты. Страна уверенно приближается к рубежу в 70 млн жителей. Такое количество людей острова просто не смогут обеспечить всем необходимым. Как таковая гипериммиграция представляет реальную угрозу для английского общества, культуры и социальной инфраструктуры. Уайтхолл снова подводит британцев в этом важном вопросе, и при этом правительство пытается заставить граждан помалкивать, обвиняя в расизме любого, кто осмеливается его обсуждать.
Однако выражение обеспокоенности по поводу одной из самых насущных проблем нашего века – это не расизм. Невозможно и дальше подавлять здравый смысл.
Би-Би-Си, конечно, освещает динамику в области иммиграции мимоходом, предпочитая избегать комментариев, способных разрушить идиллию культурного многообразия, в которую эта служба свято верит. На самом деле она не вчера утратила объективность при освещении этого вопроса.
Чистый приток иммигрантов в прошлом году увеличился на 21%. Иными словами, в Великобританию прибыло на 239 тысяч человек больше, чем покинуло ее пределы. Сама по себе эта цифра может ввести в опасное заблуждение, поскольку маскирует потерю коренных британцев для острова. А это означает, что социальное и культурное значение этого явления намного серьезнее, чем следует из официальной статистики. В прошлом году из страны выехало 336 тысяч человек. УНС оценило количество долгосрочных иммигрантов (людей, приезжающих на постоянное место жительства) в прошлом году на уровне 575 тысяч человек. В свете этой статистики намерение правительства снизить ежегодный приток иммигрантов до «нескольких десятков тысяч» к 2015 г., о чем было ранее объявлено, выглядит просто смехотворным. «С математикой они явно не дружат», – сказали бы американцы.
Справедливости ради следует отметить, что эта цифра во многом отражает наследие последнего лейбористского правительства, которое не только утратило контроль над британскими границами, но и всячески способствовало гипериммиграции. Прежде чем бить тревогу, я готов дать нашему правительству еще один год, чтобы взять иммиграцию хотя бы под частичный контроль и доказать статистическими выкладками, что оно это сделало.
Надо также признать, что значительная доля иммигрантов, въехавших в страну, – это иностранные студенты. Всего в прошлом году их приехало 228 тысяч человек. С одной стороны, это хорошая новость для сектора высшего образования Великобритании, но, с другой стороны, многие из студентов затем остаются здесь на постоянное место жительства. Любые попытки осуществить принудительную депортацию блокируются законом о правах человека, который фактически лишил Уайтхолл возможности контролировать границы Великобритании. Что делают политики, когда не могут справиться с кризисом? Они зарывают свою коллективную голову в ближайшую кучу песка.
Это не вопрос расовой неприязни, это проблема массовости. Мне безразлично, какой цвет кожи у британцев – белый, черный, желтый или какой-то еще, – главное, чтобы они были лояльными гражданами Соединенного Королевства и разделяли ценности, на которых держится наше общество. Все факты говорят о том, что одержимость британского истеблишмента идеей культурного многообразия приводит к умножению числа граждан Великобритании, преданных интересам других стран.
Особенно беспокоит резкое увеличение числа иммигрантов из так называемых стран А8 в Восточной Европе. Я часто бываю в этих странах и вижу там множество замечательных людей, которые трудятся в поте лица. Однако количество людей, приезжающих в Великобританию оттуда на постоянное жительство, увеличилось с 5 тысяч человек в 2009 г. до 39 тысяч человек в 2010 году. Как это ни печально, многие сразу попадают в зависимость от социальных пособий или выполняют ту работу, которая могла бы позволить безработной молодежи Великобритании начать восхождение по карьерной лестнице. По состоянию на август 2011 г. в Великобритании насчитывается примерно 1 млн нигде не учащихся и не работающих людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время в Варшаве сегодня 43 тысячи человек претендуют на британское социальное пособие.
Министр по вопросам иммиграции Дамиан Грин привычно смалодушничал, заявив, что по законам Европейского союза правительство не должно сдерживать взаимную или встречную миграцию внутри ЕС. Извините, но речь идет не о взаимной, а об односторонней миграции. Я всячески приветствую управляемую миграцию, но в том-то все и дело, что она стала неуправляемой. Если эта тенденция продолжится, Лондону придется начать рассмотрение вопроса о временном выходе из европейских договоров, чтобы восстановить контроль над границами страны.
Британские граждане всех рас и вероисповеданий сыты по горло неспособностью Уайтхолла хоть как-то обуздать гипериммиграцию. Мы имеем дело с недееспособной политикой, отвратительным менеджментом и полным безволием. Прежде всего мы видим абсолютно недееспособное политическое руководство, и это заставляет меня не на шутку тревожиться о будущем моей страны. Все это очень и очень печально. Лондон, возьми себя в руки!
Джулиан Линдли-Френч – член Группы стратегических советников Атлантического совета США в Вашингтоне, член Королевского института международных отношений в Лондоне и профессор Академии обороны Нидерландов.

Свои среди чужих
Директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский: «Если выходец из среднеазиатской республики не знает ни слова по-русски, как он поймет команду «Стой, стрелять буду!»?
Проблема «понаехавших тут» продолжает оставаться для россиян одной из самых болезненных и обсуждаемых. Об этом свидетельствуют и результаты свежего социологического опроса. Так, 30 процентов москвичей высказали свое отрицательное отношение к приезжим трудовым мигрантам, а по некоторым данным, 38 процентов обеспокоены ростом их числа. В рейтинге злободневных проблем недовольство приезжими занимает одну из верхних строчек, сразу после переживаний, связанных с ростом цен и повышением коммунальных тарифов. Есть ли у России толковая миграционная политика? Об этом «Итоги» поговорили с директором Федеральной миграционной службы Константином Ромодановским.
— Константин Олегович, какой, на ваш взгляд, должна быть миграционная политика в идеале?
— Свое видение мы постарались заложить в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации, которая до 2025 года будет определять ее основы с учетом общегосударственных интересов, базирующихся на правах и свободах человека и гражданина. В работе над проектом документа участвует не только ФМС, но и общественные деятели, ученые. Проект размещен в открытом доступе. Это сделано для того, чтобы наряду со специалистами в обсуждении могли принять участие и обычные граждане. Концепцию планируем принять в конце этого — начале следующего года.
— Ваше ведомство составило что-то вроде интерактивной карты миграции. Что за инновация такая?
— Понимаете, в нашей работе необходимо исследовать причинно-следственные связи такого явления, как миграция. Вот, например, беженцы-мигранты из Туниса в Европе — хорошо это или плохо? Конечно же, это нагрузка на экономику, определенные сложности в общественно-политической жизни. А если посмотреть на мигрантов из Молдавии или Украины, которые выполняют большой объем работ, закрывают кадровый дефицит, то, безусловно, это положительный фактор, элемент, стимулирующий развитие государства. Современные технические средства, и карта миграции из их числа, как раз и помогают нам различать миграцию как последствие каких-либо событий и миграцию как фактор развития. Такая система помогает оценивать постоянно меняющуюся ситуацию. Допустим, произошли волнения в арабском мире, смотрим на интерактивную карту и определяем факторы риска для нашей страны.
— И каковы сейчас миграционные угрозы?
— Факторов риска, или, как мы говорим, выскакивающих величин, нет.
— Как можно узнать, сколько к нам въезжает мигрантов, а сколько убывает?
— Специально создали центральный банк данных по учету иностранцев. На сегодняшний день он содержит около 100 миллионов единиц учетной информации, то есть данных об иностранных гражданах, из них около 40 миллионов переведено в архив. Данные в ежесуточном режиме поступают из погранслужбы, МВД, МИДа, Федеральной налоговой службы. Сегодня в столичных аэропортах совместно с пограничниками проводим эксперимент по автоматизированному формированию миграционной карты и онлайн-прохождению информации в единую базу данных в момент пересечения границы. Эти данные собираются в каждом месте контакта въезжающих граждан с представителями органов федеральной исполнительной власти. Все сведения поступают в информационную систему, и мы получаем «сигнал-импульс», который обрабатывается машиной и превращается в «аналитику». На интерактивной карте мы можем видеть картинку по каждому субъекту. В бегущей строке отображается количество въехавших иностранных граждан, на 19 октября это 11 588 200 человек. Количество граждан, имеющих право на осуществление трудовой деятельности, — 1 288 542 человека. И дополнительно имеются данные о количестве постоянно проживающих — это 664 998 человек. Есть еще данные о поставленных на миграционный учет, получивших разрешения на работу, визы и приглашения. Выборку можно делать по каждому из существующих параметров. Кроме того, отвечаем на запросы компетентных органов, устанавливаем сведения об иностранных гражданах. Всего за период существования базы получили 2,4 миллиона запросов, из них 75 процентов были удовлетворены.
При этом если величина одного из параметров вышла за пределы значения, то на карте регион выделяется более насыщенным цветом. Когда я представлял карту руководству страны, то обратил внимание на Чукотку. Эта территория была выделена темным цветом. Как оказалось, компьютер отражает соотношение местных жителей и приезжих. А так как на Чукотке коренных обитателей не так уж и много, карта показала большой процент приезжих, что составило 1,44 процента.
— А такой показатель, как межнациональная напряженность, ваша карта фиксирует?
— Вы хотите все сразу. Наверное, в перспективе можно придумать, как учитывать на карте и межнациональную напряженность.
— Когда ваши критики утверждают, что в России отсутствует миграционная политика, то в качестве основного довода приводят несовершенный механизм интеграции приезжих в российское общество. Чем парируете?
— Нам приходится непросто, многие вопросы находились не в нашей компетенции, и поэтому нужно было не требовать, а просить и уговаривать. К нам приезжают граждане трех категорий: туристы, временные трудовые мигранты и люди, стремящиеся получить гражданство и постоянно проживать здесь. Последние две категории так или иначе должны прилично знать русский язык, чтобы элементарно понимать, чего от них хотят. Знание русского языка создает условия безопасности и комфорта. Если выходец из среднеазиатской республики не знает ни слова по-русски, как он поймет команду «Стой, стрелять буду!»? Казалось бы, простой пример, но незнание языка в данном случае может привести к трагическим последствиям. Не секрет, что едут к нам зачастую люди низкой, в лучшем случае средней квалификации, слабо говорящие на русском. Поэтому наша задача помочь им овладеть языком еще при выезде. Мы с коллегами из Россотрудничества и МИДа интенсивно работаем в области языковой адаптации. Есть пилотные проекты по обучению мигрантов русскому языку в Киргизии, Таджикистане. На базе профессиональных училищ в городах Ош и Душанбе набрали двести человек, по сто в каждой стране, которые при условии успешного освоения рабочей специальности и русского языка к марту 2012 года будут трудоустроены в России. Подготовленных и выпестованных мигрантов будем привозить и содержать. А дальше надо будет законодательно закрепить необходимость знания русского языка для желающих работать в нашей стране. В особенности для тех, кто занят в сфере обслуживания, в частности в ЖКХ.
— Неужели планируете экзаменовать всех приезжих? И за чей счет — за государственный?
— Считаю, нет необходимости в том, чтобы обременять государство обучением приезжих языку. Это личное дело каждого. Хочешь жить и работать в России — учи язык. Если государство станет оплачивать обучение каждого украинского рабочего, то, наверное, это будет не совсем правильно. Что касается экзамена по русскому, то только на базе Российского университета дружбы народов как в России, так и за ее пределами уже создано около 160 точек, где можно проводить тестирование при оформлении российского гражданства. Процедура стоит порядка двух тысяч рублей. Прошел тест — приезжай, работай. Этим самым мы защищаем и рынок труда. Иностранный гражданин становится дороже, а труд российских граждан, соответственно, вступает в конкурентную борьбу.
— Многие россияне уже волнуются: мол, приедут свободно говорящие на русском языке граждане Таджикистана и займут все рабочие места.
— Чтобы поднимать экономику, нам понадобится большая концентрация людей. Например, Европа столкнулась с серьезной проблемой: до 70 процентов выпускников европейских вузов уезжают на работу в США. Это мы с вами привыкли в бытовом плане высокомерно относиться к приезжим из Средней Азии, а Европа проводит многоступенчатую селективную политику. Есть специальные программы по привлечению студентов из Азии. Идет «борьба за мозги». Мы в эту борьбу включились только в прошлом году, когда установили преференции для въезда и работы в России высококвалифицированных специалистов, или, как мы их называем, ВКС. Министерство экономического развития посчитало, что стране необходимо 30—40 тысяч ВКС. Думаю, в этом году придем к нижней планке потребности государства в специалистах такого уровня, привезем 30 с лишним тысяч профессионалов. Но понимаете: миграционная бочка не без дна. Те трудовые ресурсы, которые мы сегодня привлекаем из стран СНГ, скоро закончатся. Как только завершится борьба за энергоресурсы, начнется борьба за рабочие руки.
— В вашем ведении, как известно, находится выдача загранпаспортов. Правда ли, что планируется добавить в чип биометрического загранпаспорта информацию об отпечатках пальцев?
— Чип — это пластина, в которой уже сейчас размещена информация: данные с титульного листа и двухмерная фотография владельца паспорта. В Евросоюзе большинство стран внесли в чип отпечатки указательных пальцев обеих рук. Мы понимаем, что и нам никуда от этого не деться, планируем до конца года сделать экспериментальный образец документа. Будем отрабатывать методику внесения «пальцев» в этот чип. Но необходимо внести изменения в закон, которым предусмотрено наличие нового параметра. Есть нюансы, связанные с хранением информации. Сегодня мы только говорим о механизме изготовления паспортов с отпечатками пальцев, о том, достаточен ли в чипе объем памяти, чтобы хранить новые параметры, будет ли эта информация быстро считываться. Кроме того, в ФМС параллельно идет работа над проездным документом беженца, а также документа, подтверждающего вид на жительство лица без гражданства. В конце декабря планируем получить первые результаты. Пилотный участок для обкатки новых технологий будет создан на базе Управления федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу, а к 2013 году новые технологии, надеюсь, внедрим во всех подразделениях.
— Во сколько обойдется оформление загранпаспорта с отпечатками пальцев?
— Конкретные цифры пока назвать сложно. Все зависит от того, насколько будет финансово обременителен сам процесс занесения информации в чип.
— По осени спадает бум на оформление загранпаспортов. Давайте в конце сезона подведем итоги.
— Действительно, самое пиковое время — с марта по июль. В 2010 году было оформлено 5 миллионов 852 тысячи загранпаспортов, из них 3 миллиона 327 тысяч — паспорта нового поколения. В этом году оформили 4 миллиона 356 тысяч паспортов, из них 3 миллиона 14 тысяч — «новых». В Москве из 700 тысяч выданных паспортов порядка полумиллиона — нового образца. В 70 процентах случаев мы сократили время оказания услуги на 10 дней. Срок изготовления составлял около 20 суток. А в перспективе будет еще быстрее. Когда мы создадим информационное межведомственное и межуровневое взаимодействие, оформление загранпаспортов в городах-миллионниках будет занимать два-три дня. Смысл в том, что с рабочего места можно будет за 5 минут проверить обратившегося на предмет наличия судимостей, приводов в милицию и невыплаченных алиментов. Сегодня этот процесс занимает две недели. Останется всего дня два, чтобы отправить информацию на Гознак, распечатать паспорт и доставить его владельцу.
Впрочем, уже сейчас я как директор службы даже на себе почувствовал, что накал заметно спал. Люди меньше стали возмущаться, жаловаться.
— На что жалуются?
— В основном на очереди. Проблемы, конечно же, остались. Так, например, в отдельных регионах злоумышленники искусственно создают очереди и затем продают место за определенную сумму. Но все это решается.
— Вы снимаете погоны не только с сотрудников ведомства, но и сами стали гражданским служащим. Чем это было обусловлено?
— Прошло то время, когда мандаты выдавали люди с винтовкой в руках, опоясанные пулеметной лентой. Сегодня эпоха демилитаризации. Об этом не раз говорили и президент, и премьер-министр. В большинстве развитых стран выдачей паспортов занимаются гражданские службы. У людей, выдающих паспорта, должна быть другая ментальность, другая психология.
— Насколько успешно ФМС зарабатывает деньги?
— Весьма успешно. Мы стремились к этому, не просто увеличивая процент получения штрафов, а эффективно расходуя средства. Основные источники доходов ФМС — это пошлины за оформление гражданства, паспортов, патенты.
— Можете на конкретных цифрах показать свою рентабельность?
— Пожалуйста, за 8 месяцев этого года расходы миграционной службы составили 14,5 миллиарда рублей, а доходы — почти 18 миллиардов рублей. На 22,6 процента мы оказались в плюсе. Административных штрафов взыскано на сумму 2,4 миллиарда рублей, от распределения патентов получили ровно столько же. Проще всего сказать: «Дайте нам деньги, а мы вам потом докажем, чего стоим». Мне кажется, что доказывать это нужно постоянно. И сейчас уже наступило время, когда нужно не на словах, а на деле чего-то стоить. Уметь жить, уметь зарабатывать, быть экономически эффективными для государства и не чувствовать себя прожигателями казенных денег.
Дмитрий Серков

О правилах получения виз в Индию и о том, на что стоит обращать внимание россиянам, прибывшим в эту страну, в преддверии начала индийского туристического сезона в интервью корреспонденту РИА Новости Евгению Пахомову рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Нью-Дели Василий Пронин.
- Туристический сезон в Индии традиционно открывается 1 ноября. Недавно появились сообщения о том, что Москва и Нью-Дели договорились упростить процедуру получения виз. Как должны измениться правила получения виз и кого они коснутся?
- Действительно, изменения есть, причем, касаются они не только туристов. Еще в декабре прошлого года в ходе визита в Индию президента Дмитрия Медведева было подписано соглашение об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан двух стран. Прежде всего, это интересно бизнесменам. Документ, например, дает возможность выдачи деловых виз сроком до пяти лет. Напомню, что раньше предприниматели могли получать максимум годовую многократную визу.
Кроме того, по этому соглашению торгово-промышленные палаты двух стран смогут напрямую отправлять в посольство письма с просьбой о визовой поддержке. До сих пор предприниматели должны были получать приглашения на выдачу виз в федеральной миграционной службе, а стандартный срок рассмотрения документов в ней - 21 день. Теперь же Торгово-промышленная палата РФ будет обращаться к нам напрямую с просьбой выдать визу индийскому предпринимателю, после чего тот сможет получить ее в течение одного-двух дней. Для бизнесменов это очень актуально - можно быстро решить назревшие вопросы.
Хочу отметить, что речь в этом соглашении идет не только о предпринимателях. Документ предусматривает упрощение получения виз для тех, кто едет по культурному или студенческому обмену, в рамках различных школьных и других образовательных программ, по программам развития связей между породненными городами, индийскими штатами и российскими субъектами и так далее.
На прошлой неделе индийская сторона уведомила нас о том, что завершила все внутригосударственные процедуры для вступления в силу этого соглашения. В России этот документ уже ратифицирован Госдумой, Советом Федерации и передан в Администрацию президента. Мы ожидаем, что оно вступит в силу еще до начала декабря.
- Но больше всего, наверное, новостей об упрощении получения виз ждут туристы. Тем более что на носу туристический сезон.
- По неофициальной пока информации от индийских коллег, власти Индии, заинтересованные в росте числа туристов из России, планируют в одностороннем порядке ввести дополнительные визовые упрощения для туристов. Так, ожидается, что Россия будет включена в список стран, граждане которых могут получать туристическую визу сроком на один месяц прямо на прилете в аэропорту.
Одновременно планируется и увеличение числа аэропортов, в которых можно будет получить такую визу. Сейчас визы на прилете оформляют всего в четырех международных аэропортах: в Дели, Калькутте, Мумбаи и Ченнаи. Планируется, что вскоре это будет возможно в 15 аэропортах страны, в том числе в столь любимом россиянами Гоа.
Когда точно это произойдет, нам пока не сообщили. Но мы ожидаем, что уже в ближайшее время Россия расширит список подобных стран, в котором пока всего 11 государств, и наши граждане смогут получать визы на прилете. Это особенно важно для жителей тех городов, где нет индийских консульств, Им не нужно будет ехать за визой, например, в Москву.
Есть еще одна хорошая новость для туристов: Индия недавно вернула отмененную несколько лет назад практику оформления шестимесячных туристических виз для россиян.
При этом, однако, Индия предпринимает меры по усилению контроля над пребыванием иностранцев. Теперь на каждого туриста заводится "электронное досье" - с момента его обращения за визой. В этом документе фиксируется факт обращения, делается отметка о получении визы, вводятся данные от миграционной службы о въезде в страну и другая информация. И если турист, например, попал в поле зрения полиции, это тут же будет зафиксировано. Отмечу, что похожие меры контроля существуют и в других странах, в том числе в России.
- Число российских туристов в Индии теперь вырастет?
- Поток туристов из России в Индию растет с каждым годом. Вообще-то здесь принято считать туристов не по годам, а по туристическим сезонам. В прошлый сезон - с ноября 2010 по апрель 2011 года - Индию посетило около 65 тысяч гостей из России. В этом году, согласно предварительным оценкам, мы ожидаем более 80 тысяч.
Но хочу отметить и другую важную тенденцию: с каждым годом растет и поток туристов из Индии в Россию. Пока это не очень большие цифры, но темпы роста и здесь довольно высоки. Так, в прошлом году нашу страну посетили около 5,1 тысячи индийских туристов, а за девять месяцев этого года российские консульские учреждения в Индии выдали уже 5,4 тысячи туристических виз, а до конца года еще далеко.
Индийцы все активнее ездят отдыхать за рубеж, и местные турфирмы проявляют интерес и к российскому направлению. Туристический потенциал Индии огромен: средний класс здесь насчитывает более 100 миллионов человек. Среди индийцев популярны так называемые корпоративные туры, когда руководство крупных компаний отправляет в качестве поощрения своих сотрудников за границу. И туры, когда разом 200-300 человек едут в Россию, уже стали практикой.
Правда, есть и определенные проблемы: например, нехватка в России гостиниц среднего класса. В российских городах сложно также найти вегетарианскую кухню - а многие индийцы вегетарианцы - или просто традиционную острую индийскую еду. При этом в Западной Европе или в США много индийских ресторанов с традиционной кухней. Кроме того, российский гостиничный персонал или те же гиды часто не владеют даже английским, не говоря уже о хинди. Если бы не эти досадные проблемы, число индийских туристов в России могло бы сразу увеличиться в разы.
Однако ряд турфирм и здесь, и у нас в стране пытается эти проблемы решить. Такие компании уже начали формировать моду на российский отдых. И мы получаем много положительных отзывов. Популярные у индийцев направления: Москва, Санкт-Петербург, "Золотое кольцо", есть интерес к путешествиям на речных пароходах и к "экологическим турам" - на Байкал, в Сибирь.
В феврале следующего года в Индии пройдет очередная ежегодная международная туристическая выставка. Впервые наши компании выступят единой экспозицией под эгидой Ростуризма. Надеемся, что после выставки число взаимовыгодных контактов на туристическом рынке двух стран вырастет.
- Но вернемся к российским туристам. Что бы вы посоветовали россиянину, отправляющемуся на отдых в Индию?
- Прежде всего, я бы посоветовал покидать страну до окончания срока визы. Увы, ежегодно мы стакивается с тем, что туристы, расслабившись на отдыхе, просто "забывают" выехать вовремя. Так, сейчас два гражданина России находятся в лагерях для депортируемых лиц и ожидают выдворения из страны - за нарушение миграционных правил. И еще шесть человек выпущены под залог на время судебных разбирательств по поводу просроченных виз.
Между прочим, по индийскому законодательству за нарушение визового режима можно получить до шести лет. Хотя обычно этот срок ограничивается годом тюрьмы, но тоже мало приятного.
Еще один совет: следите за своими документами. В этом году только в Дели 34 россиянина получили от нас свидетельства на возвращение в Россию - в связи с утратой документов. Вот недавний случай: наш турист умудрился лишиться загранпаспорта еще в аэропорту на прилете, не успев пройти таможенный контроль. Он ненадолго отвлекся, и у него утащили сумку, в которой были документы. То есть он практически еще и не попал в Индию, а уже остался без паспорта.
Бывают и курьезные случаи, например, в горах обезьяны, случается, выхватывают сумки у туристов в надежде найти съестное, и если там был ваш паспорт, обратно его уже не получить. Мы фиксируем два-три таких случая в год! Полагаю, на самом деле, что их больше. Просто люди не всегда готовы признаться в том, что паспорт утащила обезьяна.
В последнее время также участились случаи краж в крытых мотороллерах, которые здесь называют "тук-туки". Мотоциклист подъезжает близко к "тук-туку" и выхватывает сумочку.
Поэтому еще совет такой: будьте внимательны. Но если вы вдруг просрочили визу, или появились другие проблемы с документами, сразу идите в ближайшее российское консульское учреждение. Здесь вам готовы помочь и знают, как это сделать. Чем быстрее вы придете, тем меньше будет проблем с выездом из страны. И будьте бдительны, не обращайтесь к каким-то местным посредникам для продления визы - практически всегда это просто шарлатаны. Помните: если в паспорте обнаружат поддельную визу или штамп индийского МВД, это грозит его владельцу серьезными последствиями!
Ну, и просто соблюдайте осторожность. Скажем, в том же Гоа или в любом другом курортном месте не стоит купаться там, где стоят таблички "Купаться запрещено". В Аравийском море есть районы с сильным прибрежным течением, и человека относит на несколько километров так, что он ничего сделать не может. В моей практике был случай, когда чуть не утонул чемпион Европы по плаванию из России, не буду называть его фамилию. Он не смог выгрести против такого течения, но, к счастью, его подняли на лодку индийские рыбаки. Также не стоит лезть в воду после употребления алкоголя. И еще: в Индии следует строго соблюдать нормы санитарии. Так, в прошлом году турист скончался, поранив ногу и не обратившись вовремя за медицинской помощью.
Помните, если у вас вдруг возникли проблемы, российские консульские учреждения готовы оказать вам необходимую помощь.
И конечно, желаю всем российским туристам в Индии хорошего отдыха!Заведующий консульским отделом посольства РФ в Нью-Дели Василий Пронин

В рамках рабочей поездки в Мехико, президент правительственной комиссии законодательного собрания Мехико Алехандра Барралес Магдалено встретилась со спикером парламента Калифорнии Джоном А. Пересом.
Барралес Магдалено заявила, что законодатели в Мехико ежедневно работают для улучшения жизни людей и осуществления наиболее подходящих для них законов. Она отметила, что действующее законодательство приняло несколько новых законов, направленных на улучшение состояния городов, экологической ситуации и системы здравоохранения. Также правительство Мехико собирается провести программу, которая позволит мексиканцам голосовать, даже когда они находятся заграницей.
Джон А. Перес сообщил, что власти США ежедневно поддерживают инициативы, которые благоприятно сказываются на мексиканцах в Соединенных Штатах. «Около 38 процентов населения США имеют латинское происхождение, большинство из которых – мексиканцы», - сказал он. Он добавил, что губернатор Калифорнии рассматривает сейчас закон, который гарантирует стипендию для детей иммигрантов, учащихся в колледжах.
По данным «The News», оба законодателя решили обмениваться информацией о существующих и предстоящих законах, которые представляют интерес для обеих стран.

Смогут ли российские курорты конкурировать с Антальей и Альпами? Создание мега-курорта на Северном Кавказе - проект экономический или все же политический? Кто на самом деле "запустил" карачаево-черкесский Архыз? О развитии туризма на российском Кавказе и в России в целом рассказал корреспонденту РИА Новости зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло.
- Анатолий Борисович, решение о развитии горнолыжных курортов Северного Кавказа было экономическим - дать бизнесу заработать, или все-таки политическим, на грани социального - чтобы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась в этом регионе? Мы прекрасно знаем о низком уровне достатка людей в этом регионе, о высокой безработице.
- Я думаю, правильный ответ такой: решение было комплексным, поэтому, конечно же, во главе угла стояли не только социальные, но и экономические аспекты. При этом следует отметить, что данный проект в полной мере отражает целенаправленную политику правительства и государства, потому что предварительно в рамках этого проекта если не вся общехозяйственная инфраструктура, то большая ее часть уже была профинансирована в рамках федеральной целевой программы развития Юга России.
Особо следует сказать о вкладе в проект таких предпринимателей-энтузиастов, как Дмитрий Пумпянский (председатель совета директоров Трубной металлургической компании и Группы "Синара" - Ред.) , которым еще пять лет назад, то есть задолго до того, как правительство объявило о стратегических мерах по развитию курортов Северного Кавказа, овладела идея создания курорта Архыз. Причем он не преследовал каких-либо политических целей, а его бизнес - металлургия, трубная промышленность - лежит совершенно в другой сфере, между ними и туризмом нет практически никакой синергии. Но он загорелся этой идеей и увлек ею нас.
Здесь следует оговориться, что, конечно же, нам повезло, что с проектом Архыз - пока мы говорим о первой очереди его строительства - мы легли как бы в фарватер, и сейчас это, скажем так, пилотный проект, от успеха которого зависит без малейшего преувеличения дальнейшая судьба всей комплексной программы создания туристического кластера на Северном Кавказе. Мы участвовали в создании акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" и сейчас очень плотно с ним работаем, а в соответствии с решением наблюдательного совета ВЭБа и в рамках нашей, скажем так, "экспансии" в регион была учреждена Корпорация развития Северного Кавказа, которая-то как раз и участвует в качестве соинвестора в проекте развития горнолыжного курорта Архыз.
- Обычно участие банков в крупных проектах - от 50% и больше. Здесь по предварительным прикидкам всего 15%. Есть ли в России сегодня люди, заинтересованные настолько, чтобы вкладывать колоссальные деньги именно в туристическую индустрию, причем внутрироссийскую? И каков может быть срок окупаемости подобного проекта для бизнеса?
- Начну издалека. Идея развития курортов у нас в банке развития возникла не спонтанно. ВЭБ участвует в международном клубе долгосрочных инвесторов, куда входят банки развития почти всех промышленно развитых стран, а также Бразилии и Китая. В рамках этого клуба у нас происходят постоянные консультации, в частности, у нас очень плотные контакты с французским банком развития Caisse des Depots et Consignations (CDC). И вот два года тому назад, когда мы проводили очередные консультации, выяснилось, что банк развития Франции владеет на 100% такой компанией, как Companie des Alpеs, которая управляет горнолыжными курортами в целом ряде областей Франции. Это же очень показательно и важно, что в такой промышленно развитой стране как Франция институт развития владеет таким оператором. Иными словами, не нами изобретено. И этот пример показывает, какое внимание в промышленно развитых странах уделяется такому важному сектору экономики, как туризм. У нас же туризм не то что не развит, а ему просто недостаточно уделяется внимания. И поэтому мы имеем то, что мы имеем - большинство наших сограждан, состоятельных людей проводят свой досуг, рождественские каникулы совершенно в других местах, не в России. И по понятным причинам: потому что у нас не создана соответствующая инфраструктура.
Однако надо иметь в виду, что даже во Франции инвесторы не готовы вкладывать сколько-нибудь серьезные деньги, а речь идет об очень больших суммах, в создание, скажем так, спортивной части туризма и рекреации. Потому что хотя сроки окупаемости в гостиничной сфере и сфере обслуживания достаточно высокие и находятся на горизонте 10 лет, сроки окупаемости инвестиций в непосредственно спортивную составляющую несравнимо выше и могут составлять 15-20 лет. Компания "Курорты Северного Кавказа" была учреждена как раз в целях обеспечения создания спортивной части.
- Сроки окупаемости напрямую же связаны с ценами на отдых, а сейчас цены на отдых внутри России достаточно высоки. Но если инвесторам надо возвращать деньги, получается, цены надо задирать еще выше, упадет спрос. И как тогда вот это противоречие решить?
- Очень сложный вопрос. Мы занимались изучением этой проблематики. Да, получается, что отдых, скажем, в той же Турции гораздо дешевле. За счет чего? Главным образом за счет комплексного решения вопроса, когда в стоимость тура включается, например, цена на билеты, которые субсидируются, в том числе, не исключено, за счет государства. В России в принципе тоже уже есть определенные наработки. Известно, что существует государственная поддержка авиаперелетов с Дальнего Востока в центральную часть страны, которая оказывает очень большое влияние на увеличение пассажиропотока в указанных направлениях. Поэтому, делая первые шаги по развитию туристической инфраструктуры, мы одновременно смотрим и в сторону развития аэропортовой инфраструктуры, в частности, на проект модернизации аэропорта Минеральных Вод.
На самом деле мы достаточно давно и активно занимаемся аэровокзальной инфраструктурой и в данный момент вовлечены в проекты модернизации пяти крупных аэропортов, участие в развитии каждого из которых банк рассматривает не изолированно, а в более широком контексте. Так, финансирование модернизации и расширения аэропортов в Сочи и Екатеринбурге - это не только наш вклад в проведение дискретных мероприятий, подготовку к Олимпиаде 2014 года и к чемпионату мира по футболу в 2018 году соответственно, но и элемент развития транспортной системы страны в целом, повышения транспортной доступности, формирования современной инфраструктуры туристического бизнеса.
Должны предприниматься целенаправленные шаги по созданию целой цепочки сервисов с тем, чтобы на каждом этапе своего путешествия турист, да любой человек, находился в комфортных для себя условиях. Необходимо, чтобы на протяжении всего пути - от приезда в аэропорт, перелета, встречи по прибытию до пребывания его на самом курорте - он постоянно находился под опекой и "контролем" соответствующих сервисных компаний. И, конечно, очень важно, чтобы цены на авиабилет были конкурентны по сравнению с теми ценами, которые люди платят при перелетах в Турцию, Австрию и так далее.
- Какие проблемы могут возникнуть при реализации и, наверно, при запуске этого проекта, потому что ну не секрет, что там нет квалифицированных кадров, с безопасностью в регионе не очень хорошо, местный менталитет. Что может стать камнем преткновения?
- Конечно, проект важен для Карачаево-Черкесии как с точки зрения решения проблем занятости, так и подготовки кадров. На повестке дня стоит вопрос об открытии на базе местных учебных заведений фактически отдельного образовательного направления в целях обеспечения создающегося курортного сектора профессиональными кадрами. По имеющимся подсчетам, только на первом этапе осуществления проекта будет создано 700 новых, так сказать, специализированных рабочих мест, не считая того, что там будут работать строители, инженеры. Что же касается вопросов безопасности, то очевидно, что если она не будет обеспечена, то тогда, естественно, вся идея окажется нереализованной и проект...
- ...Не состоится?
- Вся идея окажется под вопросом. Но на самом деле безотносительно к конкретному проекту для нас абсолютно очевидно, что необходимо проводить целенаправленную работу и приучать людей отдыхать в своей собственной стране, заинтересовать их проводить отпуск на родине. Так же, как в разных странах пропагандируют отдых именно в своей стране, так же, как, допустим, пропагандируют принцип "buy american" - покупай американское, покупай французское. Аналогично и мы должны пропагандировать, чтобы покупали российские товары, российские услуги, в том числе связанные с туризмом. В этом нет ни грана примитивного квасного патриотизма, это рациональное и экономически обоснованное требование бизнеса.
Справка по проекту Архыз:
В рамках программы создания туристического кластера на Северном Кавказе правительство планирует сформировать шесть туристско-рекреационных экономических зон в регионе и на юге России. На их обустройство из федерального бюджета выделяется порядка 60 миллиардов рублей. Это объекты в Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане.
Туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Архызском ущелье предполагает развитие крупнейшего в РФ горнолыжного курорта мирового уровня. Согласно проекту, всесезонный горный курорт будет обладать современной инфраструктурой, способной принять единовременно 25 тысяч человек, и займет площадь в 16 тысяч гектаров. Предполагается, что курорт будет состоять из четырех туристических комплексов-поселков, соединенных транспортной системой из 69 подъемников и канатных дорог, пропускной способностью 140 тысяч человек в час, сети горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью 278 километров и широкой сети общественного питания, торгового и бытового обслуживания, бальнеологических и СПА-центров, оздоровительных комплексов. Стоимость реализации проекта оценивается в 78 миллиардов рублей. Весь курорт должен быть возведен к 2017 году. Реализация проекта позволит увеличить уровень денежных доходов населения и создать до 10 тысяч рабочих мест, привлечь значительные инвестиции, увеличит налоговые поступления в бюджет Карачаево-Черкессии (налоговые поступления в бюджеты всех уровней только за период реализации первой стадии проекта составят ориентировочно 850 миллионов рублей).
Строительство первой пусковой очереди курорта "Архыз" - поселок Романтик - уже началось (за счет средств инвестора - компании "Архыз-Синара"). Уже к предстоящей зиме откроются три гостиницы, кресельная канатная дорога и две горнолыжные трассы.
Внешэкономбанк профинансирует проект строительства первой очереди в объеме 5,1 миллиарда рублей. Кредит ВЭБа - это 100% затрат на создание инфраструктуры (горнолыжной и инженерной) и 85% затрат на коммерческую недвижимость (гостиницы и прочее).
Справка по проектам ВЭБа на Северном Кавказе:
Основная задача Внешэкономбанка на Северном Кавказе - быть одним из основных источников финансирования наиболее перспективных и востребованных проектов и содействовать привлечению в регион масштабных инвестиций. Для достижения этих целей ВЭБ создал дочернюю структуру - Корпорацию развития Северного Кавказа, ориентированную на ведение активной практической инвестиционной деятельности в регионе, открыл представительство Внешэкономбанка в Пятигорске, работающее во всех субъектах СКФО, и выступил соучредителем компании "Курорты Северного Кавказа", созданной для строительства туристического кластера. Приоритетное направление деятельности ВЭБа в СКФО - проекты, связанные с созданием масштабного туристического кластера

Руководитель Минэкономразвития Республики Коми Андрей Шеремет накануне первого международного туристического форума, который пройдет в столице региона Сыктывкаре, в интервью РИА Новости рассказал об интересных туристических местах, которые республика предлагает россиянам и иностранцам: музей ГУЛАГа под открытым небом, этнопарк с источниками, здравница с грязевыми лечебницами. Форум будет проходить 19-21 августа и будет приурочен к 90-летию республики.
- Андрей Иванович, главной изюминкой предстоящего в Сыктывкаре форума станет презентация финно-угорского этнопарка. Расскажите об этом проекте республики.
- Правительство Коми ставит задачу создать новую отрасль экономики - туризм, на основе имеющегося потенциала - природного и культурно-исторического. Становление отрасли возможно лишь при условии господдержки. Одна из ее форм - поддержка туристских инвестпроектов. Наиболее перспективные, с реализацией которых связываются планы по развитию туризма в регионе, и будут представлены на форуме. Во-первых, проект "Финно-угорский этнокультурный парк". Масштабный инфраструктурный проект, направленный на сохранение, рациональное использование, популяризацию и развитие этнокультурного наследия финно-угорских народов.
- Какова стоимость проекта?
- Из республиканского бюджета выделено 120 миллионов рублей в прошлом году и 220 миллионов в 2011-ом. Открытие первой очереди намечено в дни празднования 90-летия республики. Парк рассматривается как один из ключевых центров межнациональной туристской системы в рамках финно-угорского сотрудничества, который будет способствовать выходу Коми на российский и международный туристские рынки. Популяризация наследия, современных достижений культуры финно-угорских народов будет сочетаться с активно-развлекательными формами отдыха - проведением национальных игр, гуляний и обрядов, экспозициями интерактивного археологического и палеонтологического музеев. Комплекс станет базой для проведения мероприятий межрегионального и международного уровня: съезды, выставки, конференции.
- Что предполагает второй этап строительства парка?
- Объекты развлекательной инфраструктуры, в том числе горнолыжного комплекса, рыбацко-охотничьей деревни, лодочной станции, туристского полигона "Стоянки оленеводов". Плюс строительство подворий финно-угорских народов, интерактивных археологического и палеонтологического музеев. И, конечно, развитие транспортной инфраструктуры, объектов придорожного сервиса. Второй этап будет осуществляться, в основном, за счет инвесторов. Условия их участия в проекте будут определяться инвестсоглашениями, в которых будут указаны права сторон на создаваемые объекты, а также порядок их эксплуатации.
- На этой неделе в Сыктывкар приехал турпоезд "Сияние Севера". Какова миссия этого поезда?
- Это, по сути, гостиница на колесах для туристов. Проект способствует преодолению неразвитости инфраструктуры, в том числе туристской (гостиницы, дороги). Турпоезд - это повышенный уровень комфорта, начиная с организации путешествия и заканчивая бытовыми мелочами. Вагоны разработаны по спецпроекту и в них есть все, что требуется взыскательному путешественнику: безупречный интерьер, надежные системы жизнеобеспечения и безопасности, телекоммуникации и связи.
Вагон-ресторан оборудован кухней с современной техникой, барной стойкой и шестью столами.
- Каковы основные предоставляемые услуги турпоездом?
- Поездки по стандартным и индивидуальным маршрутам, туры выходного дня, деловые поездки. Их география на первом этапе - внутри Коми. На втором - по России.
- Вагоны "Сияния Севера" включаются в состав регулярных поездов?
- Да. Следующих по маршруту "Сыктывкар - Воркута", а также по "боковым" тупиковым веткам до Удорского района и Троицко-Печорска. Отцепляются в пунктах, где предусмотрена экскурсионная программа. Стоимость тура зависит от маршрута, программы и класса вагона. В рамках форума будет подписано межрегиональное соглашение между регионами по реализации проекта. Сегодня он финансируется при участии созданных в республике институтов развития, в частности Фонда поддержки инвестпроектов.
- А что из себя представляет проект санаторного комплекса "Серегово"?
- Начну с того, что уникальные природно-рекреационные ресурсы региона позволяют развивать в республике лечебно-оздоровительный и медицинский туризм. В 90 километрах к северу от Сыктывкара в селе Серегово сооружается санаторный комплекс с полным набором лечебно-оздоровительных мероприятий и развитой инфраструктурой.
Основные лечебные факторы - здоровый климат, благоприятная экология, минеральная вода и лечебная грязь. По ряду лечебных факторов санаторий не уступает и даже превосходит здравницы соседних областей: Кировской, Архангельской и Вологодской. Этот проект позволит решить часть проблем оздоровления населения Коми. Там будут лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, хронических кишечно-желудочных, гинекологических и кардиологических заболеваний. Кроме того, будет создана инфраструктура развлечений, связанных с активным отдыхом и спортом. Технологическая оснащенность санатория и комфортабельность - на уровне 4-звездочного отеля, рассчитанного на 500 человек. Общая стоимость - почти 3,9 миллиарда рублей. В этом году объект профинансирован на 838 миллионов. Из них 736 миллионов за счет республиканского бюджета и 102 миллиона - внебюджетные средства.
- Еще один оригинальный турпроект - "Историко-мемориальный комплекс "ГУЛАГ". Что о нем можете рассказать?
- Его стоимость порядка 200 миллионов рублей. Реализует ООО "Монолит".
Это мемориальный комплекс под открытым небом. Уже проведены поиск, сбор и обработка архивных документов для проектных и экспозиционных работ. Осуществлены сбор и транспортировка конструкций, объемных элементов старых строений, утвари и других предметных элементов бывших лагерей, разбросанных по территории района. Подготавливается проектно-сметная документация, проводятся изыскательские работы, закупаются стройматериалы.
- Власти Коми делают ставку и на экологический маршрут "Нетронутое сердце Урала". Что он из себя представляет?
- Это один из самых интересных действующих маршрутов. Проходит по территории национального парка "Югыд ва". Начинается в Инте с выездом на базу поселка Желанный. На следующий день туристы отправляются к подножью горы Народная, либо к Манараге. Возможно восхождение в сопровождении гида-проводника. Проводятся экскурсии в 19-ую штольню карьера Желанного - там велась добыча горного хрусталя, а также в 16-ую штольню по добыче кварца. Друзы хрусталя являются своеобразной визитной карточкой Приполярного Урала и высоко ценятся специалистами. Другая экскурсия - "Легенды и предания седого Урала" - предусматривает посещение сакральных историко-культурных объектов и природных памятников: "Старик-хозяин", "Каменная баба", гора Еркусей ("Шаман-гора") на реке Балбанью.
Предлагается уникальная рыбалка на реке Кожим в 30 километрах от базы, а также сплав на катамаранах. Каждый день - баня, сауна. Все экскурсии в сопровождении проводников, обеспечивающих безопасность. Реализует проект ООО "Туган".
- Андрей Иванович, расскажите про еще один проект - "Центр зимних видов спорта и отдыха "Занулье".
- Это маршрут "Алая лента "Прилузья". Инициатор проекта - власти района. Он включает строительство нескольких объектов в Занулье: туристско-оздоровительный центр "Нюла", лыжную базу "Овраги", рыболовную базу "Карась", охотничью базу "Глухарь", базу экстремальных видов спорта и развлечений "Рудник", пруд с мельницей, базу спасателей и пожарных. Село в шести километрах от федеральной трассы "Сыктывкар - Киров", на расстоянии 139 километров от столицы Коми на берегу реки Луза. Занулье сохранилось таким, какое было сто лет назад. Уже подготовлены акты выборки участков под строительство, уточняется проект бизнес-плана. Срок реализации - 5 лет. Ориентировочная стоимость - 98 миллионов рублей.
- На форуме будет представлен маршрут "По следам староверов". В чем его суть?
- В основе идеи администрации Усть-Цилемского района использование турпотенциала села Усть-Цильма - заповедного уголка русской старины, где сохранилась самобытная русская культура. В этом селе коренные жители сберегли свои песни, обряды, одежду, устои быта. Огромный пласт традиций, памятников православной культуры, книжных шедевров, иконописи, бережно сохраненный поколениями, неоценимое достояние всего мира.
- Все регионы - конкуренты в плане туризма. Как власти Коми видят сотрудничество регионов друг с другом?
- Мы инициировали несколько межрегиональных и международных туристских инвестпроектов: уже обсуждаемый с вами этнопарк, к участию в котором приглашены финно-угорские регионы России и других стран; турпоезд, к реализации которого приглашены регионы России, объединенные единой железной дорогой "Москва - Воркута". На форуме состоится подписание соглашения между регионами по его реализации. А также новый проект - организация круизного тура по реке Печора по маршруту "Печора - Нарьян-Мар". В сфере туробразования республика участвует в реализации международного образовательного проекта "Ордым".
- Почему для выезда гостей форума выбран именно Усть-Вымский район?
- Усть-Вымь включена в "Большое Золотое кольцо России" и занимает особое место среди городов и сел республики. Оттуда началась христианизация зырян, там расположены уникальные объекты: каменные церкви Стефана Пермского (1755-1767 гг.), Архистратига Михаила (1795-1806 г.г.), комплекс зданий земской больницы (1903-1911 г.г.), историко-этнографический музей, жилые постройки конца XIX, начала XX веков.
- С какой целью в рамках форума отдельно будет обсуждаться развитие сельского туризма?
- Правительство республики рассматривает туризм как инструмент развития территорий. В сельских районах отдельные проблемы острее, чем в городах, в первую очередь, связанные с занятостью населения. Туризм же вовлекает в свою орбиту различные виды хозяйственной и социальной деятельности: от транспорта и питания до спорта и культуры. Несколько человек, занятых в туризме, создают в разы больше рабочих мест в торговле, строительстве, сфере обслуживания. И все это при небольших капиталовложениях. Поэтому важно вовлечь в развитие туризма сельчан.
- Скептики считают, что туризм в Коми не удастся развить, пока не будет отлажено транспортное сообщение всех муниципалитетов.
- Правительство республики считает это препятствие преодолимым. У нас нет времени и средств, чтобы сначала построить дороги, гостиницы, а потом начать развивать туризм. Мы будем действовать нестандартными методами, превращать недостатки в достоинства, реализовывать проекты, носящие инновационный характер. Одновременно будем создавать инфраструктуру, в том числе туристскую. Принято решение по строительству компактных гостиниц на популярных маршрутах, в финансировании которых будет участвовать государство. Усилия правительства Коми будут направлены на максимальное удовлетворение потребностей туристов: от строительства современных средств размещения до модернизации дорожной сети.
- Что еще необходимо, чтобы поток туристов в Коми не иссякал?
- Сформировать атмосферу гостеприимства, обеспечить безопасность гостей, сохранить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку. Эти задачи будем решать посредством соответствующих региональных, ведомственных и муниципальных программ.
- На форум приглашены представители США, Финляндии и Казахстана. Что это за эксперты?
- Без международного опыта нам не обойтись, слишком долго отношение к туризму в нашей стране было поверхностным. Мир ушел далеко вперед. Нам интересен опыт Финляндии, построившей одну из наиболее конкурентоспособных экономик в мире, опыт США - одной из самых посещаемых стран, опыт Казахстана, успешно решающего проблемы постплановой экономики.
- А что за новый турмаршрут "По следам Питирима Сорокина"?
- Да. Он станет одним из брендов этнокультурного туризма. Мы гордимся нашим земляком - великим мыслителем прошлого века, социологом и культурологом. Государство оказало поддержку инициативам, связанным с изучением и популяризацией творчества Сорокина. В 2011 году создано государственное учреждение Коми "Центр "Наследие" имени Питирима Сорокина".
- Претендует ли Коми на господдержку развития туризма из российского бюджета?
- Да. Мы предлагаем ряд проектов для реализации в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской федерации (2011 - 2018 годы)".

Мир входящему
Академик Валерий Тишков: «Не надо впадать в истерику и заявлять, что конфликт цивилизаций неизбежен»
Седьмого-восьмого сентября в Ярославле под патронатом президента Дмитрия Медведева пройдет Мировой политический форум «Современное государство в эпоху социального многообразия». Готовятся к мероприятию основательно и с размахом: презентационные конференции прошли в Пекине, Риге, Мадриде и Брюсселе. В одной из них — «Миграция, общие выводы для ЕС и России» — принимал участие директор Института этнологии и антропологии РАН академик Валерий Тишков.
— Валерий Александрович, иностранных участников форума тема миграции заинтересовала?
— Она будет одной из основных на секции «Демократические институты в полиэтнических обществах». В Брюсселе выявились два варианта решения этой проблемы. Первый — закрыть для мигрантов въезд в страны ЕС и вообще не пущать их на Запад. И постараться избавляться от тех, кто уже въехал. А тех, кто все-таки остается, потихоньку «переплавлять» и делать из них англичан, французов или итальянцев.
Второй вариант исходит из того, что миграция присуща роду человеческому. Люди постоянно двигались и перемещались. Помимо проблем она приносит и большую пользу. Те же европейские страны после Второй мировой войны рванули вперед в значительной степени благодаря мигрантам. В мире не было и нет государств, которые проводили бы успешную модернизацию, будучи при этом закрытыми от внешнего мира. Так что если от миграции закрыться невозможно (да и противозаконно, согласно международному праву), то надо сделать ее более контролируемой. Поставить в более строгие правовые рамки, чтобы мигранты не создавали существенных рисков, таких как наркотрафик, ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации и возникновение излишней конкуренции на рынке труда.
— За какой вариант выступаете вы?
— За второй. Эта точка зрения преобладает и среди европейских коллег. Заявления о кризисе мультикультурности — это чрезмерная политизация, реакция растерянности. Скажем, недавно вице-канцлером в правительстве Ангелы Меркель стал немецкий гражданин вьетнамского происхождения. Мигранты и их потомки — главный демографический и экономический ресурс стран ЕC. В подавляющем большинстве они интегрировались в новые общества. Трудный случай представляет часть мигрантов из мусульманских стран, и эту проблему нужно решать путем интеграции, а не депортаций, а также путем утверждения своего рода «евроислама», как это имеет место в российском Поволжье. Экономические подсчеты также говорят в пользу мигрантов. Создаваемый ими совокупный продукт (в России это около 10 процентов ВВП) на порядок выше тех сумм, что мигранты отправляют своим семьям в странах исхода.
— Тем не менее и в Европе, и в России наметился поворот именно в сторону изоляционизма. Как с этим быть?
— Кризисы, победа либерализма и глобализма, когда миллионы людей передвигаются по миру в поисках работы, международный терроризм — все это заставляет задаться вопросом: «А не вернуться ли нам к изоляционизму?» Это не означает, что правые повсеместно идут к власти. Но разворот к консерватизму налицо. Хотя, как говорил граф Витте, мыслить можно консервативно, но действовать нужно либерально. Путин и Медведев поступают как раз в духе этих напутствий.
Россия исторически была страной-донором. Но одновременно и страной принимающей. А сейчас вдруг появился некий элемент национальной обиды. Многие россияне говорят: мол, вы хотели свободы, тогда почему теперь к нам едете? У этой проблемы велика эмоциональная составляющая. Есть и еще один момент. Мигрантов у нас по большей части эксплуатируют, недоплачивают им. И от этой традиционной уже приниженности работодатели получают немалую выгоду. Поэтому миграция у нас — это не только экономическая, но и нравственная проблема. Причем — что интересно! — мигранты первых волн эксплуатируют мигрантов нынешних не меньше, а подчас и больше, чем коренные россияне. Хотя тут мы не одиноки, ибо дискриминация мигрантов — это глобальное явление.
Между тем сегодня монокультурных государств или наций практически нет, как их не было и в прошлом. В той же Англии утвердилась британская национальная идентичность, а правительством совсем недавно руководил шотландец Гордон Браун. Или взять президента Николя Саркози, имеющего еврейско-венгерские корни, — он ведь стопроцентный француз и является лидером нации. Или 44-й президент США Барак Обама, в жилах у которого течет кровь разных народов. Поэтому современные нации — многоэтничные. И в этом плане нужно понять, что Россия всегда была, есть и будет многонациональной страной. Но это не значит, что у нас нет единого народа. Мы что, его как-то делим: мол, Гергиев — не наш, Ростропович — полунаш? Все это — наше! Такой толерантный взгляд поможет преодолеть национализм. В повседневной жизни люди особо не выказывают националистических проявлений. Они начинают на это реагировать, когда политики актуализируют этнический фактор.
На Западе растет паника в отношении мультикультуры. Но у нас-то мусульмане и православные многие века мирно живут вместе. Мы не знали религиозных войн. Мы имеем опыт межнационального общения, и Европа может его позаимствовать. Короче, я не считаю, что Европе надо впадать в истерику и заявлять, что конфликт цивилизаций неизбежен, что глобальная битва между исламом и христианством вот-вот случится. Все это — заблуждение. Мир может и должен жить без глобальных потрясений. Именно об этом я и буду говорить на Ярославском форуме.
Александр Чудодеев

«Если иммигрантам ничего не предлагать, они не приедут»
Марин Ле Пен, дочь националиста Жан-Мари Ле Пена, сегодня сама возглавляет «Национальный фронт» и считается одним из основных кандидатов на президентских выборах во Франции в 2012 году. Согласно опросам общественного мнения, она опережает Николя Саркози и может оказаться во втором туре вместе с кандидатом от партии социалистов. Отом, как она хотела бы изменить французскую политику, Марин Ле Пен рассказала «МН».
«Рождение во Франции не делает вас французом»
— Вы критикуете миграционную политику правительства. Какой режим борьбы с нелегальной иммиграцией установили бы вы?
— Иммиграция достигла невероятного уровня в последние десять лет, в то время как у нас 5 млн безработных, а четверти французов не хватает средств на хорошее лечение.
Против нелегальной иммиграции ничего не делается, потому что мы подчиняемся европейским директивам: при задержании нелегала мы должны отпустить его на семь дней, чтобы он вернулся домой сам. Но второй раз он не попадется, так что нелегалов высылают все реже.
У нас отпадет необходимость их высылать, если будут создаваться условия, чтобы они не приезжали. Априезжают они потому, что, едва въехав, получают право на государственное медицинское обслуживание: очки, зубы— все оплачивается. Есть также 50% шансов на легализацию их статуса. Их дети пойдут в школу бесплатно. Если мы не сможем им ничего предложить, они не приедут.
— Что конкретно надо сделать?
— Нам нужно вновь вернуть контроль над нашими границами, потому что сейчас мы не имеем права не разрешать въезд и пребывание на нашей территории.
Нужно установить национальный приоритет для французов при устройстве на работу. Социальное жилье должно предоставляться в порядке приоритета французам. Социальная помощь должна оказываться только французам.
Надо также изменить гражданский кодекс. Сегодня французское гражданство дается автоматически. Но одно рождение на французской территории не делает вас французом. Гражданство надо заслужить, надо соответствовать ряду очень строгих условий.
Параллельно нужно наказывать предприятия, которые уличены в использовании труда нелегалов. Надо лишать их права получать госконтракты. Даже в компании по уборке, работающей в Национальном собрании и сенате, недавно было выявлено 500 нелегалов. Нынешняя политика глубоко лицемерна: иммигрантов приглашают в страну, где они становятся дешевой рабочей силой.
— Но во Франции пустуют низкооплачиваемые и непрестижные рабочие места, которые могут занять иммигранты.
— Это все потому, что работникам плохо платят. На самом деле некоторые деятели пользуются миграцией, чтобы понижать заработную плату. Они привозят иммигрантов, зная, что те будут работать за крайне незначительное вознаграждение. Некоторые исследования, в частности американские, показывают, что прирост иммиграции на 1% приводит к понижению уровня заработной платы на 1%. Это логично, поскольку рынок рабочей силы все-таки рынок: чем больше желающих найти работу, тем ниже зарплата. Но если тяжелый труд будет оплачиваться в соответствии с его тяжестью, поверьте, французы заняли бы эти рабочие места.
— А как быть со старением населения Франции?
— Каждая вторая француженка хочет еще одного ребенка, но не заводит его из страха перед будущим, из-за безработицы. Кроме того, мы живем в небезопасном обществе. Если бы семейные пособия соответствовали добавочной стоимости, которую представляют дети для нашего общества, если бы у семей был приоритетный доступ к социальному жилью, если бы мы установили родительскую зарплату, чтобы позволить женщинам, которые этого хотят, оставаться дома и растить ребенка— с такой политикой во Франции рождалось бы намного больше детей.
— То есть легальная миграция Франции тоже не нужна?
— У нас взрыв легальной иммиграции. В прошлом году было выдано 203 тыс. видов на жительство. Это на 80% больше, чем при правлении социалистов. Я считаю, что количество выдаваемых ежегодно видов на жительство следует сократить до 10 тыс. Среди них будут представители профессий, которые окажутся необходимы Франции.
— Кто может войти в эти 10 тыс.? Из каких стран?
— Неважно. Те, в ком французская экономика будет нуждаться. Нужно также отменить воссоединение семьи и объяснить иностранцам, живущим без работы в нашей стране, что мы больше не можем им помогать и им пора вернуться домой. Это не враждебная, а просто-напросто разумная политика.
«Из-за Шенгена Европа превратилась в проходной двор»
— Почему вы выступаете за отказ от Шенгена?
— Проблема Шенгена в том, что Европа— проходной двор, и никто не защищает наши границы. Мы должны иметь право решать, кто к нам въезжает и находится на нашей территории. Все народы располагают этим правом, почему бы и Франции его не иметь?
Шенген навязал нам полное открытие границ, и теперь у нас нет возможности бороться не только с иммиграцией, но и с контрабандой и преступностью. Мы не контролируем также товаропоток, а это угрожает продуктовой безопасности и чревато несоблюдением санитарных норм.
— Не грозит ли восстановление визового режима с европейскими партнерами снижением потока туристов?
— Какие могут быть проблемы с туризмом? Нужно просто следить, чтобы это действительно были туристы, которые затем уедут. В Таиланде, когда вы приезжаете, вас фотографируют, когда уезжаете, тоже фотографируют, чтобы удостовериться, что вы выехали. Когда я была в этой стране, не почувствовала, что эта практика нарушает мои человеческие права. Нормально, что страна контролирует на своей территории въезд и выезд людей.
Франция всегда была туристической страной. Я думаю, туристов станет даже больше, когда нам удастся сделать Францию безопасной. Когда у туристов вымогают деньги, как только они выходят на улицу или подходят к какому-нибудь памятнику,— вот в чем проблема для туризма, а не в восстановлении визового режима. При этом ничто не мешает заключать двусторонние соглашения между странами об упрощении визового режима.
— С какими странами возможно подобное соглашение?
— Мы подумаем об этом позже. Почему бы не заключить его с большинством европейских стран? Это не составит трудностей, если будет осуществляться контроль. Но сегодня контроля нет.
— Сегодня обсуждается вопрос об отмене визового режима с Россией. Что вы об этом думаете?
— Я против отмены виз. Я считаю, что каждая страна должна сохранять свободу выдавать или не выдавать визы. Это наша независимость и наш суверенитет. Но надо упростить визовый режим с Россией. Я за создание Европы наций, которая включала бы Россию. Россия и Франция должны установить привилегированное партнерство. Сгеополитических позиций мы заинтересованы в сближении с Россией во множестве сфер: экономика, энергетическая независимость, культура, история— все это следует рассмотреть. Я искренне верю в Европу наций, которая придет на смену Евросоюзу.
«Крах евро наступит в течение пяти лет»
— Чем же так плох Евросоюз?
— Евросоюз, по сути, советская организация, он создан без народов и против народов. Он, как вампир, лишает нас суверенитета: денежного, законодательного, территориального, бюджетного. Евросоюз— это что угодно, но не демократия. Он построен на единой валюте, что приведет к краху одну страну за другой. Евро взорвется, и я не думаю, что Евросоюз сможет это пережить. Эта система должна разрушиться, чтобы построить другую.
— Может, Франции пора возвращать франк?
— Это зависит от решения народа. В любом случае, я думаю, в течение максимум пяти лет произойдет крах евро. Каждый месяц система слабеет. Для спасения евро мы покупаем время, но оно стоит все дороже и дороже. Наши правители, стремящиеся любой ценой спасти евро, придерживаются догмы, а это не прагматичная позиция. Они защищают идеологию, но греческий народ дорого платит за это, португальский и ирландский народы тоже, и, возможно, еще заплатят испанцы, итальянцы и французы.
— Чем Европа наций будет отличаться от Евросоюза?
— Это будет кооперирующаяся Европа— только так она и функционировала на протяжении всей своей истории. Она сможет стать гораздо шире того, что мы имеем сегодня. Каждая страна будет иметь возможность принимать или отказываться от конкретных шагов, если это не соответствует ее интересам. Вот Великобритания уже несколько лет демонстрирует, как надо это делать.
— То есть общих институтов у Европы наций не будет?
— Почему же, могут быть и институты. Вновой Европе наций может иметь место сотрудничество в области правосудия, экологии, технологии, борьбы с преступностью. Но— еще раз— без навязывания, не против желания народов и при соблюдении суверенитета, независимости и свободы.
«Надо развивать партнерство скорее с Россией, чем с США»
— Есть еще военная и политическая сфера. Следует ли кооперироваться в них?
— Я хочу, чтобы Франция вышла из НАТО. Нынешнее обожание США и подчинение Франции желаниям США во всех областях не кажется мне положительным. Я считаю, что Франция— великая нация, которая должна оставаться свободной и иметь особый голос в мире. Стратегическое партнерство надо развивать скорее с Россией, чем с США. Это гораздо более логично.
— Даже в области обороны?
— Почему бы нет? Можно развивать технологическое партнерство, сохраняя при этом суверенитет.
— Если Франция выйдет из НАТО, продолжит ли она участвовать в операциях в Афганистане, Ливии и так далее?
— Конечно, нет. Я за выход из Афганистана, прекращение войны в Ливии. Понятно, что все это делается по наводке США.
Ливию вообще надо оставить в покое. Это проблема племен, внутренняя проблема. Подобные вопросы решаются дипломатией, а не ракетами НАТО.
— Какими вообще должны быть приоритеты внешней политики Франции?
— Я верю в региональную дипломатию. Дипломатия работает лучше, когда ей занимаются страны с одинаковой культурой и религией, которые понимают проблемы того или иного государства. Есть регионы, с которыми Франция должна поддерживать партнерство: Россия, с одной стороны, и Африка, с другой. Экономическое развитие Африки ограничит миграционные потоки оттуда. Кроме того, благодаря франкофонии у нас есть друзья в этом регионе. Сейчас мы теряем влияние в Африке, а американцы и китайцы усиливают.
«Мы патриоты, а нас выставляют ксенофобами»
— По данным соцопросов, вы можете рассчитывать на участие во втором туре выборов. Насколько скандал со Стросс-Каном повлиял на ваши выборные перспективы?
— Я думаю, эта история даст французам понять, что им следует быть более требовательными к своему политическому классу. Мы наблюдаем понижение уровня нравственности в лице не только Стросс-Кана, но и тех, кто его выдвинул на этот пост. Возможно, теперь французы будут требовать, чтобы политический класс составляли морально безупречные люди, а не такие, каких они выбирают уже 30 лет.
— Согласно недавнему опросу, 60% французов считают «Национальный фронт» опасностью для страны. Не помешает ли такое отношение вашему избранию?
— Можно сделать такой же опрос о социалистах, и, возможно, также найдутся 60% тех, кто считает их опасными. «Национальному фронту» пытаются придать карикатурный облик. Мы патриотическая партия, а нас выставляют как партию ксенофобов. Мы партия, которая выступает против иммиграции, из нас делают расистскую партию.
— Но этот образ расистов и ксенофобов закрепился за партией давно. Как с этим справиться?
— Я считаю, что многие французы начинают отдавать себе отчет в том, что это не так. Отметьте хотя бы, что в последних соцопросах я нахожусь на том же уровне, что и президент. Эти люди понимают, что их обманули. «Национальный фронт» не та партия, какую им описывали в течение многих лет. На самом деле это единственная партия, которая может противостоять системе, заставившей их страдать. Мы продолжим объяснять французам, кем мы являемся.
Беседовал Владимир Добровольский, РИАНовости, специально для «МН»

Альпийские перспективы
Кавказ хотят превратить из горячей точки в курорт
Сегодня представители ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) проводят в Вене переговоры с австрийским правительством и предпринимателями: ожидается, что будет получено принципиальное согласие австрийских инвесторов на участие в проекте создания северокавказского туристического кластера. О том, как изменится Кавказ, когда на нем появятся современные горные курорты, и о том, сколько это будет стоить, «МН» рассказал генеральный директор КСК Алексей Невский.
- Алексей Анатольевич, как вам удается заманить иностранных инвесторов в места, где стреляют и воруют?
- Сейчас основные наши партнеры в переговорах по привлечению инвесторов -- французы. Они идут немного впереди других заинтересованных стран. Скорее всего, потому, что Франция проходила в свое время аналогичный этап развития. Лет 40 - 50 назад там была схожая с нашей проблема с депрессивными регионами в Северной Савойе, во французских Альпах. Тогда на государственном уровне приняли решения по освоению этих территорий и созданию горнолыжных курортов с участием государства. Приняли специальный закон о снеге, так называемый «Снежный план» развития, который предусматривал определенные налоговые льготы, упрощенные процедуры выделения земельных участков под инфраструктуру. Государство, как и во всем мире, вкладывает деньги в те проекты, куда не идет бизнес. В первую очередь в инфраструктуру, в том числе горнолыжную, где сроки окупаемости длинные и не всегда приемлемые для бизнеса. Это инженерные коммуникации, дороги, обустройство склонов. Поэтому, наверное, французы раньше других оценили перспективность и масштаб нашего проекта. Французские компании имеют высочайшую компетенцию в этой области. С французскими партнерами мы выходим на подписание меморандума о намерениях. В течение 5 – 7 месяцев мы выйдем на подписание договора о создании совместного предприятия. Пока параметры сделки обсуждаются. Но уже можно сказать, что речь идет о паритетном участии ОАО «Курорты Северного Каваза» и французской группы Caisse des Depots et Consignations -- это как бы аналог нашего Внешэкономбанка. В группу входит одна из крупнейших в мире инжиниринговых компаний Egis, имеющая опыт создания инфраструктуры горнолыжных курортов. Также группа владеет 40% компании «Compagnie des Alpes» - мирового лидера в области управления курортами. В СП на паритетных началах вносится порядка 1 млрд. евро и со стороны французов, и со стороны КСК. Задачей СП будет как строительство инфраструктуры, так и девелоперская часть. Думаю, это первая ласточка, первый очень важный пробный шар. Рассчитываем, что вслед за таким мощным ледоколом пойдут другие. 6 июня в Вене пройдут переговоры с представителями австрийской стороны. Тема была поднята в ходе визита президента Австрии Хайнца Фишера в Москву в мае. В Вене будут обсуждаться параметры сделки, аналогичной той, которая обсуждается с французами. Переговоры будут вестись с представителями правительства Австрии, со стороны бизнеса будет участвовать десятки крупных профильных австрийских компаний-производителей, операторов, девелоперов, отельеров. Все это пока идет под эгидой австрийского Konrollbank, крупного экспортно-импортного оператора с участием государства.
- Если это банки, аналогичные ВЭБу, то не являются ли эти шаги политическим подарком европейцев Дмитрию Медведеву? Или это бизнес пришел?
- В первую очередь все-таки бизнес. Но такие крупные инфраструктурные проекты немыслимы без участия и поддержки государства. Это видно из мировой практики: программа освоения французских Альп, освоение острова Сардиния итальянским правительством совместно с крупным ближневосточным инвестором. В Европе поддерживают своих производителей оборудования, инжиниринговые и эксплуатирующие компании, которые имеют уникальный опыт эксплуатации известнейших горнолыжных курортов. Что греха таить, в России такого опыта нет, он только нарождается, для нас крайне полезно сотрудничество с мировыми экспертами. Горнолыжники, приезжая на европейские курорты, понимают разницу. Она в деталях, в мелочах: как обслуживают в ресторанах, как чистят улицы. Там вся обслуживающая инфраструктура спрятана. Мы ездили по обмену опытом во Францию, нам всю подноготную показывали. Сразу понимаешь, сколько труда и продуманности за этой внешне пасторальной картинкой. Мы тоже хотим построить курорты мирового класса, в разных ценовых сегментах, но чтобы они все были на уровне, который позволяет получать удовольствие отдыхающим и приезжать туда вновь и вновь.
- Вместе с французами КСК вносят млрд. евро. КСК создана как управляющая компания, которая тратит 60 млрд руб бюджетных денег на создание инфраструктуры и привлекает на 450 млрд инвесторов. Откуда этот млрд?
- Это государственный взнос со стороны нашей материнской компании ОАО «Особые экономические зоны». По постановлению правительства он вносится в течение пяти лет долями, но этот срок может быть изменен, например, в связи с созданием СП, и большая часть средств может быть внесена быстрее. Это будет определяться договоренностями, которые будут достигнуты с французской стороной. Не скажу точную цифру, переговоры пока ведутся, но это порядка 30 - 40 млрд. руб. Это та часть средств, которые КСК предполагают потратить на создание инженерной и горнолыжной инфраструктуры на пяти курортах. Французские инвестиции пойдут частично и в создание девелоперских объектов, туристической инфраструктуры.
- И все же на Кавказе – страшно. Не страшно ли инвесторам и не будет ли страшно туристам?
- Это один из фундаментальных вопросов, на который надо найти ответ, чтобы курортный кластер на Северном Кавказе вообще состоялся. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Среди условий, которыми мы рассчитываем сформировать интерес инвесторов, госгарантии на политические риски и форсмажорные обстоятельства. Это именно риски, связанные с безопасностью. До 70% инвестиций будут покрываться такой страховкой государства. Опыт стран, которые решали и решают аналогичные вопросы, воодушевляет. Подход должен быть системный, выверенный, профессиональный. Израиль -- туристическая мекка, при этом страна живет в состоянии постоянной войны. Это ощущается на улицах, в аэропортах, повсюду. Но колоссальный туристический поток существует. Благодаря чему? Конечно, это и имиджевые мероприятия. Но в основе -- меры обеспечения безопасности, которые в Израиле отточены, наверное, на самом высоком уровне в мире.
- Но вы же понимаете, что для того, чтобы такого добиться на Кавказе, придется поставить с головы на ноги всю систему силовых структур, которые там работают и в общем вполне довольны нынешним положением. Это не бизнес-задача, и она огромная по масштабу.
- Да, огромная. Цепочка безопасности должна распространяться не только на сами особые экономические зоны, где будут размещены курорты. Турист прилетел в аэропорт – он уже попал в некий коридор безопасности, где он должен себя чувствовать комфортно, вплоть до транспортировки, приезда на сам курорт, проживания и т.д. Мы рассчитываем это делать не в режиме постановки местных и федеральных сил безопасности с ног на голову или наоборот, а только при теснейшем с ними взаимодействии и взаимопонимании.
- А они же захотят денег наверняка тогда.
- Что касается денег, с нашей стороны возможны инвестиции в интеллектуальные системы безопасности. Но система безопасности гораздо шире. Это одна из важнейших функций государства: за безопасность налогоплательщики платят налоги. Поэтому мы рассчитываем, что возможны какие-то централизованные федеральные финансовые решения на уровне правоохранительных органов и на политическом уровне, которые должны быть скоординированы с нами. Сейчас у нас есть еще время вдумчиво подойти к выработке концепции безопасности кластера. И плотно отработать эти концептуальные идеи совместно с правоохранительными структурами. Определиться, кто что делает, кто за что отвечает, кто какие деньги привлекает.
- Вы – проект федерального уровня или СКФО?
- Безусловно, федерального значения. Вся наша деятельность сосредоточена в первую очередь в зоне СКФО. Ну и Лагонаки -- это Адыгея, Краснодарский край, ЮФО. По своей политической, экономической и отраслевой значимости это, конечно, федеральный уровень. Речь идет о создании целой отрасли в экономике России. И региональные власти, и руководство округа заинтересованы в том, чтобы росли налоговые поступления, появлялись рабочие места. Безработица – крупнейшая проблема на Кавказе, одна из причин нестабильности. Конечно, все налоговые поступления сопровождались бы вливаниями и перераспределением средств в социальную сферу, в развитие смежных отраслей. Это может стать одним из столбовых направлений развития экономики региона. Для федеральных властей проблема политической и социально-экономической стабилизации на Кавказе в числе однозначных приоритетов. Именно поэтому этот проект и был поддержан на уровне президента и председателя правительства, и в достаточно сжатые сроки было принято серьезное бюджетное решение о выделении средств.
- Кто ваш основной патрон: Медведев, Путин или Хлопонин?
- Алгоритм данного проекта, его идея принадлежит президенту. Идея нашла поддержку со стороны правительства, которое оперативно приняло 833-е постановление в ноябре прошлого года, предусмотрев создание нашей компании и выделение денег.
- Раньше, когда государство затевало выделять на Кавказ какие-то серьезные средства, -- например, когда началось восстановление Чечни после последней войны, -- создавалась целая система дополнительной бюрократии для того, чтобы исключить хищения. Какова система гарантий, что эти 60 млрд. государственных денег не исчезнут в горах Кавказа?
- Гарантии должны быть системные. В нашей стране механизм таких гарантий еще не отработан. Мы для себя ставим задачу стать примером правильного расходования средств, транспарентности всех финансовых процедур. Здесь важным системным элементом может стать участие международных инвесторов. Когда вы создаете СП с крупнейшей иностранной фирмой и совместно на совете директоров расходуете эти средства, одобряете подряды, заключаете контракты, то шансы нецелевого расходования, хищения средств, завышения расценок -- минимальны. Это мощный институциональный механизм контроля.
- Вы понимаете, что это революция для региона, где региональные элиты живут на федеральном бюджете, и их главный интерес - закрыть данные о расходовании федеральных денег? С инвесторами им работать неудобно, потому что инвестор спрашивает за каждый рубль. Региональные элиты какое-нибудь отношение будут иметь к проекту?
- Во-первых, мы хотим максимально облегчить вход и всю работу для инвестора, сделать КСК единым окном для входа инвестора в проект. Чтобы инвестор ни в коем случае не бегал по нашим бюрократическим инстанциям – ни региональным, ни федеральным. Что касается региональных властей, конечно, то, о чем вы говорите, свойственно не только Северному Кавказу, но, к сожалению, в целом России. Мы пытаемся объяснять местным властям, и такое понимание у них уже есть, что если подходить к проекту с какими-то мерками сиюминутного интереса, с местечковыми традициями, то он не состоится. Должен сработать, в конце концов, эгоистический интерес власти, инстинкт самосохранения: если этот проект замотать и замылить в бюрократических процедурах и попытаться растащить на какие-то узкогрупповые интересы, он не состоится. И у тебя в республике так и будут десятки процентов безработной молодежи, которая будет уходить к боевикам и просто в протестные проявления. У тебя не будет налоговых поступлений. Налоги только непосредственно в рамках кластера, без косвенных налогов с транспорта и т.д., -- 250 с лишним млрд. рублей до 2030-го года. Общие совокупные налоги -- более 500 млрд. рублей, совместно со смежными отраслями, которые будут развиваться. Предполагается, что до 2030-го года будет создано более 200 тысяч рабочих мест. Это колоссальный рывок.
- Можно ли сказать, что эта возможность для рывка – некоторым образом последняя надежда Кавказа?
- Наверное, да.
- Вы говорите, что вы хотите сделать одно окно для входа инвестора. А может быть, в Махачкале или в Черкесске кто-то считает, что окно должно быть там. Не чувствуете ли вы каких-то попыток давления?
- Нет, и думаю, это может быть связано с тем, что решения о запуске проекта приняты на таком уровне, который не позволяет каким-то местным таким чиновникам пытаться это одеяло перетащить на себя. А со стороны руководства самих республик просто есть понимание того, что это реальная надежда на серьезный прорыв.
- Кто-то из пяти регионов-участников еще не подписал соглашение с КСК?
- Соглашение подписано со всеми. Другой вопрос, что соглашения предусматривают достаточно длительную процедуру определения границ особых экономических зон. Для нас решение земельных вопросов – вопрос номер один. Это даже не первый этаж, а фундамент. А процесс долгий. Наверное, не менее года займет процесс формирования границ особых экономических зон и наделения нас полномочиями по работе в рамках этих границ. Но мы не стоим на месте. Параллельно заканчивается формирование единого мастер-плана. В конце года начнется уже процесс проектирования. А разноскоростное движение разных субъектов -- это нормально. Какие-то республики будут готовы с точки зрения земельных вопросов быстрее. У кого-то исторически уже сложилось, что земля приведена в порядок в большей степени, у кого-то этот процесс только запущен.
- Лидер, судя по всему, Карачаево-Черкессия?
- Да, там уже начал работу инвестор в лице компании «Архыз-Синара». Наверное, Кабардино-Балкария может немножко отстать в связи с земельными вопросами и с политической нестабильностью. Хотя Эльбрус – это потрясающие рекреационные возможности. Сейчас мы еще в стадии инвентаризации, в самом начале пути.
- Почему вы отказались включить Чеченскую республику в проект?
- Насколько я знаю, вопрос по включению Чеченской республики решался на стадии формирования постановления правительства. Руководство Чечни заявило о желании самостоятельно развивать свой туристический сегмент.
- А Ингушетия тоже не включена?
- Ингушетия у нас на стадии подготовки проекта. У нас была группа с участием австрийских специалистов по горнолыжным курортам, они отбирали рекреационные площадки с точки зрения рекреационных условий, чтобы они не были испорчены уже существующей застройкой, которую уже невозможно сломать и зачистить. Возможно, Ингушетия по таким причинам не попала.
- Есть такая оценка: Добмай и Приэльбрусье, основные существующие горнотуристические площадки СКФО, дают примерно 150 тыс. туристов в год. А вы хотите существенно увеличить эту цифру. Как это сделать, с учетом того, что поездка в Приэльбрусье сейчас стоит примерно столько, сколько поездка в Австрию? Понятно, что на Кавказ едет достаточно узкий круг фанатов. Как сделать так, чтоб этот круг фанатов вырос… во сколько раз, кстати?
- Наверное, раз в 15. Мы рассчитываем, что турпоток по зонам горнотуристического кластера составит порядка 2,3 млн. туристов в год на 2030-й год.
- Это уровень окупаемости или просто расчетная мощность?
- Расчетная мощность. Конечно, она привязана к окупаемости и привлекательности для инвестора. Заоблачных сроков окупаемости нет. Чтобы снять опасения туристов, которые имеют место, надо вспомнить то, что мы говорили по поводу безопасности – это раз. Мы понимаем эту проблему и ставим ее во главу угла, рассчитываем, что система безопасности будет сделана по последнему слову техники и на высочайшем организационном уровне, потому что техника без организационных процедур тоже ничто. Помимо этого людям надо разъяснять возможности, которые будут предоставлять эти курорты. Многие просто не знают, насколько рекреационные возможности Кавказа сопоставимы, а то и более привлекательны для горного отдыха по сравнению с западными странами. Да, нет инфраструктуры, сервиса, внешнего вида и транспортной доступности. Но именно эти вопросы мы и намерены решить. Думаю, с учетом пропаганды отдыха на Кавказе у людей появится желание туда приехать, как минимум попробовать. А останутся ли эти люди, приедут ли в следующий раз – это будет зависеть от операторов, в том числе и от нас, и от инвесторов, и от местного населения. Местные жители будут гостеприимной принимающей стороной, от них будет зависеть, приедут ли гости еще, оставят ли свои деньги, заплатят ли соответствующие налоги в бюджеты всех уровней операторы и бизнес. Тут есть еще момент: такого количества людей, занимающихся горнолыжным спортом, у нас просто нет. Это создание рынка почти с нуля.
- Хотите, чтобы предложение определило спрос?
- Во многом – да. Мы рассчитываем, что люди, которые сейчас не катаются, благодаря пропаганде спорта начнут кататься. Они не катаются в том числе потому, что когда сейчас человек приезжает на Домбай, он видит там хаотичную застройку, проблемы с безопасностью, сомнительный сервис, проблему доступности, плохие дороги. Все это просто не позволяет ему в следующий раз приехать туда. А когда это будет мирового уровня нормальный курорт, куда не надо делать никакие визы, куда взял машину на 2-3 часа и доехал -- почему бы человеку не встать на лыжи и не научиться? И не жить теми жизненными стандартами, что есть в Швейцарии и в Австрии? Это сразу прибавит поток с ближайшего региона. А вторая волна – уже другие регионы России. Кого-то языковой барьер отталкивает в поездках за границу, кого-то -- проблемы с визами.
- В ближайшем регионе проблема – там сильно отстают от средних по стране доходы и занятость. Кто поедет оттуда? Или это будет социальный курорт?
- Мы рассчитываем, что стоимость ски-пасса у нас будет существенно ниже по сравнению с зарубежными аналогами. И конечно, нужна поддержка со стороны перевозчиков. Турция, например, дотирует авиарейсы – только бы приехали.
- А на Кавказе во многих местах сидит монополист и диктует цену, за которую в Австрию можно два раза слетать.
- Да, этот вопрос мы тоже видим. Пока не до всего доходят руки. Но этим тоже нужно будет заниматься, и опять же без поддержки со стороны государства не обойтись. Но однозначно, если для человека с Дальнего Востока прилететь покататься на Кавказ будет дороже, чем отдохнуть на местных курортах, это будет не очень эффективно. Но мы рассчитываем в любом случае выйти на реально конкурентоспособный уровень цен.
- Вы считаете, 15-кратное увеличение потока реально?
- Сложно делать точные предсказания. Но порядок цифр реальный. Это принципиально, потому что потенциал страны с рекреационными возможностями, такими, как на Кавказе, сейчас и на 5% не используется. Сможем ли мы его использовать – зависит от нас, от инвесторов, и от государства. Не надо забывать, что помимо горных лыж в горах много других видов отдыха. Это и летние маршруты, и сплав по горным рекам, и маунтин-байк, и параплан, и просто альпинизм. Мы кстати работаем совместно с российской федерацией альпинизма, чтобы предусмотреть стояночные лагеря для альпинистов, проложить маршруты и тропы.
- Хотите сделать героическую попытку превратить грозный Северный Кавказ в ухоженные европейские Альпы?
- Фактически да. Возможности потрясающие. Вопрос в людях. А люди – это мы с вами. Сможем или нет – это зависит от нас. Конечно, задача грандиозная. Но дорога начинается с первого шага. Надо его сделать. И понимать маршрут.
- Каков срок окупаемости?
- Это зависит от налоговых льгот, которые будут определены законодательно. Французский аналог, на который я ссылался, тоже предполагал налоговое послабление. В ближайшее время в Думе будет рассматриваться в первом чтении проект закона о развитии горнотуристического кластера, проекты поправок в действующее законодательство, где предусмотрены и налоговые послабления для инвесторов. Если эти налоговые послабления будут приняты, срок окупаемости составит порядка 9 лет. С учетом того госгарантий на инвестиции, это достаточно стабильный бизнес, на века. Стоимость земли, как показывает практика западных горнолыжных курортов, по мере развития курорта будет только расти.
- Нынешние площадки Эльбруса и Домбая оценивались еще при советской власти на предмет потолка вместимости, в том числе с точки зрения экологии. Этот потолок находится в районе 15 тыс. человек одновременно. Примерно столько там и есть, и сильно «задрать» этот потолок нет возможности. Разумно ли с этой точки зрения увеличивать поток в 15 раз? Не осмысленнее ли вложить какие-то существенно более скромные деньги в усовершенствование того, что есть, а не замахиваться на что-то большее?
- Я опять хочу обратиться к альпийскому опыту. Там реально очень большой объем антропогенной нагрузки, десятки миллионов людей. Вопрос в технологиях, которые используются для амортизации этой нагрузки. Наш подход позволяет использовать современные стандарты в области экологии. В Альпах стоят канатные дороги и никому не мешают, не наносят вреда окружающей среде. Не надо изобретать велосипед. Нужно взять стандарты и подходы, которые успешно работают в Европе, и использовать их здесь. А экологическая ценность Альп, поверьте, ничуть не меньше, и стандарты, и требования со стороны государства, ничуть не ниже чем у нас. Экологический фактор очень важен. Если нанести ущерб окружающей среде в зоне размещения курорта, туда просто постепенно перестанут ездить. Поддержание экологии – один из залогов привлекательности. И мы готовы работать с экологами, но только теми, которые смотрят в одном с нами направлении, а не огульно все отрицают.
- В Дагестане рассказывают смешную историю: вот, КСК задумали вариант пакетного отдыха: неделя горных лыж, неделя на пляже. Но у нас, говорят, если зима – то лыжи, если лето – то море, одновременно не бывает…
- Это природный человеческий скепсис. Когда начинается что-нибудь большое и серьезное, проще его скептически воспринять. Мы понимаем, что в Дагестане климат не позволяет одновременно и кататься на горных лыжах, и купаться. Но летом в горах свои возможности. У нас есть проект, предусматривающий создание прибрежного кластера на Каспийском море. Он в стадии обсуждения. Еще не внесены изменения и дополнения в постановления правительства. Но это тоже проект, расширяющий туристические возможности региона. Когда человек покатался на велосипеде или на квадроцикле в горах, совершил конную поездку или альпинистское восхождение, просто погулял, а потом сел в машину и через час – полтора оказался на пляже, это расширяет диапазон туристической индустрии.
- Вы готовы создать порядка 200 тысяч рабочих мест в регионе. А ведь для улучшения сервиса скорее всего придется импортировать рабочую силу.
- Необязательно. На Кавказе все-таки традиции гостеприимства. И надо обучать людей. Сейчас в стране нет, например, учебных заведений для официантов, в официанты идут все, кто угодно. А это тоже наука, человек должен быть профессиональным в любой работе. У нас нет развитой инфраструктуры горнолыжных школ, где готовят инструкторов. Во Франции инструкторов порядка 16 тысяч. И многие зимой, кстати, работают в горах, а летом едут спасателями на Лазурный берег. В Дагестане тоже так можно будет.
- В Дагестане есть курорт Чиндерчеро, совсем маленький, но работает. А в Матласе все еще только предстоит. Может, старые площадки было бы дешевле и удобнее развить, чем строить новые?
- Я убежден, что нет. Потому что все наши горнолыжные курорты, даже на самом передовом горнолыжном курорте в Сочи, в таком состоянии, что проще начать заново. Это дешевле. Я уж не говорю о колоссальной проблеме с собственниками. Если кто-то построил курятники, сараи и гаражи и размещает там туристов, убедить его, что это все надо снести и построить на этом месте нормального вида шале, очень сложно. По законодательству у нас сейчас и невозможно. Если снести весь этот ужас в монголо-татарском стиле, будет просто перестрелка. Поэтому строить с нуля легче.
- Вы лыжник?
- Да, катаюсь. Не фанатично, но каждую зиму стараюсь сезон не пропустить.
- Вы видели кавказские площадки?
- Я видел курорт Лагонаки. Там уже катаются. Всех площадок пока не видел. Конечно, самый известный курорт -- Эльбрус, но, к сожалению, в силу обстоятельств с нестабильностью, пока он, наверное, может немного подтормаживать.
- Снега везде хватает?
- Да. Хватает. На всех площадках от сезона к сезону продолжительность снега разная. Но снег есть везде. Где-то и в мае, и в июне. Будут и заводы искусственного снега, и пушки. Сейчас любой современный курорт, даже если там и есть снег, обязательно должен быть этим оснащен. Во Франции в этом году была очень большая проблема со снегом. На полную катушку пушки работали.
- Кавказ пока может составить некоторым традиционным курортам климатическую конкуренцию. А долгосрочные климатические прогнозы делаются?
- Честно говоря, нет. Но мы в любом случае сможем рассчитывать на искусственное оснежение.

За полгода до проведения выборов в парламент Швейцарии тема свободы перемещения между Конфедерацией и ЕС (она включает и возможность без ограничений искать работу) вновь приобретает особую актуальность. Без злоупотреблений не обойтись – но экономика страны нуждается в иностранных кадрах.
Зарплатный демпинг, приток дешевой рабочей силы из стран Восточной Европы, кризис среднего класса, являющегося экономической опорой Швейцарии. Таковы неблагоприятные сценарии, которые постоянно возникают в связи с темой «свобода перемещения», и которые сейчас в Швейцарии опять находятся в центре внимания общественности, прессы, политиков, экспертов.
Кристина Гажини (Cristina Gaggini), отвечающая за франкоязычную Швейцарию исполнительный директор межотраслевого союза швейцарских работодателей Economiesuisse (в него входят 30 тыс. фирм с 1,5 миллионами работников), полемизирует в интервью порталу swissinfo.ch с самыми часто встречающимися аргументами против дальнейшего развития режима «свободы перемещения».
swissinfo.ch: Экономический рост, базирующийся на иммиграции, является опасным путем развития, считает консервативная и настроенная антиевропейски Швейцарская народная партия (SVP). Что Вы ответите на это?
Кристина Гажини (Cristina Gaggini): Наша позиция диаметрально противоположна. С момента введения режима свободы перемещения в 2002 году рост ВВП Швейцарии заметно ускорился. Тем самым можно установить прямую связь между экономическим ростом, швейцарским благосостоянием и режимом свободы перемещения.
Появилась возможность создавать новые рабочие места, которые, со своей стороны, пополняли налоговую копилку кантонов и федерального центра. С нашей точки зрения, итог действия секторальных договоров между ЕС и Швейцарией весьма позитивен, что указывает на их важность для швейцарской экономики и ее развития.
Причина тут проста: рынок труда Швейцарии слишком мал, и на нем не всегда можно в достаточном количестве найти наиболее востребованных специалистов – инженеров, техников в области здравоохранения, и т.д.
swissinfo.ch: SVP указывает, что режим свободы перемещения и в самом деле привел к созданию дополнительных рабочих мест, однако, прежде всего, в области социальной опеки и здравоохранения, то есть в тех сферах, которые финансируются в основном налогами и страховыми взносами. В частном же секторе реальной экономики количество рабочих мест, напротив, сократилось, особенно в кризисный период с 1990 по 1995 гг. Так ли это?
К.Г.: Абсолютно не так. Промышленность, например, нуждается в инженерах. Каждый год мы проводим опрос среду наших членов. Это компании, которые не имеют ничего общего с государственным или полугосударственным сектором. И каждый год они подтверждают нам, насколько важно для них соглашение о свободе перемещения.
swissinfo.ch: Есть мнение, что главным проигравшим от режима свободы перемещения является рабочий на стройке, который вынужден конкурировать с более дешевыми, но при этом столь же высоко квалифицированными кадрами из-за рубежа, причем принятые правительством «фланкирующие меры», направленные на недопущение зарплатного демпинга, особой эффективности не дают.
К.Г.: В самом деле, последний доклад Государственного секретариата по делам экономики (Seco) указал на имевшие место случаи зарплатного демпинга. Феномен «мнимого предпринимательства» (когда сотрудник берется на работу не как физическое, а как юридическое лицо – прим. ред.) касается, прежде всего, строительной отрасли.
И именно поэтому как Seco, так и другие контрольные органы, внимательно контролируют именно данный сектор экономики, проводя регулярные проверки на местах. Если они вскрывают случай злоупотребления, то тогда на виновных налагается штраф, а в случае повтора такого рода правонарушения может быть принято решение о запрете работать в Швейцарии на срок до пяти лет.
Промышленные круги целиком и полностью поддерживают такие «фланкирующие меры». Для нас очень важно, чтобы существовал эффективный контроль за случаями «зарплатного демпинга». Потому что принцип свободы перемещения не означает для нас сокращения зарплат. Этот принцип не должен подрывать сложившуюся систему заработной платы, не должен снижать ее уровня, так как в противном случае он потеряет в наших глазах всякую легитимность.
swissinfo.ch: Часто приходится слышать аргумент, что, мол, из-за режима свободы перемещения швейцарский средний класс будет вынужден смириться со снижением доходов и с более низким уровнем жизни. А как вы рассматриваете данную ситуацию?
К.Г.: У нас нет никаких данных, которые бы говорили о сокращении уровня доходов, даже при условии инфляции. Конечно, нельзя сказать, что в последние годы доходы людей значительно выросли, но они все-таки развивались скорее по восходящей. Никакой связи я тут не вижу. Так что данный аргумент следует отвергнуть.
swissinfo.ch: Многие говорят, что свобода перемещения насытила рынок труда, отчего стало гораздо сложнее, будучи безработным, снова найти подходящее место, что, в свою очередь, негативно сказывается на жизненной ситуации самых слабых членов общества. Согласны ли вы с этим доводом?
К.Г.: Если мы посмотрим на график, который демонстрирует развитие ситуации с безработицей, то мы увидим, что нам в Швейцарии удалось значительно и очень быстро снизить количество людей, находящихся в поисках работы. Кстати, люди, не имеющие соответствующего уровня образования, всегда находятся в более проигрышных позициях на рынке труда, который, труд, сам по себе становится все более требовательным к технической компетенции людей, и это вне зависимости от того, есть ли режим свободы передвижения, или нет.
Поэтому в области борьбы с безработицей мы, чтобы помочь таким людям, делаем ставку на профессиональную переквалификацию людей и на принцип постоянного обучения. Но здесь, при всем желании, я не вижу никакой прямой связи со свободой перемещения.
РЕЖИМ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Соглашение о введении режима свободы перемещения, вступившее в силу в 2002 году, является одним из семи соглашений второго пакета секторальных соглашений, подписанных между Швейцарией и тогда еще 15-тью странами-членами Европейского союза.
На начальной стадии режим перемещения регулировался на основе принципа квотирования, который был отменен в 2007 году. Граждане Лихтенштейна, Исландии и Норвегии (ЕАСТ) получили такие же права.
В апреле 2006 года принцип свободы перемещения был распространен на восемь новых стран ЕС из числа государств Восточной Европы (ЕС-8), вступивших в Евросоюз в мае 2004 года.
На начальной стадии режим перемещения со странами ЕС-8 так же регулировался на основе принципа квотирования, который был отменен 1-го мая 2011 года.
Режим свободы перемещения был распространен и на Болгарию и Румынию, которые вступили в ЕС в 2007 году. Квоты по отношению к ним будут отменены в 2016 году.
ДОКЛАД SECO
По данным Швейцарского государственного секретариата по делам экономики (SECO), опубликованным в начале мая текущего года, в 2010 году 38% иностранных фирм, создающих рабочие места в Швейцарии, не соблюдали установленный законодательством Швейцарии минимальный уровень оплаты труда.
Число вскрытых случаев несоблюдения минимального уровня оплаты труда, по сравнению с 2009 годом, значительно увеличилось, указывается в докладе, но это показывает, что «фланкирующие меры» действуют эффективно.
Швейцарское объединение профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund - SGB) считает, напротив, что данный доклад отражает «тревожную картину того, что реально происходит на швейцарском рынке труда».

Конец североцентризма
Анатолий Вишневский
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2009
А.Г. Вишневский – д. э. н., руководитель Центра демографии Государственного университета – Высшей школы экономики, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Резюме Во второй половине XXI века больше половины населения стран Севера будут составлять недавние мигранты и их потомки. Новый этап мирового демографического развития приведет к изменению состава населения целых государств. Это будет иметь также и серьезные политические последствия.
ХХ век стал временем невиданного ускорения роста населения Земли вследствие несинхронных изменений смертности и рождаемости в процессе мирового демографического перехода. Темпы роста населения достигли своего максимума в 1960-х годах, а в последующие три десятилетия они постепенно снижались. Тем не менее рост продолжается, и в середине XXI столетия на земном шаре будет примерно в 5–7 раз больше людей, чем в начале прошлого века. В 1900-м на нашей планете проживало 1,6 млрд человек, в 1950-м – 2,5 млрд, в 2000-м – 6,1 млрд человек. Согласно последнему (2008) прогнозу Организации Объединенных Наций, к 2050 году число жителей Земли достигнет 8 млрд по нижнему варианту этого прогноза, 9,2 млрд – по среднему и 10,5 млрд человек – по верхнему варианту.
МИРОВАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ
Расселение людей никогда не было равномерным, но мировой демографический взрыв резко усилил эту диспропорцию. Он происходил в основном в развивающихся странах, в то время как большинство развитых государств находились на более поздних стадиях демографического перехода, рост населения в них почти прекратился, а в некоторых уже четко обозначились депопуляционные тенденции. К началу XXI столетия сложилась огромная демографическая асимметрия склонных к депопуляции промышленно развитых стран, в основном расположенных в северной части планеты, и перенаселенных развивающихся стран Юга. Пока мировой демографический взрыв не закончится, асимметрия будет нарастать.
Распределение населения по крупным регионам мира с некоторыми оговорками совпадает с распределением по двум крупным группам стран. Это так называемые «развитые», или «более развитые», как их принято обозначать в документах ООН, страны – индустриализованные, урбанизированные, богатые. А также «развивающиеся», или «менее развитые», – это преимущественно аграрные, сельские, бедные. Растет почти исключительно население «менее развитых» стран (табл. 1).
Географически почти все население «более развитых» регионов живет в северной части планеты – в Европе (включая Россию), Северной Америке и Японии. Наиболее важные исключения – Австралия и Новая Зеландия, но там проживает около 25 млн человек, что составляет немногим более 2 % всего населения развитых стран. «Менее развитые» регионы находятся в южной части планеты. Поэтому сейчас вполне правомерно говорить о разной демографической динамике Севера и Юга. Результатом становится резкое изменение соотношения демографических масс Севера и Юга в пользу последнего.
Северные, «более развитые» регионы никогда не составляли большинства мирового населения. В начале ХХ века там было сосредоточено примерно 30 % жителей планеты, к середине столетия эта доля немного выросла, но и тогда не достигла даже трети мирового населения. Однако затем началось стремительное падение доли Севера, которая к концу века опустилась ниже 20 % и продолжает быстро снижаться. Согласно среднему варианту прогноза ООН, к 2025-му она упадет ниже 16 %, к 2050 году будет составлять менее 14 % (табл. 1), или в 2,4 раза меньше, чем за сто лет до этого, в 1950-м. Примерно то же предполагается по верхнему и нижнему вариантам прогноза.
Т а б л и ц а 1
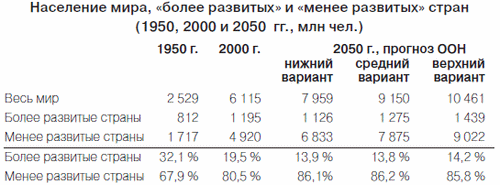
Источник: UN Department of Economic and Social Affairs / Population Division. World Population Prospects: The 2008 Revision. http://esa.un.org/unpp
В 1950 году среди 20 крупнейших по числу жителей стран мира с общим населением 1,9 млрд человек (около 75 % мирового населения) было 10 стран Севера. В 2009-м в первую двадцатку государств, в которых было сосредоточено 4,9 млрд человек (71 % мирового населения) входили только четыре северные страны. По среднему варианту прогноза ООН, в 2050 году в число 20 крупнейших стран с общим населением 6,2 млрд человек (68 % мирового населения) войдут только три страны Севера (табл. 2). Доля Севера в совокупном населении первой двадцатки упала с 34 % в 1950-м до 14 % в 2007 году, а к 2050-му опустится ниже 10 %.
Т а б л и ц а 2
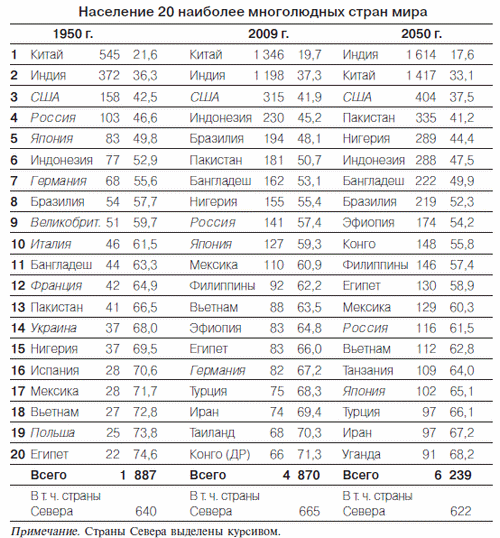
Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2009). World Population Prospects: The 2008 Revision. Highlights. New York: United Nations
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РАЗЛОМ
Какие изменения несет миру нарастающая демографическая асимметрия? Может ли она сама по себе повлиять на сохранение или изменение мирового порядка? Ведь, как отмечалось, доля развитых стран в населении планеты не являлась преобладающей, даже и в середине ХХ века, когда она была максимальной. Сейчас, как и тогда, вес Севера в мировой экономике и мировой политике определяется не столько его демографической мощью, сколько экономической и военной. Стоит ли придавать слишком большое значение демографическим переменам?
Скорее всего, стоит, потому что они протекают на фоне переживаемого человечеством глубочайшего цивилизационного сдвига, сами являются его частью и не могут рассматриваться вне общего контекста всесторонней глобальной трансформации.
Человеческая цивилизация первоначально сложилась как цивилизация собирателей и охотников, живших небольшими разобщенными группами и постепенно, очень медленно расселявшихся по всему земному шару. Каждое племя существовало под охраной своего тотема, соблюдая обычаи и нормы, привязанные к особенностям места обитания. Но цивилизационный фон был общий, главные социальные предписания – однотипными, они обеспечивали выживание в равновесии с дикой природой, остававшейся на протяжении десятков тысяч лет единственным кормильцем человека.
Этот этап истории закончился неолитической революцией, ознаменовавшей переход от присваивающей экономики к производящей. Возникли скотоводство и земледелие, а вместе с ними и первые очаги новой, аграрной цивилизации – их число множилось по мере распространения сельскохозяйственного производства.
Сельское хозяйство сделало возможным существование на планете намного большего, чем прежде, числа людей, их совершенно иную концентрацию и частоту взаимодействия. Оно способствовало появлению оседлости, возникновению сел и городов, государства, семьи нового типа, новых религий. Все это и создало основы мировой аграрной цивилизации, вновь ставшей общим фоном, на котором формировались локальные человеческие сообщества больших или меньших размеров, политически и (или) культурно обособленные, но цивилизационно однотипные. За несколько тысяч лет новая цивилизация охватила почти все население Земли, на планете осталось лишь несколько небольших очагов присваивающей экономики.
Однако подошел к концу и этот этап человеческой истории. Все главные события произошли во второй половине второго тысячелетия новой эры. Особенно же заметным новый цивилизационный разлом стал с конца XVIII столетия, когда западноевропейское общество начало втягиваться в три фундаментальные революции: промышленную, урбанизационную и демографическую. Они, в свою очередь, потребовали огромных политических и культурных перемен, и постепенно стало ясно, что у тысячелетней аграрно-сельской цивилизации появился мощный конкурент – цивилизация промышленно-городская.
Последняя обладала бесспорными эволюционными преимуществами, которые проявлялись, по крайней мере вначале, в экономической и военной сферах, но, видимо, и в мотивации поведения людей, хотя это менее верифицируемо. Так или иначе, но именно новая цивилизация привела к необыкновенному возвышению Европы, которая уже со времени Великих географических открытий XV–XVI веков начала формировать «европоцентристский» мир. С этого времени непрерывно нарастала связанность различных частей планеты, причем на протяжении нескольких столетий судьбы все более единого мира решались европейским политическим истеблишментом, а внутриевропейские конфликты нередко были обусловлены борьбой между различными национальными частями этого истеблишмента за мировое влияние.
Однако уже в ХIХ веке промышленно-городская цивилизация выплеснулась за пределы Европы, и к середине ХХ столетия все «северное кольцо» – Европа, СССР, США и Япония – стало промышленно-городским, и теперь уже все эти части Севера претендовали на участие в управлении остальным миром. Соответственно и связанные с такими претензиями конфликты вышли за пределы Европы и оказались «внутрисеверными».
Между тем «южное кольцо» – развивающиеся страны (за исключением нескольких небольших вкраплений) – оставалось преимущественно аграрным и сельским со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому какое-то время могло казаться, что сложившийся за предыдущие два-три столетия международный порядок останется неизменным, а разница заключается лишь в том, что политический европоцентризм сменился североцентризмом. Нарастающий дисбаланс демографических масс Севера и Юга был замечен не сразу, а многим и до сих пор не кажется особенно важным. В конце концов, население Великобритании всегда было намного меньше населения Индии, но это не помешало англичанам превратить Индию в свою колонию. Соотношение сил, особенно в XXI веке, зависит не от количества людей.
Это рассуждение могло бы быть правильным, если бы Север обладал монополией на новую цивилизацию. Но он ею не обладает.
ЮГ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ АГРАРНЫМ И ВСЕ БОЛЕЕ ГОРОДСКИМ
Примерно до конца XVIII столетия основу экономики всех государств составляло сельское хозяйство, и с ним была связана производственная деятельность подавляющего большинства населения, остававшегося сельским.
Промышленная революция, начавшаяся в конце XVIII века, все изменила. В одной стране за другой – вначале в Европе, а затем и в других частях света – сельское хозяйство начало терять роль главного источника богатства, все больше уступая ее промышленности и сфере услуг. Хотя и сейчас существуют страны, в которых половина и даже больше половины внутреннего валового продукта создается в аграрном секторе, для мира в целом это уже не характерно. В частности, такое соотношение сохраняется только в двух из 20 крупнейших государств мира, где, как мы видели, живет 71 % населения планеты. Среди них преобладают страны, в которых вклад сельского хозяйства в ВВП находится на уровне 10–20 %, а есть и такие, где этот показатель опустился ниже 1 % (табл. 3).
Т а б л и ц а 3
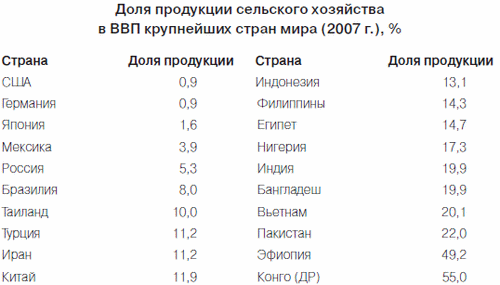
Источник: Wikipedia / List of countries by GDP sector composition
Падение относительного веса аграрного хозяйства неотделимо от коренных изменений в структуре экономически активного населения: оно начинает переходить от сельских к городским занятиям, количество которых стремительно увеличивается, а вместе с тем растет и число городских жителей.
Большие города существовали уже в древности, но в них всегда жила незначительная часть населения. Промышленная революция запустила механизм перекачки сельских жителей в города, и там, где включался этот механизм, численность населения деревень начинала быстро уменьшаться, постепенно превращаясь в незначительную величину. К началу ХХ столетия была только одна страна – Англия, где количество горожан превышало число сельских жителей. Но уже в 1950 году доля горожан превысила долю сельских жителей для всего Севера в целом (табл. 4). Население же Юга в середине ХХ века оставалось по преимуществу сельским, доля горожан составляла всего 18 % – примерно такой была доля городского населения в СССР в конце 1920-х перед началом индустриализации. Доля горожан в населении мира в целом не достигала и 30 %.
Т а б л и ц а 4
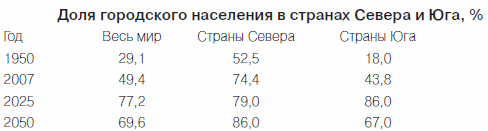
Источник: UN Department of Economic and Social Affairs / Population Division World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. Highlights. UN, New York, 2008, p. 4
Однако прошло немногим более полувека, и ситуация коренным образом изменилась. С одной стороны, значительно возросла доля городского населения в странах Севера: с 52,5 % в 1950 году до 74,4 % в 2007-м. С другой стороны (и это особенно важно), увеличилась в 2,4 раза и достигла почти 44 % доля горожан в странах Юга. Это означает резкий отрыв от уровня урбанизации, характерного для доиндустриальных обществ, и свидетельствует о том, что урбанизация Юга находится в наиболее активной фазе. В целом для всего мира доля городского населения в 2007 году превысила 49 %, а в 2009-м весь мир преодолел рубеж, который к началу ХХ столетия перешла только Великобритания: количество горожан на планете превысило число сельских жителей.
В таблице 4 представлен также прогноз изменения доли городского населения, из которого следует, что оно очень скоро (примерно к 2020 году) станет большинством и в странах Юга, а к середине столетия горожане будут составлять две трети населения Юга. Этот показатель определяется в основном уровнем урбанизации в Азии, демографический вес которой намного превосходит вес других частей Юга. В Африке доля городского населения будет меньше – около 62 %. Но и это не так мало, если учесть, что в 1950-м в Северной Америке, самой урбанизированной части света, горожане составляли около 64 %. Зато доля городского населения в Латинской Америке уже сейчас больше, чем в Европе (обгон произошел на рубеже 1980-х и 1990-х), а к середине века она почти вплотную приблизится к североамериканской, которая, в свою очередь, достигнет 90 %.
Если говорить о крупнейших государствах, то в половине стран первой двадцатки городские жители составляют больше половины населения. При этом Бразилия и Мексика уже сегодня по доле городского населения обогнали Германию, а Бразилия обошла США, Турция и Иран потеснили Японию. К середине столетия, согласно прогнозу, в 10 из 20 крупнейших стран доля городского населения превысит 75 %, и только в двух из них она не достигнет 50 %. Даже Эфиопия, где доля городских жителей сейчас примерно такая, как в дореволюционной России, выйдет по этому показателю на уровень России или Мексики середины ХХ века (табл. 5).
Т а б л и ц а 5

Источник: UN Department of Economic and Social Affairs / Population Division World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. Highlights. UN, New York, 2008, p. 69-83
Важно и то, как меняется доля Юга в городском населении мира. Если в 1950 году представители Юга составляли немногим более 40 % всех горожан мира, то уже к 1970-му их доля в городском населении планеты превысила половину, к 2015 году превысит три четверти, а к середине века на долю Севера будет приходиться менее одной пятой городских жителей планеты.
Человечество, на протяжении 10–15 тысячелетий остававшееся сельским и создавшее цивилизацию, соответствующую этой ступени его развития, стремительно становится городским. Современное городское общество возникло в Европе, было перенесено на заокеанские территории и до сих пор часто воспринимается как что-то чисто европейское, или «западное» (несмотря на то, что уже давно существует такое важное «восточное» исключение, как Япония). Но сейчас это уже ложное представление. Миллиарды людей за пределами европеизированного мира рождаются и социализируются в городской среде, формируют более или менее современные городские слои, становятся носителями городской культуры, и это полностью меняет социальный облик Третьего мира и все более сближает его с социальным обликом Запада, сколь бы велики ни были сохраняющиеся различия. Современный город – это особая, новая ступень цивилизации, и она порождает новые универсальные цивилизационные требования, которые никто не может игнорировать.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ МОЩЬ ЮГА НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ
Индустриализация и урбанизация Юга имеют многообразные последствия – как положительные, так и отрицательные. Одно из них заключается в том, что по мере утраты демографических позиций Север теряет как экономическое, так и военное превосходство, что стало привычным за несколько столетий.
Перед Первой мировой войной на долю Севера приходилось около 83 % мирового валового внутреннего продукта. В середине ХХ столетия, несмотря на некоторый рост доли стран Севера в мировом населении, их доля в мировом валовом внутреннем продукте упала до 6
9 %, к 2007-му составила 59 % (табл. 6). Это, конечно, тоже немало, но былого безоговорочного превосходства уже нет, и тенденция изменений не в пользу Севера.
Т а б л и ц а 6
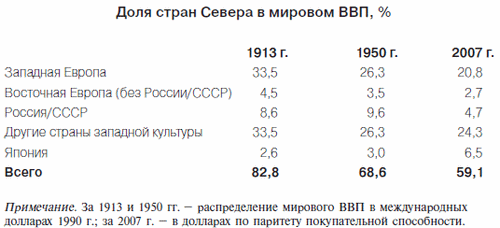
Примечание. За 1913 и 1950 гг. – распределение мирового ВВП в международных долларах 1990 г.
; за 2007 г. – в долларах по паритету покупательной способности.
Источники: Maddison A. The world economy: a millennial perspective. OECD, 2001, p. 261; The 2008 World book. CIA, 2008
В 1950 году только пять стран Юга входили в первую двадцатку стран по величине ВВП, в 2007-м их было уже девять – почти половина (табл. 7). При этом в 1950 году на их долю приходилось 16,6 % совокупного ВВП этой двадцатки, а в 2007-м – 34,8 %.
Т а б л и ц а 7
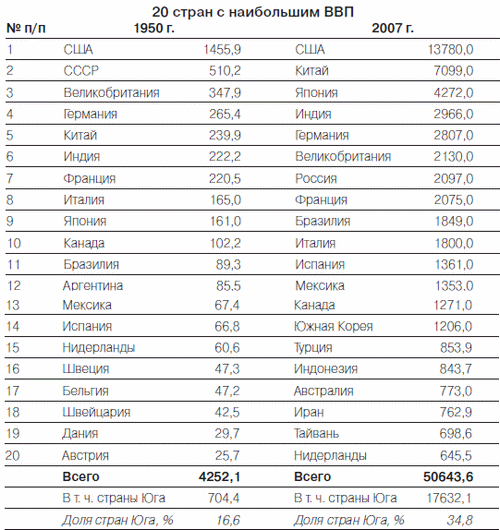
Источники: Maddison A. The world economy: a millennial perspective. OECD, 2001, p. 261, 272-273, 275, 284; The 2008 World book. CIA, 2008
Разумеется, совокупный размер ВВП говорит об экономических возможностях страны далеко не все. Если расположить те же 20 стран по величине ВВП на душу населения, то станет ясно, что экономическое превосходство государств Севера все еще очень велико (табл. 8). Многолюдные страны Юга, даже если они и занимают высокое место по величине совокупного валового внутреннего продукта, пока очень бедны.
Т а б л и ц а 8
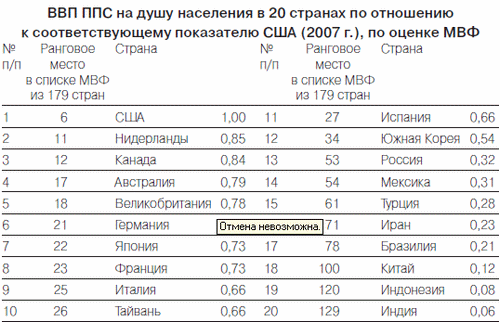
Источник: International Monetary Fund. Имеются и другие оценки (в частности, Всемирного банка и ЦРС США), которые близки к оценкам МВФ.
Тем не менее фактор высокого совокупного ВВП не следует недооценивать. Он позволяет даже при наличии бедного населения сконцентрировать огромные ресурсы в руках государства, которое благодаря этому может стать серьезным игроком на мировой политической сцене. Так, некоторые крупнейшие страны Юга тратят довольно значительную долю своего ВВП на военные расходы (табл. 9). Такое, в сущности, бедное государство, как Китай, может позволить себе военные расходы, исчисляющиеся сотнями миллиардов долларов. Военные расходы Индии сопоставимы по абсолютной величине с военными расходами России.
Т а б л и ц а 9
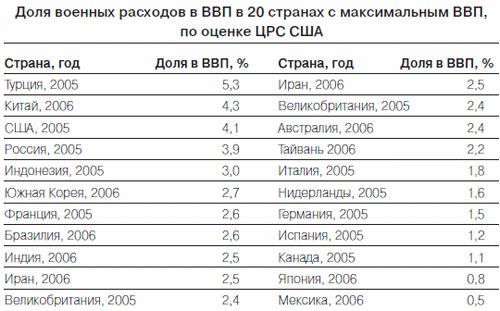
Источник: The 2008 World book. CIA, 2008
Неудивительно, что из пяти ядерных держав, входивших в 2007 году в первую десятку мировых «демографических грандов», три – Индия, Китай и Пакистан – страны Юга.
СЕВЕР ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД СВОИМИ ГРАНИЦАМИ
Эпоха европоцентризма началась с Великих географических открытий, которые положили начало миграционной экспансии европейцев. На протяжении нескольких столетий они распространялись по миру, включая заморские страны в свои колониальные империи либо завладевая малозаселенными просторами на далеких континентах. Главные потоки шли на неосвоенные или слабо освоенные территории Нового Света и Океании. Это движение достигло наибольшего размаха во второй половине XIX – первой половине XX века. С 1820 по 1940 год из Европы за океан выехало более 60 млн человек. Одновременно шло распространение населения европейской части – сначала Российской империи, а затем СССР – по территории Северной Азии. Нынешний геополитический североцентризм пришел на смену европоцентризму именно в результате этого мощного миграционного движения.
Однако во второй половине XX столетия демографическая асимметрия и экономическая поляризация Севера и Юга привели к изменению направления межконтинентальной миграции и ее масштабов. Согласно оценкам, приведенным в прогнозе ООН-2008, за вторую половину XX века с Юга на Север переместилось около 60 млн человек (примерно столько же мигрантов выехало в свое время из Европы за океан за 120 лет), и этот поток не сокращается. Только с 1990 по 2005 год число переселенцев в мире выросло на 36 млн (со 155 до 191 млн), годовые темпы увеличения количества мигрантов все время растут: в 1990–1995 годах они составляли 1,4 %, в 2000–2004 – уже 1,9 %.
Далеко не все переселенцы едут с Юга на Север – это лишь примерно треть из упомянутого 191 млн человек, еще столько же мигрантов перемещаются между странами Юга. Общее число переселенцев с Юга на Север в 2005-м оценивалось в 62 млн мигрантов. Среднегодовое сальдо миграционного обмена развитых стран с развивающимися в пользу развитых составило в 2000–2005 годах 2,6 млн человек в год. Согласно среднему варианту прогноза ООН, за первую половину нынешнего века в развитые страны переместятся еще 90 млн человек из развивающегося мира. Однако мне этот прогноз представляется заниженным, поскольку он предполагает сокращение притока переселенцев в развитые страны после 2010-го. Такие ожидания, возможно, соответствуют желаниям политических элит стран Севера, однако едва ли можно рассчитывать на то, что они оправдаются. Более вероятно, что миграционное давление Юга будет усиливаться, что обусловлено рядом объективных обстоятельств. Отмечу несколько важнейших.
Во-первых, демографический взрыв в странах Юга, породивший их перенаселение и выталкивание «избыточного» населения, вынужденного эмигрировать в поисках средств существования.
Во-вторых, демографическая и экономическая асимметрия современного мира, выражающаяся в существовании наряду с бедными и перенаселенными странами богатых, а зачастую и депопулирующих государств. Страны Юга заинтересованы в доступе к экономическим и интеллектуальным ресурсам Севера, а эти последние – в использовании обильных людских ресурсов и дешевого труда из бедных государств Юга.
В-третьих, рост мобильности населения Юга, что всегда сопровождает «раскрестьянивание» и урбанизацию.
В-четвертых, небывалое развитие средств сообщения и связи, резко упростившее перемещение между странами и континентами и поддержание контактов между ними.
Эти и другие обстоятельства не только обусловили нарастающий поток мигрантов с Юга на Север, но и породили мощные экономические и социальные механизмы, поддерживающие взаимодополняемость и взаимную заинтересованность в миграции как Юга, так и Севера.
Примером такого механизма могут служить денежные переводы мигрантов. В начале 1970-х годов, когда современная трудовая миграция с Юга на Север делала только первые шаги, общая сумма переводов была незначительной, но сейчас она достигла колоссальных размеров (табл. 10). По оценке Всемирного банка, в 2007-м страны Юга получили только учтенных переводов на сумму 217 млрд долларов, в том числе Индия – 27 млрд, Китай – 25,7 млрд, Мексика – 25 млрд, Филиппины – 17 млрд долларов. Из одних только США было переведено по учтенным каналам 42 млрд долларов. А если бы удалось учесть переводы по неофициальным каналам, суммы были бы значительно больше.
Денежные переводы мигрантов в страны Юга, млн дол. США
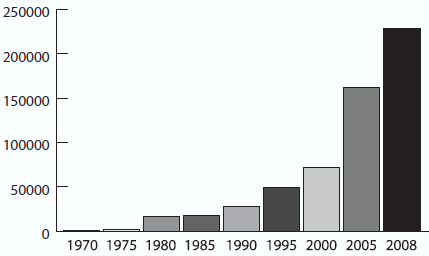
Источник: World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund's Balance of Payments Statistics Yearbook 2008
Наличие таких огромных финансовых потоков говорит о том, что мы имеем дело с серьезным звеном современной мировой экономики. Речь идет о перемещении сотен миллионов людей и сотен миллиардов долларов, и остановить их по чьему-либо желанию едва ли возможно: все части света превратились в сообщающиеся сосуды. К тому же эти потоки все в большей мере становятся инструментом мирового развития, вносят все более заметный вклад в достижение экономических и социальных целей стран исхода мигрантов.
В то же время нельзя не видеть, что современные международные миграции уже сейчас вымывают почву из-под ног североцентризма, и в дальнейшем этот эффект будет лишь усиливаться. Он связан не только с масштабами миграционных потоков, но и с изменившимся характером миграционного взаимодействия.
Миграционная экспансия европейцев в прошлом не считалась с государственными границами колонизуемых территорий, а во многих случаях их просто не существовало. Сами же европейцы жили с середины XVII столетия в условиях Вестфальской системы, которая отводила центральное место идее абсолютного суверенитета государства над своей территорией в ее четко установленных границах. Соответственно все государства контролировали свои границы, пересекать которые можно было только с их ведома. Этот принцип распространился и на новые государства, созданные иммигрантами, – Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, и пока он соблюдался, сохранялась цивилизационная целостность Севера, который диктовал правила отбора иммигрантов и их последующей интеграции в принимающие общества.
Сейчас этот принцип подвергается серьезному испытанию, и не в последнюю очередь именно из-за новой ситуации с миграцией.
Ее наиболее очевидное проявление – это быстро усугубляющиеся проблемы недокументированной (нелегальной) миграции. Несмотря на усиливающееся противодействие правительств, количество нелегальных мигрантов в США, Европе, России исчисляется миллионами и все время увеличивается, демонстрируя и возрастающую проницаемость границ.
Устранить нелегальную миграцию невозможно: она всегда будет спутником легальной. Разница демографических масс Севера и Юга такова, что даже при самой высокой оценке странами Севера выгод иммиграции и при их самом благоприятном отношении к приему приезжих спрос на мигрантов всегда будет меньше соответствующего предложения Юга. Каким бы ни было разрешенное число иммигрантов, многие желающие останутся за бортом, и какая-то их часть будет пытаться обойти установленные законом ограничения. Все будет зависеть от рисков, на которые способны пойти потенциальные мигранты, чтобы обойти закон, и от цены, которую они готовы за это заплатить.
Однако истинные проблемы Севера связаны не только, а может быть, даже и не столько с нелегальной миграцией, сколько с миграцией вообще, включая и ее вполне законную составляющую.
Еще в первой половине ХХ века большинство мигрантов, перебираясь в новую страну, порывали с родиной навсегда. Огромное физическое и социальное расстояние препятствовало сохранению родственных, дружеских, культурных связей, которые быстро ослабевали, а то и вовсе прекращались даже у первого поколения переселенцев, не говоря уже о последующих. Жизненный успех человека и его детей после эмиграции в решающей степени зависел от того, насколько успешно им удавалось интегрироваться в принимающее общество и приобрести новую национальную идентичность, усвоить незнакомые ранее цивилизационные ценности. Переплавка в «плавильном котле» новой родины завершала процесс, начатый в момент пересечения ее государственной границы.
К концу ХХ столетия все изменилось, и прежде всего из-за того, что исчезли непреодолимые расстояния. Современные средства транспорта свели к минимуму физическую дистанцию, но сократилась дистанция и социальная – благодаря тому, что изменились сами страны Юга, по крайней мере многие из них. Современные мигранты с Юга на Север приезжают из стран, уже частично индустриализованных и урбанизированных, обладают определенным, иногда довольно высоким, уровнем образования и профессиональной подготовки и не нуждаются в полном переучивании.
Новые возможности средств коммуникации, распространение Интернета позволяют сколь угодно долго сохранять тесные связи со страной исхода, быть в курсе ее общественной и политической жизни и участвовать в ней, поддерживать постоянное общение с родственниками, друзьями и пр. Даже если де-факто иммиграция оказывается постоянной, психологически она долгое время может восприниматься самими мигрантами как временная. У жителей стран Юга появляются и все время расширяются возможности дистанционного присутствия на рынке труда стран Севера. Одним словом, множатся формы миграции, не требующие кардинальной переплавки, которая была необходима сто лет назад, и становится возможной и обычной множественная идентичность мигрантов – цивилизационная, культурная, гражданская.
Теперь пересечение государственной границы не является препятствием: оставаясь формально «на замке», она размывается, становится проницаемой, перестает отделять одну страну от другой, Север от Юга. Юг оказывается внутри Севера, этнокультурный состав его населения быстро меняется.
По имеющимся прогнозам, уже к середине нынешнего века белое неиспаноязычное население перестанет быть большинством в США, во многих европейских странах доля мигрантов и их потомков превысит 25 и даже 30 % и будет продолжать нарастать. Отмечается высокая степень вероятности того, что во второй половине XXI столетия и в ряде других стран Севера в результате иммиграции и неодинаковой рождаемости среди коренных и вновь прибывших жителей страны больше половины населения будут составлять недавние мигранты и их потомки. Этот новый этап мирового демографического развития, приводящий к изменению состава населения целых стран, британский демограф Дэвид Коулмен назвал «третьим демографическим переходом». Говоря его словами, в странах Севера «низкие уровни рождаемости приводят к изменению политики в отношении миграции, а миграция, в свою очередь, оказывает влияние на состав населения. В конечном счете она может привести к полному изменению этого состава и замене нынешнего населения населением, которое составляют либо мигранты, либо их потомки, либо население смешанного происхождения».
Как скажутся все эти процессы на соотношении Севера и Юга, на их цивилизационном развитии?
Скорее всего, влияние будет двояким. С одной стороны, огромный приток мигрантов с менее развитого, все еще полугородского, полукрестьянского Юга может внести элементы архаизации в жизнь Севера, особенно тех его стран, которые модернизировались позднее и где все еще жива ностальгия по «добрым старым временам». С другой стороны, появление мощного «промежуточного» слоя живущих и работающих на Севере выходцев из стран Юга может существенно ускорить сближение этих двух ныне все еще цивилизационно разделенных частей человечества. Приобретаемые мигрантами профессиональные знания и социальный опыт превращают их в агентов модернизации, носителей новых технологических и институциональных представлений, проводников нового социального и политического мышления, которого так не хватает на Юге. Но это лишь ускорит изживание цивилизационного разлома и приблизит конец североцентризма.

Будущее России: нация или цивилизация?
Игорь Зевелёв
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2009
И.А. Зевелёв – доктор политических наук.
Резюме Для русских, в отличие от других европейских народов, распад Советского Союза не решил «национальный вопрос» – напротив, он его создал.
Распад Советского Союза не решил для русских «национальный вопрос» – напротив, он его создал. Впервые на протяжении многовековой истории миллионы людей, считающих себя русскими, оказались разделены политическими границами и живут на территориях нескольких соседних государств. Начиная с 1992 года российская политика в отношении соотечественников за рубежом формировалась в значительной степени как осторожный, умеренный ответ на этот вызов. Россия не поддержала ирредентистские настроения в Крыму, Северном Казахстане и других местах компактного проживания русских. Первая попытка защиты своих граждан и соотечественников за рубежом с помощью военной силы была предпринята в августе 2008-го в Южной Осетии и Абхазии, где только около двух процентов населения – этнические русские. Означает ли это, что этнический фактор никак не сказывается на представлениях и политике России в отношении постсоветского пространства? Может ли ситуация измениться в будущем?
Факт проживания около четверти русских за пределами Российской Федерации (а из них более половины – в сопредельных государствах) способен оказать сильнейшее воздействие на развитие российской государственной идентичности и системы международных отношений в Евразии в ХХI столетии. Однако до сих пор это только предположение, или, скорее всего, лишь один из возможных сценариев.
К настоящему времени в России сложилось главным образом два подхода к «русскому вопросу». Во-первых, это радикальный националистический дискурс о «разделенном народе», который пока не оказывает существенного влияния на конкретную политику. Во-вторых, умеренные концепции «диаспор» и «русского мира», а также вялая политика государства по отношению к соотечественникам. Если попытаться поставить эти подходы в широкий исторический контекст формирования российской идентичности за последние двести лет, то, несколько упростив ситуацию, можно утверждать, что они отражают традиционное для страны сосуществование двух начал – этнонационального и наднационального.
После распада Советского Союза объективные факторы, казалось, создали благоприятные условия для укрепления этнического сознания русских и их ведущей роли в формировании новой национальной идентичности России. Составляя около 80 % населения (против 43 % в Российской империи конца ХIХ века и 50 % в Советском Союзе), русские впервые за последние два столетия оказались безусловно доминирующей этнической группой в своей стране. В интеллектуальном отношении русский этнонационализм получил мощный импульс благодаря публицистике Александра Солженицына, который стал первым крупным мыслителем, бросившим вызов наднациональной традиции в ее имперской форме. Глубочайший экономический кризис 1990-х, а также трудности, с которыми столкнулись русские в соседних национализирующихся государствах, создали предпосылки для политической мобилизации вокруг этого вопроса. Последнее десятилетие, отмеченное мощным притоком мигрантов в большие российские города, изобилует фактами роста ксенофобии и активизации экстремистских группировок.
Однако русский этнонационализм пока не стал серьезной силой на внутреннем пространстве России и не оказывает сколько-нибудь значительного влияния на отношения с соседними государствами. Наднациональные аспекты российской идентичности в различных формах (имперских, советских, цивилизационных, универсалистских) продолжают играть существенную роль. Изменится ли ситуация в обозримом будущем и какими международными последствиями это чревато?
НЕОФОРМИВШЕЕСЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
По опыту других стран можно судить, что за строительство нации на обломках империи обычно берутся приверженцы этнического национализма. Кемалистская Турция начала свой эксперимент по строительству национального государства с геноцида и изгнания армянских, греческих и курдских меньшинств. Австрийцы приветствовали аншлюс после того, как прожили 20 лет в небольшом постимперском государстве. После распада Югославии Сербия и Хорватия стали проявлять агрессивный национализм и попытались перекроить постъюгославскую политическую карту. Все бывшие советские республики взлелеяли этнополитические мифы, в которых государство провозглашалось родиной «коренного» населения. Во всех этих случаях теоретической базой соответствующей политики послужила традиция исторического романтизма, в соответствии с которой человечество четко разделяется по национальной принадлежности, а культурно (или этнически) обусловленные нации обладают священными правами.
Под влиянием целого ряда исторических обстоятельств Россия, поднявшаяся из-под обломков СССР, представляла собой не вполне оформившуюся нацию с удивительно низким уровнем самосознания и без какого бы то ни было массового национального движения. В этом заключалось ее фундаментальное отличие от других бывших республик СССР, в частности государств Балтии, Армении и Грузии.
На протяжении многих веков в сознании русских так и не сложилось сколько-нибудь отчетливых и исторически обоснованных критериев, позволяющих отличить «нас» от «них». Непонятная ситуация с определением границ русского народа играла роль важнейшего фактора, который формировал историческое развитие Евразии в течение, как минимум, трех столетий и облегчал задачу строительства гигантской империи.
Российская империя и ее преемник Советский Союз были, как Габсбургская и Османская империи, территориально целостными образованиями: центр и периферию не отделяли друг от друга никакие естественные границы. В случаях России и Советского Союза функцию центра фактически выполняла столица (сначала Санкт-Петербург, а потом Москва), а не какая-то четко определенная срединная территория. В формировании российского национального самосознания важную роль играл именно географический фактор, основой для которого служила комбинация тесно переплетенных между собой этнических и имперских компонентов. При этом образование Российской империи предваряло формирование национальной идентичности русских, процесс самоутверждения которой мы наблюдаем сегодня. В течение нескольких веков российская элита была в большей степени заинтересована в расширении границ империи, нежели в укреплении национального самосознания.
Отсутствие четких границ между империей и ее русским ядром позволило некоторым аналитикам заключить, что в России не существовало доминирующей этнической группы: все группы, в том числе и русские, являлись подданными имперского центра. Этот тезис, который на первый взгляд служит для русских самооправданием, играет чрезвычайно важную роль в их постсоветском сознании.
В сегодняшней России нет ни одной политической силы, которая рассматривала бы империю в качестве инструмента продвижения интересов русских за счет других народов. Это резко контрастирует с идеологией и официальной историографией новых независимых государств. И, что еще более важно, свидетельствует об укоренившейся в постсоветском российском сознании вере в то, что империя была для русских обузой (Александр Солженицын), или служила интересам всех народов (Геннадий Зюганов), или являла собой всеобщее зло из-за своей коммунистической природы в советский период (либералы).
Еще одним обстоятельством, которое до самого последнего времени сдерживало массовый русский национализм, является общность культурных, языковых и исторических корней России, Белоруссии и Украины и, как следствие, нечеткость границ между восточными славянами. Столетиями это заставляло русскую элиту «смягчать» свой национализм подобно тому, как наличие в Соединенном Королевстве «внутренней империи», включающей в себя Северную Ирландию, Уэльс и Шотландию, подавляло английский национализм.
Важную роль в ослаблении русского национального сознания сыграли такое понятие, как «советский народ», а также стоящие за ним реалии. Дети от смешанных браков, люди, пустившие корни вдали от своих «исторических родин», русские из крупных городских центров – все они оказались наиболее восприимчивы к этой концепции. Русские принимали ее более охотно, чем другие этнические группы, потому что во всем Советском Союзе понятие «советский человек» косвенно подразумевало русскоязычность, а также признание «цивилизирующей» миссии русской культуры и ее экстратерриториального характера.
Теоретически многое объединяет концепцию «советского народа» в СССР и идею «плавильного котла» в США. (Американские понятия «многокультурности» и «многообразия» тоже имели своего советского идеологического кузена – концепцию «расцвета наций при социализме».)
Некоторые националисты сетовали на то, что имперская роль лишила русских их этнической самобытности. Писатели-славянофилы выражали беспокойство в связи с тем, что «советский патриотизм» разрушал русское национальное самосознание, а жители российских городов все чаще стали называть себя «советскими людьми». В наше время модно сбрасывать со счетов реалии, которые обусловили возникновение понятия «советский народ», а между тем эта концепция адекватно отражала некоторые тенденции (смешение наций и образование новой общности), хотя и игнорировала ряд других явлений (национальное пробуждение, прежде всего у нерусских народов).
Строительство национального государства обусловлено наличием государственных институтов. В ХХ веке нации чаще создавались государствами, а не наоборот. Для русских родным был весь Советский Союз, что составляло резкий контраст с другими этническими группами, которые предпочитали называть родиной только свою республику. В РСФСР отсутствовали многие признаки, присущие другим республикам. Имперский центр совпадал с этническим русским центром. У РСФСР не было ни своей отдельной столицы, ни Коммунистической партии (до 1990 г.), ни отдельного членства в ООН (в отличие от Белоруссии и Украины). Неразвитость русского национального самосознания и неопределенность границ русского народа в значительной мере были обусловлены институциональной слабостью РСФСР.
На протяжении всего периода советской истории – от Ленина до Горбачёва – существовал общий политический знаменатель, который серьезно ослаблял процесс формирования русского этнического самосознания, все более и более стирая его отличие от сознания наднационального. Речь идет о борьбе, пусть и не всегда последовательной, всех советских режимов против русского национализма. Систематическое ограничение русского национализма было той ценой, которую советское руководство было готово заплатить за сохранение многонационального государства.
Неоформившееся русское национальное самосознание является одним из ключевых факторов, объясняющих, почему распад Советского Союза произошел так мирно. Особенно если сравнивать его с кровопролитной дезинтеграцией другой коммунистической федерации – Югославии, в которой сербы имели более четкое представление о своей национальной идентичности. Возможно, Россия без явственно очерченных исторических и культурных границ была единственным мирным решением «русского вопроса» после краха СССР. Как это ни парадоксально, непоследовательные и запутанные отношения Москвы с республиками, входящими в состав Российской Федерации, и умеренная, а порой и абсолютно неэффективная политика в отношении русских, проживающих в ближнем зарубежье, благоприятно отразились на обеспечении безопасности в Евразии в переходный период после распада СССР. Выработка ясного подхода к строительству национального государства, которая неизбежно повлекла бы за собой пересмотр политических границ России, могла обернуться катастрофой. Остается добавить, что российская политическая элита зачастую проводила невнятную, но, как оказалось, спасительную политику в течение последних восемнадцати лет не в силу своей мудрости, а по причине крайней слабости и неспособности четко сформулировать национальные интересы.
ИДЕЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ
Подъем национализма в широких массах обычно следует за ростом националистических настроений у представителей элиты. Полтора столетия центральное место в интеллектуальных баталиях о будущем России занимал вопрос об отношениях с Европой.
Современные дебаты на тему русской идентичности уходят корнями в споры между славянофилами и западниками XIX века. Сейчас, как и тогда, в центре внимания – соотношение российской и западной цивилизаций. В дискуссии между славянофилами и западниками не играли существенной роли такие темы, как многонациональный состав Российской империи, отношения между русским и другими народами, а также границы русского народа, ставшие впоследствии традиционными для представителей российской интеллигенции.
Характерно, что специфические проблемы национальных меньшинств в России впервые рассматривались с относительно последовательных теоретических позиций не завсегдатаями интеллектуальных салонов Санкт-Петербурга и Москвы, а членами киевского Кирилло-Мефодиевского братства. Тон в этих дискуссиях, начавшихся в 1846 году, задавали украинский поэт и общественный деятель Тарас Шевченко и русский исследователь истории Украины Николай Костомаров, которые при этом не представляли себе раздельного существования славянских народов. Более того, Шевченко и Костомаров развивали идею создания панславянской федерации либеральных государств, в состав которой должны были войти Богемия, Болгария, Польша, Россия, Сербия и Украина. В то время еще никто не выделял сегодняшнюю Белоруссию в качестве хотя бы потенциально самостоятельной страны.
В 1869-м Николай Данилевский попытался объединить славянофильство, панславизм и политику империализма в своей работе «Россия и Европа». По мнению ученого, общая славянская культура могла послужить основой для обеспечения ведущей роли русских в рамках будущей федерации славянских народов со столицей в Константинополе. В данной концепции отчетливо проявилась наднациональная, цивилизационная тенденция в развитии российской идентичности.
В XIX столетии в интеллектуальной среде произошло еще одно яркое событие, которое наложило заметный отпечаток на последующие дискуссии, – прозвучала мысль об «универсальном» характере русской идентичности. Сформулированная славянофилами, эта идея получила дальнейшее развитие в трудах Фёдора Достоевского, который в 1880 году в своем знаменитом очерке о Пушкине писал: «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» В своих рассуждениях Достоевский (вслед за славянофилами и западниками) ставил Россию в европейский и всемирный контекст: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».
Можно сказать, что писатель с удивительной страстью выразил некоторые знаменательные черты русского национального самосознания того времени: его открытость, наднациональный характер и мессианство. Фёдор Достоевский восхищался способностью Пушкина понять всю европейскую культуру и вместить ее в русскую душу. Универсализм Достоевского чем-то сродни философии «избранного народа», в той или иной форме присутствующей у евреев и американцев. Как правило, это легко сочетается с патернализмом по отношению к другим народам.
Политика России в XIX веке определялась не идеями Данилевского или Достоевского, а доктриной «официального национализма», сформулированной графом Сергеем Уваровым. Столпами империи были провозглашены «православие, самодержавие, народность». Третий принцип – народность – представлялся самым туманным. При этом главный вопрос так и оставался нерешенным: была ли Российская империя государством русских и для русских, или она являлась наднациональным образованием, требовавшим от всех лишь одинаковой верности монархии?
Славянофилов и западников, Данилевского, Достоевского, Уварова и других интересовало место России по отношению к Европе, славянскому единству и вселенной, при этом они полностью игнорировали проблемы, одолевавшие другие народы империи. Они считали, что «малороссы» (украинцы), «белороссы» (белорусы) и «великороссы» (этнические русские) образуют единый русский народ, причем все остальные (инородцы) фактически исключались из теоретических изысканий. Очевидно, что отсутствие должного внимания к событиям в западной части империи, прежде всего в Польше, где шел процесс усиления национального самосознания, было интеллектуальной ошибкой.
Когда во второй половине XIX столетия формирование наций стало набирать силу, всё более зримые очертания приобрела политика русификации, особенно активно проводившаяся при Александре III. Произошел очевидный сдвиг от лишенного этнических предпочтений менталитета дворянства, озабоченного проблемами верноподданничества, в сторону этнически более окрашенных попыток в одних случаях превратить нерусских в русских, а в других – обеспечить верховенство русских над иными «пробуждающимися» народами. Этот сдвиг создал предпосылки к тому, что русские постепенно выделились в качестве отдельного народа. Тем не менее к 1917-му, когда от преданности русских престолу уже практически ничего не оставалось, они еще не являлись сплоченной нацией в современном понимании этого слова.
Пётр Струве писал: «Крушение монархии… показало крайнюю слабость национального самосознания в самой сердцевине Российского государства – среди масс русского народа». Удивительно, но, как и славянофилы семьюдесятью годами ранее, Струве не рассматривал в качестве одной из наиважнейших проблему состава российского народа и места этнических русских в государстве. Точно так же лидер Конституционно-демократической партии России Павел Милюков писал об общей российской государственной «нации», недооценивая национальное пробуждение нерусских народов империи.
Важный вклад в дискуссию о русской идентичности внесли в 1920-х годах евразийцы – группа молодых представителей интеллигенции в эмиграции (Пётр Савицкий, Николай Трубецкой и др.). В поиске истоков российской нации они не ограничивались исследованием славянских корней. Утверждая, что существенную роль в ее формировании сыграли тюркские и угро-финские элементы, евразийцы первыми включили неславянские народы в теоретические исследования идентичности русских. Согласно их теории, Россия возникла на основе общего географического пространства и самосознания; она не являлась ни европейской, ни азиатской – она была евро-азиатской. Хотя представители евразийской школы имели серьезные разногласия с другими теоретиками, они продолжили традицию наднационального, неэтнического подхода к определению «русскости».
Большевики стали той партией, которая больше других обращала внимание на «национальный вопрос». Главными особенностями их взглядов были объявление Российской империи «тюрьмой народов», осуждение «великорусского шовинизма» и провозглашение права всех народов на самоопределение. Большевики, вопреки заявленным принципам, постепенно воссоздали централизованное государство в границах, которые практически совпали с границами Российской империи. Ценой, которую пришлось за это заплатить, стало подавление русского этнического национализма и создание для других народов бывшей империи национально-территориальных единиц, наделенных различной степенью автономии.
Большевики были готовы пойти на значительные уступки нерусским народам, выделив для них этнические территории и дав им право на самоопределение, чтобы заручиться поддержкой в борьбе с царской империей. Они были уверены, что русские, будучи более «передовой» нацией, не нуждались в подобных заигрываниях, поскольку их вполне должны были устроить социальные идеалы большевиков.
Когда задача осуществления мировой революции отложилась на неопределенное время, уступки национальностям, населявшим Советский Союз, приобрели долгосрочный, а не временный характер. Функцию главного противовеса этнонациональной федеративной системе выполняла централизующая роль партии. Когда с приходом к власти Михаила Горбачёва влияние КПСС стало ослабевать, государство начало клониться к закату.
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
Многие на Западе исходят из того, что Россия перестанет быть источником угрозы для всего мира и для себя самой, лишь превратившись в «нормальное» европейское национальное государство и оставив свои имперские амбиции. При этом размытые границы русского народа вызывают ощущение беспокойства и тревоги как феномен, способный привести к попыткам реставрации империи. Национальное государство, напротив, воспринимается как проверенная, знакомая и мирная альтернатива. Такой подход не учитывает множество серьезнейших угроз международной безопасности, которые могут возникнуть в результате механистической попытки поставить Россию в один ряд с ее соседями.
В процессе строительства нации возникают следующие ключевые вопросы: кто является ее членом и соответственно какими должны быть ее границы? Наиболее деструктивными чертами любого строительства национального государства были поглощение этнических и религиозных меньшинств и разрушение крупных политических субъектов (как правило, многоэтничных государств). Слишком часто чувство национальной общности и солидарности основывалось на враждебности по отношению к другим. Границы любого западноевропейского государства и соответствующих наций формировались в результате многочисленных войн, внутренних вспышек насилия либо комбинации того и другого.
Для России стремление построить национальное государство на обломках империи неизбежно означало бы вызов ее федеративной структуре, включающей ряд этнотерриториальных единиц, и поставило бы под вопрос ее внешние границы, которые основываются на искусственном административном разделении, проведенном в свое время большевиками. Не приходится сомневаться, что такая попытка могла бы легко подорвать всю систему региональной и глобальной безопасности.
Сбросив свое имперское покрывало после распада Советского Союза, этническая идентичность русских стала более заметной. Хотя этнонационализм в России не является сам по себе хорошо организованной политической силой, не следует исключать его резкое усиление, особенно если цель строительства национального государства станет частью политики. В советских и постсоветских научных и политических кругах, а также в общественном сознании термин «нация» имел и имеет не гражданскую, а ярко выраженную этническую коннотацию. Как это уже неоднократно случалось в истории Европы, рельефно обозначившаяся общая культура может начать рассматриваться в качестве повода для установления естественной политической границы, что послужит толчком к мощным призывам объединить всех русских под одной политической крышей.
Переопределение России в этнических терминах по аналогии с политикой, проводимой многими другими государствами, образовавшимися на территории бывшего СССР, грозит самыми опасными последствиями за всю ее историю – главным образом из-за пересмотра постсоветских границ. А это неизбежно при реализации подобного проекта. Сутью этнически окрашенной националистической программы может стать восстановление географического соответствия между государством и нацией и создание нового политического образования на территории проживания русского и части других восточных славянских народов. Это означает воссоединение России, Белоруссии, части Украины и Северного Казахстана. Характерно, что последний назывался Александром Солженицыным не иначе как «Южной Сибирью и Южным Уралом (или Зауральем)».
Нельзя сказать, что подобные идеи продвигались исключительно политическими маргиналами. В период между 1998 и 2001 годом предпринималось несколько попыток придать данной концепции форму законодательных инициатив. В комитетах Государственной думы обсуждались законопроекты «О национально-культурном развитии русского народа», «О праве русского народа на самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение в едином государстве», «О русском народе». Однако им так и не суждено было обрести силу закона. Реалии государственного строительства ставили перед страной совершенно иные задачи, и общий прагматизм российской элиты каждый раз одерживал верх над идеологическими установками отдельных групп политиков.
После установления весьма жесткого контроля над законодательной властью в 2003-м произошла маргинализация дискурса о русском народе и его праве на воссоединение. Тем не менее КПРФ включила тезис о разделенном русском народе в свою программу и недавно подтвердила приверженность этой идее на своем XIII съезде. Требование признания русских разделенным народом по-прежнему содержится в программе ЛДПР. Некоторые единороссы, прежде всего депутат Государственной думы Константин Затулин, постоянно говорят о том, что русский народ – «крупнейшая в мире разделенная нация». Многочисленные интернет-сайты и националистическая блогосфера активно популяризуют эти идеи.
Альтернативой этнической нации является нация гражданская. Милюков и Струве писали о формировании общероссийской нации еще до революции. Сегодня Валерий Тишков исходит из того, что современная российская гражданская нация уже состоялась. В условиях доминирования этноцентристских подходов подобный подход чрезвычайно полезен. В то же время российская гражданская нация – это скорее проект, вектор возможного развития, одна из тенденций. Внутри страны есть большие группы людей, которые называют себя россиянами, но их нация не российская, а осетинская, татарская, якутская... Конституция страны закрепляет такое положение. Кроме того, достаточно многочисленные соотечественники за рубежом считают себя частью русской нации. Развитие гражданской идентичности также делегитимирует сегодняшние границы России, поскольку ставит под сомнение необходимость разрушения Советского Союза: почему нельзя было построить демократическое государство на гражданских началах в его старых границах?
Для построения настоящей гражданской идентичности необходимо иметь легитимные и желательно исторически обоснованные границы, а также стабильные и эффективные государственные институты. В границах современной Российской Федерации общероссийская нация молода, нестабильна и слаба. Регулярные выборы, политические партии, общие социально-экономические проблемы и политика могли бы постепенно превратиться в оболочку новой политической нации. Однако практическое отсутствие демократических институтов и множество неразрешенных вопросов, возникающих между этнотерриториальными субъектами Федерации и центром, пока ставят серьезные преграды на этом пути. Северный Кавказ представляет собой крайний пример тех трудностей, с которыми может сталкиваться построение общей гражданской идентичности в России. Это очевидная угроза безопасности не только для самой России, но и для всего мира.
Национальное государство представляет собой весьма специфический феномен, который не существует и, скорее всего, никогда не будет существовать в большинстве регионов мира. Должна ли Россия (или любое другое современное государство) с двухсотлетним опозданием шаг за шагом заново пройти путь западноевропейских стран? Есть ли альтернатива строительству нации-государства в сегодняшней России?
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Сосуществование в российской идентичности двух начал – этнического и наднационального, скорее всего, сохранится в обозримом будущем. Вопрос лишь в том, какие формы будут принимать эти начала, в чем выразятся последствия их соотношения для международной безопасности.
Наднациональной проект в любой его форме, будь то империя, Советский Союз, славянско-православная цивилизация или «всечеловек» Достоевского, – это всегда продукт элиты. Идея нации, как этнической, так и гражданской, более демократична. Если произойдет демократизация российского общества, соотношение между двумя началами может измениться в пользу национального (национально-этнического?). Это было бы вполне в русле общемировых тенденций. Идея «разделенной нации» в данном случае может оказаться в центре внешней политики с катастрофическими последствиями для стабильности в регионе.
Интеллектуальный вызов, который Солженицын бросил наднациональной традиции в ее имперской и советской формах, до последнего времени оставался без ответа. Однако с 2008-го российская власть впервые после распада СССР заговорила в терминах большого наднационального проекта. Мировоззренческие основы внешней политики все чаще стали формулироваться в категориях цивилизационной принадлежности. Продолжая традицию ХIХ – начала ХХ века, Россия пришла к этому не через осмысление «разделенности» русских и их взаимодействия с соседними народами, а в результате обострившихся отношений с Западом. Неудача, постигшая попытки стать самостоятельной частью «Большого Запада», и осознание того обстоятельства, что за этим может стоять нечто большее, чем сиюминутный расклад на международной арене, вновь заставили Россию задуматься о своем месте в мире. Кроме того, претензии на статус великой державы вынудили наконец российское руководство попытаться сформулировать цели внешней политики в терминах, выходящих за рамки национальных интересов.
Идеологически цивилизационная концепция оказалась вполне близка российской власти. В ХIХ столетии об особой русской цивилизации обычно говорили консерваторы, прежде всего Николай Данилевский и Константин Леонтьев. В современную эпоху в этих категориях мыслил недавно ушедший из жизни американский консерватор Самьюэл Хантингтон. О том, что Россия не страна, а цивилизация, давно говорит Александр Дугин. Данная идея не очень совместима с либеральными концепциями глобализации и универсальности демократических ценностей.
К настоящему моменту российские власти сформулировали два возможных подхода к цивилизационной принадлежности России. Один был впервые озвучен президентом Дмитрием Медведевым в Берлине в июне 2008 года: «В результате окончания “холодной войны” возникли условия для налаживания подлинно равноправного сотрудничества между Россией, Евросоюзом и Северной Америкой как тремя ветвями европейской цивилизации». Министр иностранных дел Сергей Лавров, повторяя тезис о трех ветвях, одновременно говорит о том, что принятие западных ценностей – это лишь один из подходов. Россия же, по его словам, намерена продвигать другой подход, который «заключается в том, что конкуренция становится подлинно глобальной, приобретая цивилизационное измерение, то есть предметом конкуренции становятся в том числе ценностные ориентиры и модели развития». Летом 2009-го Лавров, выступая в латвийской русскоязычной газете, уже использовал понятие «большая российская цивилизация».
Создается впечатление, что в российском руководстве на самом деле не видят большого противоречия между двумя подходами. Они для него не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. Один может быть обращен к Западу, другой – к соседним государствам и соотечественникам. Концепция России, как отдельной большой цивилизации, с одной стороны, позволяет легко парировать критику недемократичности государственного устройства современной России. С другой – дает возможность вполне современно, в духе ХХI века, интерпретировать «русский вопрос»: российская цивилизация – это наше государство вместе с Русским миром, который включает в себя всех, кто тяготеет к полю русской культуры. В данном контексте тезис о разделенном народе звучит архаично. Выбор между двумя подходами к цивилизационной принадлежности России будет в конечном итоге определяться прагматическими соображениями, в центре которых, как всегда, будут стоять взаимоотношения с Западом, а не с непосредственными соседями.
С 2009 года свой вклад в понимание России как центра особой цивилизации вносит Русская православная церковь (РПЦ). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал выступать не в качестве «главы церкви Российской Федерации и русского народа», а в роли наднационального духовного лидера стран «Святой Руси», включающей в себя, помимо России, Белоруссию, Молдавию, Украину и – шире – всех православных христиан. В чем-то продолжая православно-консервативную традицию Константина Леонтьева, патриарх взял курс на сохранение восточнославянской цивилизации при уважении современных политических границ и существующих культурных различий. Последнее обстоятельство – новый акцент в политике церкви. В ходе визита на Украину в августе 2009-го патриарх Кирилл нередко обращался к пастве на украинском языке и называл Киев «южной столицей Русского Православия», а не только «матерью городов русских». Спустя 18 лет после распада Советского Союза, РПЦ оказалась едва ли не единственным институтом, все еще объединяющим Россию и значительную часть Украины.
Для патриарха Кирилла православие не сводится к «русской вере». Это – серьезное изменение по сравнению с предшествующим периодом, когда, судя по всему, церковные иерархи благосклонно относились к концепции «разделенного народа», которая, конечно, выглядит гораздо более провинциально, чем идея духовного лидерства в целой цивилизации. Символичным стало распоряжение патриарха Кирилла поставить в его тронном зале флаги всех государств, на которые распространяется юрисдикция Московского патриархата. В 2009 году Русская православная церковь заявила о себе как о важнейшем участнике обсуждения вопроса о российской идентичности и отношениях России с соседними государствами и со всем миром. Православие выступило в роли одного из наиболее активных институтов сохранения наднационального начала в российском самосознании и поддержания единства цивилизационного пространства в Евразии.
Однако закрепление положения, при котором широкая и разнообразная российская наднациональная традиция сведется к деятельности церкви, может обернуться серьезными геополитическими издержками. Значительная часть русских и других восточных славян (неверующие или лишь формально православные) не готовы определять свою идентичность исключительно религиозными факторами. Встает вопрос о соседних странах с преимущественно, хотя часто и условно, мусульманским населением и в то же время явно принадлежащих к российскому цивилизационному ареалу (прежде всего Казахстан и Киргизия).
Для того чтобы Россия была способна «воздействовать на окружающий мир с помощью своей цивилизационной, гуманитарно-культурной, внешнеполитической и иной привлекательности», к чему призывает Сергей Лавров, необходимо было бы задействовать универсалистскую гуманитарную традицию российского интеллектуального наследия. Не предлагая миру общечеловеческие ценностей, нельзя надеяться на то, что Россия может научиться использовать «мягкую силу» в международных отношениях.
Однако исторический опыт свидетельствует о том, что и в случае проецирования своего образа, обогащенного универсалистским началом, на международную арену Россия рискует столкнуться с нежелательной реакцией. Действительно, на протяжении трех последних столетий русская «высокая» культура формировалась в рамках империи и ее ключевой характеристикой была «вселенскость».
С одной стороны, это помогло ей получить всемирное признание. Далекая от «провинциальности» или «узости», она легко впитывала в себя достижения других, в первую очередь европейских, культур и подарила человечеству множество шедевров. С другой стороны, попытки культурного и прочего включения всех и вся в безграничную, «вселенскую» Россию постоянно вступали в противоречие с устремлениями соседних народов, которые в большинстве своем не желали становиться материалом «вселенского» проекта, потому что видели в этом фактическую русификацию и угрозу своему существованию. Исторически и культурно обусловленные мессианские традиции явно не соответствуют той новой геополитической, экономической и демографической ситуации, в какой находится сегодня Россия.
В любом случае поиски новой российской идентичности должны вестись, с одной стороны, с учетом исторических и культурных традиций, а с другой стороны, с ясным пониманием особенностей новой эпохи и международного контекста.

Век без Европы?
© "Россия в глобальной политике". № 2, Март - Апрель 2009
А.Б. Давидсон – профессор МГУ и ГУ – ВШЭ, заведующий Центром африканских исследований Института всеобщей истории РАН, заслуженный деятель науки.
Резюме Роль не-Европы растет очень быстро: экономически, политически, культурно и – особенно – демографически. Те, кого принято называть «белыми», сегодня составляют менее одной шестой человечества. Да и в самой Европе – уже миллионы и миллионы выходцев из Азии и Африки.
Идея о том, что XXI век будет веком Азии и Африки, зародилась уже давно – вследствие распада колониальных империй, возникновения новых государств на месте колоний и укрепления суверенитета стран, которые были зависимыми. Последовавшие затем перемены в мировой экономике и политике уже не раз способствовали распространению этой идеи.
Новым стимулом стали события последних месяцев. Появление «цветного» президента в Соединенных Штатах, которые еще не так давно считались оплотом расизма, конечно, привело к дальнейшему самоутверждению афро-азиатских народов, которые из столетия в столетие считали себя ущемленными. Мировой экономический кризис вызвал те же чувства, хотя и по другой причине. Азия и Африка винят в кризисе США и Западную Европу. И их репутация ухудшается.
Все это лишь делает более явным, более очевидным возрастание роли Азии и Африки – в народонаселении мира, мировой экономике, политике, культуре, даже в спорте. Конечно, исторически справедливо, что для азиатов и африканцев, составляющих четыре пятых населения Земли, закончилось существование в условиях европоцентризма. Но как это отразится на судьбе Европы? Прогнозы делаются уже давно. Есть и тревожные, даже мрачные.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕССИМИЗМ ЕВРОПЫ
«Азия просветила Европу, и Европа покорила Азию. Теперь Европа просвещает Азию. Повторит ли Азия ту же операцию над Европой?» – так более ста лет назад, в мае 1904-го, писал историк Василий Осипович Ключевский.
Еще полувеком раньше Александр Герцен утверждал, что Европа «выродилась». «Все мельчает и вянет на истощенной почве – нету талантов, нету творцов, нету силы мысли, – нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Бонаротти (в виду имеется Микеланджело Буонарроти. – Ред.), как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так же, как блестящая эпоха аристократии; все нищают, не обогащая никого».
И заключал: «Прощай, отходящий мир, прощай Европа!»
Потом закат Европы с ее имперским величием, как известно, предрекали многие. Освальд Шпенглер – с бесстрастным анализом. К его выводам, в сущности, присоединились, выразив при этом безнадежную горечь, российские философы Николай Бердяев, Яков Букшпан, Фёдор Степун, Семён Франк. Они посвятили его книге «Закат Европы» сборник статей и назвали Шпенглера «мужественным пророком». Степун так охарактеризовал труд Шпенглера: «Содержание его пророчества – смерть европейской культуры. Пройдет немного столетий, и на земном шаре не останется ни одного немца, англичанина и француза, как во времена Юстиниана не было больше ни одного римлянина».
Особенно выделил Степун слова Шпенглера: «Умирая, античный мир не знал, что он умирает, и потому наслаждался каждым предсмертным днем, как подарком богов. Но наш дар – дар предвидения своей неизбежной судьбы. Мы будем умирать сознательно, сопровождая каждую стадию своего разложения острым взором опытного врача».
Все эти предсказания сделаны в прошлом и позапрошлом веках. Однако подобные мысли характерны и для сегодняшнего дня.
В международном журнале JaLOUSE был дан прогноз – каким станет XXI век. «Эпоха блистательной, триумфальной Европы, сиятельных капиталистических империй, правивших три века всей планетой огнем, мечом и паровыми двигателями, заканчивается, как некогда заканчивалась, растворяясь во мраке “темных веков”, эпоха великого Рима». И далее: «Судьба современного Запада навевает грустные аналогии с трагическим упадком Римской империи...»
Авторы утверждают: «Не пройдет и пятидесяти лет, как эпоху Брежнева, Никсона и Вилли Брандта будут вспоминать, как утраченный человечеством парадиз. Просто потому, что основ, на которых стоял наш мир, уже не будет». Каким же станет будущее? Ответ: «Без Запада», «Без белых», «Без государства», «Без демократии», «Без равенства», «Без смысла». И «Без России».
К разного рода страшилкам человечество вроде бы привыкло. И все же от статьи в JaLOUSE трудно просто отмахнуться. Тот номер подписан в печать 30 августа 2001-го, а читатели получили его как раз к тому злосчастному 11 сентября…
НЕБЕЛЫЙ РАСИЗМ?
Начало нового столетия открылось и публичным выступлением, которое привлекло внимание во многих странах мира.
«Мы должны потребовать от белых компенсации за колонизацию и геноцид, которые они устроили на нашей земле», – заявил ливийский лидер Муамар Каддафи 22 апреля 2001 года на форуме в Триполи. Он призвал Африку избавиться от культурного наследия белых людей. «Их языки и традиции не могут выразить наши чувства и мысли, поэтому мы должны говорить только на языках наших предков». Каддафи напомнил об опыте Ливии, которая в конце 1960-х добилась изгнания из страны более 20 тысяч белых, в основном итальянцев.
В своей речи Каддафи подчеркнул, что говорит от имени всего небелого населения, от лица униженных и угнетенных, от имени Африки. Правда, по классификации антропологов, он, араб, относится к той же расе «белых», которых он обвиняет. И если уж встать на позицию противопоставления рас, как это делает Каддафи, то придется вспомнить, что арабская работорговля возникла намного раньше европейской и стоила Черной Африке миллионов человеческих жизней.
Но, так или иначе, эта речь подогрела, усилила антибелые, антиевропейские настроения в Третьем мире. Правда, они и без того давали и дают о себе знать. На ряде международных форумов выдвигаются требования, чтобы Европа заплатила за столетия колониализма и работорговли.
Что, разве легко африканцам забыть, как корабли с невольниками веками бороздили Атлантику, а на плантациях Америки гибли их предки?
Легко ли забыть китайцам, как кайзер Вильгельм II напутствовал немецкий экспедиционный корпус, отправляя его в 1900 году в Китай: «Пощады не давать! Пленных не брать! Убивайте, сколько сможете! Как тысячу лет назад, когда гунны во главе с королем Аттилой заслужили славу, которая и сейчас в легендах и сказках вызывает ужас, так слово “германец” должно ужасать Китай в следующую тысячу лет. Вы должны действовать так, чтобы китаец уже никогда не посмел косо посмотреть на германца»?
Что уж говорить об Африке! По приказу того же императора Вильгельма восставший против немецкого господства народ гереро (Юго-Западная Африка) загнали под пулеметным огнем в пустыню Калахари и обрекли десятки тысяч людей на гибель от голода и жажды. Даже германский рейхсканцлер Бюлов, возмутившись, сказал императору, что это не соответствует законам ведения войны. Вильгельм II невозмутимо ответил: «Законам войны в Африке это соответствует».
Народы Третьего мира оскорблены не только этими чудовищными преступлениями, взглядами, которые привычны для европейцев и не кажутся им расистскими. Например, неевропейцев возмущает такое вошедшее во все школьные и университетские учебники понятие, как «Великие географические открытия»: «Почему это вы нас открывали? Мы тут жили».
Европейцу нелегко понять, насколько недоверие к Европе глубоко укоренилось в умах и сердцах жителей бывших зависимых и колониальных стран. А ведь достаточно обратиться к фольклору. Он свидетельствует убедительнее и ярче, чем труды идеологов.
У народа ньякюса (Танзания):
Кому поклоняются европейцы?
Кому поклоняются европейцы?
Деньгам, деньгам.
У народа эве (Гана, Того, Дагомея), в песне о ребенке:
Младенец – это европеец.
Ему до ближних дела нету,
Тиранит он отца и мать.
А вот стихи Бернара Дадье (Кот-д’Ивуар), классика западноафриканской литературы:
От Европы, о нашей свободе пекущейся,
Избавь нас, Господь.
Он осуждает даже предметы европейского быта:
Я ношу узорный ошейник,
Ошейник галантной Европы,
Галстука я не люблю.
…
Я смерть на руке ношу,
Смерть бредовой Европы,
Я не люблю часов.
Нигериец Воле Шоинка, лауреат Нобелевской премии по литературе, высказался еще резче:
Знакомство я вожу
Лишь со своими.
Мне белизна лица
Антипатична.
ПРОТИВОВЕС ЕВРОПОЦЕНТРИЗМУ
Стоит ли удивляться, что в противовес европоцентризму усиливаются различные виды востокоцентризма, арабоцентризма, исламоцентризма, афроцентризма. Конечно, эти идеи и настроения родились не сегодня. Еще в 1923 году афроамериканец Маркус Гарви, основатель движения «Назад, в Африку», утверждал: «Когда Европу населяла раса каннибалов, раса дикарей, варваров и язычников, в Африке жила раса культурных черных людей, прекрасно владевших искусствами, наукой и литературой».
В последние годы идеи борьбы с европоцентризмом распространяются очень широко. Многие из них вполне заслуживают уважения, поскольку восстанавливают историческую справедливость. Но в очень многих видна лишь неприязнь к белому человеку, проявляется желание сыграть на обидах небелых народов, на их стремлении к расовому самоутверждению.
Обучение истории в школах и университетах многих африканских стран основано на книгах историка Шейха Анта Диопа. Он считает, что основой античной средиземноморской цивилизации был Египет, а египетская цивилизация создана африканцами, людьми с черной кожей. Среди доказательств – древнеегипетские монеты с изображением фараонов, на лицах которых видны негроидные черты.
Большой популярностью пользуются и идеи Франца Фаннона, уроженца Мартиники, поселившегося полвека назад в Алжире. Его книга «Проклятьем заклейменные» стала настольной не только во многих странах Африки и Арабского Востока, но и у афроамериканцев. «Проклятьем заклейменные» у Фаннона – это население стран, которые были колониальными и зависимыми.
Фаннон одним из первых ввел выражение «антирасистский расизм». По его словам, «антирасистский расизм как стремление защитить свою кожу и как ответ колонизованного на колониальное угнетение – это и есть основание для борьбы».
Франц Фаннон разоблачал «европейские модели», «европейский дух», поддерживал спонтанный протест против ценностей западной культуры. «На ложь колониализма колонизованный отвечает ложью. Откровенность возможна лишь с соплеменниками, а в отношениях с колонизаторами – замкнутость и непроницаемость… Правда – это то, что помогает туземцам и губит чужеземцев… Хорошо все, что плохо для них».
На стремление колонизатора навязать свои культурные ценности колонизованный отвечает отказом от них, отказом полным, безоговорочным. «Язык угнетателей вдруг начинает жечь губы». Наступает «глобальный отказ от ценностей захватчика». И даже когда речь идет о современной науке и технике, «слова специалиста всегда воспринимаются с предубеждением».
Утверждая это, Фаннон объявил, что для колонизованных вполне правомерен «самый элементарный, самый грубый, самый всесторонний национализм». Все вышесказанное было написано под впечатлением происходившей тогда кровопролитной войны в Алжире. Но многие утверждения Фаннона повторяются и сейчас.
В становлении еврофобии немалую роль сыграл Луис Фаррахан, объявивший себя лидером афроамериканского населения. Он обвинил в расизме всех белых, в том числе и Авраама Линкольна, президента США, который боролся за отмену рабства. Созданное Фарраханом движение черных мусульман «Нация ислама» разделило население Америки на потомков рабовладельцев и потомков рабов. В соответствии с этим Фаррахан объявил, что Соединенные Штаты надо расчленить на два государства – и пусть государство потомков рабовладельцев помогает государству потомков рабов, пока оно не встанет на ноги. В политической Мусульманской программе Луиса Фаррахана сказано, что смешанные браки черных и белых должны быть запрещены, черных детей могут обучать только черные учителя, а идея интеграции – это лицемерие.
Как известно, многие афроамериканцы меняют свои имена на африканские и азиатские. Боксер Кассиус Клей стал Мохаммедом Али. Профессор афроамериканских исследований Темпльского университета Филадельфии, назвав себя Молефи Кете Асанте, стал главным идеологом афроцентризма. Его книга «Афроцентризм» издавалась уже бесчисленное количество раз. Своим читателям он дает совет: если европейцы называют вам как лучшего писателя Шекспира, а как лучших композиторов – Баха, Бетховена, Моцарта, вы должны парировать сразу же: назвать имена африканских писателей и композиторов. В 2007 году Асанте издал объемную «Историю Африки», в которой отрицаются какие-либо заслуги Европы, – все только отрицательное, пагубное.
Многократно переиздавалась книга Ани Юругу (она также изменила имя на африканское) «Афроцентристская критика европейской культуры и поведения». Текст предваряет эпиграф:
Всем африканцам,
Которые борются за простую Правду:
Прежде всего – Раса!
Многие неевропейские политики широко используют как эти идеи, так и бытующие настроения, чтобы, подогрев их, завоевать популярность. А придя к власти, отвлекать от себя гнев своих народов, снова и снова повторяя, что все тяготы и беды – результат (только и исключительно) европейского расизма. И свалить на это собственные промахи, а то и преступления. Так, Сукарно, первый президент Индонезии, написал книгу «Индонезия обвиняет». Подобным образом поступили многие афро-азиатские политики.
Пример последних лет – продолжающееся изгнание белых из Зимбабве. Президент Роберт Мугабе, заведя страну в экономический тупик, стал поощрять «стихийный» захват ферм, принадлежащих белым. В итоге – развал сельского хозяйства со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но для Мугабе главное – отвести от себя народный гнев, направив его на белых – «оккупантов», «захватчиков».
СМЕНА РОЛЕЙ?
В предисловии к книге Франца Фаннона «Проклятьем заклейменные» Жан-Поль Сартр писал: «Европейцы, откройте книгу, вчитайтесь! Сделав несколько шагов в ночном мраке, вы выйдете к костру, вокруг которого сгрудились незнакомые вам люди. Подойдите к ним, прислушайтесь к их разговору. Они говорят о том, чтó им предстоит сделать с вашими конторами, с наемниками, их охраняющими... Их освещает и обогревает огонь, но это не ваш огонь. Вы держитесь от него на почтительном расстоянии… оглядываетесь, дрожите от холода. Смена ролей».
Не хочется верить в такое предвидение. Но роль не-Европы растет очень быстро: экономически, политически, культурно и – особенно – демографически. Те, кого принято называть «белыми», уже составляют менее одной шестой человечества. Да и в самой Европе – уже миллионы и миллионы выходцев из Азии и Африки. В Соединенных Штатах – из Латинской Америки.
Эпоха мононациональных европейских государств заканчивается. Можно ли считать таковой Францию, если там уже почти семь миллионов мусульман – азиатов и африканцев?
Надо сосуществовать, надо уживаться друг с другом. Избегать межрасовых конфликтов или хотя бы ослаблять их, уменьшать их число, делать их менее опасными для всех, менее трагическими. А как? Слишком уж быстро идут в мире эти процессы. Так быстро, что и ученым, и политикам трудно за ними поспевать, осмысливать их.
Выход – диалог, взаимопонимание. Но для этого необходимо знать друг друга, знать корни взаимных предрассудков. Не считать себя неизменно правыми. Понимать и уважать в том числе и чужую правду, даже если не очень хочется.
Но велики ли в Европе знания о не-Европе? Не слишком ли сосредоточена европейская система народного образования на собственной истории, собственной культуре? Ведется ли борьба с собственными расовыми предрассудками?
Если этого не будет, не одолеть и «антирасистский расизм».
…Да, для нашей родной старушки-Европы настали сложные времена. Но были ли они когда-нибудь легкими и простыми? Хочется верить, что она найдет достойное место и в нынешнем мятущемся мире. Ведь пессимистическое пророчество Герцена все же не сбылось, хотя с тех пор прошло уже больше полутораста лет. Так не лучше ли помнить напутствие другого знаменитого европейца – Уинстона Черчилля: «Я, конечно, оптимист, потому что какой смысл быть кем-нибудь другим?»...

Многополярность и демография
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2008
А.Г. Вишневский – д. э. н., директор Института демографии Государственного университета – Высшей школы экономики, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике». Данная статья представляет собой сокращенный вариант главы, которая выйдет в свет в коллективной монографии «Россия и мир – 2020: новая эпоха».
Резюме Позиции России в «северном клубе» могут опираться на тот факт, что по численности населения она вторая после США и первая в Европе страна. Но рядом с Китаем или Индией данный аргумент перестает действовать. Слишком тесные союзы с такими гигантами могут полностью лишить Россию самостоятельной роли.
ХХ век стал временем невиданного в истории ускорения роста населения Земли вследствие несинхронных показателей изменений смертности и рождаемости в процессе мирового демографического перехода. Темпы роста достигли максимума в 1960-е годы, в последующие три десятилетия они постепенно снижались, и эта тенденция продолжается. Тем не менее в середине XXI столетия на Земле будет жить примерно в 5–7 раз больше людей, чем в начале XX века. Расселение людей по планете никогда не было равномерным, но мировой демографический взрыв резко усилил эту неравномерность.
Главный глобальный вызов демографического взрыва, порождающий в свою очередь цепочку других вызовов, – экономический. Он обусловлен колоссальным увеличением потребностей вследствие появления миллиардов дополнительных потребителей и роста среднего уровня запросов каждого из них. В результате попыток ответить на взрывоподобноый рост глобальных потребностей интенсификацией производства во всех его формах, включая и самые традиционные, нарушение равновесия между жизнедеятельностью людей и используемыми ими природными ресурсами приобрело общемировые масштабы.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВЗРЫВА
В современном мире экономические и экологические проблемы могут легко трансформироваться в политические, а то и военно-политические вызовы. В той мере, в какой они вытекают из демографической ситуации, у этих вызовов есть два ряда причин, которые можно условно назвать международными и внутренними.
Международные причины очевидны. Демографическая асимметрия мира резко обостряет экономические диспропорции, противостояние бедных и богатых государств, конкуренцию за ресурсы в условиях их нарастающего дефицита. В то же время подобный ход событий подталкивает развивающиеся страны к модернизации, а это коренным образом изменяет соотношение сил на мировой арене. В воздухе носится идея передела мировых богатств.
Внутренние причины связаны с тем, что модернизация, разрушая традиционные социальные структуры и институты, жизненный уклад десятков и сотен миллионов людей, создает множество неизвестных прежде каналов экономической и социальной мобильности. Люди приобщаются к новому образу жизни, вырабатывается иная система норм, институтов, ценностей. Однако многие экономические, социальные и демографические обстоятельства тормозят модернизацию и снижают ее темпы. Пропускная способность каналов социальной мобильности расширяется крайне медленно и не соответствует потребностям формирующихся социальных слоев. В обществе накапливается недовольство, которое обостряется на фоне неизбежного конфликта между полуразрушенными старыми и еще не полностью созревшими новыми формами жизни.
Повсеместно возникают контрмодернистские (обычно антизападные) идеологии и политические движения. Идеализируя прошлое, они ищут опору в традиционных ценностях, религиозном фанатизме, националистическом экстремизме и т. п. Парадокс истории состоит в том, что движущей силой подъема традиционализма, как правило, являются модернистские устремления.
Эта чрезвычайно сложная ситуация плохо осознается даже учеными, ее анализ зачастую подменяется конструированием поверхностных схем. Примером может служить концепция «столкновения цивилизаций» Самьюэла Хантингтона, подчеркивающая непроницаемость границ между «цивилизациями».
Между тем в действительности происходит стремительное усвоение достижений (и противоречий) промышленно-городской цивилизации сельскими, крестьянскими обществами, которые вынуждены за очень короткое время совершать переход из одной исторической эпохи в другую. Именно трудности столь быстрого перехода порождают промежуточные социальные состояния. Они крайне неустойчивы политически и чреваты вспышками беспорядков и насилия, государственными переворотами, кровавыми этническими конфликтами, военными авантюрами, ростом внутреннего и международного терроризма.
Ситуация осложняется важным, но, как правило, недооцениваемым демографическим фактором. Отметим, что выражение «Третий мир» – в противовес Первому (капиталистическому) и Второму (социалистическому) – было впервые введено в употребление французским демографом Альфредом Сови именно на основе анализа мировой демографической ситуации.
Одно из следствий демографического взрыва в развивающихся странах – их исключительно молодое население. Половина жителей России моложе 37 лет, Европы – 39, таких стран, как Германия и Италия, – 42, Японии – 43 лет. Между тем в Афганистане половина населения – это дети и подростки в возрасте до 16 лет, в Демократической Республике Конго, которая по числу жителей со временем обгонит Россию, – до 15 лет. Средний возраст всего населения Африки – 19 лет, Азии – 28 лет. К 2025-му медианный возраст населения повысится в России до 42 лет, в Европе – до 44, в Северной Америке – до 37 лет. В Африке же он сдвинется лишь к 22 годам, в Азии – к 34 годам. Таким образом, и сейчас, и в обозримом будущем огромной частью населения развивающихся стран будут подростки и молодые люди, незрелые в социальном отношении и в массе своей необразованные. Они не имеют ясных перспектив и легко поддаются манипулированию, склонны к религиозному или политическому фанатизму.
Все это усиливает политическую неустойчивость, которая ощущается во многих густонаселенных странах. Вписываясь в общие процессы глобализации, она грозит дестабилизировать обстановку в мире и привести к крупномасштабным военным конфликтам. При наличии у противоборствующих сторон современных средств массового уничтожения такие столкновения смертельно опасны для всего человечества.
НЕОБХОДИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ
Очевидно, что международное сообщество должно направить усилия на снижение давления в мировом «котле». Один из способов – влияние на глобальную ситуацию с целью скорейшего завершения демографического взрыва и постепенного сокращения численности населения планеты. Единственный приемлемый способ такого воздействия – снижение рождаемости в развивающихся странах.
К настоящему времени на этом пути достигнуты немалые успехи. С середины до конца ХХ века рождаемость в менее развитых регионах снизилась практически вдвое. Однако она все еще значительно выше, чем требуется (при нынешнем уровне смертности) даже для стабилизации численности населения. Соответственно и мировое население продолжает расти довольно быстро, хотя и медленнее, чем в 50–70-х годах прошлого столетия.
Тем не менее рождаемость сокращается, и есть основания надеяться, что примерно в середине века рост числа жителей планеты прекратится. Но этого, скорее всего, недостаточно.
В соответствии с долгосрочным прогнозом ООН, можно выделить три версии роста населения планеты. Развитие ситуации по «высокому» сценарию – это прямой путь к катастрофе. Но и «средний» сценарий не внушает большого оптимизма (рис. 2).
«Стабильные» 9 млрд человек, помноженные на растущие нужды «среднего» жителя Земли, дают такой совокупный объем потребностей, удовлетворить которые едва ли возможно. Единственный путь, позволяющий сохранять оптимизм, – это развитие по «низкому» сценарию, предполагающему постепенное сокращение численности населения. В отдаленном прошлом (не менее 200 лет назад) число жителей Земли было примерно таким же, как в середине ХХ столетия, т. е. перед началом демографического взрыва (рис. 3). Следовательно, необходимо, чтобы рождаемость в мире опустилась ниже уровня простого воспроизводства.
Стратегия замедления демографического роста остается, пожалуй, единственным и не создающим дополнительных проблем способом относительно успешного ответа на глобальные вызовы. Хотя она не всегда эффективна и порой проводилась с большой жесткостью (Китай).
ГЛОБАЛЬНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
На протяжении истории важным механизмом глобального демографического регулирования не раз оказывалось перемещение людей из густонаселенных регионов в менее обжитые. В XIX и XX столетиях ускорившийся рост числа жителей Европы снова включил этот механизм. Вплоть до середины прошлого века преобладало движение из экономически развитых стран Старого Света в колонизуемые регионы, в основном на неосвоенные либо слабо освоенные территории Нового Света и Океании. С 1820 по 1940 год из Европы за океан выехало более 60 млн человек.
Однако во второй половине XX века демографическая асимметрия и экономическая поляризация Севера и Юга привели к изменению направления межконтинентальной миграции и ее масштабов. Только за 30 лет (1960–1990) из южных районов в северные переместилось около 60 млн человек (примерно столько же в свое время выехало из Европы за океан за 120 лет), и этот поток не сокращается. Более того, годовые темпы увеличения количества переселенцев возросли с 1,4 % (1990–1995) до 1,9 % (2000–2004). С 1990 по 2005 год число мигрантов в мире выросло на 36 млн человек, причем 92 % из них (33 млн) переехало в промышленные страны. Среднегодовое сальдо миграционного обмена развитых государств с развивающимися в пользу первых составило в 2000–2005 годах 2,6 млн человек в год, или 2,2 %. Эти цифры привел на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в мае 2006-го Генеральный секретарь этой организации.
Согласно среднему варианту прогноза ООН (как представляется, заниженному, поскольку он предполагает сокращение притока мигрантов в развитые страны после 2010 года), за первую половину XXI века в эти страны смогут переместить еще 120 млн человек.
Движение жителей Юга на Север стало новой мировой реальностью, которая ведет к существенным изменениям этнического состава развитых стран. Уже к середине столетия белое неиспаноязычное население может перестать быть большинством в США. Во многих европейских государствах доля мигрантов и их потомков превысит четверть и приблизится к трети населения, но будет увеличиваться и далее.
Создав эффективный механизм перераспределения финансовых ресурсов между Югом и Севером, миграция превратилась в важный экономический компонент современных международных отношений. По оценке Всемирного банка, уже в конце 1980-х годов средства, которые мигранты ежегодно пересылали своим родственникам, в совокупности достигали 65 млрд долларов. (Сумма уступает только общим доходам от продажи сырой нефти на тот период.) В начале 1990-х получаемая странами Третьего мира часть доходов мигрантов составляла 31 % прибыли от внешнеэкономической деятельности Египта, 26 % – Бангладеш и Иордании, 25 % – Судана, 23 % – Марокко и Мали. С тех пор роль международных трансфертов зарабатываемых мигрантами средств значительно выросла. В период между 1995 и 2005 годами общая сумма денежных переводов, направляемых в развивающиеся страны, увеличилась (вероятно, по заниженным оценкам) с 58 до 167 млрд долларов и существенно превысила объем всей международной помощи Третьему миру. Согласно данным ООН, в 2004-м денежные переводы, поступившие от мигрантов в развивающиеся страны, составляли 1,7 % их ВВП. Три крупнейших получателя этих доходов – Китай, Индия и Мексика. Но большинство из 20 стран, в которых на долю денежных переводов приходится по крайней мере 10 % ВВП, составляют малые развивающиеся страны.
Хотя бóльшая часть этих средств используется на потребление, нельзя сказать, что они просто проедаются. В частности, деньги мигрантов зачастую служат основным источником покрытия расходов на образование и медицинские услуги, способствуя накоплению человеческого капитала.
Однако значимость мигрантов измеряется не только деньгами. Приобретаемые ими профессиональные знания и социальный опыт превращают их в агентов модернизации, носителей новых технологических и институциональных представлений, проводников современного социального и политического мышления.
ГРАНИЦЫ МИГРАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ СЕВЕРА
Миграция с бедного Юга на богатый Север представляется, таким образом, вполне логичной. И кажется естественным, что потоки, сформировавшиеся во второй половине ХХ века, не только сохраняются, но и расширяются. Но переселенцы все чаще сталкиваются с серьезными препятствиями ввиду ограниченности миграционной емкости развитых государств.
Эти страны стали поощрять иммиграцию, когда в период послевоенного экономического роста испытывали нехватку рабочей силы, особенно неквалифицированной. Иммиграция способствовала их хозяйственному подъему. Но и Третий мир получил немалую экономическую выгоду, не говоря уже о пользе непосредственного соприкосновения с современной культурой. Так на какое-то время интересы сторон совпали (по крайней мере, частично). Однако постепенно стала обнаруживаться противоречивость найденного, казалось бы, пути.
Прежде всего дает себя знать количественное несоответствие. Потребности развитых государств в привозной рабочей силе, особенно если она служит структурным дополнением к уже имеющимся трудовым ресурсам, ограниченны, тогда как потенциальное предложение развивающихся стран практически безгранично.
Согласно произведенным недавно оценкам, в 2050 году в развитом мире понадобится 513 млн рабочих мест – на 84 млн меньше, чем в 1995-м. А развивающемуся миру для трудоустройства населения потребуется 3 928 млн рабочих мест – на 1 806 млн больше, чем в 1995 году. Даже если считать эти оценки приблизительными, бросается в глаза разительное несоответствие величин, свидетельствующих о неспособности Севера удовлетворить спрос развивающегося мира на рабочие места.
Дело, однако, далеко не только в емкости рынка рабочей силы. Серьезные проблемы связаны с ограниченными возможностями социально-культурной адаптации иммигрантов. До тех пор пока количество переселенцев – носителей иных социокультурных, правовых, политических традиций и стереотипов относительно невелико, они достаточно быстро растворяются в местной среде. Когда же абсолютное и относительное число иммигрантов становится значительным, а главное, быстро увеличивается, они образуют более или менее компактные анклавы. Интеграционные процессы замедляются, возникает межкультурное напряжение, которое усиливается экономическим и социальным неравенством «местного» и «пришлого» населения. Все это неизбежно порождает маргинализацию иммигрантов (по крайней мере, временную), ведет к кризису и раздвоению культурной идентичности. В результате достаточно широкие массы становятся восприимчивы к упрощенным «фундаменталистским» идеям, которые помогают избавиться от культурной раздвоенности и, как кажется, вновь обрести свое «я». При этом процесс интеграции блокируется, и многие (хотя, конечно, не все) иммигранты оказываются в оппозиции к принимающим их обществам. Иногда это противостояние приобретает крайне агрессивные формы.
Ситуация усугубляется тем, что параллельно обостряется кризис культурной идентичности в странах исхода. Постепенно продвигаясь по пути модернизации, страны Третьего мира вступают в крайне болезненный период внутреннего конфликта, жесткого противостояния ценностей традиционного и современного обществ.
В то же время государства, использующие иностранную рабочую силу, начинают осознавать ограниченность своей иммиграционной емкости. Развертываются дебаты вокруг проблемы иммиграции, которая становится картой в политической игре. Нарастают антииммиграционные настроения, и усиливаются меры по ограничению притока иностранцев. Однако реальное сокращение исхода населения из развивающихся стран в развитые маловероятно, и миграционное давление Юга на Север превращается в еще один глобальный вызов.
РОССИЯ И НОВЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
Россия принадлежит к мировому демографическому меньшинству, входит в «золотой миллиард». Это сближает ее с другими странами Севера и в то же время требует осмысления как ситуации внутри «золотого миллиарда», так и отношения к остальному миру.
Серьезному испытанию на прочность подвергается представление о биполярном мире, якобы существовавшем до недавнего времени. На самом деле, это была биполярность не мира, а Севера, в основном совпадающего со странами расселения «золотого миллиарда». Она поставлена под сомнение как изменением соотношения сил внутри Севера, так и постепенной утратой им роли единственного, пусть и «двуглавого», мирового центра принятия решений.
Тенденции международного развития подталкивают к поискам оптимальной внутренней конфигурации стран «золотого миллиарда». Будет ли она моноцентрической, бицентрической, полицентрической? Что больше отвечает интересам «мирового демографического меньшинства»?
Моноцентричность Севера, которая предполагает определенное неравенство и наличие единственного центра принятия решений, пытающегося взять на себя и всю ответственность, едва ли реализуема.
Странам европейской культуры, имеющим более или менее общие историческое прошлое и систему ценностей, более богатым, а главное, находящимся на стадии индустриально-городской цивилизации, противостоит многонаселенный, но бедный развивающийся мир. Для защиты общих интересов требуются консолидация сил и объединение ресурсов «золотого миллиарда». Трудно, однако, представить себе развитые страны, еще недавно разделенные идеологиями «капитализма» и «социализма», как нечто совершенно однородное. Природа сложных систем требует их внутренней дифференциации и структурирования растущего внутреннего разнообразия.
Поиски нового структурирования, отвечающего условиям меняющегося мира, идут уже не одно десятилетие. Страны Севера все яснее осознают себя экономическими, политическими и военными единицами, недостаточно крупными для того, чтобы выступать на мировой арене порознь. Это соображение, например, принималось во внимание при создании, укреплении и расширении Европейского союза. В одиночку ни одна европейская страна не может выступать в качестве центра экономической или политической силы, соизмеримой с Соединенными Штатами, а Евросоюз может. (В 2007-м население самой большой страны ЕС – Германии – составляло 82 млн человек, а всего в объединенной Европе проживало 497 миллионов.) При этом взаимоотношения Европейского союза и США, будучи конкурентными, не становятся конфронтационными, что во многом связано с пониманием общности коренных интересов перед лицом мировых вызовов.
Осознаны ли в полной мере требования нового мирового структурирования в России? Скорее всего, нет. Претензии Москвы на создание «третьего северного центра силы» (в дополнение к США и ЕС) если иногда и обозначаются, то слабо и невнятно, серьезных практических шагов в этом направлении не делается. Когда же Россия в одиночку пытается играть роль такого центра в общемировом масштабе, это свидетельствует о явной переоценке ею своего экономического и демографического веса.
Даже если оставаться в рамках только демографической логики, то нынешняя политика Москвы не может не вызвать беспокойство. Россия – самая населенная страна Европы, однако ее планка в мировой демографической иерархии устойчиво понижается. В 1993 году численность населения России достигла максимума – 148 млн человек, с тех пор уменьшилась более чем на 6 млн и продолжает снижаться. Но даже и 148 млн в наши дни – это далеко не то же самое, что 130 млн жителей Российской империи в конце XIX века, когда они составляли 8 % населения планеты. Напомним, что на территории США ныне проживают 306 млн человек, а в государствах ЕС – 497 миллионов.
В середине ХХ столетия Россия в ее нынешних границах уступала по численности населения только трем странам – Китаю, Индии и США. К 2000-му ее обогнали Индонезия и Бразилия, и она передвинулась с четвертого (если не считать СССР) на шестое место. Затем Россию опередили также Пакистан, Бангладеш и Нигерия, что отодвинуло ее на девятую позицию. Согласно среднему варианту прогноза ООН (пересмотр 2006 г.), Россия сохранит за собой девятую строчку и в 2017, и даже в 2025 годах, но к середине века потеряет еще несколько позиций и отступит на 15-е место. (При корректировке прогнозов ООН, которая производится каждые два года, ситуация несколько меняется. Так, по прогнозу-2000 Россия в 2050 г. занимала 17-е место, по прогнозу-2002 – 18-е, по прогнозу-2004 – 17-е; см. табл. 1: A - ранг, Б - страна, В - население, млн чел.).
Какими бы ни были экономические или военные возможности «третьего северного центра», он не может состояться и стать конкурентоспособным без наращивания демографического веса.
Если Россия заинтересована в появлении «третьего северного центра», она должна стремиться к созданию более крупного наднационального межгосударственного сообщества, чего-то вроде Евросоюза. Сейчас единственная возможность для этого – хотя бы частичное восстановление геополитического единства бывшего советского пространства, но на совершенно иной, неимперской, основе, без каких бы то ни было попыток воссоздания СССР.
Для движения по этому пути следовало бы использовать потенциал Содружества Независимых Государств, пока непрерывно слабеющий. Учитывая демографическую и экономическую ситуацию, самым естественным и выгодным было бы начать с создания единого рынка труда стран СНГ. В этом случае снималась бы проблема надвигающейся на Россию угрозы дефицита рабочей силы, появился бы промежуточный механизм по подготовке части мигрантов к натурализации, а Москва, благодаря своим нынешним экономическим преимуществам, автоматически заняла бы место общепризнанного неконфронтационного лидера Содружества.
В будущем единый рынок труда мог бы сыграть роль Европейского объединения угля и стали. (Эта организация, созданная в 1951-м при активном участии недавних смертельных врагов – Германии и Франции, затем превратилась в Европейское экономическое сообщество.) К сожалению, сейчас развитие идет в противоположном направлении.
Однако демографический потенциал даже всех стран СНГ также не очень велик. Численность населения многих из них будет снижаться – помимо России это Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Соответственно уменьшится общее число жителей региона (см. табл. 2).
Поэтому, даже если создание «третьего северного центра» за счет сближения бывших советских республик и состоится, Москве придется принимать меры по наращиванию демографического потенциала, двигаясь по трем главным направлениям: повышение рождаемости, снижение смертности, привлечение иммигрантов.
Следует остерегаться утопических надежд на то, что успех на первых двух направлениях избавит от необходимости крупномасштабной иммиграции. Все имеющиеся прогнозы показывают, что это не так и серьезный демографический подъем возможен только за счет миграционных потоков, причем в значительной мере из-за пределов СНГ. Для этого надо энергично наращивать возможности интеграции мигрантов в российский социум, но до 2020 года рассчитывать на это особенно не приходится.
Сейчас Россия не готова к приему большого числа иностранцев. Общественное мнение настроено крайне недоброжелательно в отношении иммиграции, что сказывается и на позиции власти. Это не соответствует ни императивам глобальной демографической эволюции, ни интересам России. Но изменить ситуацию в ближайшее время едва ли возможно.
РОССИЯ И ТРЕТИЙ МИР
Выстраивая отношения с «золотым миллиардом», Россия должна решать и вопросы сотрудничества с государствами остального мира – прежде всего с азиатскими соседями.
В Азии сильнее и дольше, чем в других частях мира (возможно, за исключением Африки, но это – дело более отдаленной перспективы), будет ощущаться внутреннее напряжение – экономическое, социальное, политическое, культурное, во многом связанное с небывалым ростом населения. Поэтому Азия останется очень неспокойным регионом. Выстраивание стабильных отношений с азиатскими державами – один из внешнеполитических приоритетов России. Однако демографическая логика требует очень взвешенного подхода к взаимодействию с этими государствами.
Нынешние позиции России в «северном клубе», несмотря на все сделанные выше оговорки, все же могут во многом опираться на ее демографический вес, на тот факт, что по численности населения она вторая после США и первая в Европе страна. Но рядом с Китаем или Индией данный аргумент перестает существовать. В 2025-м число жителей каждой из этих стран превысит 1,4 млрд человек, а к середине века их общее население перевалит отметку в 3 миллиарда. Слишком тесные союзы с такими гигантами способны полностью лишить Россию самостоятельной роли, в лучшем случае – превратить ее в «придаток» (хорошо еще, если не чисто сырьевой).
В России, особенно в слабо заселенной азиатской части, сосредоточены огромные природные богатства. Это не только энергоносители, но и бесценные ресурсы пресной воды, а также бескрайние земельные просторы. Размер пахотных земель на душу населения в мире сократится к 2050 году до 0,08 га. В России же к этому моменту на каждого человека будет приходиться по 1,14 га пахотных земель. Чрезмерное сближение, скажем, с усиливающимся Китаем, где ресурсов явно не хватает, может наложить на Россию «союзнические обязательства», способные в конечном счете привести к ограничению прав как на российские ресурсы, так и на территории, на которых они находятся. Успешно отстаивать свои интересы Москва сможет, только опираясь на солидарность стран Севера, находящихся с ней в одной демографической лодке.
Россия, как в прошлом и СССР, занимает уклончивую позицию по вопросам снижения рождаемости в развивающихся странах. В самой России вновь популярно «антимальтузианство» советских времен. Подвергаются нападкам международные организации, занимающиеся пропагандой планирования семьи, все чаще слышна критика решений Всемирной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994), ориентированных на замедление роста населения Земли. Все это играет на руку традиционалистским настроениям, широко распространенным в развивающихся странах, но явно противоречит интересам России. Как и другие государства Севера, она объективно заинтересована в скорейшем прекращении демографического взрыва в Третьем мире. Только сокращение рождаемости в развивающихся странах может стать едва ли не единственным непротиворечивым ответом на многие мировые вызовы.

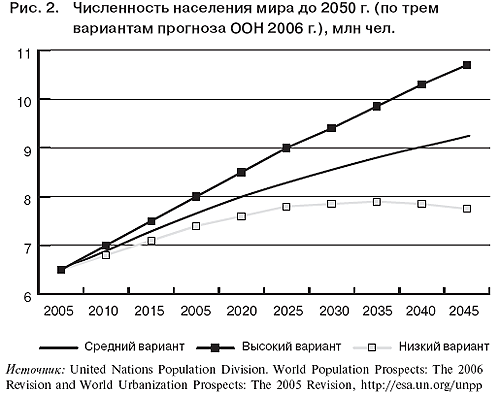
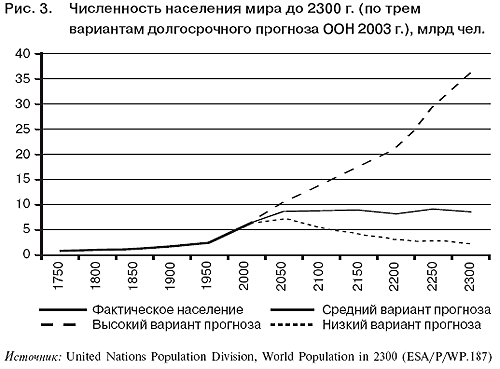

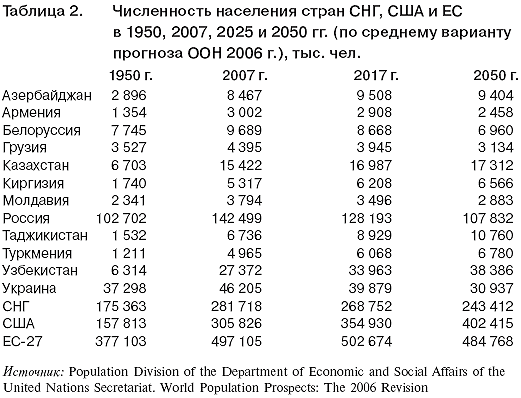

Соотечественники в российской политике на постсоветском пространстве
© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2008
И.А. Зевелёв – д. полит. н., руководитель представительства Российского агентства международной информации «РИА Новости» в США. Полный вариант статьи выйдет в: А. Миллер (ред.). Наследие империй и будущее России. М.: НЛО, 2008.
Резюме Проблема соотечественников в России – это наследие империи. В течение полутора десятилетий после распада Советского Союза страна жила с этим наследием, проводя малоэффективную политику, но и не допуская крупных ошибок. Задача будущего – научиться защищать соотечественников и использовать их потенциал в своих интересах, избегая неоимперских соблазнов.
Отношение России к соотечественникам, оказавшимся за пределами Российской Федерации после распада Советского Союза, наглядно демонстрирует победу прагматизма над фантомами имперского наследия. В то же время политическая риторика в этой области зачастую носит неоимпериалистический характер. Она играет компенсаторную роль в общественном сознании и закладывает основу для возможности более решительных действий в будущем. В чем причина сосуществования жесткой риторики и умеренной политики? Есть ли тенденции, позволяющие говорить о возможности изменения отношения Москвы к проблеме соотечественников?
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО: НЕУДАЧА СТРАТЕГИИ И СТИХИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
После того как прошел первый шок, вызванный распадом CCCР, в центре внимания общественности, а затем и правительства оказалась тема несоответствия концепции Российского государства в пределах, как считали многие, произвольно установленных границ РСФСР и реальной области распространения русской культуры, русского языка и русского национального самосознания.
С 1993 года способом разрешить все проблемы, связанные с этим несоответствием, казалось введение института двойного гражданства. Москва решила обеспечить российскими паспортами всех русских, проживающих в ближнем зарубежье, а также представителей других этнических групп, имевших историческую связь с территорией России. С точки зрения международного права этот путь не был безупречным. Большинство государств не поощряют двойного гражданства. Тем не менее более сорока стран мира хотя и неохотно, но признаюЂт его как факт реальной жизни.
Переговоры России с бывшими советскими республиками по поводу введения института двойного гражданства не принесли заметных результатов. Попытки использовать этот, по выражению Андрея Козырева, «важнейший инструмент» в решении «главной стратегической задачи внешней политики России» были реализованы лишь в соглашениях с Туркменистаном, подписанных в декабре 1993-го (когда Борису Ельцину торжественно вручили в Ашхабаде туркменский паспорт), и с Таджикистаном (сентябрь 1995 года). Туркменистан на практике всячески ограничивал получение своими гражданами российских паспортов, а в 2003-м в одностороннем порядке вышел из действовавшего соглашения.
В ноябре 2006 года парламент Киргизии в новой редакции Конституции отменил запрет на двойное гражданство, а в марте 2007-го принял соответствующий закон. В 2007 году в Армении также приняли законодательный пакет, предусматривающий введение института двойного гражданства. Возможно, в будущем эти шаги позволят России заключить надлежащие соглашения с Киргизией и Арменией.
Таким образом, определенных результатов в вопросе о двойном гражданстве Москва достигла только во взаимоотношениях снебольшими государствами – участниками СНГ, где русские общины немногочисленны. Три четверти этнических русских на территории бывшего Советского Союза проживают в Украине, Белоруссии и Казахстане. Отсутствие прогресса по вопросу о двойном гражданстве с указанными тремя странами практически означало провал российской стратегии. Это стало очевидно уже в 1995-м.
Столкнувшись с упорным противодействием других государств, Москва отступила. Однако процесс полулегального обретения второго гражданства на постсоветском пространстве, начавшись в первой половине 1990-х годов, продолжается по настоящее время. Существует достаточно свидетельств того, что число лиц, де-факто имеющих двойное гражданство и не желающих сообщать о своем статусе властям страны фактического проживания, составляет на территории бывшего СССР от одного до двух миллионов. Россия мало делала для того, чтобы остановить этот процесс. Более того, с 1997-го Москва стала поощрять получение гражданами стран СНГ российских паспортов.
Это продолжалось примерно до 2002 года, когда был принят новый «Закон о гражданстве Российской Федерации», ограничивший подобную практику. В соответствии с данным документом, претендент на российский паспорт должен отказаться от гражданства другого государства (ст. 13, ч. 1, п. «г»). Это положение, правда, не имеет обратной силы и не распространяется на тех, кто уже имеет двойное гражданство, и не действует при обретении российского гражданства по рождению. Казалось, что Россия подвела черту. Однако вопрос о двойном гражданстве был неожиданно реанимирован в 2004-м.
Стремясь обеспечить преемственность власти в Украине и привлечь на свою сторону пророссийски настроенных избирателей, Леонид Кучма и Виктор Янукович согласились на подготовку договора об урегулировании вопросов двойного гражданства с Россией. Перспективы ратификации этого документа в Верховной раде да и последовательность Януковича в данном вопросе оставались неясными. Тем не менее российские ведомства приступили к работе над проектом договора. «Оранжевая революция» не позволила претворить замысел в жизнь.
Возрождение идеи о двойном гражданстве в 2004 году показало, что при благоприятных условиях Россия готова вернуться к этому вопросу. В декабре 2006-го первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил, что «международная практика последних десятилетий» отвергает институт двойного гражданства, однако тут же добавил, что вопрос о двойном гражданстве в СНГ может стать актуальным, при уровне интеграции, существующем в Европейском союзе.
С одной стороны, правительства новых независимых государств добились успеха в противодействии официальному введению института двойного гражданства. Если бы они пошли на заключение соответствующих договоров, то количество обладателей российских паспортов, скорее всего, оказалось бы гораздо больше, чем в настоящее время. С другой стороны, страны постсоветского пространства утратили контроль над увеличением числа лиц, де-факто имеющих двойное гражданство.
Преждевременно утверждать, что стихийное распространение двойного гражданства дало России инструмент прямого влияния в соседних государствах. Большинство правительств не признаёт этот институт и рассматривает людей с двойным гражданством исключительно как своих граждан. Это создает правовой тупик, в котором окажутся любые попытки России защитить обладателей двух паспортов или выступать от их имени. Однако наличие огромного количества людей с российскими паспортами в соседних странах создает определенные условия для роста влияния Москвы в будущем.
КОНЦЕПЦИЯ «СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»: ПОЛИТИЧЕСКАЯ УМЕРЕННОСТЬ
Когда попытки ввести институт двойного гражданства де-юре оказались недейственными, главным инструментом в этой области стала принятая в 1994 году программа «Основные направления государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом». Задуманная поначалу как дополнение к более амбициозной стратегии двойного гражданства, она быстро превратилась в доминирующее направление.
Между тем двойное гражданство могло стать одним из важных механизмов, обеспечивающих лидерство России в регионе, а программа поддержки соотечественников такого потенциала была лишена. Однако, рассматривая русское население в ближнем зарубежье не только в качестве национального меньшинства других государств, но и как своих соотечественников, Москва получила основания, когда это ей выгодно, ставить данную проблему в отношениях с соседями. Создание концепции «Россия и соотечественники» позволило Кремлю рассматривать тему диаспор в качестве внутренней проблемы.
В статье первой Закона о соотечественниках, принятом в 1999-м (последние поправки внесены в 2006 году) дается определение понятия «соотечественники». Таковыми считаются четыре категории лиц: граждане РФ, проживающие за рубежом; лица, имевшие гражданство СССР; эмигранты из Советского Союза и России; потомки соотечественников, «за исключением потомков лиц титульных наций иностранных государств». Статья третья поясняет, что признание своей принадлежности к соотечественникам бывшими гражданами СССР является актом свободного выбора. Ясно, что в первую очередь под соотечественниками понимаются этнические русские. Однако говорить об этом прямо российские власти избегают и включают в данную категорию всех представителей нетитульных групп ближнего зарубежья, а также титульные группы, пока они сохраняют элементы советской идентичности. Новое постсоветское поколение титульных групп – это уже отрезанный ломоть для России.
В 2006-м были приняты три важных документа, которые свидетельствовали о продолжении президентом РФ Владимиром Путиным умеренной политики предыдущего десятилетия: «Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2006–2008 годы», «Федеральная целевая программа “Русский язык” (2006–2010)» и «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Их изложение включено в раздел «Гуманитарное направление внешней политики» документа «Обзор внешней политики Российской Федерации», обнародованного Министерством иностранных дел РФ в 2007-м.
На «Программу работы с соотечественниками за рубежом» в 2007 году планировалось выделить из государственного бюджета всего 342 млн рублей (в основном на юридическую защиту и социальную помощь). Общая стоимость «Федеральной целевой программы “Русский язык”» – 1,58 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из федерального бюджета. Однако опыт выполнения программы «Русский язык» на 2002–2005 годы не внушает большого оптимизма. По данным аудитора Счетной палаты Валерия Горегляда, из предусмотренных 42 млн рублей было выделено только 1,3 млн, т. е. 3 %. Для сравнения можно отметить, что сразу после выступления на Всемирном конгрессе соотечественников в Санкт-Петербурге в октябре 2006-го, где Владимир Путин говорил об этих программах, президент обратился к делам родного города и объявил о новых проектах инвестиций в его инфраструктуру объемом около 300 млрд рублей.
На программу по переселению в 2007 году было запланировано выделить 4,6 млрд рублей плюс средства местных бюджетов, что, конечно же, явно недостаточно. С помощью этой программы предполагается решать прежде всего социально-экономические проблемы регионов, остро нуждающихся в рабочей силе. Чиновники ожидают, что к 2012-му в Россию из государств – участников СНГ переедут 300 тыс. квалифицированных специалистов с семьями. В одном только 2007 году планировалось принять 50 тыс. человек, однако за первую половину года на переезд решились лишь 10 семей.
НЕОИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И РЕАЛИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Приведенные выше факты указывают на то, что намерения проводить более решительную политику в отношении русских диаспор (введение института двойного гражданства с его официальным признанием соседними государствами) так и не были претворены в жизнь, в то время как другие инициативы (укрепление связей с соотечественниками) оставались весьма скромными.
Наиболее радикальные противники умеренного курса говорят о разделенности русского народа и его праве на воссоединение. В период между 1998 и 2001 годами было предпринято несколько попыток облечь такие представления в форму законодательных инициатив. В Государственной думе обсуждались законопроекты «О национально-культурном развитии русского народа», «О праве русского народа на самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение в едином государстве», «О русском народе». Однако ни один из них не стал законом. Реалии государственного строительства ставили перед страной совершенно иные задачи, и прагматизм каждый раз одерживал верх над идеологическими конструкциями. После установления в 2003-м жесткого контроля президента РФ над парламентом произошла маргинализация вопроса о русском народе и его праве на воссоединение.
Тема разделенности русских оказалась вытесненной с политического поля еще и потому, что острые территориальные проблемы на постсоветском пространстве возникли не в местах компактного проживания русских. Сепаратистские настроения в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье сформировались не в результате «разделенности русского народа», а по иным историческим причинам. Местные элиты в названных автономных образованиях, недовольные политикой руководства Грузии и Молдавии, стремятся либо к независимости, либо к присоединению к России. Эти настроения прямо не связаны с проблемой «соотечественников», как ее понимают в Москве, хотя довольно значительная часть населения Абхазии (около 200 тыс. человек), Южной Осетии (50 тыс.) и Приднестровья (100 тыс.) воспользовалась предоставленной ей российским законом о гражданстве (в редакциях 1990-х годов) возможностью получить российские паспорта. Контраст между словом и делом в области защиты прав соотечественников нельзя объяснить отсутствием воли и средств.
Дело в том, что, во-первых, Москва всегда рассматривала защиту прав и интересов русских и русскоязычных меньшинств не как цель, а как инструмент для обеспечения лидерства на территории бывшего СССР. Причем этой проблемой часто пренебрегали ради других направлений внешнеполитической деятельности. Когда в 2003-м президент Туркменистана решил выйти из договора о двойном гражданстве, соглашения по газу оказались для российских властей важнее судеб соотечественников. Москва считает, что вопрос о соотечественниках невыгодно снимать с внешнеполитической повестки дня, но никогда не рассматривала его как первостепенный. Исключение составляют ее отношения с Латвией и Эстонией. Однако и тут даже в кризисные моменты, как, например, в конфликте с Таллином весной 2007 года, экономические интересы заставили Россию ограничиваться громкой риторикой и призывами не покупать эстонские продукты.
Во-вторых, в 1990-е стремление Москвы к региональному лидерству не соответствовало ее ограниченным возможностям. Провал военной кампании в Чечне в 1995 году со всей очевидностью продемонстрировал слабость государства и отсутствие консенсуса в обществе. Только потенциальные возможности России и крайняя слабость большинства соседних государств давали какие-то основания для претензий на первенство. Но этот потенциал тогда нельзя было реализовать.
За годы правления Путина ситуация изменилась. Москва приобрела новые механизмы воздействия на страны ближнего зарубежья. Это произошло благодаря бурному экономическому росту, высоким ценам на энергоносители, инвестициям в экономику соседних стран, притоку временных мигрантов, чьи денежные переводы превратились в важнейший источник существования для жителей Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана. Тем не менее способность России использовать «мягкую силу», то есть умение добиваться своего путем убеждения и повышения привлекательности своего образа остаются весьма ограниченными.
Наконец, занять более жесткую позицию в вопросе о русских диаспорах не позволяет федеративная структура самой России. Например, если бы Москва в 1994-м официально поддержала требования Крыма о присоединении или даже о значительном расширении автономии полуострова, внутри самой Российской Федерации могли возникнуть серьезные проблемы, связанные с сутью и легитимностью требований отдельных региональных образований. Делая все для сохранения целостности России, правительства Ельцина, а затем и Путина не могли открыто мешать соседям укреплять свою государственность.
Заявления России о защите соотечественников, быть может, помогли психологически справиться с последствиями распада Советского Союза. Это частично сняло противоречия, связанные с государственным строительством в нынешних границах России, хотя, по представлению многих россиян, они не отражали ни историче-ского опыта, ни представлений о «своем» пространстве. Вполне может быть, что империалистическая риторика позволила избежать империалистической политики. В 1992-м Россия ограничивалась только громкими заявлениями. В 1993–1994 годах была предпринята попытка решительных действий, в частности внедрения в жизнь идеи двойного гражданства. После неудачи в этой области оставалось полагаться только на совмещение умеренной политики и жесткого тона. Это продолжилось и в годы президентства Владимира Путина. Конечно, слова тоже могут иметь реальные и зачастую опасные последствия. Но пока «неоимпериалистическая» риторика России не мешает, а отчасти и способствует сохранению умеренности в практических действиях.
ВСЕ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ В РОССИИ
Действия России в отношении соотечественников в обозримом будущем станут определяться тремя группами факторов:
положением и деятельностью самих диаспор;
характером межгосударственных отношений на постсоветском пространстве;
направленностью российской внутренней и внешней политики.
Анализ этих составляющих позволяет прогнозировать сохранение нынешних тенденций умеренности на среднесрочную перспективу.
Решающим моментом в положении русских и – шире – русскоязычных общин на постсоветском пространстве является отсутствие прямого насилия, направленного против них. Характерна также слабая мобилизованность и разобщенность русских диаспор. Заметных горизонтальных связей между ними почти нет. Они различаются по размерам, образу жизни и степени интеграции в местное общество. У них нет ни общего противника, ни единого видения своего будущего. Русские общины плохо организованы. Размытость границ между этническими русскими и русскоязычными группами – это еще один немаловажный фактор, сдерживающий объединение под этнонациональными лозунгами.
Исключением можно считать ситуацию в Латвии и Эстонии, где возникли небольшие политические партии, представляющие интересы русскоязычных меньшинств. Однако их деятельность полностью сфокусирована на решении проблем в рамках латвийской и эстонской государственности и никак не связана с Россией и ее концепцией «соотечественников, проживающих за рубежом». Без участия Москвы проблемы, возникающие у диаспор, скорее всего, останутся вопросами местного значения.
Что касается межгосударственных отношений, то до сих пор вопрос о соотечественниках не оказывался причиной острого противостояния. Соглашения в рамках СНГ, безвизовый режим между большинством стран, психологическое ощущение общности исторического наследия сглаживали остроту проблемы.
Правительства стран на территории бывшего СССР теоретически могут вызвать жесткую реакцию со стороны Москвы, если будут поощрять либо сами инициируют инциденты, угрожающие физической безопасности русского населения. Однако шансы развития событий по такому сценарию невелики. А если не возникнут серьезные кризисные ситуации, вопросу о соотечественниках не суждено будет часто оказываться в центре внимания президента России. Это означает, что политика в большинстве случаев станет формироваться на более низких этажах российской власти.
Реальное поведение Москвы в ближайшие годы будет определяться взаимодействием четырех составляющих. Речь идет о гуманитарных, силовых, правоохранительных и экономических вопросах. Различные государственные органы и общественные силы, имея разные интересы и мотивацию, будут стремиться превратить свое видение проблемы соотечественников в основную движущую силу официальной политики.
Гражданское общество и такие его институты, как Комиссия по правам человека при Президенте РФ и Уполномоченный по правам человека в РФ, руководствуются преимущественно гуманитарными соображениями. Они направят усилия на защиту прав русскоязычного населения в соседних государствах и мигрантов в России, а также на либерализацию закона о гражданстве.
Силовая составляющая в принципе может выражаться в укреплении механизмов поддержки соотечественников для усиления российского влияния на постсоветском пространстве. Однако МИД, скорее всего, будет стремиться переводить проблему преимущественно в гуманитарное русло, а также действовать через многосторонние международные институты. Российские власти пока не научились в должной мере использовать «мягкую силу» в межгосударственных отношениях, и потенциал соотечественников как инструмента влияния в ближайшие годы вряд ли будет эффективно задействован.
МВД продолжит сдерживать миграцию из южных республик и препятствовать использованию статуса соотечественников для облегченного получения российского гражданства. Такая ограничительная практика вступает в противоречие с интересами субъектов хозяйственной деятельности, нуждающихся в дешевой рабочей силе с хорошим знанием русского языка. До тех пор пока в России будут сохраняться высокие темпы роста трудоемких отраслей, экономический блок правительства, вероятно, будет склоняться к облегчению временной трудовой миграции, неизбежно ведущей к переселению части соотечественников на постоянное жительство.
Но при любых сочетаниях этих четырех сил политика умеренности будет продолжена. Ситуация может измениться только на политическом уровне. Вопрос о диаспорах и ответственности России за их судьбу присутствует в теоретических обсуждениях вопросов государственного и национального строительства. Каким образом более радикальные подходы к этому вопросу могут пробиться в ту сферу, где формируется реальная политика?
НАЦИОНАЛИЗМ ИЛИ «МЯГКАЯ СИЛА»?
Выше уже отмечалось, что вопрос о диаспорах не является первостепенным в российской политике, однако при определенных условиях он может выйти из тени. Проблемы соотечественников, в том числе вопрос о воссоединении, в принципе могут быть использованы некоторыми политическими силами для получения электоральной поддержки. Однако тому, чтобы перевести эти темы в ранг ключевых для национальных интересов и безопасности, препятствуют два фактора.
Во-первых, в условиях экономического бума абстрактные рассуждения о русском народе гораздо менее привлекательны, чем задачи повышения уровня благосостояния россиян. Несмотря на возрождение элементов имперской символики, мало кто готов потерять с трудом приобретенное благополучие ради великодержавного реванша.
Во-вторых, выстроенная Путиным система власти оставляет очень небольшое пространство для независимой от Кремля политической деятельности. Правящая же элита воспринимает этнонационализм как угрозу внутренней целостности государства и не позволяет укрепиться партиям и движениям, выступающим под подобными лозунгами. В целом современная российская элита не мыслит в узких этнических терминах.
Тем не менее в российском обществе есть силы, которые в перспективе способны поставить под вопрос нынешнюю политику сдержанности. Многое будет зависеть от того, в каком направлении пойдет поиск новой русской идентичности. Сбросив имперскую оболочку после распада Советского Союза, этническое самосознание русских стало более заметным. Пока русский этнонационализм не является хорошо организованной силой, но он может резко усилиться, особенно если цель строительства национального государства станет ведущей темой политических дискуссий. В советских и постсоветских научных кругах, общественном сознании и политике термин «нация» имел и имеет не столько гражданскую, сколько мощную этническую коннотацию. Как это уже неоднократно случалось в истории Европы, общую культуру могут начать рассматривать в качестве воображаемой политической общности, что может послужить толчком к призывам объединить всех русских под одной государственной крышей.
Переосмысление Россией своего места в более конкретных этнических терминах, как это произошло во всех других государствах, образовавшихся на территории бывшего СССР, может стать самым опасным шагом за всю ее историю. Реализация подобного проекта способна привести к пересмотру границ и подрыву внутренней целостности страны. За строительство наций на обломках империи обычно берутся этнонационалисты. Все бывшие советские республики взлелеяли этнополитические мифы, в которых государство провозглашается родиной «коренного» населения. Теоретически такие взгляды базируются на традиции исторического романтизма, согласно которой человечество можно четко разделить на нации, а культурно (или этнически) обусловленные нации обладают некими священными правами.
Российский этнонационализм в начале ХХI века имеет преимущественно форму ксенофобии. Энергия маргинальных групп скинхедов направлена на близкую и понятную им задачу устрашения и применения насилия в отношении мигрантов с Кавказа и из Центральной Азии. Российская власть с 2006 года попыталась перехватить инициативу у экстремистских группировок, инициировав разговор об интересах коренного населения и государствообразующего народа.
Президент Путин, ранее использовавший понятие «коренное население» для обозначения малых народов Сибири, стал употреблять его применительно ко всем россиянам, противопоставляя их мигрантам: «Нужно, конечно, думать об интересах коренного населения. Если мы не будем думать... это будет только повод и путь к самораскрутке различных радикальных организаций». «Единая Россия» в 2007-м запустила «Русский проект», в рамках которого уже стали звучать другие понятия: «государствообразующий народ», «этническое ядро» и пр.
Введение этнических мотивов в официальный дискурс через обсуждение роли русского народа – явление весьма опасное. Не случайно в Великобритании никогда не муссируется роль «английского народа». Мирный распад СССР отчасти объясняется неоформленностью русского самосознания. Напомним, сколь кровопролитной оказалась дезинтеграция другой социалистической федерации – Югославии, в которой сербы имели более ясное представление о своей идентичности. Как это ни парадоксально, непоследовательные и запутанные отношения Москвы с республиками, входящими в состав Российской Федерации, а также умеренная, а иногда и абсолютно неэффективная политика в отношении русских в ближнем зарубежье являются более благоприятными факторами обеспечения стабильности на постсоветском пространстве, чем попытки выработать ясный подход к созданию национального государства. Лозунг строительства гражданской нации может быть перехвачен, а ее «гражданскость» – быстро отброшена.
«Постимперскость» в России проявляется не в попытках восстановить государство в прежних границах, а в элементах неоимпериалистического курса. Она проявляется в стремлении установить определенный контроль над внутренней и внешней политикой государств, возникших на месте Российской империи и Советского Союза. Соотечественники до сих пор играли не очень значительную роль в этой области. Однако в перспективе такая ситуация может измениться. Например, в результате резкого усиления национализма на политической арене.
Более оптимистичный вариант – превращение соотечественников в инструмент «мягкой силы», укрепления транснационального «русского мира», под которым понимается совокупность «многонационального народа России» и соотечественников за рубежом. Осознание проблемы соотечественников в категориях этничности и их использование в качестве силового элемента внешней политики могут привести к катастрофе. Формулирование же вопроса в терминах политической нации и мягкого влияния может принести России серьезные выгоды.
В современном мире многие диаспоры действуют в интересах своей исторической родины: еврейская, армянская, греческая, китайская, прибалтийские, центральноевропейские. Собственно, именно это и делает отдельных граждан зарубежных стран членами диаспоры, понимаемой как политическая категория. У России есть возможности способствовать формированию российской диаспоры из русских и представителей иных этнических групп, осознающих определенную связь с Российской Федерацией. Некоторые шаги в этом направлении сделаны. Однако они не подкреплены конкретной и последовательной политикой, и результаты пока весьма скромные.
Соотечественники за рубежом ждут поддержки от России, но сами пока не работают на благо исторической родины. Для того чтобы сформировалась активная диаспора, Москва должна продемонстрировать свою заинтересованность в этом и проявить готовность сделать что-то реальное для ее членов. Настоящим прорывом могло бы стать законодательство, позволяющее конвертировать статус соотечественника в российское гражданство. В настоящее время закон и программы для соотечественников практически никак не связаны с законом о гражданстве и политикой в области миграции. Статус соотечественника должен создавать условия для переселения в Россию, иначе для многих граждан на постсоветском пространстве он не имеет смысла. Такое изменение в законодательстве позволило бы достичь тех целей, которых не удалось добиться из-за неудачи с введением института двойного гражданства. Это помогло бы тем, кто остается жить в соседних государствах, осознать свою особую связь с Россией и получить «запасной вариант» на случай ухудшения ситуации. Кроме того, это облегчило бы переселение части соотечественников и привлекло бы в Россию квалифицированную русскоязычную рабочую силу, компенсировав снижение численности населения.
Проблема соотечественников в современной России – это наследие империи. В течение первых полутора десятилетий после распада Советского Союза страна жила с этим наследием, проводя малоэффективную политику, но и не допуская крупных ошибок. Задача ближайшего будущего – научиться защищать соотечественников и использовать их потенциал в своих интересах, избегая при этом неоимперских соблазнов.

Трудовая миграция: факторы и альтернативы
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2006
Сергей Иванов – специальный представитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта.
Резюме В отличие от ситуации в большинстве развитых стран, депопуляция в России потенциально чревата угрозами ее безопасности и территориальной целостности. Убыль населения огромной страны тормозит рост рынков потребительских товаров и услуг, препятствует расширению транспортной сети, затрудняет освоение богатых природными ресурсами восточных и северных районов.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ МИГРАЦИИ
Международные миграции станут, вероятно, одним из крупнейших явлений XXI столетия. Правда, нынешние масштабы международной миграции велики, но не беспрецедентны. И в прошлом случались не менее значительные передвижения людей, достаточно вспомнить заполонение Римской империи варварами в IV–V веках, массовые перемещения в эпоху Средневековья, многомиллионные потоки переселенцев из Европы в Америку и Россию в XIX – начале XX столетия.
В период превращения Соединенных Штатов в мировую державу (между Гражданской войной и Первой мировой) 13–15 % населения страны составляли родившиеся за ее пределами. На рубеже веков каждый пятый американец являлся уроженцем другой страны; трудовые ресурсы крупнейших городов более чем наполовину состояли из иммигрантов. Хотя народ и власть не всегда относились к иммигрантам с энтузиазмом, США ассоциируются с политикой открытых дверей. В 1920–1960-х годах иммиграция в США резко сократилась, а доля родившихся за рубежом упала к 1970-му до 5 %. Впоследствии, к 2004 году, эта цифра вновь достигла 12 %, то есть вплотную приблизилась к рекордно высоким отметкам столетней давности.
Стремление к экономическому благополучию было и остается причиной наиболее массовых и устойчивых миграционных потоков. В принципе легальной иммиграцией легко управлять в том примерно смысле, как нетрудно регулировать импорт того или иного востребованного на внутреннем рынке товара путем запретов, льгот и преференций. Это не означает, что таким образом наверняка снизится число нерезидентов, поскольку иммиграция может перетечь в нелегальные формы. Причем разумный горизонт прогнозирования здесь ближе к экономическим, чем к демографическим, показателям.
Вполне разумно допущение, что потенциальные мигранты сравнивают ожидаемую полезность дохода в странах выезда и въезда. Модель имеет смысл, только если принимать во внимание огромное разнообразие индивидуальных ожиданий, сильно разнящихся в зависимости от возраста, образования, квалификации, имущественного состояния. С одной стороны, даже относительно простые модели, где условные потенциальные мигранты сопоставляют дисконтированные реальные доходы и доступность их источников на родине и за рубежом, могут в значительной степени искажать реальность, которая обычно характеризуется дефицитом информации и навыков ее интерпретации.
С другой стороны, не всякий перепад доходов создает достаточный мотив для трудовой миграции. Люди руководствуются далеко не только экономическими соображениями: привычная культурная среда, в особенности родной язык, с детства знакомый образ жизни, родственные связи, друзья – эти важнейшие, но не выражающиеся в цифрах факторы сдерживания могут уравновешивать экономические мотивы выталкивания. Поэтому миграционные потоки между странами часто сходят на нет по достижении некоторого абсолютного порога благосостояния и задолго до полного выравнивания экономических уровней стран выезда и въезда.
Эмпирические исследования установили, что поток трудовых мигрантов из Южной Европы в Западную иссяк в 1980-е, когда в Италии, Испании, Португалии и Греции валовой внутренний продукт (ВВП) достиг 4 тысяч долларов на душу населения. Нетто-миграция между странами – членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снижается, когда различия в ВВП на душу населения между ними сокращаются до 50 %.
Однако сумма миграционных потоков в мировом масштабе отнюдь не убывает. Колоссальные перепады экономических, политических и социальных условий по-прежнему формируют огромный резерв желающих переселиться туда, где лучше. Хотя географическое местонахождение как центров выталкивания, так и центров притяжения мигрантов меняется, трудно представить себе, что в обозримом будущем экономические условия в мире выровняются настолько, чтобы трудовая миграция совсем иссякла. Скорее наоборот, неравномерность экономического развития усилится, а глобальное информационное поле будет все настойчивее и доходчивее формировать миграционные установки.
В странах-реципиентах иммиграция позволяет удовлетворять спрос на труд, заполняя нижний этаж социальной пирамиды, способствует восходящей социальной мобильности «своих», снижая цену труда, повышает прибыли предпринимателей и конкурентоспособность национальной экономики.
Принципиально новым фактором, который будет определять динамику международной трудовой миграции в предстоящие десятилетия, является демографическая ситуация в развитых странах – главных центрах притяжения мигрантов. Но прежде чем обратиться к его анализу, упомянем о двух других особенностях современной миграции, значение которых резко возрастает.
Во-первых, современные средства транспорта и связи чрезвычайно облегчают миграцию. В частности, они создают неизвестные прежде возможности врéменной (возвратной) миграции на большие расстояния (например, из Филиппин в США либо в страны Персидского залива).
Во-вторых, трудовая миграция все более вплетается в многогранный процесс глобализации. В соответствии с господствующей концепцией главным проявлением последней становится возрастающая свобода международного передвижения капиталов, товаров, услуг, информации и идей. В принципе из этого логически следует необходимость обеспечить такую же свободу передвижения людей. Однако данную концепцию поддерживают далеко не все.
Нелегальная (точнее, иррегулярная, «недокументированная») трудовая миграция имеет массу пороков. В частности, она противоречит национальному суверенитету и способна даже создать угрозу общественной безопасности, в особенности когда трудовая миграция связана с коррупцией и организованной преступностью. Вместе с тем в некотором смысле она представляет собой полезную смазку для негибкого государственного механизма, устраняющую противоречия между глобализацией рынка труда и традиционным сдерживающе-запретительным характером государственной миграционной политики.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИММИГРАЦИИ
Демографическая ситуация в развитых странах формирует исторически беспрецедентную потребность в массовой иммиграции. Низкая рождаемость и растущая продолжительность жизни обусловливают старение населения и сокращение его численности. Избирательная (по критерию возраста) иммиграция – в принципе также единственный практический способ затормозить показатели старения населения. Попытки сделать это через «управление» рождаемостью или смертностью бесперспективны, и вот почему.
СМЕРТНОСТЬ
Во второй половине прошлого столетия основной резерв снижения младенческой и детской смертности был выбран и продолжительность жизни стала возрастать, способствуя демографическому старению. В результате этого в последние десятилетия XX века начал расти общий коэффициент смертности, что, естественно, отрицательно сказалось на увеличении народонаселения.
Бывает, хотя и нечасто, что младенческая и детская смертность соответствуют стандартам развитых стран, а смертность взрослых превосходит уровни многих развивающихся стран. Таким прискорбным исключением является Россия, где продолжительность жизни мужчин составляет всего 59 лет, что на 20 лет меньше, чем в Японии, на 15 лет меньше, чем в Германии, и на 11 лет меньше, чем в Китае (для женщин отставание не столь значительное). Даже если рождаемость возрастет почти наполовину, то к 2050 году при отсутствии иммиграции численность населения страны уменьшится на одну пятую (при неизменной смертности – на четверть).
РОЖДАЕМОСТЬ
Между тем естественная убыль населения главным образом обусловлена падением рождаемости ниже уровня простого воспроизводства, то есть двух детей на женщину. Всеобщий, причем в основном спонтанный, без государственного вмешательства переход от многодетной семьи к малодетной был неотъемлемой частью (как следствием, так и фактором) модернизации европейских обществ в ХIХ–ХХ веках.
азвивающиеся страны вступили на этот путь после Второй мировой войны. Многие государства при поддержке международных организаций приняли на себя роль катализатора снижения рождаемости и достигли выдающихся успехов. Нельзя забывать, что радикальное снижение рождаемости не только способствовало национальному развитию стран Третьего мира (наиболее яркий пример – азиатские «тигры» и «тигрята»), но и обуздало мировой демографический взрыв с его опасными последствиями для всего человечества. Следует, однако, иметь в виду, что численность населения развивающихся стран будет расти еще несколько десятилетий.
Однако, вопреки господствовавшей ранее концепции, снижавшаяся рождаемость не стабилизировалась на уровне простого воспроизводства. Во всех индустриальных странах (кроме США) и при растущем числе развивающихся стран (в частности, в Китае) она упала ниже этого уровня, в том числе в двух десятках стран (включая Россию) – много ниже. Хотя конкретные причины «сверхнизкой» рождаемости дебатируются, ясно, что характер и ткань индустриальных, точнее, постиндустриальных демократических обществ создают несовместимую с простым воспроизводством рождаемости систему мотиваций и возможностей.
Это противоречие носит системный характер, который не удалось преодолеть посредством разнообразных и дорогостоящих мер, осуществляемых некоторыми западными государствами. Нет оснований полагать, что в России причины сверхнизкой рождаемости чем-то принципиально отличаются. Поэтому при формировании подхода к миграционной проблематике следует, как это и начал делать Европейский союз, исходить из неизбежности в среднесрочной перспективе (что в демографии означает 20–30 лет) сохранения демографического режима весьма низкой рождаемости.
В трудоспособном возрасте в течение уже нескольких лет происходит сокращение численности населения в Германии, Италии и во всех европейских странах, расположенных на территории бывшего СССР. Если не произойдет значительного увеличения (в некоторых государствах, включая Россию, Италию, Украину, – в разы) притока иностранцев на рынки труда, то они в ближайшие годы начнут «сжиматься» почти повсеместно (за исключением Соединенных Штатов и Великобритании). В 2005-м совокупная численность населения в трудоспособном возрасте в Евросоюзе на 55 % превосходила соответствующий показатель США. При условии, что миграция останется на прежнем уровне, к середине столетия разрыв сойдет на нет. Американское демографическое благополучие обеспечивается высокой (около двух детей на женщину) рождаемостью и устойчивым миграционным притоком (около миллиона только лишь легальных иммигрантов), а также их взаимодействием, поскольку рождаемость иммигрантов выше рождаемости коренного населения.
В отличие от большинства развитых стран, депопуляция в России обладает еще одним свойством. Сокращение численности населения огромной редконаселенной страны потенциально чревато угрозами ее безопасности и территориальной целостности, тормозит рост рынков потребительских товаров и услуг, препятствует расширению транспортной сети и затрудняет освоение богатых природными ресурсами восточных и северных районов.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ?
Потенциальное предложение труда формируется демографической динамикой и интенсивностью использования трудовых ресурсов. Динамика населения в трудоспособном возрасте в течение предстоящих 15–20 лет задана прошлыми уровнями рождаемости. Интенсификация использования трудовых ресурсов, складываясь из уровня экономической активности (то есть участия в рынке труда), уровня занятости и реального рабочего времени в расчете на одного занятого, обладает большим потенциалом и значительно варьирует в странах Запада. Годовое число отработанных часов в расчете на одного человека в трудоспособном возрасте в Великобритании и США превышает этот показатель во Франции в полтора и два раза соответственно, не говоря уже о России.
Занятость. Наиболее очевидным способом более интенсивного использования трудовых ресурсов является сокращение безработицы, однако европейский опыт в этом отношении не слишком обнадеживает. Россия по уровню безработицы близка к странам Евросоюза. Следует иметь в виду, что сокращение безработицы ведет к удорожанию труда и, что еще важнее, к повышению возможностей работников отстаивать другие свои интересы, в особенности в том, что касается регламентируемой продолжительности рабочего дня (недели), отпусков и праздничных дней.
Экономическая активность. Интенсивность использования трудовых ресурсов за последнее десятилетие выросла во многих странах ЕС главным образом за счет одного из трех его компонентов – уровня экономической активности, прежде всего женщин. Однако не следует забывать, что рост экономической активности женщин сыграл роль в падении рождаемости.
Зато увеличение занятости населения старших возрастов разумно, поскольку продолжительность дееспособной жизни во всех странах (за исключением России и Украины) намного превысило установленный законом пенсионный возраст. Расширяющаяся экономика услуг больше соответствует физическим возможностям людей старших возрастов, чем «материальное производство». Этот путь перспективен потому, что численность соответствующих возрастных групп велика и будет расти, причем быстро.
Европейские страны сильно различаются по степени вовлеченности лиц пожилого возраста в рынок труда. Так, уровень экономической активности в возрастной группе 60–69 лет колеблется от менее 10 % в Австрии и Бельгии до более 30 % в Дании и Португалии; Россия по этому показателю (около 20 %) занимает промежуточное положение.
Увеличение отработанного рабочего времени. Достигнутая разными способами более высокая интенсивность использования имеющихся трудовых ресурсов может значительно сократить дефицит предложения труда. Однако в ряде стран даже героические усилия по ее повышению не способны уравновесить накопленный эффект низкой рождаемости. Речь идет о Германии, Испании, Италии, России, Украине, Японии. Выход – в серьезном увеличении трудовой иммиграции, что уже начали делать Италия и Испания.
Другой альтернативой является радикальное ускорение роста производительности труда. В противном случае неминуемо сокращение производства. Конечно, можно предложить аргументы в пользу отрицательного экономического роста: например, сокращение производства при убывающем населении совместимо с ростом благосостояния, способствуя в то же время устойчивому развитию в планетарном масштабе.
Однако сокращающаяся экономика – это теоретически неизведанная территория. Кроме того, нелегко смириться с уменьшением экономической, а следовательно, и геополитической мощи, особенно по сравнению со странами, не подверженными демографическому упадку.
Иногда говорят, что перемещение промышленности и сельского хозяйства в трудообильные развивающиеся страны позволит высвободить достаточные трудовые ресурсы для сферы услуг. Абстрактно экстраполяция уже действующей тенденции и ее использование для восстановления равновесия на рынке труда может показаться привлекательной. Действительно, стратегия аутсорсинга (outsourcing – букв.: использование внешних источников; передача специализированным субподрядчикам производства деталей, услуг, непрофильной продукции во внешние центры и развивающиеся страны. – Ред.) способна смягчить ситуацию в среднесрочной перспективе (к примеру, до 2020 года), то есть на сравнительно раннем этапе депопуляции, повысив эффективность мировой экономики и содействуя развитию стран-реципиентов. Однако с ее помощью не добьешься восполнения дефицита труда в развитых странах, не обеспечишь работниками средние и мелкие предприятия.
В качестве иллюстрации рассмотрим решение хрестоматийной задачи применительно к Европейскому союзу. Дано: численность занятых в промышленности и сельском хозяйстве по сравнению с занятыми в других сферах в 2004-м и численность трудоспособного населения в 2020 и 2050 годах. Прогноз численности населения построен на основе гипотез умеренно снижающейся смертности, средней рождаемости (то есть выше сегодняшней, но ниже простого воспроизводства) и сохранения нынешних сальдо внешних миграций. Спрашивается: насколько надо будет уменьшить число занятых в указанных отраслях по отношении к уровню 2004-го, чтобы компенсировать сокращение трудоспособного населения и таким образом предотвратить снижение числа занятых в других сферах?
Ответ: для этого в промышленности и сельском хозяйстве Евросоюза в 2020 году должно будет работать на 8 % меньше людей, а в 2050-м – на 63 % меньше, чем в 2004-м. Поскольку же в промышленность включены принципиально неперемещаемые отрасли, в том числе строительство и энергетика, то требуемое сокращение в перемещаемых отраслях окажется еще выше.
Общие данные по ЕС усредняют весьма различное положение отдельных стран, определяемое демографией. К примеру, во Франции сравнительно высокая рождаемость делает такую гипотетическую реструктуризацию экономики ненужной в течение ближайших десятилетий. Но если иммиграция в страну не возрастет, то к 2050 году число занятых в промышленности и сельском хозяйстве придется сократить на 30 %. В Великобритании опять-таки довольно высокая рождаемость (хотя и ниже французской) в сочетании с устойчиво высокой (то есть такой же, как и ныне) иммиграцией стабилизирует численность трудоспособного населения.
Иное дело в Германии, Италии и Испании – странах со «сверхнизкой» рождаемостью. В Германии сохранение иммиграции в нынешних – немалых – масштабах не сможет предотвратить сокращение населения в трудоспособном возрасте. Поэтому для сохранения сектора услуг придется, например, сократить число занятых в промышленности и сельском хозяйстве к 2020 году на 18 %, а к 2050-му – на 90 %. Положение Италии экстремально. Демографически обусловленное сокращение занятости в промышленности уже к 2020 году должно составить 36 %, а к 2050-му придется пожертвовать не только всей промышленностью и всем сельским хозяйством, но и почти половиной (44 %) сферы услуг. Поскольку демографические параметры России очень близки к итальянским, перспективы обеспеченности российской экономики трудовыми ресурсами столь же удручающи.
Эти примеры иллюстрируют колоссальные последствия демографических сдвигов и очерчивают границы взаимозаменяемости «демографического» и «экономического» и, следовательно, указывают на масштабы необходимого увеличения иммиграционной «подпитки».
РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИЙ
Многие правительства индустриальных стран соглашаются с экономическими (а в последнее время и с демографическими) аргументами в пользу более либерального подхода к международной миграции, однако больше они озабочены ростом числа иностранцев (даже временно прибывших) в связи с проблемой национальной безопасности. Такая позиция доминирует почти везде, не только в России.
Переселенческая иммиграция. Постоянная (переселенческая) иммиграция является надежным способом освоения не- или редконаселенных территорий и заполнения демографических лакун. Хотя адаптация иммигрантов и их интеграция в общество редко проходят бесконфликтно, длительный опыт стран массовой иммиграции – США, Канады, Австралии – свидетельствует о том, что возможна успешная интеграция иммигрантов на основе признания иммигрантами правил поведения и социальных ценностей принявшей их страны, с одной стороны, и механизмов обеспечения законных прав иммигрантов и толерантного к ним отношения – с другой. Некоторые страны идут по пути полной ассимиляции иммигрантов. Наиболее ярким примером является Франция, где господствует идея единой национальной идентичности, основанная на культурной однородности. Сам по себе выбор между сосуществованием и ассимиляцией не гарантирует успеха.
Заблуждением является утверждение, что Россия в принципе плохо подготовлена к массовой постоянной иммиграции нерусского населения. В действительности многовековое расширение Российского государства сопровождалось интеграцией множества этносов и конфессиональных групп. Часто забывают, что Российская империя целенаправленно привлекала переселенцев из Европы, создав для них в XVIII веке преференциальные режимы землевладения, налогообложения и воинской повинности. В период между реформами 1860-х годов и революцией 1917-го Россия стала страной массовой иммиграции. Накопленная нетто-миграция за этот период составила 4,5 миллиона переселенцев; перед Первой мировой войной среднегодовой миграционный оборот достигал полумиллиона человек.
К сожалению, трудно опровергнуть утверждение, что Россия сейчас плохо абсорбирует даже русскоязычное население. Несмотря на то что правительство неоднократно заявляло, что рассматривает «русских ближнего зарубежья» как первоочередной резерв переселенцев в Россию, сколько-нибудь внятная стратегия их привлечения и ассимиляции отсутствует, а правила предоставления российского гражданства оказываются весьма рестрикционными.
Вместе с тем упор на «этническое воссоединение» опасен в двух отношениях. Во-первых, разделение иммигрантов на «своих» и «чужих» подпитывает дискриминацию, межэтнические и межконфессиональные трения. Во-вторых, жизнеспособные русскоязычные диаспоры в странах СНГ и Балтии отвечают региональным и геополитическим интересам России. Кроме того, не следует преувеличивать количественный потенциал такой иммиграции. Отсюда следует, что в стратегическом плане главные потенциальные резервы переселенцев в Россию состоят из представителей титульных национальностей трудоизбыточных государств за южными рубежами страны.
Стереотипы восприятия «чужих» и представления о границах приемлемого поведения могут иметь исторические и культурные корни, но в то же время на них весьма значительное влияние оказывают средства массовой информации. На коммунальном уровне определяющее влияние имеют конкретные проекты местных органов самоуправления и степень развитости гражданского общества. Однако пассивность государства оказывается, как правило, залогом серьезных конфликтов. Основной функцией государства является создание правовых механизмов, которые, соответствуя Основному закону страны, реализовали бы экономические и другие интересы сторон.
Правительство и муниципалитеты иногда реализуют специальные жилищные программы для иммигрантов. В некоторых случаях речь идет о предоставлении субсидированного жилья различным категориям неимущих независимо от их гражданского (иммиграционного) статуса. В прошлом, как правило, осуществлялось строительство специальных комплексов жилых зданий (называемых в США «projects», HLM – habitations à loyer modéré – во Франции), микрорайонов, городов-спутников, что почти непременно оборачивалось превращением их в маргинализованные гетто. Для крупных городов более перспективным, хотя и более сложным вариантом является помощь иммигрантам в их укоренении в местной среде населения. Это, впрочем, не означает, что компактное расселение иммигрантов всегда неприемлемо. Так, представляет интерес сформулированная в середине 1990-х годов (впоследствии забытая) идея организованно привлекать переселенцев в пустеющие мелкие города «серебряного кольца» России.
Возвратная миграция. Возвратная (врéменная) трудовая миграция может быть либо спонтанной, либо организованной в совместные программы государств-поставщиков и реципиентов. Спонтанная временная миграция бывает легальной или нелегальной; организованная возвратная миграция легальна по определению. В России под гастарбайтерами почему-то подразумевают нелегальных мигрантов, в то время как в немецком оригинале имеются в виду главным образом вполне законно въехавшие в страну иностранные рабочие.
Принципиальное преимущество спонтанной возвратной миграции состоит в том, что ее потоки регулируются в первую очередь рынком труда, а также и другими рынками, в том числе жилья. Это, в частности, означает отсутствие необходимости в рискованных масштабных и долгосрочных государственных программах. Вместе с тем эффективность данной формы миграции напрямую зависит от государства.
Во-первых, для того чтобы миграционный приток адекватно реагировал на рост спроса на труд, важно упростить формальности. Между тем в последние годы административные препятствия, которые чинили иммигрантам в большинстве стран, усугублялись. В результате – рост нелегальной иммиграции.
Во-вторых, государство в принципе способно стимулировать возвращение мигрантов на родину. В последнее время оживился поиск соответствующих экономических стимулов главным образом в области «взаимозачета» пенсионных накоплений или частичной компенсации социальных налогов.
«Оргнабор» широко практиковался в послевоенной Европе. В 1950–1960-е годы действовали масштабные межгосударственные программы временного привлечения неквалифицированного труда в Германию из Италии и Турции, а во Францию из Алжира. Они были успешны в том смысле, что количественные задачи были легко выполнены. Однако обеспечить возвратность не удалось. Принятые в начале 1970-х решения прекратить трудовую иммиграцию из-за пределов Общего рынка еще больше ослабили стимулы к возвращению и расширили потоки лиц, иммигрировавших по статье «воссоединение семей». В это же время промышленный кризис и реструктуризация экономики сделали избыточной значительную часть неквалифицированной рабочей силы.
Поскольку гастарбайтеры были, как правило, территориально сегрегированы, создались условия для их массовой и наследственно закрепленной маргинализации. Следует отметить, что коренной проблемой являлось все же не культурное или конфессиональное отчуждение, а изначальная установка на заполнение нижних этажей социально-профессиональной структуры. Несмотря на серьезные трудности, порожденные в прошлом «оргнабором» в ряде западноевропейских государств, программы временной миграции в настоящее время широко обсуждаются в разных контекстах. Так, например, Филиппинам в сотрудничестве со странами – реципиентами мигрантов (государства Персидского залива, а также США) удалось создать хорошо действующую систему ротации своих граждан на работах за рубежом.
Поощрение возвратной миграции соответствует экономическим и политическим интересам стран СНГ и существенно облегчается все еще сохраняющимся общим культурным пространством. Это, по существу, означает создание единого рынка труда Содружества, для чего имеется множество исторических, экономических и демографических предпосылок. При этом нет необходимости разделять непреодолимой стеной возвратную и переселенческую миграцию – пусть экономика, брачные связи, социокультурная среда и индивидуальный выбор решат, где и на какой срок поселяться людям. Это, конечно, не равносильно самоустранению государства из этой области. Въезд в страну для неграждан – не право, а привилегия, и государство может и должно определять критерии предоставления такой привилегии. Надо лишь, чтобы эти критерии отвечали национальному и международному праву и были разумны. Соображения разумности должны в полной мере учитывать, что старение населения и отрицательный естественный прирост неминуемо и надолго останутся факторами развития многих стран, в том числе и России.
Таблица 1
Естественный прирост населения, млн человек за пятилетие (1950–2050)
Источник: United Nations (2005). World Population Prospects. The 2004 Revision. Comprehensive Dataset. Sales No. E.05.XIII. 12
Таблица 2
Прогноз численности населения в возрасте 15–64 лет,
млн человек (2005–2050)
Источник: United Nations (2005). World Population Prospects. The 2004 Revision. Comprehensive Dataset. Sales No. E.05.XIII. 12
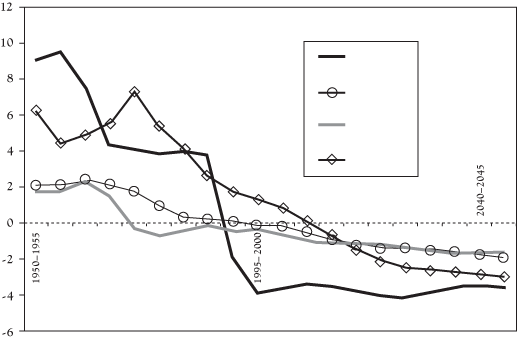


Меняться и менять
Резюме В течение десятилетий дискуссии, связанные с различиями в менталитетах и ассимиляцией иммигрантов из Северной Африки, считались во Франции несовместимыми с принципами демократии. Но замалчивание проблемы привело к возрастанию межнациональной неприязни и введению комендантского часа, что никак не согласуется с демократическими нормами.
Е.В. Ворожцов – адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов, в 2002 году окончил Национальную Высшую школу полиции Франции, единственное учебное заведение, которое готовит комиссаров полиции.
Массовые беспорядки в иммигрантских кварталах и предместьях французских городов вызвали бурные дискуссии во всем мире, включая Россию. Что обусловило «бунт» молодых иммигрантов во Франции – стране, прославившейся либеральным подходом к проблеме иммиграции? И можно ли вообще говорить о бунте? И, наконец, возможно ли предотвратить повторение этого сценария в будущем?
НОВЫЕ СТЕНЫ ДЛЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ
Когда в 1960-е годы Франция переживала экономический бум, в условиях нехватки рабочей силы правительство столкнулось с необходимостью разрешить массовый въезд иностранцев. Источник иммиграции был очевиден: жители недавно освободившихся африканских колоний знали французский язык, обычаи и т. д. Альтернативой, правда, могла стать Восточная Европа, откуда в то время стремились эмигрировать многие, однако президент Шарль де Голль опасался, что среди приезжих будет слишком много коммунистов.
В результате поток оказался очень однородным. Если бы европейцы и африканцы селились в новых районах в более или менее равной пропорции, то, скорее всего, до нынешних волнений дело бы не дошло. Кстати, именно по этому пути двинулась Германия, и в районах со смешанным населением, где выходцы из Азии и Африки перемежаются с итальянцами, поляками, югославами и российскими немцами, ситуация вполне стабильна.
Причину «восстания окраин» французские и не только французские комментаторы и политологи чаще всего видят в социальном неравенстве между населяющими данные районы иммигрантами из стран Азии и Африки, с одной стороны, и коренными жителями – с другой. Утверждается, что переселенцы лишены нормальных жилищных условий, не могут устроиться на работу. Так ли это?
Вот уже полвека французское правительство выделяет огромные средства не просто на строительство добротного жилья, а и на постоянное обновление жилого фонда. Так, по официальной статистике, программы «Городское обновление» и «Социальная и территориальная справедливость и поддержка» на 2006 год предусматривают бюджетное финансирование на сумму 1 232 млн евро бюджетных средств, предоставление 1 085 кредитов и 217 налоговых льгот для предприятий, работающих в городских зонах. На период с 2006 по 2011 год запланировано разрушить и заново отстроить 250 тыс. жилых помещений социального найма, отремонтировать 400 тысяч.
Многие районы перестраиваются только для того, чтобы даже внешний вид новых кварталов оказывал позитивное, умиротворяющее воздействие на их жителей. Особо учитывается необходимость организации досуга: обустраиваются культурные и спортивные центры. Такого внимательного подхода к строительству массового жилья нет, наверное, ни в одной стране мира! Более того, коммуны, отказывающиеся принимать иммигрантов, платят особый налог в пользу тех, кто, напротив, готов их принять. Однако, несмотря на все усилия, районы с преобладающим иммигрантским населением становятся всё более опасными.
В одном старинном городке на юге Франции у власти долгое время находились коммунисты. Полагая, что качество жилья влияет на поведение иммигрантов, мэрия целенаправленно селила их в историческом центре. В результате хулиганы испоганили всю округу и начали терроризировать город, устанавливая в нем свои криминальные порядки. Местные жители, не пожелав выносить издевательства и агрессию со стороны новых соседей, постепенно перебрались в новостройки. Теперь на окраинах города – чистота, порядок и низкий уровень преступности, а исторический центр, включая дома XVII века, постепенно разрушается и превращается в клоаку.
Как ни парадоксально, такое положение устраивает все ведущие политические силы. Дело в том, что во Франции, как и в России да и во всем мире, строительство является сферой, в которой проще всего заработать «черные» деньги. За счет строительства получена и львиная доля теневого финансирования основных политических партий страны. Они не станут бороться за реальное разрешение ситуации, поскольку рискуют подрубить финансовый сук, на котором сидят.
В интересах партий и сохранение очагов напряженности. Левые, пытающиеся взять бедные окраины под свое крыло, фактически покупают на выборах голоса в обмен на обещание увеличить социальные пособия и иную помощь. Правые же позиционируют себя как поборников наведения порядка и повышения уровня безопасности. Именно благодаря грамотному использованию этого лозунга президентом Французской Республики в настоящий момент является Жак Ширак.
НЕИСПРАВИМЫЕ СИБАРИТЫ
В последние годы французское правительство целенаправленно проводит линию на повышение занятости молодежи вообще и иммигрантской в особенности. Широко разрекламированная политика предоставления рабочих мест молодым жителям проблемных районов на поверку означает, что при приеме на работу предпочтение следует отдавать представителям некоренной национальности. Нередки случаи, когда работодатель выберет не француза, а приезжего из стран Магриба, даже если первый будет больше соответствовать требованиям.
По данным правительства Франции, безработица в проблемных кварталах в среднем составляет около 20 %, а среди молодежи доходит до 50 % (общий уровень по стране – 9,7 %). На деле иммигрантская молодежь из предместий не стремится начать работать. Молодые обеспечены жильем, а социальное пособие позволяет им нормально питаться и одеваться. Желающий разбогатеть или развлечься не станет трудоустраиваться, а займется более простым и популярным в этой среде делом, таким, как торговля наркотиками, кражи, грабежи и разбои.
Конечно, есть и огромное количество тех, кто честно работает. Но оказывается, что среди трудоустроенных жителей городских окраин во Франции очень высокий процент составляют женщины и люди старшего возраста – как раз те категории населения, которые во всем мире сталкиваются с проблемой устройства на работу. Так, не работают 23 % жителей предместий моложе 25 лет, 8,8 % в возрасте от 25 до 49 и только 7 % старше 50. Это лишний раз доказывает, что иммигрант, желающий трудиться, вполне может найти рабочее место.
Некоторые исследователи считают, что волнения во Франции носят религиозный характер. Но далеко не все принимающие участие в беспорядках – мусульмане. Число нападений на церкви и синагоги не так велико в процентном отношении к общему количеству атак. К тому же сегодняшние молодые иммигранты во Франции не религиозны, и практически никто не выполняет даже минимальных требований шариата. По наблюдениям автора, о религии они вспоминают в основном тогда, когда попадают в руки полиции, прекрасно понимая, что религиозная окраска сразу переводит их действия из разряда банального хулиганства в сферу борьбы за защиту прав человека.
В странах Французской Африки, откуда главным образом поставляются иммигранты, мусульманство всегда носило умеренный характер. Для большей части населения этих стран ислам скорее традиция, чем вера. Кроме того, французские мусульмане не представляют собой единую общину. Марокканцы предпочитают марокканского муфтия, тунисцы – тунисского и так далее. Религиозная общность слабее этнической.
Итак, беспорядки во Франции не обусловлены ни социальными, ни религиозными факторами. Судя по тому, сколько машин сожжено, скорее можно было бы предположить, что хулиганам не нравится французская автомобильная промышленность…
ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
Даже основываясь на видеокадрах и сообщениях информагентств, любой специалист сделает вывод о том, что нынешние беспорядки вовсе не похожи на спонтанные народные волнения. Главная ударная сила, мотор потрясшего весь мир «бунта окраин» – мелкие группы с отлаженной внутренней организацией, но слабо связанные между собой. Это преступные шайки, объединенные общим криминальным бизнесом и потому имеющие опыт противостояния полиции. Не случайно волнения были спровоцированы гибелью двух правонарушителей. За последние годы практически все беспорядки подобного рода вспыхивали в результате сходных происшествий. Снижение пособия по безработице или запрет на ношение в школе хиджабов вызвали гораздо более спокойную реакцию.
Молодых иммигрантов раздражает полиция, особенно та ее часть, что охраняет порядок в районах их проживания. (Никакой статистики о количестве преступлений, совершенных иммигрантами во Франции, не ведется, но список задержанных в любом комиссариате содержит порядка 90 % «нефранцузских» фамилий.) Фактически волнения в предместьях направлены на вытеснение оттуда правоохранительных органов, что может быть выгодно только людям, занимающимся там противозаконной деятельностью. Набравший силу французский криминалитет показывает свои мускулы и предостерегает политическую элиту от вмешательства в свои дела.
Характерно, что агрессия хулиганов направлена именно на то, что ассоциируется с государством и цивилизацией в целом. Атаке подвергались комиссариаты полиции, включая сотрудников, транспорт и здания, государственные и муниципальные органы, детские сады, образовательные и религиозно-культовые учреждения, а также граждане коренной национальности, отважившиеся сделать замечания хулиганам. (Между прочим, изначально машины поджигались вовсе не для того, чтобы выразить протест, а с чисто прагматической целью: установить, как быстро приедет полиция и кто из местных жителей ее вызовет.)
Как же повела себя в этих условиях полиция? Как отреагировали суды? Интенсивность и продолжительность беспорядков во Франции выявили слабость всей правоохранительной системы страны.
Во-первых, численность французской полиции недостаточна, особенно с учетом постоянного роста преступности. Количество полицейских на душу населения в несколько раз уступает соответствующему российскому показателю (по некоторым данным, как минимум в пять раз). Так, во Франции на 60 млн граждан приходится менее 240 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, в РФ личный состав только милиции и внутренних войск насчитывает около 1 300 тысяч, и это без учета сотрудников ФСБ, которые отчасти тоже берут на себя полицейские функции.
Во-вторых, французские полицейские не обучены задерживать местных участников и зачинщиков беспорядков. Они привыкли иметь дело с другими акциями. Например, если колонна демонстрантов пытается прорваться к зданию мэрии, чтобы выдвинуть свои требования, то можно вести переговоры с лидерами протестующих или перекрыть улицу. Но нынешние нарушители ничего не требуют и не устраивают массовых шествий – они просто ведут партизанскую войну.
Кроме того, устаревшее законодательство позволяет силам правопорядка применять силу только в том случае, если «они не могут иным способом удержать место, на котором находятся». Но ведь никто и не пытается оттеснить полицейских с их позиций! Бросать в них камни с расстояния 15 метров – гораздо эффективнее, при этом вероятность быть схваченным очень мала.
Даже и в случае ареста французский подросток почти ничем не рискует. Его ждет весьма мягкий приговор, а непродолжительное тюремное заключение не слишком сильно отразится на жизни молодого хулигана. В тюрьме он будет так же, как и на воле, бездельничать и круглые сутки стоять на улице, покуривая в обществе своих товарищей. Более того, пребывание за решеткой прибавит ему уважения со стороны сверстников. «Срок» обеспечивает нужными и полезными связями и знакомствами, например, с наркодилерами. Ведь именно торговля наркотиками дает основной заработок той части французской молодежи, которая сегодня поджигает Францию.
В-третьих, устарели методы работы полиции с гражданами. Если во взаимоотношениях с населением благополучных районов ее опорой в первую очередь являются мелкие лавочники и владельцы кафе, которые всегда в курсе последних событий, то на территориях, заселенных иммигрантами, такой подход неэффективен. Здесь даже простой вызов полиции может стоить очень дорого, не говоря уже о предоставлении ей информации о правонарушителях. Изолированные от населения, не обладающие необходимой информацией правоохранительные органы не в состоянии реально контролировать ситуацию, так сказать, изнутри, и единственное, что им остается, – это простое патрулирование.
Российская милиция построена по другому принципу. Основой охраны порядка является участковый – милиционер, за которым закреплена небольшая территория, где он знает всех жителей, склонных к совершению правонарушений. Профессиональный участковый зачастую может сразу назвать человека, совершившего то или иное преступление, или, как минимум, определить круг подозреваемых. Ключевое значение имеет агентурная работа. Российская милиция в ее борьбе с преступностью опирается не только на патрулирование территории и на сознательных граждан, сообщающих о преступлениях, но и на создание сети агентуры в преступной среде. Значительное количество преступлений удается предотвратить (или раскрыть) именно благодаря агентам. Особенно важно наличие «своих» людей в этнических группах.
Французская же полиция не только не ведет подобную работу, но зачастую даже и не пытается раскрыть мелкие преступления, совершенные иммигрантской молодежью. Полицейский скорее выполняет роль страхового агента, фиксирующего факт кражи. Поэтому у малолетних преступников, для которых неотвратимость наказания – пустой звук, появляется ощущение безнаказанности, стимулирующее их к совершению новых нарушений. Только коренное изменение подхода к противодействию преступности, основанное на тщательном раскрытии мелких преступлений, сможет дать реальную отдачу в борьбе против расширения криминалитета во Франции.
В России любая машина может быть остановлена и досмотрена на постах милиции на дорогах, что позволяет круглосуточно контролировать и в любой момент заблокировать трассу. Французам было бы полезно перенять эту практику. Хулиганы из проблемных районов часто используют ворованные машины для того, чтобы, скажем, скрыться с награбленным после нападения на магазин в центре города. Одно из самых популярных «развлечений» – украсть дорогую машину, привлечь к ней внимание полиции, въехать в свой район в окружении полицейского эскорта и, покрасовавшись перед друзьями и соседями, бросить машину и скрыться. Полиция обычно не пытается задерживать движущийся автомобиль, а после событий, послуживших сигналом к началу осенних беспорядков, и вовсе откажется от этого риска.
Многие районы массовой застройки имеют во Франции лишь одну подъездную дорогу. Поставить пост на этой дороге гораздо проще, дешевле и эффективнее, чем регулярно гоняться на машинах за бесчинствующей молодежью.
Наконец, криминологи всего мира знают, что эффективность судебной системы напрямую зависит от скорости рассмотрения дел. Во Франции нередко можно встретить ситуацию, когда преступник, дело которого только начинает рассматриваться судом, успел совершить еще два преступления, материалы по которым ждут своей очереди на рассмотрение, и продолжает заниматься все тем же.
Нельзя сказать, что ничего не делается для снижения уровня преступности. В последние годы существенно увеличена численность полиции, причем прежде всего за счет создания рабочих мест для молодежи. Другой заметной мерой стало введение постов полиции – нечто вроде филиала комиссариата, выдвинутого вглубь территории проблемного района. Однако в отсутствие дополнительных мер и при общей неспособности пресекать противоправные действия молодежных преступных группировок судьба таких постов зачастую печальна. Их регулярно поджигают, а в Лилле, крупнейшем городе на северо-востоке страны, местная шпана закрасила стеклянные стены здания, через которые полицейские, как предполагалось, могли наблюдать за происходящим на улице. Символ вездесущего ока полиции превратился в воплощение ее неспособности защитить даже саму себя.
Единственная предлагаемая сейчас мера, связанная с ужесточением положения типичных французских правонарушителей, – депортация нелегальных иммигрантов, преступивших закон. Это – серьезное изменение в политике государства: до сих пор общество предпочитало, несмотря ни на что, защищать таких людей из соображений гуманности.
Высылка, пожалуй, единственное, чего боятся иммигранты. Однако и эта мера не сможет существенно изменить ситуацию. Во-первых, изгнание из страны будет иметь единичный характер, поскольку с массовой депортацией приезжих французская экономика вряд ли справится. Во-вторых, нелегалы уже сыграли свою роковую роль в становлении современного французского криминала. Будучи вне закона, они просто не имели иного выбора, кроме как заниматься противозаконной деятельностью. Уже выросло новое поколение, состоящее из граждан Франции, и оно переняло эстафету.
Принимаемые меры однобоки, разрозненны, как и прежде, и недостаточно решительны. Без коренной реформы всей системы правоохранительных органов, включая законодательство, полицию, жандармерию, суды и органы исполнения наказаний, кардинально изменить ситуацию не удастся.
КОНФЛИКТ МЕНТАЛИТЕТОВ
За свою историю Франция приняла огромное количество приезжих, однако проблемы возникли только с выходцами из мусульманской Африки. Подавляющее большинство поляков, русских, венгров и представителей других национальностей Восточной Европы, выполнявшей роль поставщика рабочей силы в конце ХIХ – начале ХХ века, окончательно ассимилировались уже во втором поколении. Евреи, армяне и ливанцы ассимилируются гораздо медленнее, но зато составляют едва ли не самую добропорядочную часть населения; именно из них во многом состоит экономическая и культурная элита страны. Китайцы и вьетнамцы живут настолько замкнуто, что об их делах никто ничего не знает. Криминалитет там, конечно, существует, но в основном в рамках диаспоры.
Что же касается бунтовщиков с городских окраин, заселенных в основном иммигрантами из мусульманской Африки, то их главным отличием является уважение к силе. Нет, не надо устраивать массовых избиений и арестов – ведь пока хулиганы достаточно редко атакуют полицию с целью убить или причинить увечье. Но нельзя оставлять без внимания ни одно из проявлений агрессии, пусть даже словесной, поскольку в противном случае они множатся и принимают более опасные формы.
Однако современное французское общество в погоне за демократическими ценностями разучилось демонстрировать силу. Между тем для того чтобы дать отпор хулигану, зачастую достаточно просто положить руку ему на плечо или осадить его спокойным и уверенным голосом. Я сам, будучи атакован группой подростков, задиравших пассажиров на автобусной станции, заставил их развернуться и уйти, твердо произнеся одну лишь фразу: «Хочешь поговорить? Ну, подойди!»
В то же время в поведении французов слишком хорошо заметно – скорее всего, даже неосознанное – чувство превосходства, связанное в первую очередь с тем, что жители Франции привыкли ощущать себя центром огромной мировой империи. Иммигранты не могут не видеть это. Уничижительные высказывания министра внутренних дел Николя Саркози в адрес участников беспорядков – это не что иное, как проявление французского менталитета. Любой разумный человек понимает, что такое поведение роняет достоинство чиновника столь высокого ранга, и ему тем более не пристало высказываться подобным образом в подобной ситуации. Однако министр не только не раскаивается, но и считает, что поступил правильно. Точно так же ведут себя и другие французы. Я лично был свидетелем того, как сержант полиции, которого вывели из себя мелкие нарушители – граждане Франции марокканского происхождения, не сдержался и крикнул им: «Выходите из машины, собаки!» Ни к чему хорошему это, естественно, не привело.
В течение десятилетий на темы, связанные с различиями в менталитетах и ассимиляцией иммигрантов из Северной Африки, было наложено табу, поскольку подобные дискуссии считались несовместимыми с принципами демократии и борьбы с ксенофобией. Но замалчивание проблемы уже привело к нарастанию межнациональной неприязни и введению комендантского часа, что никак не согласуется с нормами демократии.
Выход будет найден только тогда, когда страна начнет открыто и свободно обсуждать эти вопросы. И только тогда, когда изменятся и правоохранительная система, и коренные французы, и сами иммигранты.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























