Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Время принимать антикризисные меры на Амуре.
«Работа над ошибками» – под таким девизом в этом году, по мнению многих, должен пройти промысловый сезон на Амуре. Непростая и неоднозначная ситуация на лососе в 2017 году, а перед этим и слабая для многих предприятий корюшковая путина лишь обострили вопросы по регулированию промысла на реке. Перемены местные рыбаки увидели уже этой весной, когда на зубатке объемы вылова, включая резервный, были распределены и закреплены по районам.
Рыбопромышленники, чьи участки расположены выше от устья Амура, такую схему считают правильным решением, которое поможет отловиться и им. Но, добавляют, для улучшения общего состояния промысловых запасов на реке необходим комплексный подход.
Своим видением того, какие шаги способны помочь в этой работе, с корреспондентом журнала «Fishnews – Новости рыболовства» поделился председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.
– Максим Александрович, для начала давайте актуализируем информацию по вашему объединению: сколько компаний сегодня входит в АРУК?
– На сегодняшний день мы представляем интересы уже 25 предприятий (в этом году в ассоциацию вошло еще три компании). Все это представители Нижнего Амура (ниже Хабаровска), за исключением устья реки и лимана.
– Год для членов ассоциации начался с корюшковой путины.
– Промысел малоротой корюшки стартовал в январе, на «азиатке» (корюшке азиатской зубастой – прим. ред.), которая представляет больший интерес на рынке, компании начали работать с 15 марта. Стартовала путина для нас на позитивной ноте в плане организации промысла – хотелось бы это отметить. Полагаю, это говорит о том, что ошибки прошлого года учитываются и краевое минприроды и комитет рыбного хозяйства взялись за дело с новым настроем. Надеемся, что работа продолжится в том же духе.
Со своей стороны, мы готовы развивать диалог с властями, наукой, коллегами и предлагать свое видение и варианты того, как улучшить ситуацию на Амуре. Мы говорим о необходимости разработки целостной модели управления промыслом и распределения промысловой нагрузки на реке.
– Т.е. ваши предложения комиссия по анадромным приняла во внимание?
– Преждевременно говорить о том, что с нами согласились. Но, по крайней мере на корюшке, мы увидели, что олимпийская система отменена и основной объем, и резерв были распределены и закреплены по районам. В этом, конечно, для районов, расположенных выше устья, есть определенный плюс. Кроме того, было решено не добавлять объемов, по крайней мере пока районы полностью не освоят выделенные им лимиты.
Важно, чтобы комиссия не отошла от этого принципа и в период лососевой путины. Т.е. чтобы не получилось так, как в прошлом году, когда резерв, закрепленный изначально за Ульчским районом, достался соседнему Николаевскому району только потому, что тот, благодаря географическому преимуществу, первым выбрал свои объемы и был готов продолжать промысел. При таком раскладе, по сути, вновь получится олимпийская система, которая на реке неприемлема.
ВСЕ ВНИМАНИЕ НА НЕРЕСТИЛИЩА
– Какие ключевые моменты и почему, на ваш взгляд, должны войти в новую модель управления промыслом на Амуре, предлагаемую вами?
– Когда мы говорим о своих предложениях и своем видении «идеального мироустройства», то акцентируем внимание на трех основных моментах, которые важно реализовывать одновременно – в этом и заключается комплексность.
Первое – это распределение и закрепление всех объемов за районами по муниципальному признаку (сейчас мы это увидели на корюшке). Второе – это разделение рекомендованного наукой объема вылова на несколько частей для того, чтобы в случае ошибочного прогноза была возможность вовремя среагировать и за счет корректировки еще не освоенных частей снизить промысловую нагрузку на ресурс. И третий компонент этой формулы – право на вылов второй и последующих частей разделенного объема должны предоставляться району только после того, как соседний район, расположенный выше по реке, освоил предыдущую часть своего объема минимум на 50%.
Еще раз отмечу, что эти условия – неотъемлемые части одной системы.
Кроме того, для нормальной промысловой нагрузки и защиты анадромных видов рыб на Амуре нам необходимы проходные дни, которые вводились бы с первых дней путины по составленному заранее графику со смещением. Т.е. сразу проговаривается, в какие дни и сроки будет останавливаться промысел для пропуска производителей к нерестилищам (со смещением проходных периодов по дням недели последовательно для каждого района с учетом скорости движения стада). А уже потом, если вдруг ход рыбы во время путины окажется очень хорошим, можно отменять эти дни. Подобная схема используется на Камчатке.
– Действующая сейчас на Амуре схема проходных дней, на ваш взгляд, менее эффективна?
– В раннем закрытии промысла, который у нас предполагается применять как основной регулирующий инструмент, мы видим опасность. Поясню, в чем она заключается. С учетом промыслового перекоса в сторону устья Амура и Амурского лимана основные промысловые усилия приходятся на эту часть реки. В результате основная часть рыбы вылавливается здесь, а потом, когда выясняется, что на нерест ничего не проходит, путина закрывается, и в итоге все вышерасположенные районы свои объемы выбрать не успевают.
Да и на качестве будущих поколений, по крайней мере по лососю, это тоже отражается, т.к. некоторые стада производителей принимают на себя большую нагрузку, чем другие. Как следствие, некоторые реки остаются пустыми, как это было, например, на летней кете в 2017 году. Тогда устьем и лиманом было выловлено 95% лимита по летней кете, а исследования, которые мы проводили с ХфТИНРО, показали, что на нерестилище пришло мизерное количество производителей – всего 0,04 особи на 100 кв. метров (при оптимуме – от 30 до 70 экземпляров на 100 кв. метров).
В то же время спланированные с первых дней путины по календарю проходные периоды позволят более равномерно пропускать рыбу на нерестилища, сколько бы «толчков» (ходов) рыбы за путину ни происходило.
Ну, а дальше, ориентируясь на заполнение нерестилищ, можно корректировать график проходных периодов.
– Но существует и противоположное мнение: большая протяженность Амура не позволит достаточно оперативно регулировать промысел, если ориентироваться на заполнение нерестилищ.
– Во-первых, опыт 2017 года показал, что промысловая нагрузка настолько велика, что, если ее не уменьшить, будет выловлена вся рыба, которая только вошла в Амур.
Во-вторых, не все виды лосося (а мы сейчас говорим в первую очередь про лососевую путину) преодолевают до нерестилищ такие большие расстояния. По горбуше и летней кете вполне можно отслеживать ситуацию уже с нижних нерестилищ (это район реки Амгуни, Ульчский район), а также ориентироваться на наблюдения ученых на полевых контрольных пунктах.
Осенняя кета – да, действительно поднимается по реке на сотни километров. Ее можно отслеживать не по нерестилищам, а по интенсивности хода в каждом муниципальном районе. Т.е. если в вышележащем районе наблюдается интенсивный продолжительный ход осенней кеты, то в районе, расположенном ниже по реке, можно рассматривать вопрос по сокращению или отмене мер, направленных на снижение интенсивности промысла.
Методика по каждому стаду должна быть своя.
– Т.е. вы предлагаете, чтобы наука рекомендовала, сколько и в каких районах осваивать исходя из количества нерестилищ?
– В этом есть логика. Другой вопрос, что нужно актуализировать научные знания о том, кто, где и когда нерестится; составить карту нерестилищ с процентным соотношением тех или иных стад в общем объеме заходящего в Амур лосося, чтобы четко представлять структуру этого объема и соответственно распределять промысловую нагрузку. Но это в идеале.
В любом случае после 2017 года должны, на наш взгляд, приниматься антикризисные меры. Считаю, лучше в данном случае перестраховаться и в случае явно позитивного сценария путины смягчать меры регулирования.
– Это подразумевает большую исследовательскую работу. Достаточно ли у отраслевой науки для этого ресурсов?
– Мы обсуждаем наше участие в научно-исследовательском процессе, то, чем мы способны помочь нашей науке. И одно из исследований, которое мы хотели бы поддержать, это как раз изучение распределения рыб по нерестовому фонду Амура. Полагаем, что объединение потенциала разных отраслевых научных подразделений и рыбацкой общественности дало бы хороший результат.
С ПРАВОМ НА ОШИБКУ
– Кстати, вы можете сказать, какой процент в вылове по Ульчскому и Комсомольскому районам приходится на горбушу, а какой на кету?
– Раньше, по крайней мере по Ульчскому району, летняя кета составляла основу вылова (раньше – это до 2010-2012 года, т.е. не так давно). Затем шли кета осенняя и горбуша. Сейчас ситуация поменялась: на первом месте осенняя кета, далее – горбуша (по четным годам), а летней кеты не стало совсем.
– В этом году наука дает оптимистичный прогноз по горбуше Охотского моря. Вы уже обсуждали в ассоциации, как это отразится на уловах ваших предприятий?
– Главное, чтобы прогнозы оправдались. Мы с осторожностью относимся к озвученным цифрам, ведь изначально наука говорила о 18 тыс. тонн, потом Москва скорректировала цифру до 30 тысяч. На наш взгляд, стоило бы как раз попробовать разделить этот объем, допустим, на три части по 10 тыс. тонн с условием, что каждый из районов сможет приступить к освоению следующей части, только ориентируясь на успехи соседнего района. Считаем, что это позволило бы рациональнее распределить промысловую нагрузку внутри районов и, в случае ошибки в прогнозах, избежать серьезных негативных социальных последствий в крае.
СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА
– В 2017 году большая работа совместно с учеными была проделана по изучению орудий лова, оптимальных для использования на Амуре в качестве альтернативы плавным сетям. Будут ли продолжены исследования?
– Эта работа, в которой активно участвовали компании нашей ассоциации, обязательно будет продолжена. Более того, мы хотим расширить проект. Кроме того, запланирована совместная работа по исследованию ската малька.
– С краевыми властями как планируете выстраивать работу?
– Рассчитываем в этом году на более плотное сотрудничество с министерством природных ресурсов Хабаровского края и комитетом рыбного хозяйства. Есть надежда, что диалог с местными властями сложится в формате рабочих групп при минприроды и при краевой Думе. На общей площадке, где все будут иметь право высказаться по насущным вопросам, будет легче вырабатывать единый подход.
– В сфере охраны водных биоресурсов и взаимодействия с территориальным управлением Росрыболовства у АРУК тоже большие планы?
– Мы хотим направить на рыбоохрану больше усилий (в рамках своей компетенции). Поможет нам в этом более активное привлечение сил казачества. Мы полностью разделяем позицию руководства Амурского теруправления, что у казаков гораздо больше опыта и возможностей в охранной сфере, что они более организованы и морально подготовлены к выполнению такой работы, нежели общественные инспекторы.
Поэтому везде по Амуру мы планируем общественников максимально заменить дисциплинированным, патриотически настроенным казачьим войском. Соответственно будем планировать распределение финансовых обязательств на эти нужды между членами ассоциации.
– А что, на ваш взгляд, должно стать индикатором того, что работа по регулированию промысла на Амуре будет выстраиваться правильно?
– Ответ очевиден – это заполнение нерестилищ. Во-вторых, равный доступ к ресурсам для всех пользователей. И, в-третьих, эффективный диалог со всеми ответственными и заинтересованными сторонами. А нормальная социальная обстановка в крае станет следствием достижения этих целей.
Наталья СЫЧЕВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли.
Успешное прохождение процедуры перезаключения договоров на 15 лет – важнейшая задача для Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, отмечает руководитель объединения Максим Козлов. О волнующих рыбаков вопросах он рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».
– Максим Георгиевич, 26 февраля вы выступали на Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Каковы впечатления от съезда? Обсуждалась важность сохранения исторического принципа, работа по распределению квот на 15 лет, налоговое регулирование и многие другие темы. Какие вопросы вы бы выделили?
– Хочется отметить, что съезд получился насыщенным, рыбаки были настроены на откровенный диалог с властью, рассчитывали получить ответы на волнующие вопросы. Красной нитью в выступлениях проходила тема исторического принципа распределения квот. Я также остановился на важности сохранения этой системы. Предложение вернуть аукционы вызвало бурное обсуждение в рыбацкой среде. Такие встряски в отрасли ни к чему хорошему не приводят, они дестабилизируют работу рыбохозяйственного комплекса – об этом сказал на съезде практически каждый.
Вице-премьер Аркадий Дворкович, к чести его, от ответа на вопросы не ушел. Еще в самом начале съезда он остановился на темах, волнующих рыбаков. Зампред правительства подтвердил, что предложение по аукционам поступало. Ведомствам поручено подготовить расчеты последствий реализации этой инициативы. Вице-премьер согласился с тем, что, конечно, нельзя в рамках закрытых, кулуарных обсуждений решать столь стратегические для отрасли вопросы, да и вообще вырабатывать общий подход к системе регулирования, выстраивания отношений между государством и рыбаками. Рыбопромышленникам пообещали, что будут проанализированы все возможные факторы риска, с рыбацким сообществом открыто вступят в беседу.
– Стоит отметить, что в регионах очень активно отреагировали на предложения об изменении принципа распределения квот. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области оперативно обратилась по этому вопросу в региональную Думу и предупредила о последствиях таких встрясок широкую общественность.
– Если говорить о Сахалине, то возможные инвестиционные потери в случае перехода к крабовому аукциону мы оцениваем примерно в 17 млрд рублей. Под угрозой в этом случае оказываются вложения компаний в проекты по строительству судов и береговых заводов. Такие изменения принципа распределения квот ставят под удар и социальные проекты, которые реализуют наши рыбаки. Это инициативы в сфере поддержки спорта, талантливой молодежи, проекты в сфере развития туризма, гостиничного бизнеса и т.д.
«Крабовые новации» затрагивают судьбу 2 тыс. человек, работающих непосредственно на флоте, а с семьями и сменными экипажами – около 5 тыс. человек. Но это как минимум. Никто не гарантирует, что компании, которые могли бы получить крабовые квоты на аукционах, имели бы отношение к Сахалинской области – возникают риски для пополнения бюджета региона.
В своих обращениях к регулятору, к депутатам областной Думы мы постарались акцентировать внимание на том, что вопрос касается не только отдельных компаний, занимающихся промыслом крабов. Это важная тема для населения прибрежных субъектов РФ в целом. Даже те, кто не имеет прямого отношения к рыбной отрасли, могут почувствовать на себе негативные последствия ухудшения инвестиционного климата.
Мы провели пресс-конференции, объяснили свою позицию. Областные депутаты поддержали нас, направили обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину: парламентарии попросили в случае обсуждения вопроса о пересмотре существующего порядка закрепления долей квот учесть интересы Сахалинской области и сохранить базовый принцип предоставления прав на вылов. Хочется поблагодарить областную Думу за поддержку.
– На аргумент о потере рабочих мест может прозвучать возражение, что, даже если доли квот перейдут в другие руки, объемы все равно должен будет кто-то осваивать, содержать флот.
– Но однозначно есть риск потери налоговых отчислений от предприятий отрасли, зарегистрированных на территории прибрежных регионов. Кроме того, как показывает практика, со сменой хозяина однозначно меняется общая политика ведения бизнеса. И если доли квот перейдут к другим пользователям, то они задействуют свой флот, свои кадры. У нас суда зарегистрированы в портах Сахалинской области – Корсакове, Невельске. Речь идет о большом комплексе, разрыв связей внутри которого неизбежно приведет к социальным потерям, высвобождению рабочих мест.
– По распределению квот на следующие 15 лет посыл прозвучал следующий: к заявительной кампании необходимо подойти с четкой правовой базой, понятными механизмами.
– Действительно, на съезде заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что все вопросы до 1 апреля (до начала приема заявок о закреплении долей квот – прим. корр.) будут сняты. На мой взгляд, эта задача выполнена.
Из правил распределения квоты, утвержденных постановлением Правительства от 30 января 2018 года № 88, убрали подпункт «д» пункта 24. Это основание для отказа в закреплении доли квоты вызвало серьезное беспокойство, ведь под угрозу ставилось заключение договоров с компаниями, получившими право на добычу в результате реорганизации на основании универсального правопреемства. Потери могли быть огромные.
Прозрачность процедуры, на наш взгляд, поможет обеспечить привлечение к рассмотрению заявок представителей бизнес-сообщества. Я, как руководитель ассоциации, также приму участие в этой работе.
– Я так понимаю, ассоциация активно включилась в процесс и готова оказывать содействие предприятиям, если у них возникнут вопросы?
– Конечно. На данном этапе мы постарались максимально помочь пользователям в подготовке документов для перезаключения договоров.
– Вы упомянули прибрежное рыболовство: с 2019 года оно фактически перейдет на новые правила. Здесь есть вопросы у предприятий или эта тема в связи с инвестиционными квотами, в связи с заявительной кампанией отошла пока на второй план?
– Вопросы есть. Вообще выходит такое количество нормативно-правовых актов, что не всегда получается быстро среагировать на риски. К тому же сразу понять, где узкие места документа, можно только по прошествии времени, когда он уже начнет действовать.
В частности, есть опасения, связанные с переоформлением рыбопромысловых участков для добычи тихоокеанских лососей. По закону, с 2019 года договоры о предоставлении в пользование рыбопромыслового участка для прибрежного рыболовства в отношении анадромных видов рыб без торгов переоформляются на договор пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства. Однако ничего не сказано о том, как быть с договорами на РПУ для промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб. На Сахалине таких участков немного, но они есть, и ситуация нуждается в осмыслении.
– Инвестиционные квоты – по области на них заявилось не так много компаний. Однако тема для отрасли важная, нельзя ее обойти.
– Мы видим, что на Дальнем Востоке самым востребованным оказался ресурс, который выделяется на строительство береговых заводов. Механизм запущен, посыл, видимо, верный. Люди начали строить предприятия, появятся новые рабочие места, будет приток ресурса. И, конечно, это скажется на развитии береговой переработки и на развитии региона в целом.
По понятным причинам не так много компаний заявилось на получение инвестквот под постройку судов. Это дорогостоящие проекты, и рыбаки, скорее всего, видят существенные риски строительства флота на российских верфях. Очень давно ничего здесь не строилось, нет пока четких, современных проектов. Не менее важно и то, что техническое оснащение судна будет зарубежным, комплектующие будут привозными. А это дорого. Поэтому экономическая отдача от вложений будет более длительной, чем от строительства берегового завода. Но как показала практика, рыбаки включились в работу, увидели перспективу и процесс идет.
– Впереди лососевая путина. Прогнозы науки на этот год вроде бы дают поводы для оптимизма.
– Да, осенняя съемка, проведенная учеными в Охотском море, показала рекордное количество горбуши. Большая часть этой рыбы, по данным специалистов, пойдет на Камчатку, но мы надеемся, что и путина в Сахалинской области будет успешной. Информация от рыбаков позволяет предположить, что предстоящий промысловый сезон будет аналогичен путине 2016 года.
В принципе, она была неплохой для Сахалина, говорить, что произошла катастрофа, как некоторые утверждают, нельзя. Сейчас мы готовимся к промыслу.
По поручению заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича была создана рабочая группа по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. В ее состав вошли представители федеральных ведомств, руководства региона, отраслевых объединений, науки. Уже прошло несколько обсуждений, надо отдать должное руководству Росрыболовства – оно глубоко погрузилось в наши местные вопросы. Думаю, какие-то моменты к путине исправим.
Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Илья Шестаков: надеемся на рост темпа вылова рыбы в России в 2018 году.
Вылов рыбы в России в нынешнем году пока ниже, чем в прошлом. Однако в Росрыболовстве надеются, что он активизируется, а его итоговые объемы в нынешнем году будут сопоставимы с рекордным прошлым годом. Об этом, а также о проекте добровольной маркировки икры, стимулировании ее производства в России и борьбе с браконьерством в интервью корреспонденту РИА Новости в Брюсселе рассказал глава ведомства Илья Шестаков.
— Вы говорили ранее, что объем вылова рыбы в этом году в России ожидается на уровне рекордного прошлого года. Глядя на последнюю динамику вылова, эта оценка сохраняется?
— Пока мы идем со снижением к прошлому году. Добыто более 1,7 миллиона тонн, недолов незначительный — около 2%. Снижение наблюдается практически по всем бассейнам, за исключением северного и западного. Но наши ожидания сохраняются. В северном бассейне, например, прибавка почти 40% на данный момент, возобновили промысел мойвы после двухлетнего запрета, по треске хорошая динамика. Надеемся, что сможем нарастить темпы вылова в этом году.
— Ранее на заседании правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ рыбаки подняли вопрос по крабам. Ранее вы говорили, что механизм распределения квот между рыбаками на вылов краба пока не определен. Есть ли какой-то срок, когда это может произойти?
— Уже есть. Заместитель председательства правительства Аркадий Дворкович поручил по итогам заседания предоставить информацию об экономических последствиях проведения торгов к середине мая. При этом параллельно мы работаем над постановлением правительства по распределению инвестиционных квот на крабов. По сути дела, должен быть принят либо тот, либо другой вариант.
— Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщал, что постановление по механизму распределения инвестиционных квот крабов под строительство краболовов должно быть внесено в правительство к 1 июня. Это реально?
— Да, постановление полностью готово. Есть ряд разногласий с другими ведомствами, например, где и в каком количестве должны строиться краболовные суда для нужд дальневосточного бассейна. Сейчас подпишем протокол по разногласиям, оформим их, и, думаю, в начале мая сможем внести постановление в правительство.
— По поводу красной и черной икры. Когда может быть введена маркировка или хотя бы запущен пилотный проект?
— Пока не можем говорить о сроках. К сожалению. Конечно, нас не совсем устраивает это промедление. Но форсировать события мы не можем. За внедрение всей системы, не только по рыбной продукции, ответственный Минпромторг. И окончательного понимания, как вся система должна будет выглядеть, нет. Нет не только по икре, а по всему перечню продукции.
— Может быть, стоит ждать каких-то пилотных проектов?
— Сейчас прорабатывается возможность проведения добровольного эксперимента с Союзом осетроводов. Мы провели работу, собрали и включили в реестр предприятия, которые занимаются производством осетровой продукции. Это необходимо, чтобы понимать, какой объем легальной продукции они могут производить в течение определенного периода времени. На итоговом заседании 2017 года госкомиссией принято решение о проработке с бизнес-сообществом конкретных предложений по маркировке товаров в приоритетных отраслях. Эксперимент будем готовить. Но он добровольный, ни к чему не обязывающий — можно сказать, предварительный набросок этой системы.
— Когда предложение о добровольном эксперименте может появиться?
— С основными ассоциациями и участниками рынка договоренность достигнута. Думаю, что до конца лета закончим подготовительную работу и приступим непосредственно к реализации.
— А как участники отрасли реагируют на это предложение?
— Конечно, есть компании, не заинтересованные в системе. Но нам это может дать дополнительное видение того, какова доля на рынке предприятий, которые либо легализуют китайскую продукцию под видом своей, либо мешают продукцию с браконьерской.
— Рассматривает ли Росрыболовство возможность предложить правительству РФ субсидировать из бюджета либо иным способом простимулировать рыбаков и производителей рыбной продукции на создание собственных точек продаж, чтобы снизить число спекулянтов?
— Абсолютно нет. Нам кажется, что торговля может нормально развиваться и без субсидий. Мы не видим среди наших задач сделать так, чтобы рыбаки создавали свои магазины. Нацеливаем их на прямые контакты с розничными операторами — это правильно с точки зрения ликвидации лишних посредников и формирования прозрачного ценообразования. Вместе с тем есть случаи, когда предприятия начинают по собственной инициативе развивать моно-магазины, и всячески это приветствуем. Дополнительный канал сбыта еще никому не повредил, опять же это инструмент маркетинга, продвижения и популяризации отечественной рыбной продукции.
— Обсуждается ли вопрос выделения субсидий из бюджета на перевозку рыбной продукции, в том числе железнодорожным транспортом?
— Нет. Он в свое время обсуждался и был признан нецелесообразным. Регулируемый тариф составляет порядка 6-7 рублей, поэтому он не является серьезным обременением для конечной стоимости рыбы на прилавках магазинов. В рамках рабочей группы с ОАО "РЖД" нам удалось о многом договориться. Смогли добиться того, чтобы во время пика сезона добычи рыбы на Дальнем Востоке тарифы перевозки до центральной части России не росли, а также запустили маршрутные ускоренные поезда.
Сейчас обсуждается другой вопрос, который связан со стратегией в области доставки скоропортящихся продуктов. Есть понимание, что необходимо переходить к более прогрессивным методам перевозки — рефрижераторными контейнерами. Поэтому рассматривается вопрос понижения тарифа именно на перевозку рефрижераторными контейнерами до уровня стоимости (перевозки — ред.) универсальными контейнерами. Этим занимается Федеральная антимонопольная служба, но, насколько мне известно, обсуждение идет к концу, близится решение.
— Правильно ли я пониманию, что тут речь идет не только о снижении тарифа, но и о дополнительном субсидировании?
— Нет, только о снижении железнодорожного тарифа. Таким образом государство стимулирует логистические компании к переходу на перевозки рефрижераторными контейнерами.
— Когда может произойти изменение этого тарифа?
— Насколько мне известно, этот вопрос находится на финальной стадии.
— В июне прошлого года вы говорили, что России к 2030 году необходимо выйти на уровень производства черной икры в 180 тонн в год. Это по-прежнему реально?
— Ну да. Этот показатель заложен в стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которую мы просчитывали, обсуждали с отраслевым сообществом.
— Что нужно начинать делать уже сейчас, чтобы за эти годы столь серьезно нарастить производство?
— Если мы внедрим систему поддержки аквакультурных предприятий за счет субсидирования капитальных затрат, так, как это сделано по ряду направлений в сельском хозяйстве, я думаю, это может дать толчок развитию данного сектора. Для таких капиталоемких проектов с высокими сроками окупаемости, как осетроводство, подобные программы (государственной поддержки — ред.) имеют очень важное значение.
— Вы говорили, что уже было распределено под аквакультуры 500 тысяч гектаров. Сколько планируется выделить в этом году?
— Сейчас в пользовании находится более 456 тысяч гектаров — 3,4 тысячи участков. При этом общий фонд рыбоводных участков, с учетом сформированных, но еще не распределенных, составляет 543 тысячи гектаров, то есть до конца года планируем распределить около 87 тысяч гектаров. Например, на начало июня запланирован электронный аукцион в Приморье, где в свободном фонде находится 80 рыбоводных участков. Приморский край — очень перспективный регион для развития марикультуры, уже распределены 204 участка общей площадью более 41 тысячи гектаров.
— Какова сейчас ситуация с браконьерством? Наблюдается ли сокращение объемов такой деятельности?
— Вопрос сложный, потому что оценить масштабы браконьерской деятельности непросто. Мы прикладываем большие усилия во время проведения лососевой путины, важным направлением является и работа по пресечению нелегального вылова осетровых и оборота продукции из особо ценных видов рыб.
Объем задержаний (браконьеров — ред.) за 2017 год вырос, динамика повышающая. Говорит ли это только о том, что повышается эффективность работы рыбоохраны или это говорит и о том, что появляется больше нарушителей, сказать однозначно сложно. Однако в целом, конечно, мы понимаем, что с учетом экономической ситуации количество браконьеров меньше не становится.
Мы, конечно, не сидим сложа руки. В условиях острой нехватки инспекторов рыбоохраны разработаны схемы взаимодействия с другими ведомствами, объединяем усилия. Заключены и реализуются соглашения и планы взаимодействия с МВД, Пограничной службой ФСБ России, в прошлом году к работе по противодействию незаконному промыслу подключилась Росгвардия. Уже готовы поправки в законодательство о перекрестных полномочиях инспекторов рыбоохраны с сотрудниками лесоохраны и охотнадзора. Кроме того, мы разработали концепцию совершенствования и развития органов системы охраны водных биоресурсов, которая, как ожидаем, будет утверждена летом. В числе ее основных направлений — увеличение штатной численности инспекторов рыбоохраны и улучшение их технического оснащения.

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли.
Уже 15 лет АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» целеустремленно занимается освоением глубин Тихого океана и его морей, организовав за эти годы устойчивый промысел крабов и рыбы на глубинах 1,2 км.
Недавно озвученные академической наукой предположения об огромной биомассе на больших глубинах подтверждает практическая работа судов «Востока-1». Годы усилий, огромные вложения в проведение исследований совместно с отраслевой наукой – ТИНРО-Центром, модернизация судов и большая концентрация рыбы и краба на уже освоенных глубинах 1,2 км дали компании прекрасную экономику. Предприятие увеличило флот, создало новые рабочие места, в разы повысило налоговые отчисления в бюджет. Такие результаты подтвердили оправданность работы на больших глубинах и верность выбора этого направления для развития.
Пробные постановки орудий лова на глубинах до 2,5 км показали еще более значительные запасы гидробионтов, которые открывают принципиально новые возможности для отечественного рыбного хозяйства. И РК «Восток-1» приступил к следующему этапу - освоению и организации промысла на глубине 2,5 км. Опыт «Востока-1» будет, безусловно, полезен для всех рыбодобывающих организаций Дальневосточного бассейна, отмечают в компании.
О том, как «Восток-1» осваивает новейшее направление развития отрасли, Fishnews рассказал генеральный директор компании Александр Сайфулин.
НОВЫЙ ПУТЬ
– Александр Николаевич, насколько перспективны сейчас глубоководные промыслы?
– Судя по полученным фактическим экономическим результатам, это огромная перспектива для отрасли. Она позволяет уже не только нам, пока единственной компании, действующей в диапазоне больших глубин, но и всем остальным рыбацким компаниям Дальневосточного бассейна значительно улучшить свою экономику. Эта тема ранее никого, кроме «Востока-1» и ТИНРО-Центра, не интересовала, но в этом году она замечена, обсуждение вышло на высочайший уровень, что нас, безусловно, радует.
В феврале во Владивостоке состоялась конференция, на которой был представлен проект комплексной целевой программы научных исследований для рыбного хозяйства с перспективой до 2030 года. На встрече ученые выразили общее мнение: обозначили как одно из наиболее перспективных направлений для страны глубоководные исследования и организацию промысла. О важности глубоководных промыслов говорили и на отчетной коллегии Росрыболовства.
Расскажу подробнее о роли этого направления для отрасли. Прежде всего, мы получаем абсолютно нетронутый пласт объектов – рыб и беспозвоночных. До настоящего времени промышленность была занята уже известными и понятными делами – по вылову, переработке и реализации гидробионтов, добываемых в традиционных районах промысла. Предприятия направляли усилия только на то, чтобы выжать из давно освоенного ресурса максимальную прибыль. Водные биоресурсы на небольших глубинах континентального шельфа просто и привычно ловить. В этом заложен риск для всей отрасли: нельзя постоянно идти по проторенному пути, наращивая отдачу от одного запаса и, по сути, нещадно его эксплуатируя.
Наше рыбное хозяйство уже знакомо с взлетами и падениями численности основных объектов промысла, ситуация неминуемо повторится в будущем, возможно, в недалеком. Однако природа всегда предлагала рыбакам варианты. Например, 50 лет назад такой альтернативой стал минтай, который до того времени считался сорной рыбой, не пригодной в пищу. Сейчас это приоритетный объект.
Чтобы не подвергать отрасль очередному сырьевому кризису и не сталкивать рыбаков в борьбе за имеющиеся лимиты, можно пойти по новому пути. Направить усилия на глубоководный промысел и тем самым ослабить пресс на активно используемые биоресурсы и обеспечить их сохранение.
Конечно, как и все новое, это направление, по опыту РК «Восток-1», требует значительных инвестиций, интеллектуальных вложений и научно-технических усилий. Только от одного упоминания глубины дух захватывает – два с половиной километра! Такая цифра сегодня для многих предприятий выглядит недостижимо, но если подумать – что важнее: выложить сотни миллионов и получить право на облов уже жестко эксплуатируемого запаса либо направить те же средства в переоснащение или обновление флота, в получение нового опыта и в современные технологии? Еще десять лет назад эти рассуждения больше подходили бы для фантастического романа, а сегодня благодаря реальным результатам нашей компании по освоению больших глубин о таком промысле можно говорить как о реальной перспективе. Мы получили недорогие объекты, продукция из которых доступна людям со средним достатком. Это большой социальный и маркетинговый плюс для реализации гидробионтов больших глубин. Мы добываем таких объектов на промысловое усилие значительно больше, и в этом экономическое преимущество работы на значительных глубинах.
КАК ПОКОРЯЛИСЬ ГЛУБИНЫ
– Расскажите, как «Восток-1» приобретал такой опыт?
–В начале века, накопив средств, компания начала практическую проработку совершено нового для России направления – глубоководной добычи рыбы и краба. И годы работы в этом направлении, безусловно, дали нам бесценный опыт. Важнейшим фактором успешности этого эксперимента стала научная поддержка со стороны нашего отраслевого института – ТИНРО-Центра. Именно его материалы легли в основу организации промыслов макруруса и крабов-стригунов красного и ангулятуса на глубинах до 1-1,2 км.
В 2001 – 2002 годах «Восток-1» в невероятно тяжелой и затратной борьбе приобрел на аукционах доли квот этих объектов, взвалив на плечи кредиты в объеме более 12 млн долларов.
Последующие четыре года прошли в борьбе за выживание. Несмотря на долговую кабалу, компания смогла провести первую модернизацию судов, чтобы начать эффективно работать на глубоководных объектах.
В 2008 году в отрасли произошло, пожалуй, самое приятное событие за всю историю современного российского рыболовства – распределение долей квот по историческому принципу. Предприятие получило мощный толчок для развития, устойчивую перспективу на 10 лет. От ощущения стабильности появилось чувство уверенности и желание приложить все усилия для освоения глубоководного промысла. Мы начали пополнять флот и провели вторую модернизацию судов, которая позволила нам уверенно работать на глубинах до 1,2 км.
В 2013 году, наконец, пошла отдача от глубоководного промысла в целом: прибыль стала приносить и добыча ранее убыточного макруруса. Мы приступили к гашению кредитов, «висевших» на нас с аукционов 2001 - 2002 годов, выплатив их полностью к 2016 году. Конечно, этот опыт – по освоению нового направления – обошелся в сотни миллионов, но предприятие готово поделиться им со всей отраслью.
КРАБ ПРИВЕЛ К УСПЕХУ
– Вы упомянули целых две модернизации флота. За счет каких средств удалось их провести?
– Эти средства были получены от реализации краба. Именно крабовый промысел дает нам финансовые возможности для реализации перспективных и стратегически важных проектов. Красный краб-стригун и краб-стригун ангулятус недороги по сравнению с опилио и камчатским, но последние три года они дают «Востоку-1» 46% выручки – 16,4 млн долларов в год.
Условная тонна крабовой продукции приносит нам 3,4 тыс. долларов, а рыбной – лишь 1,2 тыс. долларов, то есть втрое меньше. Но даже эти скудные средства позволяют компании инвестировать в развитие глубоководного промысла.
Отмечу: только благодаря лову краба мы смогли освоить глубоководный промысел не только крабов, но и макруруса, что ранее, как я уже говорил, было убыточно. Когда мы начинали заниматься его добычей, эта рыба стоила всего 600-800 долларов за тонну, только недавно цены выросли до 1100-1400 долларов. «Восток-1» почти 10 лет работал по макрурусу в убыток, компенсируя расходы прибылью от краба. Ведь макрурус представляет собой существенный потенциал для промышленности. Это подтверждает наука: на глубинах до 2,5 км обнаружены огромные запасы черного макруруса.
Вот так компания многие годы, невзирая на растущие цены на топливо, долги и другие проблемы, развивала глубоководный промысел, наращивала и модернизировала флот. Со временем затраченные усилия переросли в качество, и сегодня мы можем смело заявить, что добились успеха.
– В чем выражен этот успех? Можете вкратце перечислить основные достижения «Востока-1»?
– За 10 лет наш флот вырос до 17 судов (обновление и пополнение – на 65%), их суммарный тоннаж увеличился с 10 тыс. тонн до 17 тыс. тонн. Инвестиции по этому направлению составили почти 30 млн долларов США.
Общий вылов РК «Восток-1» увеличился вдвое – с 15,7 до 31,2 тыс. тонн. Уловы глубоководных крабов возросли с 4 до 8 тыс. тонн, а макруруса – с 2,8 до 15 тыс. тонн – в 5 раз.
Создано 400 новых рабочих мест, теперь в компании трудится 900 человек. Выручка увеличилась впятеро: с 660 млн до 3,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 50 раз: с 11 до 564 млн рублей. Увеличились и совокупные фискальные сборы – с 60 до 500 млн рублей в год.
За эти годы на государственных аукционах предприятие приобрело 7 тыс. тонн рыбных квот почти на 100 млн рублей. А вот на торгах по квотам глубоководных крабов у нас не хватило средств конкурировать с компаниями, имеющими огромные кредитные ресурсы.
Таким образом, только благодаря увеличению вылова даже самого дешевого глубоководного краба мы смогли реализовать целый комплекс программ и стратегически важных мероприятий. Освоен промысел краба и рыбы на глубине до 1,2 км, открыт перспективный и огромный по запасам объект – черный макрурус, флот компании пополнился специализированными судами для глубоководного лова.
Более того, «Восток-1» продолжит промысловое «погружение»: пройдя уже две значимые отметки – 1 и 1,2 км – предприятие поставило задачу освоения глубин в 2,5 км. Для этого требуется провести уже третью целевую модернизацию промыслового флота, в рамках соответствующей программы одно судно уже модернизировано. Предварительная оценка объема инвестиций по этой третьей модернизации – 6,9 млн долларов.
АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
– Значит, останавливаться на достигнутом не собираетесь?
– Конечно. В 2016 году, делая пробные постановки ярусов и порядков, наши капитаны обнаружили следующее: запасы биоресурсов на бОльших глубинах на порядок выше, чем в традиционных районах промысла. Подтверждаются предположения академической науки. Были достигнуты рекордные суточные выловы: по крабу – до 17 тонн, а по макрурусу – до 47 тонн, и это при добыче судами среднего тоннажа. Такие результаты нас очень вдохновили, и компания занялась новой модернизацией судов.
Совместно с нашим предприятием ТИНРО-Центр разрабатывает программу оценки запасов на сверхбольших глубинах. Ведь сегодня только суда РК «Восток-1» имеют специальные технические комплексы и способны вести промысел на глубинах, превышающих 1,2 км. Расчеты специалистов Дальрыбвтуза показали, что нагрузки, которые действуют на промысловое вооружение на большой глубине, совсем иные, чем на традиционных глубинах. Расчеты подтверждены математически и уже проверены практикой.
Наша программа освоения глубин в этом году была замечена органами власти и совпала с задачей, которую обозначила РАН и поддержал президент Владимир Путин: масштабное изучение глубоководных ресурсов и их практическое освоение и применение.
По факту 2,5 км – это почти неизведанные глубины. Мы по собственной инициативе закупили и оснастили свои суда импортным видеооборудованием для подводных съемок. Также компанию очень заинтересовала информация об автономных глубоководных роботах академии наук. Мы рассматриваем возможность аренды такого устройства или даже заказов специализированных роботов для промысловой разведки на большой глубине. Такой аппарат помог бы изучать запасы, визуально определять поведение гидробионтов. Это даст возможности совершенствовать орудия лова.
Кроме того, совместно с ТИНРО-Центром мы готовим комплексную программу исследований глубоководных ресурсов российского Дальнего Востока, разработки методов оценки этих запасов и их прикладного освоения в рамках проекта «Глубоководный пояс дальневосточных морей».
Еще один важный вопрос, которым мы начинаем заниматься в этом году – активное включение России в промысел в конвенционной зоне северной части Тихого океана. Будем проводить совместное исследование с ТИНРО-Центром. Компания выделит для этой работы ярусолов «Восток-7», успешно освоивший промысел черного макруруса на глубинах 1,5-2,1 км. Уже намечен район - горы Императорского хребта Тихого океана. Затраты будут существенными, но задача – государственной важности, поэтому мы решились на ее исполнение.
В долгосрочной перспективе наш опыт и проекты – это фундамент, который позволит Россия занять и сохранить лидерство в освоении глубоководных ресурсов Мирового океана.
– Являясь пионерами в перспективном направлении, пользуетесь ли вы господдержкой?
– Власть должна стимулировать такие новации, как развитие глубоководного промысла, ведь отдачу от них для всей отрасли трудно переоценить. Однако наше предприятие шагнуло в этом направлении настолько далеко вперед, что оказалось вне сферы действия существующих мер господдержки. «Востоку-1» не помогает даже такой передовой инструмент, как закон «О свободном порте Владивосток», предусматривающий особый режим для реализации инвестпроектов начиная с суммы вложений в 5 млн рублей.
А между тем компания уже вложила в развитие глубоководного промысла более миллиарда рублей, но в статусе резидента СПВ «Востоку-1» отказали. Мотивировка – мы не новое предприятие.
Единственной реальной поддержкой государства для нас стала льгота при оплате сборов за пользование ВБР. Это позволило на пару лет ускорить процесс освоения глубин 1,2 км. И мы питаем надежду, что предприятиям, работающим по очень затратному направлению освоения глубоководных объектов, оставят эту льготу. В нашем случае она позволит в более короткие сроки организовать промысел на глубинах 2,5 км.
РАЗРУШИТЬ ВСЕ – ЛЕГКО
– Существуют ли какие-либо существенные проблемы, которые могут помешать вашим амбициозным планам?
– Увы, да. Сейчас вполне реальной стала перспектива распределения крабовых квот на аукционах. Как когда-то призрак коммунизма по Европе, призрак крабовых аукционов ходит по самым высоким кабинетам власти и грозит материализоваться в очередной отраслевой передел.
Выставление лимитов на торги потребует огромных средств для покупки. А у нас просто нет свободных финансов: все деньги идут на третью модернизацию флота. Так что квоты на аукционах приобретут новички, имеющие капитал и доступ к кредитам.
Также есть опасность того, что глубоководных крабов выставят на торги вместе с обычными шельфовыми крабами. В этом случае – прощайте глубоководные перспективы страны. Новые пользователи не умеют вести промысел на больших глубинах, а наш опыт показал: чтобы организовать устойчивую добычу краба хотя бы на глубине 1,2 км, понадобится не менее десятка лет.
И это не голословные утверждения: в 2008 году квоты глубоководного красного краба-стригуна (японикуса) имели 34 компании, сейчас - всего 15, причем большинству из них мы помогаем осваивать этот ресурс. Сейчас краболовный флот нашей компании добывает более 90% от всего вылова японикуса на бассейне. В случае аукционов РК «Восток-1» лишится средств для развития программы по глубинам до 2,5 км.
Также нам придется прекратить освоение хотя и имеющего огромную биомассу, но пока низкорентабельного макруруса. Придется свернуть важные для страны исследования на большой глубине, потому что ни ТИНРО, ни кто-либо из рыбопромышленников, кроме нас, не имеет судов, способных работать на глубине 2,5 км. Компанию вынудят просто распродать ярусный флот и отказаться от глубоководной программы по макрурусу, которая дотируется из средств, получаемых от продажи глубоководного краба.
– То есть эта перспективная ниша глубоководных промыслов так и останется незанятой?
– Отнюдь. Приоритет освоения глубоководного промысла однозначно перейдет к Соединенным Штатам, ведь в их водах на больших глубинах обитают те же или похожие виды крабов и рыб. Средства массовой информации США следят за деятельностью именно РК «Восток-1» и призывают американские компании следовать нашему примеру. И наших специалистов по глубоководному промыслу примут за рубежом с распростертыми объятиями.
– Что же делать?
– Решение весьма простое: не выставлять на аукционы лимиты крабов, тем более глубоководных. Такие торги не только разрушат наше предприятие с 27-летней историей, но и подорвут развитие отечественного глубоководного лова, усложнят вход России в «свободные» воды Мирового океана.
А введение в промысел краба и рыбы на больших глубинах – до 2,5 км – даст государству огромный дополнительный биологический ресурс. Подсчитать эффективность этого несложно, учитывая размеры запасов, и отчисления в бюджет, несомненно, кратно превысят разовый доход от аукционов. Биомасса глубоководных крабов огромна. По данным российских и японских ученых, она со временем превысит ОДУ всех крабов Дальневосточного бассейна в 60 тыс. тонн.
С глубоководным макрурусом ситуация аналогичная. Судя по уловам судов среднего тоннажа – 40 с лишним тонн за сутки – его биомасса наверняка в дальнейшем превысит запасы минтая.
Надеюсь, что государство, оценив ситуацию, примет верное решение, основанное на здравом смысле, а не на желании получить кратковременную выгоду.
По крайней мере, для РК «Восток-1» - единственной компании в отрасли, реально работающей над развитием глубоководной программы Дальневосточного бассейна, и ведущей эту деятельность за счет доходов от глубоководного краба - конечно, выставление на аукцион 40% его квот разрушает все «глубоководные» планы.
И, как я уже упоминал, государственная поддержка в виде льготы по оплате за ВБР, безусловно, ускорила организацию устойчивой работы на глубинах 1,2 км. Мы благодарны за это государству, и очень надеемся, что эта мера поддержки для компании сохранится, учитывая нашу реальную работу по глубоководной программе.
Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент.
Отраслевая система мониторинга предоставляет доступ к данным очень многим ведомствам, но от них информации практически не получает. Ситуацию надо менять в сторону усиления межведомственного взаимодействия, считает начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем Вилкин. О дальнейшем развитии ОСМ, частичном запуске электронного промжурнала – пока только для передачи судовых суточных донесений – и разработке информационной системы «Квоты-2018» он рассказал в интервью Fishnews.
НА ПУТИ К МИАС «РОСРЫБОЛОВСТВО»
– Артем Сергеевич, на коллегии Росрыболовства вы обозначили конечной целью развития подсистем ОСМ – создание межведомственной информационно-аналитической системы «Рыболовство». На каком этапе сейчас эта работа и какая роль в ней отводится Порталу ОСМ?
– Портал в целом – это, в общем-то, внешнее отображение будущей МИАС «Рыболовство» и существующей отраслевой системы мониторинга. Это механизм поступления информации, работы с этой информацией и ее выпуска из базы данных МИАС или ОСМ. Поэтому роль портала крайне важная, наверное, даже ключевая с этой точки зрения.
На сегодняшний день портал разработан и активно тестируется. Пока мы не достигли тех показателей, которые у нас были по ЭПЖ, но все-таки уже зарегистрировано 80 пользователей в теруправлениях и в центральном аппарате Росрыболовства и еще 100 – среди рыбаков.
Недавно мы провели два семинара по порталу ОСМ в Мурманске и во Владивостоке, в которых приняли участие более 250 человек, причем это были и рыбаки, и представители территориальных управлений. Мы выбрали именно такой формат, чтобы разные категории пользователей портала смогли какие-то позиции согласовать или даже поспорить в каких-то моментах.
На наш взгляд, очень позитивно, что присутствовали не руководители, а непосредственно специалисты, которым с этим работать. Мы получили очень серьезные предложения, которые действительно облегчат и упростят работу обеим сторонам. Сейчас у нас оформляются протоколы, по которым мы обязательно будем все дорабатывать.
– А какие вопросы вам чаще всего задавали на этих семинарах?
– Вы знаете, вопросов-то была масса. На многие из них мы ответили, когда просто рассказали саму технологию по тем модулям, которые уже разработаны. И мы анонсировали еще один модуль, который пока не показывали, – это электронные свидетельства ТСК, которых рыбаки, на наш взгляд, очень ждут. Поэтому мы скорее получили именно предложения по упрощению или, наоборот, добавлению каких-то нюансов, в том числе по электронным разрешениям – тема, которая тоже сейчас всех волнует.
Если говорить про МИАС «Рыболовство», мы уже декларировали, что по большому счету это та же самая отраслевая система мониторинга, и ОСМ на сегодняшний день выполняет основные функции, которые заложены в МИАС. Но это не значит, что нам больше ничего не нужно делать. У нас согласована концепция развития, одобренная руководством Росрыболовства, и проект дорожной карты по наращиванию функционала ОСМ, - для того чтобы мы вышли уже на полноценную МИАС «Рыболовство». Как только эта дорожная карта будет утверждена, мы начнем ее выполнять. Надеемся, что это произойдет уже в скором времени.
ОСМ ДОПОЛНЯТ И ОБЕЗОПАСЯТ
– Как именно предполагается нарастить функционал?
– На наш взгляд, в первую очередь необходимо усиление в плане межведомственного взаимодействия. ОСМ пока работает как открытая дверь, но только в одну сторону. Мы предоставляем информацию очень многим ведомствам в электронном виде в достаточно удобных форматах, но при этом ОСМ не получает данных от других ведомств, что неправильно. Это та задача, которую нам надо решить.
Сегодня эти вопросы регулируются межведомственными соглашениями, которые заключены между Росрыболовством, иными федеральными ведомствами и субъектами РФ. Но для того чтобы эта работа перешла на качественно иной уровень, нужно издать соответствующие нормативные документы, в том числе внести изменения в федеральный закон и выпустить акты правительства, которые утвердили бы перечень федеральных органов исполнительной власти, обязанных обмениваться с нами этими данными.
– Какого рода данные вы имеете в виду?
– В большей степени нас интересует информация, которая бы позволяла дополнять пробелы в отраслевой системе мониторинга. Например, данные ФНС дали бы возможность оперативно отслеживать и получать сведения об изменениях организационно-правовых форм – о слияниях, различных реорганизациях компаний. Потому что не все пользователи ВБР и не всегда оперативно предоставляют эти данные в Росрыболовство, и из-за этого опять же возникают сложности с договорами на доли квот.
Или другой пример – это ФТС. Таможенная статистика тоже крайне важна с точки зрения управления отраслью и наличия данных для принятия оперативных и стратегических решений. Это, конечно, существенно дополнило бы тот массив информации, который у нас содержится.
Возвращаясь к функционалу ОСМ, мы считаем важным усилить и международное взаимодействие. Мы уже стабильно работаем, например, с Норвегией. В этом году ЦСМС внес предложение о создании рабочих групп по электронному взаимодействию с Гренландией, Исландией и Фарерами. И мы намерены продолжать эту работу, чтобы наращивать именно международный сегмент обмена данными на уровне центров мониторинга. Чтобы данные, которые наши рыбаки передают даже в чужой экономической зоне, поступали к нам, а мы уже направляли их в центр мониторинга. Такой механизм у нас действует с Норвегией, соответственно мы хотим его применять и с другими зарубежными партнерами.
И третий момент – это, безусловно, повышение информационной безопасности. Хотя на этом направлении мы уже многое сделали, что подтверждено проверкой ФСБ. Сейчас мы готовимся к аттестации ОСМ и к вводу ее в эксплуатацию со всеми нашими подсистемами.
– Это означает новый уровень защиты?
– Да, безусловно. Необходимо пройти все согласования во ФСТЭК и в ФСБ, после чего система будет готова к полноценной аттестации. Как только мы проходим аттестацию, мы сможем уже говорить о том, что она полностью соответствует всем требованиям, которые на сегодняшний день заложены в законодательстве РФ к федеральным государственным информационным системам. Это крайне важная работа. Мы намерены завершить ее в 2019 году, по крайней мере, очень на это надеемся.
Кроме того, речь идет о конкретных новых функциях, которые появятся на портале. Из ближайших – это, как я уже сказал, дополнительный модуль по электронным свидетельствам ТСК. Еще один модуль мы делаем по МКУБ.
РЫБАКИ «РАСПРОБОВАЛИ» ЭПЖ
– Что собой представляет электронное свидетельство ТСК? Рыбакам не надо будет возить эти документы с собой, их можно будет оформлять дистанционно?
– Абсолютно точно. Это та же ситуация, которая сейчас существует по разрешениям, когда бумажное разрешение, которое должно находиться на судне, мы заменяем на электронное. Это касается и механизма подачи заявки, и механизма получения этого разрешения, и попадания его сразу же в электронный промысловый журнал, после чего уже не надо будет иметь бумажную версию на судне.
Аналогичный процесс мы запустили по свидетельствам ТСК. Они точно так же будут загружаться в ЭПЖ, и инспектор, поднявшись на судно, сможет проверить их подлинность.
– Система электронных разрешений, которая успешно прошла тестирование, на практике будет применяться не раньше, чем заработает ЭПЖ?
– Да, реальностью эта система должна стать с выходом федерального закона по ЭПЖ и по электронным разрешениям, которого мы с нетерпением ждем в этом году. Но хотел бы отметить, что, не дожидаясь этого закона, с 1 марта мы объявили кампанию «промышленной эксплуатации в тестовом режиме».
Что это значит? Как известно, режим или форматы подачи ССД на сегодняшний день не урегулированы. В соответствии с распоряжением Росрыболовства № 34-р от 10 апреля 2018 года применение в тестовом режиме программного комплекса ЭПЖ дает возможность судам рыбопромыслового флота подавать судовые суточные донесения с использованием квалифицированной усиленной электронной подписи без дублирования посредством радиосвязи или другими способами передачи. Таким образом, если на судне стоит электронный промысловый журнал, и рыбаки отправляют через него эту отчетность, то подавать ССД отдельно им уже не надо.
– Росрыболовством это засчитывается?
– Абсолютно точно это засчитывается Росрыболовством и это засчитывается Погранслужбой ФСБ России. Все эти моменты согласованы, никаких проблем у рыбаков не будет. С 1 марта мы эту работу начали, и уже по 102 судам компании заявили о желании заключить с нами договор и установить электронный промысловый журнал в рамках такой «промышленной эксплуатации в тестовом режиме».
Схожим образом обстоит дело и с электронными разрешениями. Пока нет никаких формализованных решений, но я думаю, что они тоже не за горами. По мнению специалистов Росрыболовства, на сегодняшний день нет никаких ограничений на подачу заявок на разрешения в электронном виде. Единственное – наличие самого бумажного разрешения на судне останется обязательным, пока не будет принят федеральный закон. Но по крайней мере механизм подачи заявки можно уже перевести в электронный вид.
Мы специально провели семинары на востоке и на западе страны, для того чтобы в рамках опытно-промышленной эксплуатации доработать эти моменты на портале. Как только у нас это будет готово, думаю, что к середине года, максимум к осени, мы сможем запустить хотя бы механизм подачи заявки на разрешение в электронном виде даже в отсутствие закона.
– На какой стадии сейчас находится законопроект об электронном промжурнале?
– Он уже прошел межведомственное согласование и находится в аппарате правительства. Сейчас идет работа с аппаратом, для того чтобы завершить все формальности и внести законопроект в Государственную думу.
– Получается, это произойдет не раньше осенней сессии?
– Вообще-то руководителем Росрыболовства проект федерального закона по ЭПЖ и разрешениям отмечен как приоритетный. Соответствующие поручения даны депрыбхозу Министерства сельского хозяйства и управлениям федерального агентства. Скажем так, если успеем внести в весеннюю сессию, будет хорошо. Ну, а если оценивать реалистичнее, то до конца года он должен быть принят. Откладывать уже нет никакого смысла.
– Я правильно понимаю, что портал ОСМ, как он задуман, в принципе предполагает охватить всех пользователей ВБР?
– Это, наверное, идеальная ситуация, если каждый пользователь будет работать через портал ОСМ, но это не будет обязаловкой. Мы делаем портал именно для того, чтобы рыбакам было удобней и проще. Мы разговаривали с ними на семинарах, и могу сказать, что они видят большие преимущества такой работы. Отрасль должна это почувствовать, увидеть, и рыбаки сами пойдут на этот портал, без какого-либо административного принуждения. Тем более, с точки зрения законодательства, как это сейчас обсуждается, в любом случае будет предложена альтернатива электронным технологиям в виде бумажного документооборота.
«КВОТЫ-2018» СТАНУТ РАБОЧИМ ИНСТРУМЕНТОМ
– В эти дни в Росрыболовстве полным ходом идет прием заявок от предприятий для перезаключения договоров на 15 лет . ЦСМС активно участвовал в подготовке к заявочной кампании. Расскажите, какая работа была проделана и с какими сложностями пришлось столкнуться?
– На мой взгляд, работа нами была проведена действительно грандиозная. Это сверка почти 14 тыс. договоров Росрыболовства, это сверка около 4 тыс. договоров субъектов РФ, где была масса проблем. Если с Росрыболовством некоторые сложности быстро снимались, то по субъектам было очень много замечаний, решались вопросы территориального взаимодействия, но, в общем-то, мы тоже успели их снять до начала заявочной кампании.
Работа была очень сложная и тяжелая. Надо было выстраивать все цепочки движения договоров, потому что за десять лет чего там только не происходило: и объединения, и реорганизации, выделения, передача этих договоров и долей – в общем, масса проблем была. Соответственно мы писали все отчеты, оперативно реагировали на материалы, которые нам взамен присылали субъекты, и, в общем-то, все спорные моменты совместно с Росрыболовством смогли уладить.
Также ЦСМС разработал математические модели, которые позволяют осуществлять, например, расчет морских долей квот – это касается объединения долей квот промышленного и прибрежного рыболовства, что и будет делать расчетная группа. Механизм понятен, формула тоже. Мы провели около 12 тестовых расчетов долей с демонстрацией, проводили открыто совместно с Росрыболовством, с привлечением ВАРПЭ и других ассоциаций и просто рыбаков. Все это обсуждалось, все видели эти расчеты, как это происходит, поэтому я думаю, что тут никаких вопросов быть не должно.
Самое главное – нам надо было выверить все проблемные места, которые накопились за эти десять лет. Как только мы этот баланс свели, как только у нас появились везде зеленые строчки, расчет стал чисто математической работой. На следующем этапе после определения долей будет расчет самих квот и распределение ОДУ применительно к видам квот. Вот эти математические модели были сделаны.
Сейчас мы также ведем работу по созданию информационной системы «Квоты-2018». Эта система, которая по плану официально будет запущена с 2019 года, должна стать единственным инструментом по работе с долями квот. Мы тоже делаем ее как портальное решение. Соответственно у сотрудников Росрыболовства, которые будут работать в системе «Квоты-2018», будут логины и пароли. Она позволит автоматически формировать и распечатывать и приказы, и договоры.
Любые изменения, которые происходят, будут сначала вноситься в информационную систему и только потом выходить на бумаге. Таким образом мы избежим тех проблем, которые накопились за предыдущие десять лет, когда оформление тех или иных договоров происходило разными способами, в разных обстоятельствах, разными людьми и не всегда эта информация была централизовано помещена в базу данных.
Смена принципа работы, при котором сначала что-то делается в базе данных, в информационной системе, а потом уже распечатывается и подписывается, позволит нам избежать фальсификаций или элементарных ошибок, когда что-то не внесли после подписания. Эту работу мы тоже должны завершить до конца года.
Анна ЛИМ, газета «Fishnews Дайджест»

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок.
В последние годы Росрыболовство последовательно проводило реформу системы искусственного воспроизводства, по итогам которой многочисленные бассейновые управления стали филиалами центральной организации – Главрыбвода. Какие первоочередные задачи стоят перед объединенной структурой, как решается вопрос с модернизацией и реконструкцией рыбоводных заводов и зачем отрасли понадобились селекционные центры, в интервью журналу рассказал начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан Беленький.
– Дан Михайлович, в прошлом году завершилась реорганизация Главрыбвода. Что на сегодняшний день представляет собой это учреждение?
– Сегодня Главрыбвод – это 101 завод в составе 31 филиала (на начало года, потому что работа продолжается) и 6,5 тыс. сотрудников. Если не ошибаюсь, это единственное вертикально интегрированное предприятие с формой собственности ФГБУ, больше таких нет.
Объединение с точки зрения консолидации отраслевых рыбоводных активов завершено, но реорганизация у нас только началась. Некоторые филиалы ждет слияние, где-то, напротив, будут созданы дополнительные филиалы. В конечном счете мы должны привести все это к определенной структуре, и времени у нас на это один год.
– И как эта структура будет выглядеть?
– На первый взгляд, она останется такой же. Структура будет включать несколько уровней – это центральный аппарат здесь, в Москве, сеть филиалов по всей стране и заводы под ними, но их количество и то, как они между собой объединены, будет немного иным.
Например, бывает, что один филиал – это один завод. Значит, нам нужно это дело каким-то образом укрупнить. Или у нас есть несколько филиалов в одном регионе, что тоже не всегда правильно. Где-то мы их оставим, потому что у этих филиалов разные направления деятельности, предположим, селекционно-племенная работа и воспроизводство, а где-то их нужно объединять, наводить в них общий порядок. А кое-где филиалы просто не нужны, потому что в их составе нет ни одного завода, естественно, это тоже нужно оптимизировать.
– Идеальная схема: один регион – один филиал?
– Не всегда. Опять же бывают исключения. Везде нужно подходить индивидуально.
Допустим, в Ленинградской области у нас есть филиал ФСГЦР – это единственный селекционно-племенной центр, который остался в стране, и Северо-Западный филиал, который занимается воспроизводством и в который входит несколько заводов. Их объединять бессмысленно – это абсолютно разные задачи, абсолютно разные специалисты, абсолютно разные даже бюджеты. Безусловно, они останутся разными филиалами. А есть, например, то, что мы уже объединили, – «Управление вододелителя и нерестилищ» в Астраханской области и наш Северо-Каспийский филиал, который включает еще пять заводов. Там примерно одинаковые задачи, хотя они чуть-чуть и отличаются: один филиал занимается мелиорацией, второй – воспроизводством, но в целом оба выполняют общие задачи. Зачем нам два аппарата, если все это можно собрать под одной крышей.
По каждому случаю будет приниматься отдельное решение, но, по нашим прикидкам, количество филиалов, безусловно, уменьшится. Я думаю, что в этом году мы доведем их количество до 23-24 и соответственно серьезно оптимизируем штатное расписание. А дальше будет видно.
– Какие основные задачи вы бы выделили из тех, что сейчас стоят перед объединенным Главрыбводом?
– Смотрите, есть задачи текущие, которые мы просто обязаны выполнять. Это, безусловно, исполнение государственного задания, это содержание имущества, которое нам передали, это наведение общего порядка.
Что касается задач среднесрочной перспективы, то для нас это вхождение на рынок внебюджетной деятельности. Я имею в виду в основном восстановительные мероприятия в целях компенсации наносимого ущерба. В этом направлении мы уже сделали серьезные шаги. В 2017 году у нас в принципе объем финансирования по внебюджетной деятельности был сопоставим с объемом финансирования по госзаданию, чего не было никогда. За счет внебюджетной деятельности мы получили порядка 1,4 млрд рублей выручки, что сравнимо с цифрами бюджетного финансирования по госзаданию. Это направление надо будет серьезно расширять, возможности там достаточно хорошие.
Из долгосрочных задач, к решению которых надо приступать уже сейчас, главное – это привести в порядок производственные мощности рыбоводных предприятий, которые мы получили, потому что их нынешнее состояние абсолютно неприемлемо. Не все из них можно использовать, а по некоторым стоит вопрос, продолжать ли тянуть их дальше или просто ликвидировать, потому что проще построить рядом что-то новое, чем использовать то, что есть. Пока мы делаем инвентаризацию. Посмотрим, что она покажет, но уже сейчас понятно, что из 101 предприятия около 90% требуют реконструкции или капремонта либо каких-то кардинальных решений.
– Вы можете назвать, какие участки в регионах выглядят наиболее проблемными в плане материально-технической базы?
– Я лучше выделю, где хорошо, так проще будет – меньше называть. Более-менее приемлемо в целом на Дальнем Востоке. Сахалин, Камчатка – это то, что я уже видел, в Приморье похуже, а в Хабаровск и Магадан мы скоро полетим, посмотрим. На Камчатке и Сахалине состояние производственных площадок очень хорошее, там нужны минимальные вложения, не капитальные.
Все остальное… Да, в прошлом году мы запустили два новых завода, они нормально действуют. А все остальное требует так или иначе вложений – и очень серьезных.
– В начале прошлого года в Самарской области открыли новый государственный рыбоводный завод – первый за последние 15 лет. А какие планы по модернизации и развитию остальных предприятий предусмотрены на ближайшую перспективу? К какому уровню, состоянию вы будете подтягивать эти мощности?
– К уровню и состоянию работоспособности. Нужно сделать так, чтобы они выполняли как минимум то, на что были запроектированы в свое время, а по-хорошему и больше. За это время мы успели в прошлом году еще один новый завод пустить в Дагестане – это «Репродукционный комплекс осетроводства» (РКО). Он по объему и по технологии очень похож на «Возрождение» в Самаре.
Что касается планов, то сегодня мы работаем практически в авральном режиме, потому что отталкиваемся в основном от рынка. Например, мы понимаем, что есть угроза срыва госзадания на одном из предприятий либо что есть рынок компенсационных мероприятий, в которых мы не можем участвовать, тогда мы принимаем решение вкладывать деньги в те или иные заводы.
На самом деле работы развернуты масштабные. «Возрождение» в целом запустили до нас, о нем говорить как о нашей заслуге нельзя. Но вот РКО ввели в строй только сейчас. Кроме того, мы провели реконструкцию Можайского завода, он отлично работает.
Завершен первый этап реконструкции Абалакского осетрового завода. Когда речь шла о компенсационных мероприятиях по строительству порта Сабетта, стало понятно, что выполнить их можно только на этом заводе. Мы буквально за три месяца в три раза увеличили его мощность и в прошлом году все выпустили в полном объеме, причем дали интересную навеску сибирского осетра – 10-граммовую. Это была нетривиальная задача, никто не верил в успех, но по факту мы задачу выполнили. В этом году будем повторять эксперимент, закрепим успешный опыт.
Плюс мы очень много проектируем. Сейчас идет проектирование селекционно-племенного центра в Карелии – за внебюджетные средства, уже зашли в экспертизу, вот-вот должны подписать договор. В этом году планируем уже начать строительство центра, если с экспертизой все будет в порядке. На очереди два завода на Байкале по омулю.
Объявили конкурс по проектированию Аксайско-Донского завода в Ростове-на-Дону – это тоже за внебюджетные деньги. И вторая очередь Абалакского завода – уже идет проектирование, будем в этом году делать. Еще Белоярский завод. Да, и в Калининграде мы проектируем цех по балтийскому сигу.
Объектов очень много. Думаю, что такой масштабной стройки отрасль не видела, как минимум, с советских времен. Мы фактически за год с создания Главрыбвода в нынешнем виде уже начали реконструкцию либо строительство 10% всех производственных площадок.
– Вы уже сказали о достаточно мощных внебюджетных поступлениях. Большая часть этих мероприятий по модернизации выполняется за счет государства или за счет тех средств, которые зарабатывает Главрыбвод?
– Пока где-то пополам. Например, селекционно-племенной центр – сам по себе проект дорогой, поэтому, хотя он проектируется за внебюджетные деньги, строительство будет вестись за счет бюджета. Но если считать пообъектно, я думаю, что пятьдесят на пятьдесят. Половину объектов мы уже делаем за счет внебюджетных средств, а половину за счет бюджетного финансирования, если оно будет.
– Но в программах оно заложено?
– Пока да.
– Подготовка Стратегии искусственного воспроизводства в РФ на период до 2030 года вошла в финальную стадию. Какие задачи должен решать этот документ и когда планируется его выход?
– В какой стадии находится стратегия, мне сложно судить: все-таки этот документ делает федеральное агентство. Хотя мы, конечно, участвуем в этом процессе, крайне заинтересованы в качественной проработке стратегии и очень ждем ее выхода.
Документ очень важный, потому что во многом то, что мы сейчас делаем, делается вслепую. То мы латаем какие-то дыры для выполнения безусловных обязательств, то начинаем от рынка танцевать, решая, что построить или отремонтировать. На самом деле все должно быть не так. Мы должны четко понимать, какая у нас инвестиционная программа, какие заводы, с точки зрения отрасли – науки, экономистов, нас, рыбоводов, – мы должны приводить в порядок.
Документ в целом очень тяжелый, он содержит массу развилок, которые надо будет вместе проходить. Начиная с того, чтобы понять, что у нас в приоритете – сохранение видового разнообразия или промысел. Нам нужно построить здесь осетровый завод или сиговый? Очень большой объем работ должна сделать наука. Это касается даже приемных емкостей, потому что можно построить завод, а выпускать такие объемы будет нельзя. И такие примеры есть, кстати, когда завод работает в половину мощности.
От стратегии мы ждем ответа на главный вопрос: где те точки развития, которые требуют вложений, и какими видами мы должны заниматься в первую очередь. Мы должны четко понимать, что в таком-то регионе надо сделать упор на такие-то виды с такими-то местами выпуска, к которым мы могли бы либо привязать наши существующие заводы и провести их реконструкцию, либо, может быть, построить новое предприятие, если там ничего нет. В этом основная ценность стратегии – мы будем видеть, куда нам двигаться с точки зрения развития наших производственных площадок.
– Что вы думаете о ситуации на Байкале с искусственным воспроизводством омуля? Какие заводы занимаются этой работой? С какими сложностями приходится сталкиваться?
– Сложностей там значительно больше, чем возможностей. Начну с того, что чуть больше года назад нам передали два завода по воспроизводству байкальского омуля. Это Селенгинский завод и Большереченский завод. Раньше они были в составе АО «Востсибрыбцентр». Компания, насколько я понимаю, либо находится в предбанкротном состоянии, либо уже банкротится. Заводы были в критическом состоянии, поэтому было принято решение передать их Главрыбводу.
Первое, чем мы занялись, это разработка проектной документации для увеличения мощности этих заводов. Второе: мы, насколько возможно, загрузили их… и столкнулись с еще одной проблемой. Мы-то думали, что ограничительным фактором будет техническое состояние производства, а на самом деле работу сдерживает невозможность набрать достаточное количество производителей, чтобы загрузить даже имеющиеся мощности.
– Так плохо с омулем?
– Так непросто, что мы уже не можем набрать производителей. Надо сказать, что в первый год мы набрали совсем чуть-чуть, но во второй – уже вдвое улучшили результат. Очень надеюсь, что в этом году мы сработаем посерьезнее. Поэтому первая задача для нас – максимальный отлов производителей. Вторая – закончить этап проектирования и в следующем году начать реконструкцию этих двух заводов. По одному из них мы увеличим мощность в два раза, по другому – вернемся как минимум к проектным показателям.
Там хватает и других вопросов. Например, все планы по модернизации заводов и их текущая работа исходят из того, что они будут выпускать в основном личинку. Но в отрасли существует другое мнение, что личинку выпускать нельзя, нужно производить подращённую молодь, а это уже другая технология. Должны быть соответствующие площади для подращивания молоди, ее нужно кормить и так далее.
Поэтому, хотя мы уже ведем проектирование, по ходу дела одновременно смотрим, а не изменить ли каким-то образом РБО и соответственно проектную документацию, если все-таки придется отходить от личинки к подращённой молоди. Времени в обрез, поэтому мы эти два процесса параллелим. Думаю, что большой беды в этом нет, хотя, конечно, проектировать без четкого технического задания тоже неправильно.
С учетом того, что восстановление запасов байкальского омуля – это социально значимая история и каждый год моратория будет даваться непросто, мы очень спешим. Пытаемся максимально быстро наладить воспроизводство в должном количестве. Пока, к сожалению, те сложности, о которых я говорил, не позволяют этого делать.
– В развитии аквакультуры большие надежды возлагаются на селекционно-племенную работу. Вы уже упомянули о планах по строительству селекционного центра в Карелии. Как продвигается этот проект? Сколько всего таких предприятий необходимо отрасли и какое значение для Главрыбвода имеет это направление?
– Здесь ситуация совсем неутешительная. Как я уже сказал, единственное учреждение в структуре Главрыбвода, которое этим занимается, – это ФСГЦР. Частных компаний минимальное количество, качество их племенной продукции, насколько я слышал, в основном оставляет желать лучшего. Многие племенные хозяйства прекратили свою деятельность. Поэтому на сегодняшний день в целом по стране эта работа находится на уровне, близком к нулю.
– По всем видам выращиваемых объектов или речь только о форели?
– Можно выделить три основных направления этой работы. Первое – это форель. По форели более 90% рыбопосадочного материала идет из-за границы, это не требует комментариев. Поэтому мы сразу стали заниматься селекционно-племенным центром в Карелии, который эту проблему смог бы закрыть.
Второе направление – это Центральный федеральный округ и юг, это карповые. Там очень большая потребность в объекте: по нашим подсчетам, это не менее 100 млн штук посадочного материала ежегодно. Конечно, рыбопосадочного материала производится достаточно, причем отечественного, только к племенному хозяйству это, по большей части, не имеет никакого отношения. По сути, когда предприниматели приобретают посадочный материал, они не знают, что у них вырастет, не могут достоверно спрогнозировать отход, качество, вес товарной рыбы. Что вырастет, то вырастет. А везти рыбопосадочный материал карповых из-за границы нерентабельно, в отличие от форели. Поэтому если у рыбоводных хозяйств появится альтернатива приобрести качественный племенной посадочный материал, а в особенности гибридный, и будет четкое понимание, что у них вырастет, это наверняка будет пользоваться спросом.
По форели и карпу точно должно быть два селекционно-племенных центра. Причем по карповым мы сначала предполагали сделать такой центр на юге на базе одного из наших предприятий, но поняли, что технологически это невозможно. Не буду вдаваться в подробности, но переделать рыбоводный завод, ориентированный на воспроизводство естественных запасов, в селекционно-племенной центр стоит дороже, чем построить все с нуля. Поэтому, наверное, таким путем и будем двигаться.
Сейчас мы уже заканчиваем проектирование селекционно-племенного центра в Карелии и вместе с АзНИИРХ начинаем работу по югу. Скорее всего, это будет Ростовская область, там у нас на Цимлянском водохранилище есть подходящая площадка, где это можно было бы организовать.
Что еще можно рассмотреть? Осетровые – неактуально, на мой взгляд, с учетом доли, которую занимает эта продукция на рынке. Думаю, что это может быть побочным занятием, но вести селекционную работу и содержать племенные стада осетровых в сегодняшних реалиях мне кажется не слишком рентабельным. По Сибири и за Уралом более интересны сиговые – пелядь, муксун, но опять же рынок пока не очень понятен, надо смотреть.
– А как насчет наработок по селекции рыбохозяйственных институтов? Планируете задействовать их в этой работе?
– Я, конечно, могу ошибаться, но за последние несколько лет подано всего пять заявок по селекционно-племенным достижениям в области рыбоводства. Это ничтожное количество. Из них четыре – по карповым и одна, по-моему, по клариевому сому. Все, больше никто никаких пород не регистрировал. Это, на мой взгляд, говорит само за себя.
Анна ЛИМ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Доклад заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Васильевича Шестакова на расширенном заседании Коллегии «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2017 году и задачи на 2018 год» (Москва, 29 марта 2018 г.).
Уважаемые члены коллегии,
уважаемые участники заседания!
Начиная доклад об итогах 2017 года, я, прежде всего, хотел бы отметить кропотливую работу по подготовке обновленной Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Это не просто документ для отчетности, а действительно серьезно проработанный, поддержанный отраслевым сообществом, обоснованный подход к задачам на долгосрочную перспективу развития, это документ, который должен и будет использоваться для разработки государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса на будущие годы. Мы сделали в нем упор на экономические показатели отрасли, документ получился, можно так сказать, в большей степени бизнес ориентированным. И в целом, вы видите, что в основе подхода при развитии рыбной отрасли во главу угла мы ставим экономику. Это касается и мер регулирования и стимулирования, это касается и работы подведомственных учреждений, поэтому и начать хотел бы с основных экономических показателей отрасли.
Традиционно на первом месте у нас стоит показатель объема добычи. И особенно хочется отметить, что в 2017 году достигнут рекордный за последние 25 лет уровень – порядка 4,9 млн тонн. За это, без сомнения, высокое достижение выражаю благодарность нашим рыбакам. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 124 тыс. тонн или 2,6%, а прирост к уровню 2013 года – порядка 15%.
Одним из главных факторов роста в 2017 году стали дополнительные объемы добычи иваси, скумбрии и сайры – около 75 тыс. тонн. Все это стало возможно благодаря слаженной работе Росрыболовства, отраслевой науки и рыбаков. Понятно, есть ещё нерешенные проблемы, надеюсь, в 2018 году мы их решим. Надо отметить, что по оценкам отраслевой науки дальнейшее освоение данных ресурсов уже в краткосрочной перспективе позволит увеличить показатели добычи водных биоресурсов не менее чем на 200 тыс. тонн.
Важно отметить растущий интерес предприятий к участию в промысле, проектированию и строительство специализированных береговых предприятий именно под данный ресурс. Получаемая продукция уже поступает на российские прилавки, расширяя потребительский ассортимент качественной и доступной по цене рыбной продукцией.
Важным показателем является объём добычи тихоокеанских лососей. В 2017 году вылов составил 351 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн или 4% ниже показателя предыдущего нечетного года.
В целях подготовки к лососевой путине 2017 года Росрыболовством была актуализирована нормативная правовая база, регулирующая добычу тихоокеанских лососей, а также проведен ряд организационных мероприятий, в том числе совместно с органами исполнительной власти приморских субъектов Российской Федерации и рыбопромышленниками. Несмотря на неблагоприятно сложившуюся промысловую обстановку в целом по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну, на Камчатке, в Магаданской области и Приморском крае достигнуты высокие показатели по итогам путины. В период путины проведено 20 заседаний Рабочей группы (штаба) по организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных и бассейновых управлений Росрыболовства, контролирующих органов, научных и общественных организаций.
За прошедшие несколько лет нами проделана большая работа по сокращению промыслового воздействия на запас. В частности, введен запрет на использование дрифтерных сетей. По оценкам отраслевой науки, дальнейшие результаты подтвердили обоснованность такого решения.
Подготовлен проект новых Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В связи с началом снижения численности тихоокеанских лососей в северной части Тихого океана в проект Правил рыболовства включены новые ограничения как в отношении промышленной добычи, так и в области любительского и традиционного рыболовства. Включен запрет на добычу лососей на нерестилищах, а также на применение ставных сетей в море у Восточной Камчатки и на юге Западной Камчатки, вводятся новые ограничения для добычи лососей на Амуре и на Сахалине. Обсуждается вопрос реализации принципа «одна река – один хозяин», сразу могу сказать, что обсуждение идёт только лишь применительно к Сахалинской области, где ситуация с регулированием лососевых вызывает наибольшую озабоченность.
В 2018 году будем осуществлять мониторинг принятых решений, проводить дополнительный ресурсный анализ и, в случае необходимости, принимать более решительные действия ограничительного характера.
Кратко коснусь добычи неодуемых водных биоресурсов.
В этой части имеется существенный потенциал для роста добычи. Рекомендованный объем вылова водных биоресурсов по всем рыбохозяйственным бассейнам в 2017 году составил 1,7 млн тонн. Фактический объем добычи данной категории не превысил 0,5 млн тонн, то есть более 2/3 возможного к изъятию запаса остается недоиспользуемым.
В связи с этим считаю принципиально важными две задачи:
Во-первых, отраслевой науке с представителями рыбацкого сообщества необходимо провести совместную работу по актуализации оценок рекомендованного вылова. Необходимо определить, какие виды и какие районы промысла наиболее перспективны для осуществления добычи с точки зрения возможностей рыбопромыслового флота, и, самое важное, – с точки зрения экономической целесообразности.
Во-вторых, в случаях значительного системного недоосвоения ввиду отсутствия специализированного флота или особых технологий добычи нужно в срочном порядке инициировать работу по устранению подобных пробелов.
В частности, с привлечением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации необходимо предусмотреть меры по строительству специализированного мало- и среднетоннажного флота, который не подпадает под программу инвестиционных квот. Особенно это актуально для объектов рыболовства с невысокой рентабельностью – это Каспийское море, Азово-Черноморский и Западный бассейны.
Производство рыбной продукции по итогам 2017 года также продемонстрировало рост.
Общий объем рыбопереработки, включая консервы, за 2017 год составил около 4,2 млн тонн, что на 3% выше уровня 2016 года.
Если говорить о структуре производства продукции на флоте, то здесь, к сожалению, коренных сдвигов пока не произошло, уверен, что с реализацией программы инвестиционных квот эта проблема будет решаться более динамично. По-прежнему около 75% составляет продукция с относительно низкой добавленной стоимостью. Объем производства филе и фарша составил около 140 тыс. тонн, муки – 70 тыс. тонн. Спасибо тем компаниям, которые уловили тенденции и уже начали трансформацию своего производства.
Определенно радует положение дел с минтаем. По итогам 2017 года впервые за многие годы было произведено более 50 тысяч тонн филе, из которых более трети поступило на внутренний рынок.
Что касается инвестквот на переработку, хочу ещё раз отметить, что мы будем осуществлять не только приемку предприятий, но и мониторинг использования инвестиционной квоты по целевому назначению, что однозначно должно пониматься как производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для исключения разного толкования скажу, что к этой продукции мы относим филе, фарш, производные от них, а также консервированные продукты.
Теперь несколько слов о внешнеторговой статистике.
В немалой степени экономическую устойчивость рыбохозяйственного комплекса в последние 5 лет поддержала экспортная ориентированность продаж рыбопродукции.
Объем экспортных поставок в 2017 году вырос на 12%, импортных – на 16%. В структуре экспорта традиционно преобладает мороженая продукция с относительно низкой добавленной стоимостью.
Другая особенность нашего экспорта – географическая концентрация поставок. На долю 6 стран стабильно приходится до 80% поставок. При этом важно понимать, что данные страны не являются сами рынками конечного потребления, а фактически осуществляют дальнейшую переработку или дистрибуцию российской рыбы на другие рынки.
На основании приведенных данных по производству, экспорту и импорту можно делать выводы о среднедушевом уровне потребления рыбы и доступном нашим гражданам видовом ассортименте.
Как показал отчетный период, в целом при выполнении нормы продовольственной безопасности мы имеем и негативные эффекты – снижающееся среднедушевое потребление рыбы.
Указанные слабости, а иначе их назвать не могу, по моему мнению, могут быть устранены не только за счет создания новых производственных мощностей, способных производить современную продукцию. Мировая практика показывает, что успех возможен при синхронизации усилий в области производства, логистики и сбыта, в том числе адресного и эффективного продвижения продукции на рынках сбыта. Важной задачей на 2018 год считаю работу с перерабатывающими предприятиями, торговыми сетями для диверсификации поставок. Приоритет в реализации должен отдаваться внутреннему рынку.
В целом за прошедшую пятилетку не могу не отметить устойчивую положительную динамику в рыбохозяйственном комплексе: по экономическим показателям — лучшая динамика по росту инвестиций среди других отраслей, единственная отрасль, где идёт рост основных фондов, но резервы ещё есть. Так, вклад отрасли в национальный ВВП по итогам 2017 года составил 229 млрд рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2,4%. В 2013 году этот показатель был практически вдвое меньше – 118 млрд рублей. Подобный рост объясняется существенным ослаблением рубля, поэтому его не следует записывать в полной мере в свой актив.
Оборот организаций отрасли в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 7% и составил 310 млрд рублей. Совокупный объем инвестиций в 2017 году, по оценкам Росрыболовства, составил порядка 25 млрд рублей. В ходе первого этапа закрепления инвестиционных квот получено заявок на 140 млрд рублей – целевых и понятных инвестиций в строительство флота и береговых предприятий.
Другим важным финансовым показателем является объем поступлений по налогам и сборам. В 2017 году было собрано более 20 млрд рублей, что не превышает более 10% от валового оборота.
Пришло время в целом навести резкость с точки зрения прозрачности финансовых показателей в отрасли с учетом нашей структуры вылова, включающей в себя по большей части высокоценные валютоемкие виды – крабы, лосось, треска и минтай. После процедуры переоформления и перезаключения договоров необходимо провести анализ поступлений налогов и сборов от хозяйственной деятельности по осуществлению рыболовства. К слову, Федеральная налоговая служба уже приступила к данной работе. На этом этапе внимание уже уделено не только рыбопереработчикам, но и рыбодобывающим предприятиям. Это ясный сигнал отрасли, мы эти начинания поддерживаем, главное – избежать перегибов, здесь вместе с ВАРПЭ мы должны отработать четкие критерии и механизмы реализации хартии.
Отдельно отмечу продолжающуюся работу по исполнению поручений Президента России по итогам заседания Госсовета по вопросам рыбохозяйственного комплекса в части сбора за пользование водными биоресурсами и применение единого сельхозналога. В течение прошедших двух лет мы вели работу по обоим вопросам. И в 2018 году должны эту работу завершить внесением изменений в соответствующую нормативную базу.
По нашим оценкам, только за счет внесения изменений в принцип взимания ставки за пользование водными биоресурсами к 2025 году совокупные поступления в бюджет могут составить не менее 12 млрд рублей, что составит порядка 2–3% от оборота отрасли. Но важно, что в этом механизме будет заложен принцип приоритетности поставок рыбы на внутренний рынок.
Не меньше прироста налоговых поступлений мы ожидаем после перехода значительного числа предприятий, находящихся на едином сельхозналоге, к общей схеме налогообложения.
На этом я хотел бы завершить подведение общих итогов деятельности отечественного рыбохозяйственного комплекса и перейти к отчету о деятельности Росрыболовства по отдельным функциональным направлениям. Сразу хочу сказать, что полный отчет представлен в многостраничном докладе.
Фундаментом работы является основополагающая нормативная правовая база.
За истекший 2017 год проведена значительная работа по нормативному, кадровому и правовому сопровождению хозяйственной деятельности Росрыболовства, ведению договорной, претензионно-исковой, правовой, нормативной и особенно отмечу работу в части оперативного регулирования. С участием Росрыболовства приняты следующие нормативные правовые акты:
3 федеральных закона:
– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)»,
– «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов»,
– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– 27 правовых актов Правительства Российской Федерации, касающихся сферы рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры;
– 52 нормативных правовых акта Минсельхоза России, касающихся сферы рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры. Кроме того, в рамках работы по реализации статьи Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при участии Росрыболовства приняты акты Правительства Российской Федерации, регулирующие порядок предоставления и закрепления квот добычи водных биологических ресурсов на инвестиционные цели.
В текущем году мы готовимся знаковому для отрасли событию – перезаключению и переоформлению договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов, срок действия которых истекает до и после 31 декабря 2018 года. В этой связи приняты все акты Правительства Российской Федерации, регулирующие соответствующие процедуры.
Безусловно, заявочная кампания-2018 – это приоритет работы в этому году, нам предстоит урегулировать проблемы, накопившиеся с предыдущей кампании по перезакреплению, а также региональные нарушения. В целом подходы по устранению понятны, реализация с участием наблюдателей от сообщества будет прозрачной. С мая по август все сотрудники, отвечающие за данное направление, в отпуск не уходят, это касается и территориальных управлений.
Отраслевая наука.
В течение нескольких лет была проведена большая работа по ряду направлений.
Во-первых, успешно функционирует Совет директоров научно-исследовательских институтов Росрыболовства. Стали прозрачными процедуры по определению ОДУ. Решения принимаются в том числе с учетом позиции отраслевого сообщества.
Ввиду сокращения объема государственного финансирования были реализованы мероприятия по повышению эффективности расходования средств:
– состоялось обсуждение планов ресурсных исследований на 2018 год с учетом их приоритетности и стоимости. Благодаря этому удалось не только избежать дублирования работ, но и, обсудив необходимую продолжительность исследований, существенно (счет шел на сотни миллионов рублей) снизить затратную часть, избежав потери необходимой информации для приоритетных видов водных биоресурсов.
– на Дальнем Востоке на базе БИФ ТИНРО произошло объединение научно-исследовательского флота, что позволит в будущем не только эффективно использовать бюджетные средства, но оптимизировать усилия по ресурсным исследованиям.
Во-вторых, заполнены отдельные пробелы в нормативной базе. 24 марта 2017 года вышел Приказ Минсельхоза № 149 об утверждении порядка включения/исключения видов водных биоресурсов из ОДУ. Основной плюс этого Приказа состоит в том, что стала прозрачной процедура принятия решений, связанная с отнесением тех или иных видов к ОДУемым, и основана она на нескольких условиях: освоение 70% и более новых районов добычи, неосуществление ранее рыболовства, существенное снижение запасов. Остальные объекты промысла, вылов которых в течение 3 лет был ниже 70%, а также короткоцикловые виды в перечень ОДУ теперь включаться не будут. Это позволяет, с одной стороны, осуществлять ответственное рыболовство, с другой стороны, – снижать административные барьеры для тех видов водных биоресурсов, которые являются неизбежным приловом.
В-третьих, совместно с Академией наук начата работа над созданием «Комплексной целевой программы научных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2018-2022 гг. и с перспективой до 2030 г.», что позволит прикладной и фундаментальной наукам на системном уровне подходить к решению актуальных задач рыбного хозяйства.
Далее, не могу не отметить проделанную в течение 2017 года работу по формированию концептуального облика научно-исследовательского судна 7-го поколения – по своим техническим параметрам наиболее продвинутого в мире на сегодняшний день. К постройке до 2025 года планируется не менее 3 единиц флота, которые обеспечат качественную промысловую разведку, в том числе и в стратегически важных для нас районах Мирового океана.
Завершая данный раздел, хочу поднять еще одну важную тему. С наукой мы определили два мегапроекта, реализация которых имеет стратегическое значение. Это изыскания в части мезопелагических и глубоководных видов рыб. Данные ресурсы могут нести высокую продовольственную и промышленную ценность. Не менее важная задача – работа по восстановлению ресурсного потенциала нашей самой многоводной реки Волги. Работа будет включать научное обоснование строительства рыбоходных каналов и других мероприятий по восстановлению промыслового запаса, расчет и обоснование потребности в государственном финансировании.
Отраслевое образование.
По состоянию на 1 января 2018 года образовательный комплекс Росрыболовства включает 5 образовательных организаций высшего образования, имеющих в составе 9 филиалов, которые обеспечивают подготовку квалифицированных специалистов для плавсостава судов рыбопромыслового флота и береговых предприятий отрасли по 29 специальностям среднего профессионального образования, 49 направлениям бакалавриата, 34 – магистратуры, 13 – специалитета, 39 – аспирантуры.
Основными являются специальности и направления подготовки, связанные с работой в море в составе экипажей судов рыбопромыслового флота.
В 2017 году план приема на обучение за счет средств федерального бюджета выполнен в полном объеме. На обучение по программам среднего профессионального образования принято 3,6 тыс. человек, на обучение по программам высшего образования – 5,6 тыс. человек. Выпущено 2,3 тыс. специалистов со средним профессиональным образованием и 4,9 тыс. специалистов с высшим образованием.
Проблем в этом направлении много, это и качество образования, и недостаточный объём финансирования, прессинг со стороны. Многим институтам удаётся всё решать. Задачи на 2018 год – это реализация указов Президента и, конечно, более плотная работа с работодателями, привлечение их для целевой, адресной подготовки кадров.
Безопасность мореплавания.
Росрыболовство в соответствии с Кодексом торгового мореплавания осуществляет государственный надзор в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства.
В связи с этим не могу не сказать еще раз о состоянии рыбопромыслового флота. К сожалению, он не обновляется, а проводимые модернизации не снимают в полной мере существующие технологические риски. Это неминуемо сказывается на количестве серьезных аварийных случаев на флоте. Так, по состоянию на 31 декабря 2017 года было зафиксировано 94 аварийных случая. Происшествий, связанных с гибелью членов экипажа, избежать не удалось. В 2017 году погибло или пропало без вести 29 членов экипажа судов рыбопромыслового флота.
Воспроизводство водных биоресурсов.
Вначале несколько слов о повышении эффективности оперативного управления. В течение нескольких лет продолжался и успешно завершился процесс консолидации предприятий под эгидой Главрыбвода, в 2017 году прошло присоединение дальневосточных рыбозаводов.
Отмечу в целом успешную работу по выполнению госзадания по выпуску молоди. В 2017 году объемы выращенной и выпущенной молоди превысили 9,2 млрд шт., что на 2,1% больше уровня 2016 года.
Объемы выпусков за счет собственных средств в отчетном году увеличились на 20,3% и составили 774,4 млн шт. Увеличение данного показателя произошло преимущественно за счет выпусков молоди лососевых – на 193,8 млн шт. больше, чем в 2016 году.
Отдельно расскажу о товарном рыбоводстве. За истекший год в этой области удалось закрепить достигнутые позиции. Так, в 2017 году объем производства продукции товарной аквакультуры составил 220 тыс. тонн, что на 7% выше показателей прошлого года. В том числе было выращено 186 тыс. тонн товарной рыбы, что на 13 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. Прирост производства данной категории продукции составил 7,2% относительно показателей 2016 года. Объемы производства посадочного материала также увеличились по сравнению с 2016 годом и достигли 33 тыс. тонн. Прирост в 2017 году составил 6% к уровню прошлого года.
В достижение высказанных ориентиров в 2017 году была инициирована работа по формированию Стратегии развития искусственного воспроизводства водных биоресурсов до 2030 года.
В части осуществления контрольно-надзорных полномочий территориальными управлениями Росрыболовства в течение 2017 года проведено 1980 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю за соблюдением обязательных требований в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, из них 629 – внеплановых. Таким образом, доля плановых проверок составила 68%. Все проверки были проведены в запланированные сроки.
Повышенное внимание в данной работе уделялось направлению в суды административных протоколов с изъятием запрещенных для применения Правилами рыболовства орудий лова и добытых водных биологических ресурсов, а также транспортных средств для принятия решений об их конфискации и возмещении вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Так, в 83% случаев изъятия орудий лова материалы направлены в суд, что в 4 раза превышает показатели 2016 года, для изъятия транспортных средств направлено в суд 61% материалов, что в 2 раза выше показателей 2016 года.
Помимо более глобальных подходов к решению задач мы думаем и о точечных мерах. Так, уже в этом году предлагается заключение соглашений по перекрестным полномочиям со службами лесных егерей и охотинспекторов, а также внедрение механизма материального стимулирования инспекторов – до 20% от суммы выставленного штрафа.
В части производственной деятельности рыбных терминалов морских портов, находящихся в хозяйственном ведении подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс», необходимо отметить работу, проделанную в сфере повышения эффективности управления портовой инфраструктурой.
В первую очередь, была разработана и утверждена «Стратегия развития рыбных терминалов с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, дистрибуции и хранения рыбной продукции». Ее целью является повышение привлекательности российских рыбных терминалов для рыбохозяйственных, торговых, транспортных и иных заинтересованных организаций за счет улучшения качества и конкурентоспособности оказываемых портово-логистических, технических, сервисных и иных услуг.
Реализация указанной стратегии ФГУП «Нацрыбресурс» фактически начата. С 2017 года ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский (причалы №№ 10-12 в бухте Моховой). Реконструкцию данного объекта планируется завершить в 2019 году и ввести в эксплуатацию в 2020 году. Одновременно предусматривается развитие портовой инфраструктуры на прилегающей к причалам №№ 10-12 территории.
7 сентября 2017 года между Росрыболовством и Правительством Камчатского края с участием ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Свободный порт Камчатка» подписано соглашение о взаимодействии, которое включает модернизацию перегрузочного комплекса, строительство объектов портовой инфраструктуры и реконструкцию подъездной автомобильной дороги.
В результате реконструкции причалов и модернизации береговых объектов в морском порту Петропавловск-Камчатский будет создан современный портовый терминал, ориентированный на обслуживание рыбопромысловых судов и перегрузку рыбопродукции.
В 2017 году продолжена системная работа по передаче гидротехнических сооружений (ГТС) в долгосрочную аренду с возложением на арендаторов инвестиционных обязательств по строительству и модернизации объектов портовой инфраструктуры (холодильники и другие объекты) с целью создания условий для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обеспечения работоспособного технического состояния ГТС путем проведения арендатором текущих и капитальных ремонтов, поддержанию за счет арендатора проектных глубин у ГТС.
Основной задачей, стоящей перед Росрыболовством в 2018 году в части портовой деятельности, является концентрация государственного имущества, находящегося на территориях рыбных терминалов, для его сохранения и эффективного использования для нужд рыбной отрасли.
В этих целях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № 521 проведена реорганизация ФГУП «Нацрыбресурс» путем присоединения ФГУП «Калининградский морской рыбный порт». В 2018 году планируется определить финансовые и организационные механизмы для модернизации и дальнейшего использования объектов инфраструктуры рыбного терминала морского порта Калининград с учетом положений Стратегии. В рамках этой работы определятся объемы и возможные источники инвестиций для модернизации портовой инфраструктуры, проводятся переговоры с потенциальными партнерами по развитию.
В 2018 году будет продолжена работа по заключению договоров аренды ГТС и по пересмотру условий отдельных ранее заключенных договоров с целью оптимизации ставок арендной платы и закреплению целевого использования ГТС в интересах рыбохозяйственного комплекса, а также проработка механизмов и условий эксплуатации гидротехнических сооружений, ранее используемых АО «Мурманский морской рыбный порт».
На международной арене в 2017 году Росрыболовство ведет планомерную работу по исполнению задач, поставленных в области международного рыбохозяйственного сотрудничества Концепцией развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года.
В 2017 году организованы и проведены переговоры с иностранными партнерами по вопросам, связанным с реализацией международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Международная деятельность Росрыболовства направлена, прежде всего, на сохранение и дальнейшее развитие сотрудничества в области рыбного хозяйства с традиционными партнерами Российской Федерации в рамках двусторонних межправительственных соглашений.
В качестве приоритетных задач на 2018 год в части международной деятельности Агентства представляется принятие мер по усилению присутствия российского рыбопромыслового флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана в целях защиты национальных интересов в области рыболовства на международном уровне, что позволит увеличить объемы добычи водных биоресурсов российским флотом.
Как я говорил ранее, большие перспективы для дальнейшего наращивания вылова присутствуют в малоосвоенных запасах глубоководных и мезопелагических видов водных биоресурсов, в том числе в открытых и конвенционных частях Мирового океана.
Финансовая деятельность.
В 2017 году Росрыболовству утверждены бюджетные ассигнования в размере 14,4 млрд рублей, что ниже уровня 2016 года на 764 млн рублей (5%).
По итогам исполнения расходов федерального бюджета за 2017 год в доход федерального бюджета возвращены бюджетные средства в объеме 647 млн рублей, что составляет 4,5% от объема бюджетных ассигнований 2017 года.
В 2017 году Росрыболовство в целом обеспечило поступление средств в доход федерального бюджета в объеме 28,7 млрд рублей, что на 18 млрд рублей выше 2016 года.
Cчитаю, что с поставленными на 2017 год задачами Федеральное агентство по рыболовству справилось. Год оказался плодотворным. Анализ итогов деятельности в 2017 году позволит нам в том числе правильно установить задачи на 2018 год.
Я уже говорил о необходимости обеспечения роста вылова, выполнения показателей по воспроизводству биоресурсов, устранения недостатков в управлении государственным имуществом. Как всегда, мы ждем качественной работы от научных и образовательных учреждений, а также, как я отмечал выше, предложений по преобразованиям.
В проекте решения Коллегии содержатся конкретные поручения структурным подразделениям Росрыболовства.
В этом году нам предстоит решить ряд больших задач: перезаключение договоров на 15-летний срок, совместная работа с другими органами исполнительной власти по контролю реализации инвестиционных отобранных проектов в рамках механизма инвестиционных квот, а также проведение следующего этапа их распределения.
Отдельно отмечу важность реализации мероприятий по повышению интенсивности и качества промысловой разведки в части перспективных видов водных биоресурсов, способных в среднесрочной перспективе дать существенные приросты наших показателей.
Я также рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы Росрыболовства и отраслевого сообщества.
Благодарю за внимание и желаю всем результативного рабочего года!

Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение.
Весенние месяцы зададут отсчет годового цикла отраслевых профессиональных выставок. Для российских рыбаков ближайшим крупным смотром, где можно почувствовать основные тренды и понять настроения глобального рынка, будет брюссельская Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Центральным событием внутри страны, как и год назад, обещает стать выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Как строится работа по продвижению продукции отечественных компаний на международных площадках и каких сюрпризов стоит ждать в сентябре, в интервью журналу рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.
– Expo Solutions Group занимает очень интересную позицию – как отраслевой оператор вы находитесь и внутри процессов, происходящих в рыбохозяйственном комплексе, и в то же время чуть-чуть в стороне. С этой точки зрения, как изменилось положение компаний, с которыми вы работаете, в этом году? Как повлияла на ситуацию возможность изменений в законодательстве? Не снизился ли у рыбаков интерес к участию в выставках в России и за рубежом?
– Мне кажется, интерес к выставкам скорее возрос, это касается и зарубежных площадок, и в особенности российской. Конечно, мы не можем игнорировать различные инициативы и реакцию на них рыбацкого сообщества, но вы правильно сказали, что, хотя мы находимся в отрасли и погружены в нее, мы находимся вне политики. Очевидно, сейчас отрасль готовится к изменениям – вот-вот стартует процесс перезакрепления квот, идет оценка инвестпроектов, обсуждаются различные законодательные инициативы. Но все это отраслевые вопросы, а не вопросы участия компаний в выставках.
– Но это сказывается на выставочной активности рыбопромышленников?
– Не совсем так. Крупные компании, конечно, в первую очередь, сосредоточены на вопросах инвестквот. Для них именно это история первостепенной важности, а вовсе не выставки. Но, с другой стороны, предприятия по-прежнему ловят рыбу и другие виды водных биоресурсов, перерабатывают их и продают. И это направление нельзя забрасывать. Конечно, мы волнуемся за наших клиентов, но в любом случае мы стараемся с ними работать с точки зрения бизнеса, организации продаж и т.д.
Кроме того, есть немало компаний, которые не участвуют ни в строительстве судов, ни в распределении инвестиционных квот. У них есть свои квоты, они их осваивают и выпускают различную продукцию, в том числе глубокой переработки.
Возьмем, к примеру, Брюссель – на сегодняшний день российский стенд полностью собран. Да, состав участников несколько обновился, некоторые компании в этом году не участвуют, в том числе в силу занятости, но на их место пришли новые участники. Или выставка в Санкт-Петербурге, до которой еще целых полгода, – собрана уже наполовину.
Мы понимаем, заявочная кампания по инвестквотам, взаимодействие с верфями, кампания по перезаключению договоров на 15 лет – это все, естественно, отнимает большое количество времени, денег и сил. Тем более, как я уже говорил, зачастую в штате рыбопромышленных компаний очень мало маркетинговых единиц. Обычно, когда решаются «серьезные» вопросы, маркетинг отходит на второй план, кстати, поэтому мы частично берем на себя эти функции.
В целом могу сказать, у нас нет сокращения площадок – ни в Брюсселе, ни в Санкт-Петербурге, а по Китаю сейчас зарезервировано даже чуть больше, чем в прошлом году. Это заслуга в том числе нового подхода и расширенного пакета услуг, который мы предлагаем нашим клиентам.
– Расскажите подробнее, что это за подход, чем он привлекателен для рыбаков и какие дополнительные услуги вы ввели в этом году?
– Прежде всего, мы начали совершенно по-другому работать с зарубежными выставками. Присутствие в Брюсселе или Циндао – само по себе стоит больших денег и довольно тяжело для экспонентов в организационном плане. Поэтому мы стали отталкиваться от продукта, от сырья, от рынков сбыта. Когда к нам приходит компания, которой интересно выставляться на этих площадках, мы сначала делаем анализ, полноценное исследование рынка и продукции, которую выпускает это предприятие. Соответственно, приглашаем привезти на выставку уже конкретный продукт, у которого есть шансы выстрелить, быть замеченным.
Честно говоря, нас самих удивило, как отреагировали рыбопромышленники на предложение консалтинговых услуг. Им это крайне интересно. Выставка в этом случае становится уже вторичным инструментом продвижения. При подготовке компании к участию в выставочных мероприятиях мы предоставляем подробную аналитическую раскладку, на основе которой наши заказчики решают, куда они поедут.
Таким образом Expo Solutions Group постепенно отходит от практики простой продажи выставочных площадей, смещаясь в сторону комплексного маркетингового обслуживания. Углубленное изучение спроса позволяет нам рекомендовать производителям тот или иной сегмент азиатского, американского или европейского рынка. Мы планируем расширять этот отдел и в дальнейшем, на мой взгляд, это будет правильно.
Например, в ходе нашего исследования выяснилось, что в Европе популярностью пользуется копченый палтус. А одним из участников российского стенда в Брюсселе будет рыболовецкая артель «Иня». Их основная позиция – это сельдь, но они выпускают и копченый палтус, и икру в разном виде. Поэтому попробуем привезти и такую продукцию, будем изучать, как она себя ведет на европейском рынке, какие цены за нее предлагают, в общем будем развивать новый продукт.
Самое интересное, что при таком подходе естественным образом увеличивается представленность продукции глубокой переработки, то есть уже готовой для потребления. Если в позапрошлом году у нас сырьевая направленность была где-то на 85%, то из года в год эта доля снижается, и мы намерены усиливать это направление. Во-первых, этот тренд совпадает с задачами, которые декларирует государство. Во-вторых, маржинальность такой продукции гораздо выше, поэтому компаниям это выгоднее, чем опять привезти сырье. Пусть даже речь идет о меньших объемах.
Чем больше мы будем продвигать продукцию глубокой переработки и открывать доступ на рынок большему количеству компаний, тем ниже будет денежная нагрузка, которую они несут в связи с участием в выставках. Это веский стимул для тех, у кого есть флот, развивать переработку до конечного продукта. Многие ведь замыкаются внутри своего региона и не знают, что ту рыбу и морепродукты, которые они ловят и производят, можно продавать дороже. Мы даже можем посоветовать, как переделать производство под тот продукт, который, к примеру, будет по хорошей цене продаваться в Японии, или снизить издержки при поставках в центральную часть России.
Следующим этапом после анализа рынка мы видим уже точечное приглашение клиентов на стенд компании. Мы будем искать выход на европейские сети и попробуем построить деловую программу в Брюсселе с акцентом именно на точечные контакты с местными покупателями.
– Если вернуться в Россию, какие планы у вас по выставке в Санкт-Петербурге? Вы собираетесь сохранить концепцию этого мероприятия или стоит ждать изменений?
– Основную концепцию мы трогать не будем, но ряд новшеств вы увидите. Прежде всего, это касается национальных стендов. Во-первых, мы намерены увеличить представительство зарубежных участников. Для этого совместно с Федеральным агентством по рыболовству, с нашими торгпредствами и посольствами мы проводим серию презентаций питерской выставки в тех странах, которым интересен российский рынок. Например, в марте наша делегация отправилась в Марокко.
– Даже в условиях санкций?
– А никакие санкции этому не помеха. Саму площадку для международного диалога, для внутри- и межотраслевого общения никто не отменяет. В прошлом году у нас были и норвежцы, и исландцы, и датчане. Ведь, помимо рыбы, есть еще очень многое, что можно предлагать друг другу. Это и консалтинговые услуги, и оборудование, и технологии, и научный обмен.
Во-вторых, мы проанализировали использование страновых стендов на продовольственных выставках широкого профиля, вроде World Food Moscow, «Продэкспо» или «Золотая осень», и пришли к выводу, что такой формат нам вряд ли подходит. Зачастую то, что ловят иностранные государства, вполне успешно добывают наши рыбаки. Везти на выставку в Санкт-Петербург скумбрию из Мавритании – ну какой смысл? Зато в Марокко и Мавритании есть любопытные прибрежные объекты, которых у нас на рынке нет. Вот с этим можно ехать. Но это не громадные стенды, это нишевые продукты. Поэтому иностранным компаниям мы хотим предложить обратить внимание именно на те позиции, которые пока пустуют.
В этом плане поучительным для нас вышел визит в Армению. Выяснилось, что главные экспортные объекты в стране – это форель, раки и осетровые. Вполне интересные продукты, но экспорт из Армении в Россию с 2014 года сократился в разы, при том что никаких санкций нет. В то же время в ассортименте местных сетей морская рыба в принципе отсутствует. Мы были в четырех магазинах в Ереване – вообще ничего: ни минтая, ни трески, лежит только селедка в баночках. Почему так, ответа нет.
Поэтому мы порекомендовали им приехать со своей продукцией на выставку в Питер, где армянские бизнесмены могут познакомиться с нашими торговыми сетями, обсудить возможные объемы поставок и условия захода на наш рынок. В то же время мы поняли, что переработчиков и ретейлеров из Армении надо везти к нам, чтобы устроить встречу с нашими трейдерами и рыбопромысловыми компаниями по поводу морской рыбы. Кроме того, может сыграть тема с воспроизводством форели, где Армения добилась больших успехов. Сейчас выясняем у федерального агентства, насколько это может быть интересно. Все это расширяет возможности выставки как пространства для межстрановых контактов.
– Нет ощущения, что мероприятий, особенно в рамках форума, в прошлом году получилось слишком много – панельные сессии, круглые столы и т.д., в том числе в ущерб бизнес-встречам?
– Форум обязательно должен быть как единица обсуждения глобальных вопросов, потому что они возникают каждый год, и нам нельзя оставаться в стороне от дискуссии. А вот выставка в идеале будет сопровождаться небольшими, но емкими бизнес-мероприятиями, семинарами, мини-сессиями, презентациями.
Про стенд Армении я уже сказал, та же история с Марокко. Или возьмем Норвегию. Весь стенд норвежцев состоит из оборудования, поэтому логично сделать семинар для тех, кто его использует или интересуется им, может быть, стоит показать какие-то новые разработки. Ведь вся эта техника применяется на наших судах и предприятиях. Чем больше в расписании выставки таких узконаправленных мероприятий, тем лучше.
В этом случае компаниям имеет смысл, кроме менеджеров по продажам, отправлять на выставку разных специалистов – технологов, капитанов, тралмастеров, которым интересны конкретные темы, потому что им будет на что посмотреть. Вот это и называется профессиональной выставкой.
Что касается сюрпризов, то в этом году мы вновь будем экспериментировать с фудкортом. Попробуем кое-что новенькое, пока без подробностей, но это будет бомба. Многие пытаются у нас в стране сделать рыбный фастфуд, но, по большому счету, внятной истории ни у кого не получилось. Инерцию мышления обычных людей, у которых этот жанр прочно ассоциируется с «Макдоналдсом» и KFC, так просто не переломить. Рыбных магазинов и ресторанов достаточно, но мы предложим совсем другой концепт, он будет ультрасмешанным.
Анна ЛИМ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Инвестпроект как аргумент.
Целые регионы продолжают отстаивать незыблемость исторического принципа распределения квот в рыбной отрасли. В качестве весомых аргументов против «крабовых новаций» сами добытчики краба приводят не только факты и статистику, но и инвестиционные проекты, которые продолжают реализовывать даже в условиях возникшей неопределенности. С каким настроем встретила рубежный 2018 год Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал президент объединения Александр Дупляков.
ВЫДУМАННАЯ ПРОБЛЕМА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
– Александр Павлович, на прошедшем в феврале Съезде рыбаков вы высказались, и довольно конкретно, по вопросу сохранения исторического принципа распределения квот. Как вам показалось, удалось ли донести до правительства, что этот вопрос выходит далеко за рамки конкурентной борьбы между бизнесом? Что это базовый принцип нормального существования всей отрасли, а не ее отдельных компаний?
– Вопрос, мне кажется, даже проще. И суть его в том – почему вообще возникла эта инициатива с пересмотром основополагающих принципов. Об этом мы прямо рассказали на съезде. На протяжении последних десяти лет, с момента законодательного закрепления исторического принципа, в отрасли идет поступательное движение, развитие. Постепенно мы пришли к механизму нового перезакрепления квот, к привлечению дополнительных инвестиций в отрасль. Предприятия принимают важные для себя решения, занимаются серьезным планированием. Как вдруг возникает неожиданное препятствие, причем неожиданное для всей отрасли. Все же понимают, что обсуждаемая сегодня проблема возвращения аукционов касается не только крабов – как я говорил на съезде, законом будут предусмотрены общие нормы, т.е. риск включения в «аукционный список» есть для всех объектов.
Почему вообще возник этот вопрос? Мы услышали однозначное мнение рыбаков на съезде. Какого-то другого мнения не прозвучало. Также достаточно определенно можно сказать, что никакой официальной позиции у государства по этому вопросу нет – никто ни разу не высказался и не представил каких-либо расчетов, обосновывающих необходимость изменения действующего исторического принципа.
То есть все говорит о том, что сама по себе проблема выдуманная.
– Проблема выдуманная, но в то же время вполне реальная.
– Да, она вполне реальна, поэтому на протяжении трех месяцев так активно обсуждается. Этому вопросу была посвящена и вся первая часть съезда, на которой присутствовали представители федеральных органов власти. Высказался по проблеме и вице-премьер Аркадий Дворкович: достаточно мягко, но все-таки в отрицательном ключе он заявил, что не видит перспектив у разрешения ситуации в пользу аукционов.
– Вместе с тем Росрыболовству и Минсельхозу были даны указания представить аргументы в отношении аукционов.
– Было сказано, что если появятся такие расчеты, аргументы, то они будут обсуждаться открыто, не будет каких-то кулуарных переговоров, как до сих пор это и происходило. Никаких совещаний ведь по этому поводу так и не было. Рыбаки присутствовали только на одном – в Администрации Президента еще в прошлом году, где нас попросили высказать свое мнение, и мы это сделали – всё.
Вспомните, каким открытым и масштабным было обсуждение последних изменений в закон о рыболовстве, и в итоге решения принимались президиумом Госсовета во главе с президентом. А то, что происходит сейчас, больше напоминает скрытую попытку рейдерского захвата целой отрасли.
– В защиту исторического принципа при распределении долей квот добычи выступили целые регионы.
– Да, серьезность этого вопроса понимают и губернаторы, и депутаты областных дум, они разделяют позицию рыбаков. Высказались по проблеме судостроители, которые участвуют в реализации инвестиционных проектов, и крупные банки, финансирующие их. Отреагировали все крупнейшие общероссийские и региональные отраслевые объединения. Более 80 организаций – ассоциаций и компаний рыбной отрасли со всей России – подписались под обращением к главе государства с просьбой установить мораторий на изменение базовых принципов закона о рыболовстве.
Мы видим, что не только отрасль – все осознают бессмысленность и вредность этой инициативы. Но она сама по себе продолжает существовать. Уже известно, что делается это в интересах одной компании, которая захотела получить крабовые квоты, и ради этого предлагается поломать базовые принципы, к которым отрасль шла с начала 2000-х.
Разрешение этого вопроса в перспективе должно показать, гарантирует ли государство стабильность законодательства, можно ли планировать свою деятельность на перспективу или все это лишь пустые декларации и нормально работать можно до тех пор, пока очередной лоббист не решит, что тот или иной ресурс представляет для него интерес.
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– Рыбаки всегда отмечали, что прежде всего для нормальной работы предприятиям необходима стабильность в отрасли. Сегодня, несмотря на такую подвешенную ситуацию, компании – члены Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока продолжают вкладываться в строительство судов, в переработку, в развитие отрасли. Из последних примеров – закладка краболовного судна компанией «Антей» в марте этого года.
– Естественно, работа продолжается. Неопределенность для нас возникла всего три месяца назад, до этого существовала – сейчас правильнее так будет уже сказать – иллюзорная гарантия того, что все будет продолжено на прежних условиях. Поэтому уже с 2016 года наши компании начали готовиться к новому этапу: работать с верфями, заниматься проектами, прорабатывать с банками схемы финансирования. Необходимая работа была проделана, и с начала этого года все краболовы ожидали скорого внесения изменений в постановления по инвестпроектам, чтобы с 1 марта вместе со всеми вступить в заявительную кампанию. Но появилась неопределенность на фоне нашумевшей «крабовой инициативы», и в результате до сих пор постановление не принято.
Параллельно начали звучать предложения по дополнительным требованиям к оснащению краболовных судов (оборудованием для видеонаблюдения и взвешивания). Недавно появилась даже инициатива строить краболовный флот только на Дальнем Востоке, что также далеко не у всех в отрасли находит поддержку (наша ассоциация уже направила письма по этому поводу в различные ведомства). Но главное – пока мы даже не видели окончательную редакцию изменений, которые ожидают принятия.
– Несмотря на метания госструктур, рыбаки все-таки решили идти выбранным курсом и выполнять свои обязательства (пока добровольно на себя же и взятые)?
– Во-первых, проделана большая работа, резко взять и остановить ее на неопределенный срок до окончательного разрешения вопроса с основными квотами, наверно, невозможно. Во-вторых, заявительная кампания по инвестквотам тоже будет ограничена определенными сроками, в которые предприятия должны будут уложиться. А предстоит большая бумажная работа с юридически сложными документами по заключению договоров с банками, заводами.
Поэтому на сегодня все, кто рассчитывает выставлять свои инвестиционные проекты на комиссию, продолжают следовать выбранным курсом. Окончательные решения, наверняка, будут приниматься в последний момент. Но факт остается фактом: даже краболовы не потянут того, чтобы и на аукционе квоты покупать, и одновременно суда строить.
– Если вспомнить, в каком настроении отрасль была 10 лет назад, когда происходило первое закрепление «длинных» квот, то видно, что сейчас рыбопромышленники более сплочены из-за возникших проблем.
– Конечно. К тому же десять лет назад в отрасли было гораздо больше компаний, и не только по крабу. Не было настолько развито участие объединений, ассоциаций, союзов в жизни отрасли и в общественной жизни в целом – это направление именно за последнее десятилетие достаточно сильно развилось. И такая ситуация не только в рыболовстве: в различных отраслях участие бизнеса в принятии решений стало намного активнее.
А когда рыбопромышленных компаний стало меньше, отрасль стабилизировалась именно в количественном составе, стало легче решать проблемы – наладился диалог, люди осознали важность совместного решения возникающих вопросов. Поэтому и ситуация, которая сложилась сегодня, думаю, еще больше сплотит отрасль и сделает ее сильнее.
В ПРОЦЕССЕ СЕРТИФИКАЦИИ
– Хотелось бы узнать, как реализуется проект Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока по сертификации промысла по стандартам MSC . Совсем недавно ваши коллеги – краболовы Севера – сообщили об успешном завершении аналогичной работы на своем бассейне. На каком этапе сейчас процесс сертификации у дальневосточников?
– Надеемся, что в этом году мы все-таки выйдем на полную сертификацию, как и планировали. Наиболее подготовленными для процесса сертификации являются три объекта – это камчатский краб Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон, синий краб Западно-Камчатской подзоны и краб-стригун бэрди Камчатско-Курильской подзоны. По этим единицам запаса собрана максимальная информация.
Параллельно мы ведем работу и по другим районам и объектам промысла. В планах усилить работу наблюдателей на востоке Камчатки, в Северо-Охотоморской подзоне, ряде других районов.
Есть предварительная оценка и четкое представление, какие вопросы остается проработать. Единственное, опять же, неопределенность, связанная с возможностью изменения рыболовного законодательства в части исторического принципа, вынуждает нас с большей осторожностью подходить к этому вопросу именно сейчас. Пока мы рассчитываем уже в третьем-четвертом квартале 2018 года приглашать экспертов.
– О подробностях работы АДК по сертификации крабового промысла вы рассказали на выставке Seafood Expo North America в Бостоне.
– Совместно с коллегами из Ассоциации добытчиков минтая мы провели круглый стол. Удалось привлечь зарубежных покупателей и представителей некоммерческих организаций по вопросам устойчивого рыболовства. Мы рассказали о системе управления и контроле за промыслом в России. Это и правила рыболовства, и система ОДУ, и то, как действует отраслевая система мониторинга, и многое другое.
Что касается крабов, то была представлена информация о рынке крабовой продукции стран АТР за последние три года и о его возможных тенденциях. Часть выступления была посвящена вопросам сертификации крабовых промыслов. В этом плане поездка в Бостон была очень полезной, так как по ее итогам придется скорректировать планы сертификации в отношении объектов и районов промысла.
В целом с 2012 года в этом направлении проделана большая работа, есть опыт и понимание того, куда нам надо двигаться дальше. Когда мы эту работу только начинали, рынок крабовой продукции не был столь требователен к вопросам экомаркировки, но в настоящее время ситуация изменилась. На североамериканский рынок с каждым годом все труднее поставлять несертифицированную продукцию, и, думаю, в ближайшей перспективе для такой продукции доступ на рынок будет закрыт. Безусловно, мы эту работу будем продолжать.
– Каков был отклик аудитории, какие задавались вопросы на круглом столе?
– К круглому столу был проявлен высокий интерес со стороны и покупателей российской крабовой продукции, и экологических организаций. Что касается краба, то одним из основных вопросов, который поднимался участниками круглого стола, был вопрос о способах информирования зарубежных коллег о нашей системе управления промыслами и в целом о работе, которую мы ведем. В этом отношении нам предстоит уделить больше внимания работе с иностранными отраслевыми СМИ.
А вообще это был первый подобный опыт для нас, и его результаты говорят о том, что такую практику необходимо продолжать. Аудиторию обязательно надо информировать о работе в этой сфере еще и потому, что настороженное отношение за рубежом к российской рыбной отрасли сохраняется. Особенно это чувствуется в отношении дальневосточного краба, у которого была неоднозначная история. Но нам важно показать, насколько сильно изменилась ситуация и что представляет из себя современная отрасль.
Браконьерства нет – И ТОЧКА
– Наверно, особенно заметно изменилась ситуация в аспекте ННН-промысла?
– В профессиональной среде проблема ННН-промысла крабов уже не является первоочередной – в этом сегменте российского рыболовства его сейчас фактически нет. Единичные случаи происходят и, наверное, будут происходить, но пограничники практически всегда задерживают нарушителей. Эффективно реализуются межправительственные соглашения по борьбе с ННН-промыслом. Так что сейчас это явление настолько редкое и происходит оно в столь незначительных объемах (даже по году можно говорить лишь о десятках тонн краба, добытого в результате ННН-промысла), что не влияет как-либо образом на промысел.
Поэтому могу с уверенностью заявить, что любая информация о существовании браконьерства на крабовом промысле – это показатель недобросовестности такого информационного источника или умышленная попытка очернить отрасль. На самом деле этой проблемы на сегодняшний день нет.
Единственный барьер сейчас остается в самом законодательстве, которое порой несовершенно настолько, что само же и порождает нарушения. Я говорю о требованиях по прохождению контрольных точек, правилах неоднократного пересечения границы и т.п. Здесь возникает уже не вопрос контроля, а вопрос соблюдения формальностей закона. Проблема не в том, что контрольные органы применяют какой-то «особый» подход к рыбакам или слишком часто контролируют, а именно в том, что с точки зрения действующего законодательства к нарушениям относятся факты, не наносящие никакого практического ущерба и не представляющие никакой угрозы. Это происходит из-за несовершенств законодательства, которые надо устранять, и в этом плане предстоит большая работа.
Наталья СЫЧЕВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Сертификация ответственного бизнеса.
Ассоциация краболовов Севера успешно завершила сертификацию промысла камчатского краба в Баренцевом море на соответствие стандартам Морского попечительского совета (MSC). Учитывая растущий интерес к MSC-сертификации, мы попытались выяснить, зачем это нужно рыбакам, насколько это сложный процесс, в чем особенности сертификации в России. Отдельно обсудили вопрос о сертификации на фоне возможного возврата к крабовым аукционам. Собеседниками Fishnews стали исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов и консультант MSC в России по рыболовству, д.б.н., специалист по промысловым беспозвоночным Василий Спиридонов.
ГЛАВНЫЙ АКТИВ ПРОМЫСЛА
– Зачем была нужна сертификация?
С. Несветов: Во-первых, мы хотели показать, что ведем промысел ответственно, не подрывая состояния запасов и минимизируя влияние на экосистему.
Во-вторых, имела место и коммерческая составляющая. В России пока это не очень развито, но на рынках Европы потребитель стремится покупать продукцию, выловленную компаниями, которые ответственно подходят к сохранению окружающей среды и к своему бизнесу. А MSC-сертификация – признанная во всем мире система подтверждения того, что продукция отвечает всем этим запросам.
Главный актив любого рыбодобывающего бизнеса – это биоресурсы, долгосрочный доступ к квотам. Это ключевой элемент, делающий бизнес устойчивым в долгосрочной перспективе.
– Может ли сам по себе факт сертификации не просто зафиксировать состояние промысла, но в будущем отразиться также на состоянии популяции?
В. Спиридонов: Отчет о глобальном воздействии, ежегодно публикуемый MSC, содержит много фактов, показывающих, что состояние запасов практически всех сертифицированных промыслов не ухудшается. А во многих случаях происходит рост целевого запаса. Что касается камчатского краба в Баренцевом море, то сама процедура регулирования вылова построена таким образом, что при уменьшении запаса по каким-либо причинам уменьшается и вылов, это позволяет обеспечить восстановление ресурса до приемлемого уровня. При этом сертификация MSC – это публичный процесс с обратной связью, нацеленный на долгосрочное совершенствование управления промыслом. Если в процессе ежегодных аудитов и ресертификации через пять лет будет выявлено, что правила регулирования вылова недостаточно эффективны (что может произойти и в силу естественных причин – изменятся, например, океанографические условия в Баренцевом море), это будет стимулом их усовершенствовать.
КРАБ-ИММИГРАНТ
– В чем уникальность сертификации камчатского краба в Баренцевом море?
В. Спиридонов: Камчатский краб в Баренцевом море – это интродуцированный вид, природный ареал которого находится в водах Северной Пацифики. Он акклиматизирован в Баренцевом море в результате планомерной деятельности советских специалистов в 1961-1969 годах. В настоящее время этот вид массово встречается в южной шельфовой зоне Баренцева моря от северной Норвегии на западе до района острова Колгуев на востоке. С 2004 года в российских водах открыт промышленный лов камчатского краба. Вселение камчатского краба произошло задолго до принятия Конвенции о биоразнообразии в 1992 году, которая требует от стран-членов (в том числе России) недопущения новых интродукций. В настоящее время камчатский краб стал частью баренцевоморской экосистемы и, по ряду признаков, достиг пределов своего распространения, определяемого океанографическими условиями и особенностями геоморфологии шельфа. Эти обстоятельства делают промысел камчатского краба как интродуцированного вида пригодным для оценки с целью сертификации по Стандарту MSC для экологически устойчивого рыболовства.
НЕПРОСТО, НО ВОЗМОЖНО
– Как проходил процесс сертификации, сложно ли было получить документ?
С. Несветов:Это непросто, но если компания действительно относится к этому всерьез, то возможно. Разумеется, это требует определенных затрат, некоторой перестройки системы управления и системы контроля промысла, обучения персонала, в том числе экипажей судов. И главное – изменения отношения к проблемам экологии и воздействия на окружающую среду и экосистему.
В. Спиридонов: Процесс сертификации проходил без особых сложностей. Состояние запаса отслеживалось практически с начала его формирования, учеными были подобраны и испытаны модели динамики популяции, позволяющие рассчитывать последствия изъятия и прогнозировать устойчивый вылов. Недавно были приняты правила контроля вылова, формализующие процесс принятия решений при определении общего допустимого улова. Таким образом, развитие подхода к управлению запасом происходило в соответствии с первым принципом (состояние запаса) Стандарта MSC, согласно которому целевой запас должен поддерживаться на уровне, обеспечивающем неограниченное по времени использование без перелова. Баллы оценки предполагали формулировку определенных условий, которые заказчик сертификации должен выполнить в течение срока действия сертификата, в частности, обеспечить информацию по промысловой смертности крабов как прилова при добыче других видов, а также показать, что эффективность системы управления промыслом крабов периодически оценивается как с помощью внутриведомственного рассмотрения, так и внешних экспертов.
Можно было ожидать, что сертификация российского промысла камчатского краба в Баренцевом море вызовет критические замечания у ряда норвежских общественных организаций и экспертов, которые считают этот вид вредным вселенцем, запас которого не должен поддерживаться на высоком уровне. Однако то ли в самой Норвегии это мнение сейчас в значительной степени пересматривается, то ли наши соседи не придали большого значения сертификации российского промысла, так или иначе – никакой критики и тем более возражений оценка промысла не вызвала.
БРАКОНЬЕРСТВО ОТМИРАЕТ
– Вопросы браконьерства как-то повлияли на процесс?
С. Несветов:Аудиторы при сертификации обращают внимание на информацию о случаях браконьерства. Причем используют не только российские, но и зарубежные источники, позволяющие комплексно оценивать наличие либо отсутствие ННН-промысла. Аудиторы не нашли никакой информации о том, что на Северном бассейне существует промышленное браконьерство. Занимаясь промыслом краба, могу это подтвердить. Есть, конечно, единичные случаи, когда граждане на резиновых лодках выходят в прибрежную акваторию и пытаются поймать 100 кг краба, чтобы втихаря его продать. Такими случаями браконьерство у нас и ограничивается: объемы исчезающе малы. К слову, на Дальнем Востоке, насколько я знаю, схожая ситуация. Легальные пользователи, имеющие крабовые квоты, с браконьерством никоим образом не связаны. Регистрируемые там факты браконьерства связаны с «подфлажными» судами, которые к легальному промыслу краба не имеют никакого отношения. В ситуации, когда есть исторический принцип долгосрочного закрепления квот, ни один легальный пользователь браконьерством заниматься не заинтересован.
В. Спиридонов: В Баренцевом море в последние 10-15 лет удалось минимизировать незаконный и неучитываемый вылов большинства объектов промысла, включая камчатского краба. Это признано сертификаторами и является гарантией того, что промысловое изъятие учитывается с достаточной точностью.
РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА
– Каковы особенности сертификации промыслов в России и проявлялись ли они в данном случае?
В. Спиридонов: До последнего времени российские промыслы, проходившие сертификацию по Стандарту MSC, были исключительно промыслами рыбы, ведущимися преимущественно с помощью активных орудий лова. Основные вопросы и проблемы, которые возникали в ходе оценки, были связаны не с первым принципом стандарта, рассматривающим состояние запаса и регулирование изъятия, а со вторым принципом. Вопросы оценки запаса и регулирования вылова таких видов, как баренцевоморская треска или охотоморский минтай, всегда были центральными для государственного управления рыбными промыслами. Второй принцип Стандарта MSC требует подтверждения, что промысел управляется таким образом, чтобы было обеспечено поддержание структуры, продуктивности, функции и разнообразия экосистемы, от которой он зависит (включая виды и местообитание). Российская рыбохозяйственная наука традиционно, а особенно в условиях структуры современного финансирования, как правило, не собирает целенаправленно информацию, позволяющую ответить на возникающие вопросы. Кроме того, такие орудия, как донные тралы, считаются оказывающими серьезное воздействие на морское дно. В случае же с добычей камчатского краба промысел ведется пассивными орудиями – ловушками, и в связи с этим, воздействие промысла на морскую среду и другие организмы вызывает меньше проблем.
Система управления промыслами (третий принцип Стандарта MSC) традиционно оценивается достаточно высоко, но также традиционно делаются заявления о необходимости периодической оценки ее эффективности с участием всех заинтересованных сторон, – как самих рыбопромышленников, так и независимых экспертов.
С. Несветов:Мы горды тем, что получили сертификат MSC, так как это международное признание того факта, что мы успешно с чистого листа осуществили становление этого промысла в Баренцевом море и ведем его эффективно, заинтересованы в его долгосрочном использовании и сохранении для будущих поколений. Мы успешно завершили грандиозный эксперимент советских ученых. Жаль, что признание этого факта приходит пока только из-за рубежа, а руководство отрасли и правительство все еще прислушиваются к тем «экспертам», которые утверждают, что краб находится «не в тех руках», игнорируя даже сам факт получения нами сертификата MSC, который снимает с нас всякие обвинения в «непрозрачности» ресурса, в неэффективности его управления и в низкой отдаче от ресурса. Разве успешное становление такого промысла, который увеличивает экспортный потенциал РФ, и сохранение его для будущих поколений нельзя считать хорошей отдачей для бюджета? Но на самом деле они-то, те самые «эксперты», в первую очередь и оценили наши успехи, но только для себя, и поэтому лоббируют беспрецедентные изменения в действующем законодательстве о рыболовстве, резко ухудшающие положение действующих пользователей, а именно – отбор у пользователей части квот и проведение по ним новых аукционов. А ведь государство на последнем отраслевом Госсовете в 2015-м году прогарантировало, что, кроме введения инвестиционных квот, других изменений базовых принципов системы распределения квот в период с 2019 по 2033 годы не будет!
АУКЦИОНЫ ПРИВЕДУТ К ДЕГРАДАЦИИ
– Вы начиналиMSC-сертификацию полтора года назад, когда вопрос о крабовых аукционах на повестке еще не стоял. Сейчас бы вы начали сертификацию?
С. Несветов:Безусловно да. Мы по-прежнему надеемся, что новых масштабных экспериментов со всеми добытчиками краба в отрасли не будет. Мы просто не видим никаких логических обоснований, почему государство должно создать прецедент по отдельно взятому ВБР и вернуться к крабовым аукционам. Доступ новых участников возможен через инвестиционные квоты и приобретение действующих игроков, а для увеличения наполнения бюджета можно просто увеличить сборы за ВБР. Но если вдруг все же будут хоть какие-то новые аукционы по камчатскому крабу Баренцева моря, то нам тоже придется в них участвовать, а если победят другие участники, то автоматически сертификат MSC они не получат. Им еще придется наладить промысел и доказать свою эффективность.
Справка:Промысел камчатского краба в Баренцевом море – единственный сертифицированный в настоящее время промысел «королевских крабов» (крабоидов).Начало оценки было объявлено 9 февраля 2017 года. Процесс сертификации занял около года, а финальный отчет и определение соответствия промысла Стандарту MSC были опубликованы на сайте Морского попечительского совета 23 февраля 2018 года.
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большее будущее.
В рыбной индустрии немало примеров, когда в отраслевую ассоциацию приходят люди из профильного ведомства, но проделать этот путь дважды выпадает редко. Юрий Иванович Кокорев перешел в ВАРПЭ в 1995 г. с поста зампредседателя комитета по рыболовству, в 2000 г. вновь вернулся на госслужбу, но уже через три года возвратился в ассоциацию и следующее десятилетие отстаивал интересы рыбаков на всех уровнях власти.
– Юрий Иванович, как для вас выглядела ситуация в российской рыбной отрасли в начале 1990-х? И как в комитете по рыболовству отнеслись к появлению Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров?
– Первое, с чем мы столкнулись, это проблема управляемости рыбного хозяйства. К концу 1992 года стало очевидным, что система, отлаженная в Минрыбхозе за годы советской власти, можно сказать, не функционировала, она просто оказалась не востребована новой властью. Сводки с бассейнов, хозяйственные вопросы, которые надо было решать – вагоны в портах, вывоз продукции из районов промысла, обеспечение топливом и прочее, – новому сформированному правительству было не до этого.
Все это отражалось на качестве управления и на деятельности предприятий, которые в свою очередь, ощутив самостоятельность, не всегда соблюдали дисциплину прежней отчетности и выполнения команд, которые шли из центра. Стало понятно, что если ничего не предпринять, мы окончательно потеряем управляемость отрасли. Правительство и аппарат комитета по рыболовству не могли работать с каждым отдельным предприятием. Тогда появилась мысль об объединенной структуре, которая бы представляла проблемы и интересы рыбаков и выражала консолидированное мнение отрасли.
К тому времени в регионах уже появились Союз рыбопромышленников Севера, Ассоциация рыбаков Сахалина, чуть позже была создана Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, то есть на местах процесс создания союзов и ассоциаций шел полным ходом. Кроме того, у нас перед глазами уже был определенный прообраз такого добровольного объединения, которое довольно-таки неплохо и эффективно работало в масштабах страны. Я имею в виду Ассоциацию «Росрыбхоз» и Росрыбакколхозсоюз.
Еще в конце 1980-х Василий Дмитриевич Глущенко, весьма дальновидный человек, вышел с инициативой об упразднении Минрыбхоза РСФСР и создании на его базе государственно-кооперативного объединения «Ассоциация Росрыбхоз». И такая организация была создана в 1988 году и наделена правительством конкретными функциями, позволяющими сохранить управляемость деятельности предприятий внутренних водоемов и аквакультуры.
За создание всероссийской ассоциации рыбаков выступали Александр Николаевич Якунин, Яков Михайлович Азизов, Владимир Михайлович Каменцев и отдельные руководители предприятий, в частности Юрий Иванович Москальцов. Председатель комитета по рыболовству Владимир Федорович Корельский также положительно смотрел на эту инициативу. Таким образом, эта задумка нашла поддержку и в центре, и на местах.
В 1993 году было проведено учредительное собрание, а государственную регистрацию ВАРПЭ получила 24 января 1994 года. Причем статус всероссийской ассоциации по действовавшему тогда законодательству давала специально созданная правительственная комиссия, и надо отдать должное Владимиру Михайловичу Каменцеву, которого единогласно избрали первым президентом ВАРПЭ, что сертификат, подтверждающий этот статус, мы все-таки получили.
Дальше работа строилась следующим образом. По нашей экспертной оценке, от 80% до 90% предприятий, формирующих объемы вылова по стране, считались членами всероссийской ассоциации. Была проведена специальная коллегия Роскомрыболовства, по решению которой подписан договор о сотрудничестве с ВАРПЭ. И в рамках этого договора были созданы рабочие группы.
– Но к тому времени вы уже перешли в ассоциацию?
– Да, мое решение покинуть пост заместителя председателя комитета было осознанным и добровольным. Хотя для Владимира Федоровича стало большой неожиданностью, когда я в середине 1994 года заявил, что хотел бы поработать в ассоциации. Я вам откровенно говорю, что за ассоциацией я видел большое будущее. Более того, я работал с Владимиром Михайловичем Каменцевым, знал его и искренне уважал, у этого человека было чему учиться, и мне хотелось с ним работать. Его огромный авторитет позволил ВАРПЭ в первые же годы прочно встать на ноги и заявить о себе в органах власти.
В феврале 1995 года я перешел в ВАРПЭ и стал сопредседателем рабочей группы по организации выполнения договора, подписанного с комитетом. И мы очень конструктивно и плодотворно сотрудничали.
– В чем конкретно выражалось это сотрудничество?
– Еще когда я работал в аппарате комитета, мы столкнулись с резким сокращением бюджетного финансирования практически всех направлений, которые имели государственное значение. Затраты на их выполнение нельзя было переложить на плечи приватизированных предприятий. Например, содержание представительств за рубежом, взносы в международные организации, работа аварийно-спасательного флота, рыбоохрана, воспроизводство рыбных запасов, подготовка кадров – все это функции государства. И среди них такое важное направление, как наука и научное обслуживание отрасли.
Но средства из бюджета отрасль получала по остаточному принципу. В Минфине, по правде сказать, не видели необходимости в этих расходах. По факту госфинансирование едва покрывало четверть необходимых затрат. Поэтому возникло предложение сформировать внебюджетный фонд, чтобы хоть как-то продержаться этот период. Иначе, когда у государства появятся возможности и понимание задач, уже не будет ни вопроса, ни отрасли.
Если мне память не изменяет, комитет зарезервировал порядка 300 тыс. тонн ресурсов из общего допустимого улова с целевым назначением для реализации на платной основе. Для того чтобы все было сделано прозрачно и по закону, я предложил, чтобы механизм формирования направлений использования этих ресурсов был утвержден решением правительства. Меня поддержал Владимир Федорович Карельский, и в 1993 году буквально в рекордный срок – менее месяца – распоряжением правительства нам было предоставлено такое право. Все происходило под контролем со стороны государства. Думаю, именно это спасло нас от каких-либо резонансных дел в тот период.
Картина резко поменялась в лучшую сторону. У комитета появились средства на науку, воспроизводство рыбных запасов, образование и сохранение нашего участия в международных организациях. Ведь доходило до чего. Например, курсантам на питание денег не было, представляете? Рыбоводным заводам за неуплату электричество отключали, рыба гибла. Мало кого это беспокоило. Поэтому источник средств надо было искать где-то внутри отрасли, и он был найден.
– А какое отношение эти процессы имели к ВАРПЭ?
– Самое прямое. Потому что встал вопрос, как распределять эти 300 тыс. тонн, чтобы избежать какой-либо личной заинтересованности. И я внес предложение – организовать распределение через всероссийскую ассоциацию. На рабочей группе было решено, этим будут заниматься четыре организации под эгидой ВАРПЭ – «Соврыбфлот», «Дальрыба», Ассоциация совместных предприятий рыбного хозяйства и «Севрыба». И такая система действовала практически до периода аукционов. Как раз в 2000 году я опять перешел в комитет, но связи с ассоциацией не разрывал, постоянно интересовался их работой и, чем мог, помогал.
А в мае 2003 года умер Владимир Михайлович Каменцев. Президентом ВАРПЭ стал Александр Васильевич Родин, который попросил меня вернуться в ассоциацию. На тот момент я уже работал первым заместителем директора ВНИЭРХ. Сначала меня избрали вице-президентом, а когда подошел срок предложили возглавить ВАРПЭ. Я дал согласие только на один срок – по состоянию здоровья, но вот так получилось, что пришлось избираться и на третий срок.
– На момент вашего возвращения какая главная задача стояла перед ассоциацией?
– Главной задачей ВАРПЭ с первого дня основания было представлять и отстаивать интересы рыбаков и работников рыбного хозяйства. А в чем эти интересы выражались? В основном в том, чтобы предприятиям не мешали работать. Нужны были предсказуемые и стабильные условия, а как ловить рыбу, ее обрабатывать и продавать – этому нас учить не надо. Но правила игры постоянно менялись, особенно в 2001 году, когда ввели практику аукционных торгов квотами вылова ВБР. Честно говоря, я считаю, что это была настоящая диверсия, подрывающая многие устои государственности.
Смотрите, аукцион – это публичная продажа товара или имущества. Но рыба в воде, или право промысла – это не товар, не имущество, это вообще не аукционные категории. Это первое.
Следующий момент. Рыбак должен заплатить не за ресурс, а за шанс. Причем никто ответственности не несет, если этот шанс не отоварен. Это что, честная система взаимоотношений государства и рыбака?
Наконец, деньги у предприятия в лучшем случае появятся, когда эта квота будет освоена, продукция произведена и продана, только тогда он реально может рассчитаться за квоту. Но нет! Оказывается, надо заплатить вперед, а что там будет, государство практически не интересует.
Все эти аргументы, обоснования, расчеты мы пытались рассказывать, показывать, писали письма, объясняя разрушительные последствия таких шагов. Для интересов государства это была сиюминутная выгода – за три года в бюджет поступило 36 млрд рублей. Формула, конечно, красивая, если не видеть за этим негативных последствий для состояния сырьевой базы рыболовства и преступной халатности в ее охране. Фактически государство продавало билет на браконьерство тем пользователям, которые заплатили за квоту нереальную цену.
Как может быть, когда право промысла объекта в определенном районе стоит в несколько раз дороже готовой продукции, которую можно произвести из этого объема сырья? Чудес же не бывает, значит где-то воруют. У кого? У государства. А как воруют? А так, что разлагают правоохранительные органы – последнюю инстанцию, которая должна стоять на пути биотерроризма. Кто-нибудь тогда думал, к чему это приведет?
– С одной стороны, аукционы, отрасль штормит, с другой, – именно в этот период принимается первая редакция закона о рыболовстве. ВАРПЭ участвовала в разработке этого документа?
– Да, закон о рыболовстве был принят в 2004 году, хотя мы уже с начала 1990-х занимались этим вопросом. Первые редакции появились в 1996-1997 годы. ВАРПЭ участвовала формировании и продвижении законопроекта, но наше лобби было слишком слабым. А в 2003 году лидерам «Единой России», которые заседали в Госдуме, понадобилась поддержка на выборах со стороны рыбаков, поэтому удалось найти компромисс.
Как известно, закон, принятый в 2004 году, был именно что базовым. Если бы не было дополнений, поправок, изменений, которые внесли в него в 2008 году и в последующие годы, мы бы не достигли результатов отраслевой стабилизации. Я глубоко убежден, что импульс формирования вектора устойчивого развития отрасли дал Госсовет, который прошел в августе 2007 года в Астрахани. Принятые на нем решения ранее нарабатывались с участием специалистов ВАРПЭ.
Надо отдать должное, никто из руководителей государства и правительства так предметно не занимался проблемами нашей отрасли, как Владимир Владимирович Путин. Став президентом, он очень много внимания уделял жизненным проблемам, волнующим рыбаков, особенно когда приезжал на Дальний Восток, встречался с людьми, старался вникнуть в их суть.
Я такой случай приведу. Это был 2008 год, в мае Владимир Владимирович стал председателем правительства, а где-то осенью собрал в Белом доме совещание с членами правления РСПП. В основном это представители крупного бизнеса, от рыбаков там был только я как президент ВАРПЭ. Нам только что по результатам голосования в Госдуме отказали в возможности перехода на ЕСХН – завернули законопроект во втором чтении. И я поднял на встрече этот вопрос: что рыбаки – такие же производители продуктов питания, как и аграрии, мы тоже работаем в этом секторе экономики и решаем проблемы продовольственной безопасности, почему же к нам такое отношение, как к пасынкам. И проиллюстрировал сказанное примерами.
Реакция Владимира Владимировича была мгновенной. Он, обратившись к своим заместителям, дословно сказал: «Я вас прошу, возвратитесь к этому вопросу. Не надо создавать рыбакам новые проблемы, у них старых достаточно». И действительно в скором времени вопрос был решен. Так что эта личность не только понимала наши проблемы, но и во многом их решала! И ВАРПЭ являлось одним из проводников в их доведении до сведения руководства страны.
– Получается, поправки 2008–2009 годов в целом носили более прогрессивный характер?
– Безусловно! Изменения в закон, которые закрепили доли квот за пользователями на 10 лет и рыбопромысловые участки на 20 лет, – это огромный плюс. С 2019 года доли квот ВБР закрепляются на 15 лет. Таким образом созданы предсказуемые условия для деятельности рыбака.
Представители ВАРПЭ очень тесно сотрудничали с законодательной и исполнительной властью. Наши люди были в рабочих группах по выработке и внесению изменений в законодательные и нормативные акты. Не всё, безусловно, получалось. Например, когда появилась первая редакция поправок в закон о рыболовстве, которая содержала статью об уничтожении водных биоресурсов, добытых в процессе научно-исследовательского и контрольного лова, мы сначала подумали, что это какая-то описка. А на деле, оказалось, продуманная линия авторов, которые хотели, как лучше, а получилось, как всегда.
На всех заседаниях правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, а они случались чуть ли не каждый месяц, начиная с 2008 года, я поднимал вопрос об абсурдности этой нормы. Ведь научные уловы требовалось уничтожать в специальных местах захоронения. А чтобы захоронить, эту рыбу надо сначала заморозить, а потом привезти на берег и упокоить в специально отведенном месте. Когда подсчитали затраты, они вышли в несколько раз больше, чем если бы мы получили доход от продажи произведенной продукции. Это не вписывается ни в логику здравого смысла, ни в международные нормы. Предложенное законодателем лекарство борьбы с коррупцией на деле оказалось хуже самой болезни. К сожалению, добиться отмены или изменения этой нормы у нас не получилось.
– Своего рода кульминацией этого периода, начиная с госсовета в Астрахани, можно считать проведение III съезда рыбаков?
– Да, III съезд работников рыбного хозяйства мы провели в 2012 году. Он нас сильно обнадежил. Тогда первым заместителем председателя правительства, курировавшим рыбную отрасль, был Виктор Алексеевич Зубков. Он выступал на съезде и подтвердил, что не планируется никаких революционных изменений в законодательстве. Мы всё это восприняли обнадеживающе, но оказалось, что новые руководители мыслят по-другому. Я присутствовал на нескольких заседаниях правительственной комиссии во главе с Аркадием Дворковичем – это две большие разницы и не в пользу нового ее руководителя.
Тогда рыбаки надеялись и верили, что на комиссии могут быть приняты решения, отвечающие их запросам. Первое время мне приходилось одному озвучивать позицию рыбаков. Впоследствии в состав комиссии был включен член совета ВАРПЭ Герман Зверев.
Нам удалось, например, снести систему, которую хотел продавить со своим окружением Андрей Крайний. На Северном бассейне вводилась в промысел мойва, и уже был подписан приказ Росрыболовства о ее выставлении на аукцион. Мы восстали против такого подхода, не соответствовавшего реальному положению дел. Мойва – это не вновь вводимый объект, были предприятия с историей добычи, и мы предложили распределять по сложившейся истории. И с нашими аргументами члены комиссии согласились.
Или еще одна из «инновационных» идей Андрея Крайнего – проводить весь экспорт рыботоваров через биржу. Был подготовлен проект правительственного постановления. В тот период объем экспорта оценивался примерно в 2,5 млрд долларов США. И ради обогащения группы заинтересованных лиц ограничивались права владельцев товара и навязывалась им обременительная услуга.
Мы выступили с протестом и объяснили, что у рыбаков уже наработаны прямые связи с партнерами. Ведь ставился вопрос об обязательной продаже, не о создании условий, чтобы предприятия могли выбирать – работать напрямую или торговать через биржу. Нет, планировалось сделать это через постановление правительства о биржевой продаже рыбы на внешний рынок. Эту атаку мы отбили.
При активном участии ВАРПЭ мы добились изменений и в долгом споре, как трактовать применение нормы по оплате рыбака за полученную лицензию вылова разрешенного объема ВБР. Бывало так, что компания начала промысел, получила билет, но судно вышло из строя. Передает эту квоту другому судну своей компании – так вновь надо платить! И так до четырех раз доходило – за один и тот же ресурс рыбаки вынуждены были платить снова и снова.
Я был на заседании высшего арбитражного суда. Председатель задает вопрос представителям налоговой службы Минфина России: «Почему вы так трактуете действие нормы закона?» Знаете, какой ответ был? «А вы разве против того, чтобы больше поступало средств в бюджет государства?» Вот такая хитрая чиновничья логика! Суд принял нашу сторону, что позволило предупредить миллиардные узаконенные поборы с рыбаков со стороны государственных мытарей.
Есть все основания считать, что рыбацкое предпринимательское сообщество, входящее в состав ВАРПЭ, вносило и вносит достойную лепту в дело стабилизации и поступательное развитие отечественного рыбного хозяйства.
Анна ЛИМ, Fishnews

От нового флота – к новым продуктам.
«Русская рыбопромышленная компания» открыто заявляет о своих намерениях по освоению инвестиционных квот, строительству современного флота, выходу на первое место на мировом рынке минтая. Что дает уверенность в том, что инвестиции окупятся успешно, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин.
– Андрей Анатольевич, в декабре завершился первый раунд заявочной кампании по инвестиционным квотам. В то же время правительством даны поручения проработать вопрос о внесении изменений в правовые акты, регламентирующие распределение и закрепление инвестквот. На ваш взгляд, какая доработка требуется этим документам?
– Программа распределения инвестиционных квот стала мощным и действенным стимулом развития рыбопромыслового флота и перерабатывающих мощностей, это мы видим уже сегодня. Господдержка позволила получить квоты игрокам рынка, заинтересованным в долгосрочном присутствии в отрасли и готовым инвестировать в ее развитие.
Напомню, что РРПК – первая компания, которая заключила судостроительные контракты на крупнотоннажные суда для Дальнего Востока по этой программе. Компания всецело поддержала новую инициативу, эта позиция была изложена в нашем официальном письме президенту РФ. Мы всегда говорим о своей позиции четко и открыто.
На мой взгляд, в настоящее время отрасль динамично развивается, и это происходит во многом благодаря эффективным методам стимулирования, применяемым государством. Растет добыча водных биологических ресурсов, на российских верфях строятся новые суперсовременные рыбопромысловые суда, которые обеспечат долгосрочную конкурентоспособность отрасли на десятилетия вперед. В итоге буквально за 7-8 лет устаревший флот будет обновлен на рыночных условиях, без выделения субсидий отдельным игрокам, каких-либо дотаций и тому подобного.
Лучшим свидетельством того, насколько позитивно рынок принял новый механизм, стал тот факт, что, например, в части Северного рыбохозяйственного бассейна переподписка по квотам, насколько мне известно, более чем двукратная. Сегодня суда уже строятся, например, на Выборгском судостроительном заводе. Кроме этого, многие игроки подписали контракты с верфями даже до того, как государство объявило финальные условия.
Что касается целесообразности тех или иных изменений в правовых актах, то мы пока не видим в этом никакой необходимости. Все решения приняты, теперь важно сосредоточиться на их реализации.
Для государства было важно четко обозначить требования, довести их до рыбопромышленников и обеспечить, чтобы условия не менялись в долгосрочной перспективе. Это поможет участникам отрасли эффективно планировать инвестиции.
– РРПК подписала контракт с российскими верфями на строительство шести супертраулеров под инвестквоты. Вы не опасаетесь, что отсутствие опыта работы с рыбацкими заказами повлияет на качество строительства? Насколько дороже обойдется реализация этого проекта в России? Какой объем квот вы рассчитываете получить в результате?
– «Русская рыбопромышленная компания» подписала контракты на строительство серии супертраулеров. В России буквально единицы верфей, способных построить суда необходимых нам параметров – 105 метров в длину и 21 метр в ширину.
Выбор российского завода – это всесторонне взвешенное решение. Мы доверяем опыту и компетенции российских специалистов и уверены, что проект будет реализован на высоком уровне.
Безусловно, мы учли тот факт, что супертраулеры в России ранее не производились. Именно поэтому строительство первого судна пройдет за рубежом. Российские судостроители будут строить остальные суда с использованием опыта, полученного при строительстве головного судна серии, и наилучших доступных на сегодняшний день технологий.
Первые шесть судов, которые будут построены в рамках программы инвестквот, нам обойдутся приблизительно в 600 млн долларов США, что сопоставимо по стоимости со строительством на зарубежных верфях. При этом мы рассматриваем вопрос увеличения серии до восьми судов. После завершения реализации инвестиционных договоров государство закрепит за РРПК около 26 тыс. тонн квот на вылов минтая и сельди на каждое судно. В общей сложности, с учетом строительства береговых перерабатывающих предприятий, получится порядка 200 тыс. тонн. Такие объемы позволят компании выйти на первое место на мировом рынке минтая. Планы у нас всегда достаточно амбициозные.
– Головное судно серии, как вы говорили, строится на зарубежной верфи. Участвуют ли в этой работе российские специалисты и как именно будет происходить передача компетенций? Когда ожидается сдача траулера? Планируете ли вы заводить его в российский порт (с учетом таможенных пошлин и НДС)?
– Да, российские специалисты будут вовлечены в процесс строительства первого судна. В этом смысл нашего подхода. Нам важно, чтобы и специалисты компании, и наши партнеры в ходе работы над прототипом изучили все нюансы строительства высокотехнологичных рыбопромысловых судов, после чего передовые мировые технологии и опыт будут перенесены в Россию.
Мы рассчитываем, что головной супертраулер войдет в состав нашего флота в 2020 году.
В соответствии с условиями программы инвестиционных квот строительство судов должно быть осуществлено в течение пяти лет. То есть шесть судов должны быть сданы не позднее 2023 года.
Все суда «Русской рыбопромышленной компании» имеют российский регистр, ходят под флагом России, полностью растаможены. Эта практика сохранится для судна иностранной постройки.
– Параллельно продолжается подготовка к процедуре закрепления за пользователями квот на 15-летний срок. Какие вопросы у вас возникают к организации этого процесса, к расчетам по перезакреплению долей и предложенной Росрыболовством схеме объединения промышленных и прибрежных квот?
– Увеличение сроков закрепления квот по историческому принципу, наряду с введением инвестиционных квот, на мой взгляд, – еще одно важное условие, обеспечивающее долгосрочное развитие отрасли.
Я не считаю, что бизнесу стоит брать на себя функции государства в определении способа распределения ресурсов. Право распоряжаться водными биологическими ресурсами закреплено за государством Конституцией. Главное – соблюдение баланса интересов государства и бизнеса.
Государству важно наполнение бюджета, долгосрочное развитие отрасли и решение социальных проблем прибрежных регионов. Для бизнеса важна рентабельность и окупаемость инвестиций. Найти этот баланс – право и обязанность государства.
Убежден в том, что любые предлагаемые механизмы не должны формировать некие искусственные, нежизнеспособные модели. Важно создать условия и не мешать долгосрочному развитию бизнеса по правилам, которые диктует рынок.
Я также уверен, что не бывает универсальных решений, одинаково эффективных для всего многообразия ситуаций. В любом правиле могут быть исключения, поэтому государство может решить, что для отдельных направлений нужен свой режим.
– В прошлом году на аукционах РРПК приобрела квоты на вылов краба в подзоне Приморье. Как сложилась для вас осенняя крабовая путина? И в дальнейшем эти ресурсы планируется осваивать на арендованном флоте или компания будет строить собственные суда? Какие рынки сбыта для вас приоритетные и за какой срок вы ожидаете окупить такие крупные вложения?
– В мае прошлого года мы приобрели права в объеме 2,4 тыс. тонн на добычу краба в прибрежной зоне в подзоне Приморье южнее мыса Золотой.
Квоту на добычу краба в 2017 году мы освоили не полностью. Нам потребовалось время, чтобы приобрести суда, переоборудовать их и отправить на промысел. Сейчас ситуация стабильная, промысел едет в соответствии с планом. Кроме того, ООО «Примкраб» расширяет свой добычной флот. В текущем году мы освоим квоту полностью.
Инвестировать в этот бизнес мы решили по нескольким причинам. Во-первых, его высокая доходность. В среднем ее можно оценить на уровне 60% рентабельности по выручке – где-то в полтора раза больше, чем наш традиционный крупнотоннажный рыбодобывающий бизнес.
Вторая причина – высокие, на наш взгляд, перспективы роста спроса на живого краба в мире в целом и в странах Юго-Восточной Азии в частности. Эти страны являются основным источником данного роста.
Третья причина – относительно низкая потребность в инвестициях. Ведь краболовные суда не требуют того же уровня сложности и технической оснащенности, как суда крупнотоннажные.
Кроме того, район добычи расположен в самой непосредственной близости к быстрорастущим рынкам сбыта (Китай, Япония, Корея), которые высокими темпами начинают потреблять именно живого краба.
Сочетание этих факторов дает нам уверенность в том, что инвестиции окупятся успешно.
Но краб – новое и не основное для нас направление. Сконцентрированы мы, по-прежнему, на добыче и переработке минтая и тихоокеанской сельди, на которые приходится 75% и 22% добычи соответственно. В развитие этого бизнеса уже вложено более 700 млн долларов США, еще 700-900 млн долларов нам потребуется для строительства судов и береговых предприятий. То есть мы говорим о совокупных инвестициях в 1,5-1,7 млрд долларов в бизнес минтая и сельди. Инвестиции компании в поддержание основных фондов ежегодно также составляют около 20 млн долларов.
Сегодня наша продукция в основном отгружается на экспорт – в Западную Европу, Японию, Китай, Корею, Африку и на другие рынки.
Поставки на внутренний рынок до недавнего времени были экономически менее целесообразными. В настоящее время ситуация изменилась: во-первых, растет потребление в Российской Федерации, во-вторых, снижается конкурентоспособность китайской переработки из-за роста себестоимости. Эти факторы дают нам возможность переместить переработку полуфабрикатов в Россию, чтобы выпускать высококачественную конечную продукцию из белой рыбы, все более доступной для российского потребителя.
После ввода в эксплуатацию новых судов, располагающих высокотехнологичными мощностями по переработке, ключевыми рынками для нас станут Россия, Западная Европа и ЮВА, в том числе Китай. Однократная заморозка от вылова до потребителя обеспечивает высокое качество конечной продукции. Мы уверены, что рынок это оценит и ответит растущим спросом, что положительным образом скажется на сроках окупаемости наших инвестиций.
– На отраслевых выставках РРПК представила новую торговую марку Nordeco. Выход в розничный сегмент – это часть стратегии компании? Насколько важна для вас узнаваемость бренда у покупателей? Какая продукция будет представлена в линейке и на какую аудиторию она рассчитана?
– Создание собственной торговой марки стало важным шагом в развитии «Русской рыбопромышленной компании».
Мы гордимся высоким качеством продукта под маркой Nordeco. Это – закономерный результат постоянного совершенствования технологии добычи и переработки.
Компания предлагает рынку продукцию из филе минтая с уникальными потребительскими свойствами – экологически чистый (не случайно в названии марки присутствует «eco»), произведенный по технологии «первой заморозки», сохраняющей все полезные свойства и вкусовые качества рыбы, и при этом – доступный по цене продукт. Другой такой качественной дикой белой рыбы, как минтай, по доступной цене на рынке просто не существует.
Узнаваемость бренда, безусловно, для нас важна. Нам важно отделить нашу продукцию от продукции недобросовестных конкурентов, которые ради выгоды используют полифосфаты, удерживающие в продукции воду, и чрезмерную глазировку.
Российский потребитель достоин совершенно иного качества продукта, которое ему сегодня практически не знакомо. До последнего времени на отечественных прилавках преобладало филе китайского производства второй заморозки. В результате такое филе после жарки на сковороде уменьшается буквально в разы, приобретает неприглядный вид и, мягко говоря, не лучший вкус.
Мы хотим, чтобы бренд Nordeco стал для потребителя ориентиром, гарантом приобретения именно высококачественной продукции, замороженной непосредственно на судне, после чего к ней уже практически никто не прикасался.
Уверен, что, как только мы донесем качественную продукцию до потребителя, он сам сделает выбор в пользу этого ценнейшего источника «дикого» белка.
Александр ИВАНОВ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

В искусственном воспроизводстве пора расставить приоритеты.
Какие изменения для предприятий аквакультуры планируется внести в законодательство, для чего создается Стратегия искусственного воспроизводства водных биоресурсов в России и как решается вопрос с марикультурой на ООПТ – об этом в интервью Fishnews рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
ГОТОВЯТСЯ ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ
– Василий Игоревич, начать хотелось бы с правовой базы. Планируются ли в ближайшее время изменения, которые имеют большое значение для аквакультуры, выход новых документов?
– Если говорить о законах, то сейчас в Госдуме находятся два документа, на которые стоит обратить внимание. Первый – это законопроект о приоритетном закреплении рыбоводных участков за организациями, которые до вступления в силу закона об аквакультуре осуществляли искусственное воспроизводство анадромных видов рыб (принят в первом чтении 7 февраля – прим. корр.). Изменения направлены на решение вопроса с уже действующими лососевыми рыбоводными заводами на Дальнем Востоке. Пока они работают в подвешенном состоянии, и проблем там много.
Второй законопроект посвящен государственной поддержке в части страхования предприятий аквакультуры. Документ прошел первое чтение, сейчас будет активно дорабатываться ко второму. Формируется рабочая группа по подготовке методики страхования. Рассчитываем, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на второе чтение. Единственное, при обсуждении мы попросили, чтобы закон вступил в силу со следующего года – чтобы было время для качественной проработки вопроса с методикой. Необходимо совместно со страховыми компаниями и рыбоводами подготовить качественный, работающий инструмент поддержки.
Еще один документ – это также депутатский законопроект, с которым мы серьезно работаем. Он нацелен на решение проблемы с действующими аквакультурными хозяйствами в Республике Крым и Севастополе. Украинские документы были признаны соответствующими нашему законодательству, однако срок их действия у многих организаций подходит к концу. И встает вопрос, как этим предприятиям работать дальше, как пролонгировать их право на пользование акваторией, на которых размещена их рыбоводная инфраструктура. К сожалению, на документ есть и отрицательные заключения, сейчас совместно с депутатами и ГПУ Президента будем работать над устранением этих замечаний.
Достаточно большая работа ведется в части внесения изменений в Земельный кодекс, чтобы хозяйства аквакультуры могли в приоритетном порядке получать земельные участки и осуществлять свою деятельность. Этот законопроект несколько раз возвращали из разных инстанций. Непростой документ, не могу сказать, что он находится на финальной стадии, но работа ведется.
Также работаем над подзаконными актами. В частности, над урегулированием ситуации, когда предприятия занимаются аквакультурой за счет сбора естественных оседаний и их дальнейшего выращивания. А такая практика достаточно распространена, например с моллюсками.
Недавно внесены изменения в правила организации торгов, через которые распределяются рыбоводные участки. Дорабатывается нормативная база в части формирования границ РВУ – здесь не все так однозначно, особенно с Дальним Востоком, есть серьезные замечания у дальневосточных регионов по тем предложениями, которые подготовило Минвостокразвития.
Большая работа ведется по облегчению государственной экологической экспертизы для марикультурных хозяйств. Процедура очень громоздкая, неудобная. Стремимся к тому, чтобы по максимуму ее облегчить, предусмотреть время предприятиям для прохождения ГЭЭ. В случае с пастбищным рыбоводством, мы считаем, государственная экологическая экспертиза вообще не нужна.
– Были также вопросы к методике, классификатору для аквакультуры.
– Эти документы дорабатываются, по классификаторам мы уже получили предложения от регионов. ВНИРО подготовил подробный классификатор, по нему поступил ряд замечаний.
По методике определения объема ситуация достаточно сложная, все-таки мы предлагали несколько иные цифры, чем те, что ушли в итоге в Минюст. Но вопрос важный и, учитывая, что для достижения заявленных объемов много чего не готово на Дальнем Востоке, в рамках рабочей группы, которая соберется в селекторном режиме, планируем пройти по всем замечаниям.
Стратегия задаст ориентиры рыбоводам
– Нам также очень интересно, как идет подготовка Стратегии искусственного воспроизводства водных биоресурсов в Российской Федерации на период до 2030 года. В связи с чем решено было создать такой документ? На какой стадии его разработка?
– Стратегия должна задать основные направления искусственного воспроизводства водных биоресурсов в нашей стране. Сейчас эта деятельность осуществляется по такому полухаотичному-полутрадиционному принципу. Заводы в свое время строились исходя из разных соображений. Большая часть создавалась для компенсации ущерба, который наносился запасам той или иной хозяйственной деятельностью. После развала Советского Союза большинство организаций, в частности гидроэлектростанции, отказались от непрофильных активов, заводы были переданы в управление нашему ведомству.
Сейчас есть целый ряд проблем, которые нужно решить. Часть заводов работает, с нашей точки зрения, неэффективно, часть – не очень эффективно. Необходимо понять, каким образом с большим результатом использовать имеющееся финансирование, на реконструкцию и модернизацию каких мощностей направить усилия в первую очередь. В ряде регионов вообще нет воспроизводственных комплексов, хотя состояние запасов там оставляет желать лучшего. В этом случае надо подумать о создании новых заводов, посмотреть, где этим может заняться бизнес. Таким образом, мы анализируем не только ситуацию с государственными предприятиями, но и с мощностями частного сектора. Также необходимо определить, какие виды водных биоресурсов наиболее важны для воспроизводства в каждом конкретном регионе.
Многие наши предприятия занимаются воспроизводством «краснокнижных» объектов, которые по законодательству не относятся к ведению Росрыболовства. Нужно понять, как быть с этой работой, возможно, стоит обратиться по поводу финансирования в Минприроды. Необходимо также дать ориентир для хозяйствующих субъектов: выпуск каких видов водных биоресурсов они должны обеспечить в рамках компенсационных мероприятий.
Стратегия будет учитываться при формировании рыбохозяйственной госпрограммы, при постановке задач перед Главрыбводом и наукой. Также после принятия стратегии будет доработана методика оценки ущерба, подготовлены соответствующие рекомендации для организаций, занимающихся оценкой не предотвращаемого вреда, а также для наших территориальных управлений, чтобы было понимание, какие объекты лучше выпускать в рамках компенсационных мероприятий.
– То есть стратегия может быть интересна в том числе хозяйствующим субъектам.
– Да. Причем обсуждать этот документ мы решили абсолютно публично. Сейчас методично собираем по бассейнам представителей региональных администраций, науки, бизнеса, чтобы получить предложения. Каркас стратегии есть, но нужно учесть специфику и пожелания предпринимателей, субъектов Федерации.
– А с Приморским краем уже проводились такие обсуждения?
– Да. С Приморьем все достаточно понятно. В регионе есть частные рыбоводные заводы, которые уже работают, есть понимание, что такая деятельность может быть интересна для бизнеса. Но в то же время существуют серьезные опасения в плане эффективности государственных заводов. Пока мы не видим должного результата от их работы. Нужно понять, куда двигаться дальше. Ясно, например, что нельзя переводить всю работу на воспроизводство кеты, и в плане компенсационных мероприятий тоже – сейчас большая часть возмещается кетой. Надо расширять список объектов воспроизводства. Возможно, изучить целесообразность перепрофилирования заводов, если это позволит технология. Потому что пока выпуски такие, что зачастую не обеспечивают даже ежегодную закладку икры.
– Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачу подготовить стратегию для лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области – это будет отдельный документ?
– Нет, это будет раздел в рамках общей стратегии для Российской Федерации. Лососи – очень специфический объект в плане воспроизводства, и основные проблемы возникают именно на Дальнем Востоке. 5 марта проводили селекторное совещание, на котором рассматривались вопросы искусственного воспроизводства в дальневосточных регионах. Большую часть обсуждения заняла ситуация на Сахалине. Администрация области несколько лет назад говорила о планах по существенному увеличению мощностей ЛРЗ. Сейчас, судя по всему, взгляд на это изменился, ждем письменной позиции областных властей по рыбоводным заводам с соответствующими обоснованиями. Конечно, мы не можем влиять особо на бизнес, который уже построил заводы, но надо понимать: формируем мы рыбоводные участки или не формируем по лососям. Наука должна ответить на вопрос: где заводы можно строить, исходя из биологических принципов, а где нельзя. А главное – хотелось бы четко сформулировать цели, к чему мы стремимся.
– Региональная ассоциация рыбопромышленников предложила организовать в Сахалинской области конференцию по искусственному воспроизводству.
– Да, такое мероприятие планируется провести на Сахалине где-то в середине мая, там мы и презентуем стратегию искусственного воспроизводства в России, основное внимание, конечно, при обсуждении уделим островному региону.
ООПТ и марикультура – актуальный вопрос
– Большой резонанс получила тема работы аквакультурных хозяйств в границах ООПТ в Приморском крае. Как вы бы ее прокомментировали?
– Проблема с особо охраняемыми природными территориями много где поднималась, считаем, что да, тут нужно внести изменения. Хотелось бы обратить внимание на два момента. Первое – администрация края должна в установленном порядке внести согласованные с Минприроды поправки в Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 года № 991. На заседании рабочей группы в феврале была отмечена необходимость таких изменений. Научное обоснование, насколько мне известно, по итогам этой встречи ТИНРО-Центр подготовил.
Второй момент – нужно определить четкие границы этих ООПТ. Потому что в соответствии с паспортами, которые служат основой для принятия всех решений, площадь там очень незначительная. Возможно, и проблемы никакой нет: рыбоводные участки находятся за пределами особо охраняемых природных территорий.
– Насколько я понимаю, позиция Росрыболовства – обеспечить предприятиям, которые столкнулись со сложностями, возможность работать, так как участки они получили на законных основаниях?
– РВУ были получены абсолютно легально, в рамках действовавшего на тот момент законодательства. Переоформлены они были также законным образом. Был сбой, когда представители территориального управления не явились на выпуски, - но, надеюсь, такие ситуации не повторятся. Я дал соответствующее поручение, ведь речь идет об исполнении государством своих обязательств по договору. В ближайший месяц, думаю, проведем селекторное совещание по проблеме хозяйств аквакультуры и ООПТ.
– В связи с работой в границах памятников природы, как я понимаю, поднималась тема специальной ТОР для аквакультуры в Приморском крае.
– Да, есть поручение вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева проработать вопрос и установить нормы, требования и параметры для таких территорий опережающего развития. В первую очередь это касается, конечно, ТОР по заливу Петра Великого, как наиболее интересной с точки зрения аквакультуры. Поэтому сейчас такая работа с Минвостокразвития ведется.
Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Moon Tech адаптируется под современные требования рыбопереработки.
Российский Дальний Восток – самый «рыбный» регион – традиционно является привлекательным рынком для производителей перерабатывающей техники. Разнообразное сырье, условия работы и возможности самих компаний определяют потребности в оборудовании, которые порой могут сильно различаться даже у предприятий, расположенных по соседству друг от друга. Но и здесь за годы сформировались свои предпочтения, появились знакомые каждому рыбопереработчику имена. Среди них холодильное оборудование Yantai Moon – именно под таким брендом продукцию китайской государственной корпорации Moon Tech знают по всему Дальнему Востоку.
Широкое распространение машины этой фирмы получили благодаря проектам в области рыбопереработки, реализованным специалистами ООО «Технологическое оборудование». Эта российская производственная и инжиниринговая компания и сегодня является официальным партнером госкорпорации Moon Tech в России. Об опыте работы с китайскими коллегами и репутации настоящего заводского оборудования «made in China» Fishnews рассказал директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование» Андрей Арефьев.
– Андрей Геннадьевич, как вы оценили бы потребности рынка рыбопереработки в России 15-летней давности? На какой волне на российский Дальний Восток заходили ваши партнеры – госкорпорация Moon Tech?
– Первые продажи оборудования с логотипом Yantai Moon – нынешней Moon Tech – на дальневосточные рыбопромышленные предприятия начались в начале 2000-х годов. В общей сложности за несколько лет здесь было продано более 450 автономных плиточных морозильных аппаратов. Отмечу – все это были проекты коммерческого холода. На том этапе, когда отрасль после развала находилась в активной фазе восстановления, на предприятия требовались именно небольшие, недорогие и в то же время надежные машины для стабильной работы.
Этим критериям как раз и соответствовало оборудование наших китайских партнеров. Думаю, во многом благодаря оборудованию Yantai Moon был дан толчок для развития рыбопереработки на Дальнем Востоке. Могу сказать, что примерно половина рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки, около 80% Сахалина, 90% Хабаровского края и 100% Магаданской области до сих пор используют в работе плиточники этой фирмы.
Оборудование наших китайских коллег известно не только на берегу, но и в море: за эти годы было реализовано немало проектов по переоборудованию холодильных установок на судах рыбопромыслового флота.
– Почти 20 лет! Немалый срок для проверки оборудования на практике. И каковы же отзывы пользователей?
– Это оказались оптимальные по соотношению цены/качества машины – универсальные, простые и в то же время надежные. В принципе, мы и сейчас оказываем техподдержку компаниям, которым устанавливали оборудование 10-15 лет назад, но нареканий по поводу плиточных морозильников Yantai Moon мы действительно не слышали, не считая замены мелких расходников.
Это оборудование продается до сих пор, но основной спрос, конечно, уже идет на более серьезные машины, т.к. укрупняется и сама отрасль.
Конечно, есть в нашей практике и примеры крупных проектов в рыбопереработке, реализованных на оборудовании Yantai Moon (Moon Tech). Например, завод компании «Корякморепродукт». На этом камчатском предприятии оборудование китайской корпорации прекрасно работает уже почти 10 лет, техподдержка требуется минимальная.
– А каковы основные требования современного рынка рыбопереработки в России к технике, что изменилось?
– Прежде всего это требование к энергоэффективности. Сейчас на первый план выходит экономика, поэтому в новых холодильных установках применяются уже инновационные методы, снижающие затраты на электроэнергию.
Ну и, конечно, неотъемлемое условие – это долговечность.
– А что с вопросом цены?
– Сегодня, на новом этапе развития отрасли, этот критерий уже смещается на второе место. Когда в отрасль заходят большие инвестиции, цена на средства производства становится вторичной.
Т.е. можно сказать, что на первом плане на сегодняшний день – современные технологии, которые все чаще называют «зеленые технологии». Как раз в этом направлении сейчас и движется госкорпорация Moon Tech.
– В прошлом году мы писали о том, что китайская государственная корпорация даже провела ребрендинг, сменила привычное для всех имя – Yantai Moon на Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd), а вместе с ним и акценты в производстве, взяв ориентир на экологичность и энергосбережение. «Технологии с заботой об окружающей среде» – так они сами формулируют новый смысл, заложенный в свое новое имя.
– Верно, причем в госкорпорации подчеркивают, что для них это больше, чем слова, чем просто имя, – это именно новый принцип работы.
В частности, уже сегодня Moon Tech становится лидером в КНР по производству каскадных СО2 холодильных систем, в основу которых заложено использование «зеленых технологий» – отказ от озоноразрушающих хладагентов. Мы тоже начинаем предлагать российским компаниям проекты с использованием такой техники нового поколения, но пока еще отечественный бизнес только присматривается к подобным решениям.
– В России и странах СНГ Moon Tech реализует крупные проекты даже в такой высокотехнологичной отрасли, как атомная энергетика.
– Да, эта работа ведется в рамках масштабного международного проекта «Новый шелковый путь», который охватывает различные сферы и включает в себя множество инфраструктурных проектов с государственным участием. В позапрошлом году корпорация Moon Tech, которая выступает генподрядчиком со стороны Китая, поставляла оборудование на Белорусскую АЭС, и я присутствовал на приемке изделий. Могу сказать, что Moon Tech хорошо зарекомендовала себя на рынке атомной энергетики и уже приступила к новому проекту, для которого требуются высококлассные установки для охлаждения.
В таких отраслях, как атомная энергетика, нефтехимия, как раз важно соотношение цены и качества, т.к. там используется очень дорогостоящее оборудование. Кроме того, конечно, требуются максимальные коэффициенты надежности.
– В рыбопереработке, как мы уже выяснили, ситуация отличается. Каковы здесь, на ваш взгляд, перспективы у китайских производителей?
– Перспективы, я считаю, хорошие. Отрасль не стоит на месте – у нее появляются новые потребности, а Moon Tech, в свою очередь, работает над новыми предложениями. Для этого у них есть все условия: государственное участие, большие производственные мощности, привлечение передовых мировых технологий и собственное научно-испытательное подразделение.
Да, мы видим, что на сегодняшний день у предприятий рыбоперерабатывающей отрасли есть широкий выбор среди производителей оборудования. Где-то высокую стоимость машин даже компенсируют выгодными финансовыми схемами на уровне межправительственных соглашений. Но сейчас все мы пребываем в ожидании окончательных решений по первой волне инвестпроектов, которые должны в том числе повлиять на тенденции рынка рыбопереработки. Могу сказать, что в некоторые проекты береговых рыбоперерабатывающих заводов под инвестквоты, подготовленные специалистами нашей компании и получившие одобрение межведомственной комиссии, заложено оборудование Moon Tech, которое имеет свои конкурентные преимущества.
Наталья СЫЧЕВА, Fishnews

Рыба вновь подорожает
Никита Кричевский, доктор экономических наук
Тысячи людей, работающих в отрасли, потеряют работу, а множество компаний обанкротится
Рыболовство – сфера для меня относительно понятная. Много лет назад познакомился с нынешним руководителем Информационного агентства по рыболовству Александром Савельевым: за прошедшие годы было множество совместных эфиров, статусных встреч, научных конференций, публичных слушаний. Так что специфический механизм функционирования российского рыбного хозяйства мне более-менее ясен.
Впрочем, в море на сейнере не ходил, потому и пишу «более-менее».
26 февраля случилось поприсутствовать на IV съезде работников рыбохозяйственного комплекса. Первым и главным впечатлением стало то, что ладные, статные мужики, что вроде бы должны радоваться возможности встретиться, пообщаться и, конечно, совместно поработать, были, что называется, на нервяке. С чего бы?
Для непосвященного в дела отрасли внешне все выглядит очень даже хорошо. За прошедшие 10 лет поступления в бюджеты увеличились с 2,9 тыс. до 10 тыс. рублей, профильные инвестиции выросли с 1,5 млрд. до 14 млрд. рублей, а грузопоток рыбной продукции на железнодорожном транспорте подскочил вдвое. Тем не менее, настроение у большинства участников было не сказать, чтоб похоронное, покажите мне сдавшегося обстоятельствам рыбака, но что-то в этом роде.
О причине писали неоднократно: отрасль, ставшая центром генерации прибыли, привлекла внимание статусных рейдеров. Как мягко высказался по этому поводу президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, «по мнению громадного большинства участников отрасли главная проблема в том.., что одна крупная рыбопромышленная компания противопоставила себя остальной отрасли, пытается поменять под себя правила игры, используя свой административный ресурс».
Ни для кого не секрет, что «одна крупная рыбопромышленная компания» – это «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), ключевыми собственниками которой являются зять олигарха новой волны Геннадия Тимченко миллиардер (что естественно) Глеб Франк и представитель еще одной «выдающейся» семьи – сын многолетнего соратника Сергея Шойгу и брат пока еще губернатора Подмосковья Максим Воробьев. Люди, работавшие под началом Тимченко, рассказывали, что когда тот входил в рабочее помещение, все гнетуще умолкали. Видимо, так подчиненные выражали свое «восхищение» близким знакомством Тимченко с Владимиром Путиным (не каждый может получить нужную резолюцию президента России, предположительно, в его загородной резиденции). Теперь схожие «восторженные» эмоции, только не на отдельный трудовой коллектив, а на всю рыбную отрасль огромной страны, оказывает его родственник Франк.
Правда, в день проведения съезда в прессу просочилась информация, что Воробьев «отлетел» от Франка (вышел из состава учредителей РРПК), якобы, по причине несогласованного обращения Воробьева к Путину с предложением изменить правила вылова краба, но, на мой взгляд, такое дистанцирование предпринято чисто для отвода глаз. Как известно, в прошлом году рыбные бизнес-партнеры затеяли обмен активами своего холдинга, и на днях он просто завершился. Кто же добровольно откажется от жирного куша?
Суть «нагибания» в следующем. В начале нулевых квоты на вылов рыбы распределялись через аукционы, редкостные по своей коррупционности мероприятия. Огромные деньги, которых у местных рыбаков отродясь не было, фактически уплачивались за саму возможность выхода в море: приобретаешь квоту на тонну, вылавливаешь раз в сорок больше, а потом «договариваешься» с соответствующими инстанциями. Само собой, сотни рыболовецких предприятий тогда разорились, но московские чинуши были счастливы – деньги поступали в бюджет, что, якобы, свидетельствовало об эффективности их работы.
В 2007 году порочную практику удалось сломать. Благодаря изменениям в Законе «О рыболовстве» и нескольким постановлениям Правительства, квоты начали распределяться по «историческому принципу» – тот, кто ловит сегодня, должен ловить и завтра, точнее, в ближайшие 10 лет. Были инициативы по увеличению срока до 15 лет, но и это не предел – в Норвегии, например, квоты закрепляются за судовладельцами на срок до 25 лет. Естественно разрешения предполагали значительные обременения, наподобие реализации фиксированной части улова внутри страны, создания строго очерченной береговой инфраструктуры или масштабного инвестирования в строительство рыболовецких судов. Причем, обязательства, взятые на себя рыбаками, соблюдались неукоснительно.
Аукционы – вещь хорошая, но, скажем, для яиц Фаберже. Предпринимательская деятельность напротив предполагает, в первую очередь, стабильность и предсказуемость. Однако когда перед тобой куш в виде ежегодного оборота отрасли в 120 млрд. рублей и экспорта продукции в жаждущие получать наши водные биоресурсы Южную Корею, Китай, Японию, сложившиеся правила игры можно ломать через колено.
По всей вероятности, именно так и собираются поступить Тимченко, Франк и К.
Во-первых, они предлагают вернуть аукционный порядок распределения квот, прекрасно понимая, что финансово тягаться с ними «каким-то» рыбакам нереально.
Во-вторых, они спят и видят, как бы внедрить формат электронных торгов, что сделает распределение квот непрозрачным (надеюсь, все помнят о хакерах и практиках внезапного отключения компьютерных систем в самый ответственный момент).
В-третьих, они прикрываются так называемыми «квотами под киль», когда 20% разрешений выдается под обязательство строить новые суда на российских верфях, услуги которых почему-то оказываются дороже, чем в той же Южной Корее.
В целом все чинно-благородно. Однако истиной целью новоявленных рейдеров видится, по мнению участников съезда, занятие положения «квотных раньте», когда ты выкупаешь право выхода в море, а потом перепродаешь его как собственным «дочкам», так и готовым горбатиться на тебя холопам. Схем много.
Нынешний рыбный кейс, реализуемый, предположительно, главным исполнителем от олигархии руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым, скорее всего, будет доведен до конца. Рыба вновь подорожает (надо же отбивать издержки), тысячи людей потеряют работу (в лучшем случае будут трудиться на новых хозяев за меньшие деньги), а множество компаний обанкротится (лес рубят – щепки летят). Но как бы цинично это ни звучало, чем быстрее ситуация дойдет до абсурда, тем скорее что-то начнет меняться.
Только нужны ли нам новые потрясения?

Илья Шестаков: менять механизм инвестиционных квот смысла не вижу.
Глава Росрыболовства поделился с EastRussia ожиданиями от предстоящего Съезда работников рыбохозяйственного комплекса.
Мы встретились с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым накануне IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса. Съезд заявлен как «судьбоносный» и «переломный». В рыбной отрасли постоянно что-нибудь меняют и ломают, а счастья все равно нет. Рыбаки никак не могут «отмыться» от ярлыков: скажем, очень неплохая отечественная рыба появляется даже в дешевых сетевых магазинах, но вопрос «почему россияне не видят рыбы?» публицисты и блогеры будут задавать, кажется, бесконечно. Часто рыбаков ругают за то, за что хвалят всех остальных, например, за высокие экспортные объемы. И хвалят за то, за что прочих ругают, скажем, за ярко выраженную консолидацию активов в руках немногих компаний. Мы решили построить беседу на этих стереотипах и парадоксах, ведь именно вокруг них обречена вращаться дискуссия и на съезде, и после него.
– На каких действительно важных проблемах сконцентрируется съезд, какие решения могут быть предложены?
– Во-первых, речь пойдет о методах регулирования отрасли, в том числе освоения новых, перспективных объектов промысла. Хотя сейчас можно говорить, что не такие уж эти объекты и новые, это, скорее, те ресурсы, которые мы начали добывать снова, и объемы вылова которых необходимо наращивать. Например, скумбрия и сардина иваси. Нужно менять регулирование вылова лососевых. Глядя на ситуацию на Дальнем Востоке, мы понимаем, что необходимо принимать некие нововведения: меняется ситуация с подходами рыбы, она уходит севернее, поэтому нужно снижать промысловую нагрузку на Сахалине и на Амуре, создавать более точное, точечное регулирование.
Во-вторых, речь пойдет о снижении административных барьеров. Хотя мы над этим постоянно и кропотливо работаем, нерешенных вопросов все равно много. На съезде будут присутствовать представители контролирующих органов исполнительной власти. Очень важно, чтобы они услышали не только от владельцев компаний, но и от капитанов судов о том, что происходит в реальности, где есть перегибы. К снижению административной нагрузки надо подходить очень сбалансированно: нельзя потерять контроль, но при этом нагрузка не должна быть неразумной.
Третий важный блок – условия работы рыбаков. Часть компаний еще не соответствует отраслевым стандартам и по уровню официальной заработной платы, и по условиям труда непосредственно в море, и по вопросам обеспечения техники безопасности.
Понятно, что будет обсуждаться вопрос сохранения спасательных судов в ведении Росрыболовства. Спасательные суда имеют свою специфику, в отличие от судов Росморречфлота, они не просто стоят в порту и осуществляют помощь только в момент аварии, они постоянно находятся на промысле.
И, наконец, это вопросы образования: квалифицированных кадров недостаточно. Выпускается немало специалистов, но их число сокращается из-за снижения финансирования. Сокращается и количество самих институтов, это ведет к потере специализации. Вопросы финансирования в целом – науки, образования, рыбоохраны – важнейшая тема обсуждения.
– Что мешает некоторым компаниям платить приличную зарплату, бедность или жадность?
– Зарплаты в отрасли немалые, но некоторые компании выплачивают их неофициально. Серую часть зарплаты нужно вывести наружу. Есть проблема и с условиями труда: существуют стандарты, часто они нарушаются, и причина, конечно, в жадности судовладельцев, которые считают: «раз мы платим заработную плату, и люди на нее согласны, готовы работать в таких условиях, значит, все хорошо». Да, они готовы. Но это неправильно. На съезде будет принято решение о создании Ассоциации работодателей и в дальнейшем планируем заключить трехстороннее соглашение (регулятор, бизнес, профсоюзы), это очень хороший шаг вперед.
– Рыбакам часто бросают упрек: где рыба на прилавках? Ценные сорта уходят на экспорт, но, если газовиков никто не упрекает за экспорт газа, рыбаков критикуют. А в чем подлинная причина пустоты прилавков? Может, у населения просто нет платежеспособного спроса?
– Аналогия с той же нефтью есть. Мы долго бились за то, чтобы поставлять бензин за рубеж, но почему-то так и не поставляем. Причем бензин в стране все равно не самый дешевый.
В России – ограниченный потребительский спрос. Поставлять на рынок продукции больше, чем он потребляет, бессмысленно. Рыба при доставке от места промысла до прилавка дорожает, и это тоже влияет на объемы потребления. Рыба-то есть, и с избытком, ограниченный спрос дает возможность поставок излишков на экспорт. В этом нет ничего плохого.
Плохо не то, что рыба идет на экспорт, а то, что на экспорт поставляется сырье, которое перерабатывается в том же Китае, а потом заходит к нам на внутренний рынок. Здесь есть вопросы недобросовестной конкуренции со стороны китайских производителей, вопросы качества их продукции. Эту ситуацию надо исправлять. То, что мы делаем в рамках инвестиционных квот, то есть создаем переработку на судах и берегу, как раз и даст возможность поставлять на экспорт продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
– Как повлияло на ситуацию обязательство в рамках ВТО обнулить экспортные и импортные пошлины?
– Экспортная пошлина еще не нулевая, но быстро снижается в рамках обязательств и будет обнулена. Если бы мы сохранили экспортную пошлину, у нас было бы больше возможностей на законных основаниях стимулировать к экспорту продукцию с высокой степенью переработки. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Надо было настаивать на том, чтобы экспортную пошлину сохранять.
– Насколько я помню, главным в переговорах было министерство экономического развития, а Минсельхоз со всем соглашался?
– Не совсем так. Я участвовал в переговорах со стороны Минсельхоза (в ранге замминистра – прим. EastRussia). Минсельхоз принимал очень активное участие по критическим на тот момент позициям, а это было квотирование по ряду продуктов (свинина, мясо птицы, говядина – то, где Россия вышла на серьезные уровни самообеспечения). По рыбе переговоры, к сожалению, вело само Росрыболовство, которое на тот момент не находилось в зоне ответственности Минсельхоза. Сейчас что-либо менять уже неправильно, обязательства приняты. Мы обсуждаем возможности изменений за счет других механизмов. Например, активно обсуждается возможность влияния на рынок через ставку сбора за вылов. Но это очень сложно администрировать: ты должен доказать, что выловил сам, вывез за рубеж, а не продал через какую-то трейдинговую компанию, и так далее. Вопрос администрирования, в том числе прослеживаемости перемещения той или иной продукции получается очень сложный.
– Как вы взаимодействуете с другими ведомствами? С Минсельхозом, Минвостокразвития, Пограничной службой?
– С пограничниками работаем, на мой взгляд, достаточно конструктивно. Создана рабочая группа – это основной инструмент взаимодействия при принятии решений. Надо найти сбалансированный подход: нельзя потерять возможности контроля и бездумно снять все регулирующие функции. Движение вперед есть, мы спорим, доказываем, обсуждаем. Главный дискуссионный вопрос, который до сих пор остается: как улучшить контроль на прибрежных участках при вылове анадромных видов рыб. Очень сложно разграничить зоны ответственности.
Что касается Минвостокразвития, то все их инициативы мы обсуждаем. Инициативы разные, инициатив много. Мы считаем: главное, чтобы все эти инициативы были направлены на обдуманное развитие, а не в духе «всем все разрешить». Так невозможно, к сожалению. На воде, кроме рыбаков, кроме предприятий аквалькультуры, есть и другие пользователи – например, рыбаки-любители. Есть зоны отдыха, природоохранные зоны. Действовать нужно очень аккуратно, сбалансированно. Делать комплексный анализ прежде, чем принимать решения. Мне кажется, мы с Минвостокразвития работаем именно в таком ключе: предложения, которые от них поступают, мы обсуждаем, и находим компромиссное решение.
– А вообще полномочий вам хватает?
– Да, абсолютно хватает. С Минсельхозом вообще нет никаких сложностей, я в одном лице курирую вопросы и в Минсельхозе, и здесь (Шестаков сохраняет статус заместителя министра сельского хозяйства – прим. EastRussia). Говорить о том, что нам необходимы какие-то дополнительные полномочия, я бы не стал. К тому же любая административная реформа приведет к очередному переизданию нормативных документов, а это паралич в работе минимум на несколько месяцев.
– Вы упомянули аквакультуру, и с ней связана важная проблема: на Дальнем Востоке она не развивается, говорят, не хватает законодательных актов. В чем истинная причина торможения?
– Я считаю, что законодательной базы в целом хватает. Какие-то точечные изменения в Лесной кодекс, в возможность предоставления земельных участков – да, наверное, они нужны и их можно вносить, но это станет всего лишь дополнительным стимулом для развития, которое сейчас и так никто не сдерживает. Если ты берешь марикультурный участок, ты должен понимать, где будешь размещать свою базу на приморском участке, на берегу. Каких-то других ограничений, по сути дела, нет. Многие говорят о невозможности осуществления охраны, но все полномочия уже есть: они прописаны в Гражданском кодексе, вышло постановление Верховного суда о том, кто имеет право на объекты аквакультуры на рыбоводных участках.
Чего действительно не хватает, это знаний. Мы раздали на Дальнем Востоке около 60 тыс. га под марикульутуру, но знания у людей, которые их взяли, еще недостаточны. Не хватает кадров, ведь в России никогда этим не занимались, и кадры необходимо воспитывать, необходимо привлекать. Кроме того, не хватает посадочного материала. Это две долгосрочные задачи, которые предстоит решить и бизнесу, и регулятору.
– Рассматривается ли схема гослизинга посадочных материалов по той же модели, что была с племенным скотом в животноводстве?
– Я не считаю, что это должно делать государство, это дело бизнеса. Господдержка – да, но не подмена государством бизнеса. Уже есть субсидии на закупку рыбопосадочного материала – субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам. Можно обсуждать какие-то другие формы поддержки, если они потребуются. Но мне кажется, для развития марикультуры дефицит господдержки – не самое главное препятствие.
– В рамках инвестиционных квот 25% распределили на создание береговой инфраструктуры, 75% – на модернизацию флота. Бизнес недоволен: квот на «берег» не хватило, а на «флот» их слишком много. Например, Преображенская база тралового флота отозвала свою заявку на участие в программе инвестквот. Будут ли изменены пропорции, изменен механизм?
– Во-первых, мы изначально не были настроены на выделение инвестиционных квот под рыбоперерабатывающие предприятия. Не из-за того, что мы считаем, что это неважно. Это важно, но очень сложно администрировать. Если судно – тут понятно, у него есть размеры, есть мощности установленной на нем перерабатывающей фабрики, есть, в конце концов, объемы вылова, расписанные по техническим характеристикам. Однако свойства предприятий «на берегу» так просто формализовать не получится. Можно построить два предприятия с одной и той же мощностью переработки, но одно будет суперсовременным и инновационным, а другое, извиняюсь, сараем с дешевым китайским оборудованием, претендующим точно на такие же объемы господдержки. Проследить это, сказать: «стройте только по этой технологии», определить, какое оборудование использовать – это тяжело, и вообще, это не задача государства – навязывать бизнесу технические решения.
Во-вторых, мы все равно считаем, что флот необходимо модернизировать, а также строить новый. Количество аварийных случаев не сокращается. Какие-то суда модернизировали, то есть повысили эффективность, но «коробка», то есть само судно, не соответствует высокотехнологичной «начинке», не тянет.
В-третьих, эффективность переработки рыбы в море все равно будет экономически более высокой, чем заморозка рыбы на судне и ее переработка на берегу, особенно в условиях Дальнего Востока. Именно поэтому государство должно стимулировать создание современных судов с полным циклом на борту.
С точки зрения стимулирования рыбопереработки мы закладывали в новый закон другой механизм: повышающий коэффициент 1,2 для тех, кто поставляет уловы свежей, охлажденной или живой рыбы на берег. Это достаточно хороший стимул, чтобы везти рыбу на российский берег, а, раз появляется сырье, объемы для загрузки мощностей, у инвесторов возникает стимул развивать береговую переработку.
То, что на Дальнем Востоке столь высокий интерес к строительству береговых перерабатывающих заводов, неплохо, но менять пропорции (25 на 75) мы не считаем необходимым.
Флоту нужны шесть крупнотоннажных судов, которые планируется построить на Дальнем Востоке по итогам первого этапа отбора заявок, но даже их недостаточно. Мы надеемся, что многие компании посмотрят на первые результаты, первый опыт, и к следующему году, во вторую заявочную кампанию, мы выберем инвестиционную квоту по крупнотоннажным судам.
Знаю, что у ряда компаний есть недоверие к отечественным верфям, и они собираются строить новые суда, но за рубежом.
– Собственно, это им не нравится – необходимость строить у себя.
– Ни для кого не было секретом, что строительство на отечественных верфях дороже, и процесс пока менее предсказуем. Потому что у нас или никогда такого не строили, или забыли, как это делается. Но потому и дается дополнительное стимулирование, причем неплохое: если переводить в денежный эквивалент стоимость квоты, получится очень серьезная цифра.
– Получается, компании заявились, как бы демонстрируя свой принципиальный интерес к механизму, но потом отказались?
– У нас есть всего один отказник, и мы не считаем, что это критично. Остальные не прошли отбор потому, что, к сожалению, их документы не соответствовали тем требованиям, которые заложены в постановлениях правительства об инвестиционных квотах.
– Какое решение будет принято по крабовым квотам?
– Мне сложно сказать, сохранится (исторический принцип распределения квот – прим. EastRussia) или нет, потому что идет обсуждение, и обсуждаются совершенно разные варианты. Надо все очень четко взвесить, в каждом из предложений есть минусы и плюсы. Надо коллегиально понять, где плюсов больше и меньше минусов. Это задача не только Росрыболовства, она затрагивает и другие отрасли, другие вопросы, связанные с экономическим развитием страны, социальные и юридические аспекты. Нужно все это обсудить, подробно, чтобы принять сбалансированное, взвешенное решение.
– Консолидация активов в российской экономике характерна абсолютно для всех отраслей, не обошла она и рыбную отрасль. Экономисты смотрят на это по-разному. Какова ваша точка зрения?
– Действительно, сложный вопрос. Во-первых, многое зависит от отрасли. В рыболовстве консолидация на определенных объектах, на определенных объемах, например, на промышленном вылове, наверное, хороша. Потому что повышается эффективность и вылова, и экономики компании. С этим сложно спорить. Что теряется? Возможность конкуренции. Это серьезный вызов: на рынке появляются крупные игроки, которые могут рынком управлять.
Мне кажется, надо выстаивать баланс: на определенных участках может работать крупный бизнес, а на других должны остаться малые и средние предприятия. Это важно не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения социальной политики: малые предприятия часто находятся в удаленных поселках и, по сути дела, поддерживают там жизнь.
Когда мы закладывали механизм стимулирования прибрежного рыболовства – доставки живой, охлажденной и живой рыбы на берег, мы думали не только о рыбоперерабатывающих заводах, но и о малых предприятиях. У них небольшие квоты, маленькие суда и им критически важна возможность дополнительного привлечения сырьевых ресурсов. Я бы так разделил: прибрежная зона должна остаться за малыми и средними предприятиями, «промка» (промышленный лов в отдаленных районах океана – прим. EastRussia) – за крупным бизнесом.

Крабовые аукционы пугают отсутствием бизнес-логики.
Попытки изменить принцип распределения крабовых квот – не что иное, как заход на очередной передел ресурса, считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. К каким последствиям приведет дискредитация базового принципа распределения квот, почему от крабовых аукционов не стоит ждать прибыли для государства или снижения цен на рынке и по какой причине миф о крабовом браконьерстве давно не состоятелен, он рассказал в интервью Fishnews.
– Сергей Владимирович, на днях стали известны итоги первого раунда заявочной кампании по инвестквотам. На Северном бассейне прошедшим отбор проектам по строительству судов еще предстоит аукцион на понижение. Как вы считаете, может ли уменьшение размера долей в ходе этого аукциона отразиться на дальнейших планах компаний?
– Знаете, все предприятия, которые готовились к заявочной кампании, так или иначе понимали, сколько примерно инвестиционных квот будет распределено на каждый объект. Это не было секретом, все риски, которые просматривались в части снижения ресурсного обеспечения, аукционов на понижение, были прогнозируемы.
Единственное, что может скорректировать наши планы по строительству судов, это новые «крабовые аукционы». У нас доли краболовных компаний заложены в качестве обеспечения по кредиту Архангельского тралового флота на постройку траулеров. Если введут аукционы, то строить мы вообще ничего не будем – ни судов, ни заводов. Спросите у банков, как они с нами поступят, когда переданные в залог доли обесценятся. Спросите заводы, как они будут поступать, когда мы им перестанем платить. Поймите правильно, это не «пугалки», это объективная реальность.
– По инвестиционным квотам на краба постановления до сих пор не утверждены, общественности представлены только проекты, которые, не исключено, будут меняться. В целом насколько привлекательно для СЗРК участие в этой программе? И кто еще, по вашему мнению, может побороться за этот ресурс?
– Действительно, все документы только в проектах. Мы знаем, что финальная версия, которая в итоге принимается, зачастую сильно отличается от проекта, поэтому здесь комментировать рано.
Но и здесь все будет зависеть от того, решится ли государство на аукционный эксперимент. Вопрос стоит очень просто: или аукционы, или новые суда на российских верфях и инвестквоты. И на то, и на другое ресурсов не хватит, надо выбирать.
Что касается потенциальных участников, то формально в этом процессе могут принять участие любые компании, которые заключат договор на строительство судна, предоставят гарантию и пакет документов, предусмотренных постановлениями. Ограничений ни для кого нет. Кстати, это ответ на претензии некоторых граждан о том, что рыбопромышленная отрасль – это «закрытый клуб». Заходите, если хватит компетенций.
– Если не ошибаюсь, сертификация промысла Ассоциации краболовов Севера на соответствие критериям Морского попечительского совета ( MSC ) находится на финишной прямой?
– Да, мы получили сертификат 22 февраля. Хочу подчеркнуть, первыми в мире! На данный момент промысел камчатского краба в Баренцевом море – единственный в мире крабовый промысел, сертифицированный на соответствие MSC.
Но вся эта огромная работа имеет реальные шансы пойти коту под хвост. Если доли краба будут продавать на аукционах каждые десять лет, без гарантий продления, то сертификация просто не имеет смысла. Зачем кропотливо улучшать и заботиться о том, что у тебя гарантированно отберут и выставят на новый аукцион?
– Как вы считаете, может ли успешная MSC -сертификация промысла помочь в разрушении клише, что краб – это непременно браконьерство, серые схемы, сверхприбыли и прочее?
– Да, в последнее время проходит довольно много информации о том, что краб – это такая черная дыра и браконьерский ресурс, на котором делаются шальные деньги. На самом деле это не так. И сертификация нашего промысла камчатского краба это подтверждает.
Основные критерии MSC касаются управления промыслом как внутри самой компании, так и в более широком смысле, в том числе его регулирования и влияния на сопутствующие виды, мегабентос, уязвимые морские экосистемы. Поэтому если бы были хоть какие-то данные о том, что на Северном бассейне существует браконьерство, то мы бы этот сертификат никогда не получили.
Поэтому сертификация – это ответ инициаторам аукционов, которые в качестве одного из аргументов в пользу смены пользователей тиражируют мифы о браконьерстве. Браконьерство на Северном бассейне ограничивается одиночками, которые на подручных плавсредствах выходят недалеко от берега и пытаются что-то поймать. На Дальнем Востоке браконьеры – это суда под «удобными» флагами, никакого отношения к легальному промыслу не имеющие. Но с этим конечно должна бороться Пограничная служба, и она, я знаю, борется, периодически такие факты выявляются и пресекаются.
– Но ни о каком промышленном масштабе с применением судов и речи не идет?
– Дело в том, что основной актив компаний – это право на вылов, квоты, которые закреплены на долгосрочной основе. И именно исторический принцип победил браконьерство, потому что рыбакам нет смысла рисковать. Риски потери квоты многократно превышают выгоды одной даже очень прибыльной сделки и разового заработка. Поэтому компании, у которых есть квоты и уверенность в том, что они будут перезакреплены по историческому принципу, никогда не будут заниматься браконьерством.
– Сейчас на слуху самые разные схемы и пропорции возможного изъятия и перераспределения крабовых квот. Как вы относитесь к этим предложениям? И какие могут быть последствия для отрасли?
– Плохо отношусь. Интересанты уже названы, никакого секрета в этом больше нет. Если называть вещи своими именами, вся эта кампания изначально задумана с целью перераспределения ресурсов.
Пугает то, что в действиях инициаторов нет бизнес-логики. Я абсолютно точно знаю, что у них есть возможность войти на крабовый рынок через приобретение компаний, имеющих квоты, причем по рыночным ценам, а в некоторых случаях даже с дисконтом к рынку. Вместо этого они упорно настаивают на проведении аукционов, где цены будут непредсказуемы. Получается, что по рыночной цене и, условно говоря, «навсегда» – нет, а за дорого и на 10 лет – да. Видимо, логика в другом: задействовать административный ресурс и постараться не допустить к аукционам реальных конкурентов. А в случае, если аукционы закончатся «правильно», можно будет и к историческому принципу вернуться, «вспомнив» о его эффективности для отрасли.
Мы сейчас вместо того, чтобы делом заниматься, вынуждены решать ребусы на предмет того, каким образом нас «снимут с пробега». Кстати, недавно в правительство от имени Минсельхоза был внесен проект изменений в закон «О рыболовстве…», касающийся запрета на проведение очных аукционов по продаже прав на вылов ВБР и замене их электронными аукционами. Странно совпадает по времени… Подозреваем, что на нас собираются опробовать новые технологии отсева неугодных.
Инициаторы тем временем работают над тем, чтобы подвести под идеи введения новых аукционов хоть какое-то разумное обоснование, но пока плохо получается. Недавно по «Первому каналу» из уст уважаемого журналиста мы слышали небылицы про рыбную отрасль. О том, что все кругом браконьеры (что не подтверждается), о том, что программа инвестквот не работает, там «ничего не происходит» (на практике все ровно наоборот).
Особенно удивила мысль, что если загнать «в небеса» себестоимость рыбопродукции путем продажи квот на аукционах, то «китайцы и корейцы вряд ли станут перекупать такие дорогие квоты и наш улов будет оставаться у нас» (видимо, по доступной цене). Здесь, что называется, без комментариев…
А вот последствия будут катастрофическими – это и прецедент пересмотра всей системы имущественных отношений в стране, так ведь можно и лицензии на разработку недр, и земли сельхозназначения продать по второму разу. И это крест на инвестициях, в том числе отказ банков от кредитования рыбопромышленной отрасли (что, кстати, и подтвердил Сбербанк в своем письме), и смена позиции «собственника» на позицию «временщика» со всеми предлагающимися к ней «бонусами» (браконьерство, уход от налогов и пр.), и потеря доверия бизнеса к государству, да и много чего еще. Об этом уже неоднократно писали, не хочу повторяться.
– Но насколько я понимаю, для введения аукционов остается совсем мало времени, ведь до конца года произойдет перезакрепление долей квот на следующие 15 лет?
– А доли квот никто трогать не будет, скорее всего, механизм будет аналогичен тому, который использовался при распределении инвестквот. Сегодня квоты на вылов ВБР распределяются последовательно по видам пользователей, причем промышленные – в последнюю очередь. Например, инвестквоты утверждаются раньше промышленных, таким образом их выделение на доли пользователей не повлияет, просто наполнение этих долей уменьшится на 20%.
Точно так же можно ввести еще один вид квот, которые будут распределяться перед промышленными, и продавать их на аукционах. Рыбакам скажут, что волноваться не надо, на их доли квот никто не посягает. Но наполнение долей снова уменьшится, причем существенно. Вот такая «прекрасная» комбинация.
Хитрость в том, что, единожды введя такой вид квот, потом можно выставлять на аукционы квоты на любые виды водных биоресурсов, крабом это точно не ограничится. Аппетит всегда приходит во время еды…
– Вы собираетесь поднимать эту тему на съезде рыбаков?
– Да, безусловно, один из основных вопросов на съезде – это как раз вопрос аукционов и сохранения исторического принципа как базового принципа управления отраслью, помимо других вопросов, которые волнуют рыбаков. Но этот вопрос – самый важный.
Анна ЛИМ, Fishnews

ВАРПЭ: рождение и первые шаги.
«Видите, список членов Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей, экспортеров – это собрание 23 февраля 1994 года», – Александр Николаевич Якунин, занимавший пост вице-президента ВАРПЭ в 1994-1995 годах, протягивает листы с машинописным текстом. Три десятка организаций и фамилий руководителей – некоторые до сих пор на слуху, но куда больше тех, что уже давно стали частью истории.
Тогда, в начале 1990-х, ситуацию в экономике постсоветского пространства можно было описать одним словом – хаос. И рыбная отрасль не была исключением. Бесконтрольный экспорт и, как следствие, демпинг на внешних рынках с падением цен на традиционную продукцию отечественных рыбаков не позволяли предприятиям строить долгосрочные планы, вкладываться в реконструкцию производственной базы или продумывать стратегию развития хотя бы на пару лет вперед.
Александр Якунин: «Что тогда происходило? Во-первых, отпускали предприятия, был издан закон о предприятии, и всех отправляли в самостоятельный путь, уже не было такой жесткой централизации. До этого в нашей системе была внешнеторговая организация – «Соврыбфлот», через которую проходили все зарубежные контракты и вообще вся торговля рыбой с зарубежьем. А потом пришла приватизация, либерализация экономики, и все предприятия вдруг стали самостоятельными.
Введенное ранее лицензирование вдруг отменили, отменили экспортное квотирование. Старая командная система уже вызывала в людях отторжение, и когда чуть ослабили эти путы, то все кинулись торговать. Это резко бросалось в глаза, когда все предприятия, производящие и добывающие рыбу, создавали отделы экспорта-импорта. Рыбу не только продавали, но и меняли на товары, на топливо.
Для нашей отрасли последствия оказались ужасными. Во-первых, рухнули цены. Если мы вчера продавали за 500 долларов, то сегодня за 50 – это не входило ни в какие рамки. При этом те, кто продавали, были согласны и на 50, лишь бы заткнуть какие-то дыры. Предприятия действовали исходя из своих сиюминутных нужд. Товарооборот «Соврыбфлота» резко упал. Наработанный опыт стал исчезать, люди начали разбегаться, на многих предприятиях сменилось руководство.
Ситуация осложнялась тем, что правительство оставляло часть квот региональным властям, которые порой распределяли их очень странным образом. Хорошо помню, как во Владивостоке было два случая, когда губернатор выделил квоту минтая банно-прачечному комбинату и футбольной команде «Луч», чтобы те получили хоть какие-то деньги от ее продажи. Может быть, с точки зрения местных властей, в тот момент не было других вариантов решить эту проблему, но с точки зрения нашей отрасли, все эти команды и банно-прачечные комбинаты сильно демпинговали на рынке. Они продавали квоты в десять раз дешевле их реальной стоимости».
Для профессионалов было очевидно: пора устанавливать правила, закладывать фундамент для формирования нормального рынка. В регионах Дальнего Востока и Севера уже начали складываться добровольные объединения предприятий рыбной промышленности.
В этот момент с инициативой создания «неправительственного общественно-профессионального органа», способного продвигать и защищать интересы рыбной отрасли на правительственном уровне, выступили Владимир Михайлович Каменцев, Яков Михайлович Азизов, Юрий Иванович Москальцов, Александр Никитович Гульченко, Вячеслав Геннадьевич Липанов – люди, пользовавшиеся безусловным авторитетом в рыбацком сообществе, к мнению которых прислушивались даже после исчезновения централизованной структуры Минрыбхоза. Положительно идею создания отраслевой ассоциации восприняли и в комитете по рыболовству, который в то время возглавлял Владимир Федорович Карельский.
Александр Якунин: «Мы провели большую предварительную работу, много встречались с рыбаками в регионах. В 1992-1993 годах я практически половину времени пробыл в командировках – во Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, в Мурманске. Мы начали разговор с агитации, что дальше так нельзя. Убеждали с цифрами в руках, что эта практика, которая появилась на рынке, идет на пользу только нашим конкурентам. И рыбаки во многом понимали и признавали, что это действительно так и нужно что-то менять.
Все эти усилия и наглядная агитация, я считаю, сыграли свою роль и в конечном счете сплотили людей, чтобы создать ассоциацию, которая могла бы регулировать многие вопросы рыбацкой жизни. Начиная от взаимодействия с законодателями по совершенствованию законодательства, в то время быстро меняющегося, до определенного регулирования рынка и работы на повышение конкурентоспособности нашей продукции.
В 1994 году этот момент настал, и после серии учредительных мероприятий была образована Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Очень много сил положил на это Владимир Михайлович Каменцев, в то время это была почти единственная фигура, которая могла бы претендовать на роль организатора. Так оно, собственно, и получилось: его избрали президентом ВАРПЭ, меня – первым вице-президентом».
По действовавшему в те годы законодательству, чтобы называться «всероссийской», ассоциация должна была получить подтверждение специальной правительственной комиссии. Такой документ ВАРПЭ получила в феврале 1994 года. По экспертной оценке, в ее состав вошло от 80% до 90% предприятий страны (в том числе через бассейновые и региональные союзы и ассоциации), формирующих основной объем вылова по России.
Александр Якунин: «В теории ассоциация сначала задумывалась межрегиональной, но когда мы закончили ее формирование, и прошло общее учредительное собрание, было решено сделать ее всероссийской. Потому что по самой структуре туда входили очень многие предприятия, которые раньше были в союзной промышленности – «Дальрыба», «Дальморепродукт», БАМР, «Камчатрыбпром», СПОРП «Атлантика», ЧПОРП «Антарктика» и другие. К ним добавилось немало новых компаний, в том числе тарные, сетевязальные, которые активно создавались молодыми предпринимателями. В результате ВАРПЭ стала всероссийской и в таком качестве была зарегистрирована.
На начальном этапе работы у нас много времени ушло на выстраивание структуры ассоциации, системы членских взносов, формирование аппарата и решение других управленческо-хозяйственных вопросов. Потом был определен круг задач, которые должна решать ВАРПЭ, выбраны цели и принят план работы до конца года.
Кстати, одной из первоочередных задач было подписание договора о взаимодействии и сотрудничестве между комитетом по рыболовству как правительственным органом и ВАРПЭ, чтобы ассоциация, объединившая уже частные предприятия, смогла работать совместно с госучреждением. Полгода примерно заняло, чтобы составить и подписать такой договор, который позволял комитету воспринимать ВАРПЭ как организацию, которая действует на благо рыбаков, представляет их интересы и может говорить от их имени.
Хочу заметить, что с самых первых шагов ассоциация оставалась открытой организацией, называть ее «закрытым клубом» просто несправедливо и непорядочно. За эти годы ряды ВАРПЭ пополняли разные предприятия, как и покидали – по своим причинам, в том числе из-за неуплаты членских взносов. Финансовый вопрос на самом деле долгое время оставался болевой точкой, первое время у нас не было никакого бюджета. Порой денег не хватало даже на зарплату аппарату, не говоря уже о том, чтобы заказать, к примеру, разработку программы юридической помощи, глубокое исследование рынков, подключить экспертов, прессу…
Трудное было время, я вам скажу. Но, возможно, благодаря тому, что в ассоциации в тот момент работали люди старой закалки, они все тащили на своих плечах и пусть не сразу, постепенно, но решали крупные задачи экономического, а порой даже политического плана, с точки зрения отрасли».
Анна ЛИМ, Fishnews

Встреча Дмитрия Медведева с заместителем Министра сельского хозяйства – руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым.
Обсуждались итоги работы отрасли в 2017 году, а также перспективы развития рыбохозяйственного комплекса, в том числе ход реализации программы строительства новых рыболовецких судов за счёт инвестиционных квот.
Из стенограммы:
Д.Медведев: Давайте вот с чего начнём. Доложите, как завершился для отрасли год. Каковы результаты, каковы перспективы? И в частности, есть одна важная программа, которая связана с созданием нового рыболовного флота за счёт инвестиционных квот. Мы с Вами говорили здесь, в Москве, и на выездных совещаниях, говорили с представителями отрасли, что работает, что не работает. Что удалось сделать? Мы знаем, состояние судов во многих пароходствах, у многих судовладельцев весьма и весьма среднее, если не сказать хуже. Так что это программа очень важная. Как она идёт?
И.Шестаков: Дмитрий Анатольевич, я, если позволите, вкратце сначала расскажу об общих итогах работы отрасли рыболовства за 2017 год. В целом динамика по вылову достаточно положительная. В прошлом году российские рыбаки добыли 4,9 млн тонн. Это рекорд за последние 20 лет. Динамика – плюс 1,6% к рекордному 2016 году, где динамика была ещё лучше – 7%. В этом году мы прогнозируем выйти на показатель 5 млн тонн вылова.
Может быть, не с такой положительной динамикой, но развивается производство аквакультуры. В прошлом году у нас была динамика чуть больше, в этом году чуть ниже. Здесь положительную роль сыграло принятие закона об аквакультуре, который вступил в силу с 2014 года. Пока ещё, все эти два года, мы распределяли участки. Товарная аквакультура имеет отложенный эффект. Сейчас мы ожидаем, что будет активно развиваться, и видим, что в целом динамика достаточно положительная.
Мы разыграли дополнительно порядка 150 тыс. га водных площадей.
Д.Медведев: Какова география конкурсов по водным площадям? Где в основном их берут в аренду, чтобы заниматься аквакультурой?
И.Шестаков: География абсолютно разная. Вся страна. Очень активно занимается Северо-Западный федеральный округ. Лидер по производству аквакультуры – Карелия. Краснодарский край и Крым очень активно занимаются производством марикультуры. Активно включилась в проекты Западная Сибирь. И конечно, Дальний Восток, Приморье. По наделению новыми акваториями они сейчас рекордсмены, но по объёму производства пока не так много.
Д.Медведев: Это очень важное направление. Вы правильно сказали, что оно у нас выросло за последние два года, но рост мог бы быть больше. Во всём мире сейчас этому уделяется огромное внимание. Надо и нам этим заниматься.
И.Шестаков: По экономическим показателям, Дмитрий Анатольевич, тоже в целом отрасль находится на подъёме. Растёт валовый оборот отрасли, за последний год он прирос на 7%. И если такая большая динамика от 2014-го к 2015 году была обусловлена изменением курса рубля, то сейчас динамика поступательная, она связана в том числе с тем, что наши рыбопромышленники всё больше уходят в переработку. То есть мы всё меньше поставляем непереработанное сырьё и всё больше занимаемся переработкой. Это производство филе, производство рыбной муки, даже на экспорт. Динамика ещё не такая положительная с точки зрения поставок переработанной продукции на экспорт, но постепенно мы наращиваем производство именно переработанной продукции.
В целом вклад отрасли в валовый внутренний продукт тоже увеличивается: составил плюс 5% к 2016 году – практически 230 млрд рублей.
Хотел сказать и об экспортно-импортной динамике. Объём экспорта за последний год вырос на 17% в стоимостном выражении. Эта программа по инвестиционным квотам нацелена на то, чтобы нам изменять структуру производства и именно за счёт строительства новых судов – высокотехнологичных, с переработкой – добиться изменения структуры поставок как на внутренний, так и на внешние рынки.
О квотах на инвестиционные цели. Прошла заявительная кампания, было подано всего 68 заявок в комиссию. Не все заявки, к сожалению, соответствовали требованиям. 56 заявок было отобрано. По ним будет построено 33 новых судна на отечественных верфях – 6 судов для Дальнего Востока и 27 судов для Северного бассейна. Причём если для Дальнего Востока это крупные суда – за 100 м, то для Северного бассейна (там другая специфика) это суда до 85 м.
Д.Медведев: Они идут как средние и малые суда?
И.Шестаков: Да. На всех этих судах практически предусмотрена высокотехнологичная переработка, то есть наличие линий.
Плюс 23 береговых завода.
Д.Медведев: По поводу этих судов – где строить-то будем?
И.Шестаков: Все эти суда уже законтрактованы на отечественных верфях: это Выборгский судостроительный завод, это Адмиралтейские верфи, это завод «Янтарь», на котором уже началось строительство. 7 судов уже в процессе постройки. И часть рыбопромышленников заказала на частных верфях, не входящих в систему Объединённой судостроительной корпорации, на частных заводах в Ленинградской области соответствующие суда. Объём инвестиций в целом по инвестиционным квотам мы сейчас оцениваем – порядка 140 млрд рублей будет в ближайшие пять лет.
Д.Медведев: Хорошо, но нужно эту программу довести до конца, до логического завершения, то есть до постройки самих судов и приёмки их в эксплуатацию. Рыбаки ждут эти суда. Мы с Вами неоднократно об этом говорили. Надеюсь, всё завершится успешно.

К прогнозам на Амуре сохранится предосторожный подход.
Горбуша Охотского моря в этом году дает основания науке для оптимистичных рекомендаций и обещает хорошие подходы. Однако это не повод забывать уроки прошлогодней лососевой путины, уверен руководитель Хабаровского филиала ТИНРО-Центра Денис Коцюк. О том, в каких объемах красную рыбу стоит ждать на Амуре и к чему готовиться рыбопромышленникам края, он рассказал в интервью Fishnews.
– На совете директоров рыбохозяйственных институтов были утверждены рекомендации по вылову лососей в 2018 году на уровне 492 тыс. тонн, в том числе 323 тыс. тонн горбуши. Денис Владимирович, какова оценка по возможным заходам красной рыбы в реки Хабаровского края?
– Действительно, съемка ТИНРО-Центра показала, что учтены рекордные запасы горбуши в Охотском море. Но сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, все-таки, чья это горбуша? Общие тенденции по горбуше Охотского моря таковы, что в нечетные годы подходит урожайное поколение северо-западной части материкового побережья, т.е. от Сахалинского залива до залива Шелихова – это Хабаровский край, Магаданская область, район до Западной Камчатки, иногда работает Восточный Сахалин.
В четные годы, что как раз и показала учетная съемка, высокоурожайные поколения – это Западная Камчатка, Амур и Приморье, поэтому горбуша в этом году может оказаться либо на Западной Камчатке, либо у нас.
Другой вопрос: как именно горбуша распределится по побережью Хабаровского края, насколько точно мы сможем это спрогнозировать? Не скажу, что это будет самый север края. По Северо-Охотоморской подзоне, например, у нас прогноз 2–4 тыс. тонн – это, конечно, очень скромная цифра. Многочисленные подходы ожидаются в Японском море и Татарском проливе – в районе 6–10 тыс. тонн. В Амуре и Амурском лимане мы прогнозируем вылов в 20–30 тыс. тонн горбуши. По меркам Западной Камчатки, это тоже немного, но для нас это очень значимые величины.
Скорее всего, в этом году мы откроем для промысла район устья реки Тумнин. Это большая, значимая для края река, где раньше была сконцентрирована значительная доля запаса лососевых, но оказалась серьезно подорвана. Сегодня есть объективные показатели восстановления и благополучного состояния запаса горбуши в районе, поэтому небольшие объемы к вылову на этот район мы будем рекомендовать, в том числе чтобы наблюдать за подходами. Безусловно, будут определены мониторинговые невода, кроме того, на реке наши сотрудники будут проводить исследования с целью оценки численности по подходам этого вида.
Но все-таки полагаем, что основная масса горбуши, которую учли в Охотском море, пойдет именно на Западную Камчатку. Этого же мнения придерживается и совет директоров рыбохозяйственных институтов. При этом не исключаем, что в случае значительных подходов к нам, в Хабаровский край, объемы, рекомендуемые к вылову, будут корректироваться, но не думаю, что вылов горбуши превысит 45 тыс. тонн.
В любом случае наука будет придерживаться предосторожного подхода. Практика 2017 года показала: промышленники к путине готовятся основательно – прежде всего, это касается перерабатывающих мощностей, которые явно превышают потребности; в то же время комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб обладает весьма ограниченными полномочиями в части установления дополнительных мер регулирования промысла для обеспечения оптимального пропуска производителей на нерестилища, а главное, не всегда добросовестное соблюдение рыбопользователями ограничений приводит к низкой эффективности принятых комиссией мер. Как следствие, может возникнуть проблема с заполнением нерестилищ.
– Каковы ожидания по кете?
– Традиционно значимые подходы кеты по Хабаровскому краю – это материковое побережье Охотского моря (реки Тугур, Уда, Охота, Кухтуй и др.). В этом районе отмечаем хорошие, стабильные запасы, благоприятные условия.
Безусловно, на Амуре в 2018 году ждем небольшие подходы летней кеты. К вылову мы будем прогнозировать порядка 6–8 тыс. тонн, это очень немного, но и не самый минимум (в 90-е годы – начале 2000-х летней ловили всего 1,5-2 тыс. тонн). Однако стоит учитывать, что часть амурской кеты, порядка 10%, уйдет на Северо-Западный Сахалин и к вылову на Амур будет рекомендован меньший объем.
В целом оснований для закрытия промысла летней кеты на Амуре нет. Тревожные заявления общественности о пустых нерестилищах откровенно не соответствуют действительности – безусловно, рыбы на нерестилищах немного, но вполне достаточно для воспроизводства этого вида.
И самое главное: мы считаем, что особенно в четные годы вводить запрет на летнюю кету нельзя. Она идет приловом к горбуше, и запрет будет тормозить промысел этого высокоурожайного вида.
Осенняя кета – вполне стабильный вид, несмотря на проблему недозакладки икры лососевыми рыборазводными заводами Амуррыбвода. В чем причина: общие условия, перераспределение стад или, не исключаю, несоблюдение пользователями мер регулирования – сложно сказать.
Тем не менее вылов 2017 года – 20 тыс. тонн осенней кеты – вполне соответствует показателям последних лет. Полагаю, что вылов текущего года также может составить в районе 19,5 тыс. тонн.
– Какие выводы, на ваш взгляд, помогла сделать путина-2017 на Амуре?
– В принципе мы ожидали непростую путину. Возросшие объемы рыбодобывающих мощностей и рыбопереработки, ограниченные полномочия комиссии, правила рыболовства, которые мы имели на тот момент, такой результат и обусловили. Те сложности, с которыми мы столкнулись, четко показали недостатки существующей системы регулирования промысла, прежде всего несовершенство правил рыболовства. Этот вопрос был тщательно проработан, внесены соответствующие корректировки, выработаны новые меры регулирования.
В частности, хотим опробовать на Амуре (и по этому предложению есть поддержка Росрыболовства) введение минимальных промысловых нагрузок на орудие лова.
Конечно, предстоит очень большая работа, наверно, наши рыбопромышленники будут вынуждены научиться работать по-новому, но, я думаю, другого пути нет. В первую очередь даже не состояние запаса, а сам настрой вокруг промысла очень напряженный, и даже агрессивный, обуславливает потребность в жестких правилах игры, к которым мы, скорее всего, и идем.
– В принципе и сами рыбаки высказывались за введение определенных ограничений на промысле. Принятие обновленных правил рыболовства должно уже на практике показать, насколько они готовы к этому.
– Да. Кстати, в конце года, по поручению заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, в рамках работы над изменениями в правила рыболовства мы дополнительно рассмотрели предложения одной из рыбопромышленных ассоциаций края. Большую часть этих предложений так или иначе мы уже рассматривали и комментировали ранее, но одно из них оказалось действительно интересным. Речь идет об установке видеонаблюдения на стационарных неводах для контроля проходных периодов. Это, так сказать, в противовес ТСК (датчикам) на плавных сетях.
Подобная мера сегодня уже применяется на практике: в соответствии с приказами Росрыболовства ведется обязательная видеорегистрация всех работ по добыче осетровых, по их содержанию. Все осетровые заводы у нас снабжены видеонаблюдением, отлов в целях аквакультуры, в научно-исследовательских, контрольных целях – все это обязательно фиксируется на камеру, и по любому запросу теруправления Росрыболовства или из Москвы мы предоставляем эту информацию. Это же и наша безопасность.
Конечно, еще существует масса технических вопросов к реализации подобных мер на лососевом промысле. Но, я думаю, что в этом был бы определенный компромисс между конкурирующими сторонами: каждый, взяв на себя определенную ответственность, показал бы свою добросовестность.
– В этом году планируется урегулировать вопрос о распространении проходных периодов и на стационарные орудия лова, для которых в прошлую путину предусматривались исключения?
– Вопрос распространения проходных периодов на стационарные орудия лова имел юридическую коллизию. Наверное, это справедливо, чтобы ограничения были установлены для всех видов рыболовства и всех типов орудий лова. Мы к этому пришли уже в прошлом году, когда начала складываться напряженная ситуация с обеспечением оптимума пропуска. В тот момент уже не говорили об исключениях – все проходные периоды должны были быть едиными для всех орудий лова. И пользователи заездков были обязаны вместе со всеми поднимать ловушку. Недовольств было много, но все соблюдали то, что установила комиссия. Насколько мне известно, ни на одного пользователя по данному пункту не было оформлено ни одного протокола.
– Озабоченность состоянием осенней кеты по прошлому году высказали и китайские коллеги. Есть ли у науки планы на совместную работу, исследования в этом направлении?
– Вопрос на самом деле не такой простой. Я думаю, что наши китайские партнеры начинают говорить о проблеме тогда, когда она им выгодна.
Например, еще в начале 2000-х КНР осуществляла промышленный лов осетровых в погранводах. Мы говорили о плохом состоянии запасов, предупреждали, нас услышали, и только после того, как Китай лишился квот решением СИТЕС, китайские партнеры согласились на проведение работ по оценке запаса осетровых. С того времени они взяли новый темп в развитии аквакультуры, интерес к этому вопросу был потерян. Лишь год назад была отработана согласованная методика исследований по осетровым. Каждая сторона проводит исследования в пограничных водах на своей территории, затем в рамках сессий Смешанной российско-китайской комиссии происходит обмен полученными данными. Сотрудничество между КНР и Россией осуществляется и в вопросах искусственного воспроизводства: ежегодно проводятся совместные мероприятия по выпуску молоди – мы приглашаем представителей Китая к нам, они – к себе, обмениваемся информацией.
Что касается тихоокеанских лососей, если мы вступим в цикл их пониженной численности на Амуре, с большой долей вероятности китайские партнеры поставят вопрос о том, что к ним не возвращается «их кета». На самом же деле на территории Китая нет ни одного притока, где бы нерестилась кета. Это следствие активной антропогенной деятельности в КНР. Все естественное воспроизводство происходит в российских водах, и те 50-100 тонн, которые они облавливают (а в прошлом году действительно меньше – всего 20-30 тонн), – это тоже наши стада Биры, Биджана, Уссури.
Да, объективно в Верхнем Амуре кеты стало меньше, но меньше ее стало и у нас. Китай со своей стороны пытается предпринимать меры по восполнению запаса кеты, но мы видим, что эти меры недостаточны. В Фуюане есть лососевый рыборазводный завод, который ежегодно выпускает 1 млн молоди, но действующие в КНР нормы искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, по мнению наших специалистов, не позволяют говорить о высокой эффективности работы данного предприятия. Вызывает серьезные сомнения у наших специалистов и качество молоди – китайские рыбоводы выпускают ее под лед, т.е. большая ее часть обречена на гибель.
Вопрос о проведении совместных с китайскими коллегами исследований по лососям кажется мне неоднозначным и требует серьезной проработки как с научной, так и политической точки зрения. В любом случае такие решения принимают официальные делегации КНР и России в рамках ежегодных сессий смешанной российско-китайской комиссии.
В целом хочется выразить надежду, что проведенная в 2017 году серьезная работа по совершенствованию системы регулирования промысла, прежде всего внесение существенных изменений в правила рыболовства по снижению промысловой нагрузки, будет иметь положительный результат: позволит нам в текущем году избежать конфликта общественности и представителей рыбного бизнеса, ну и главное, сохранить вверенные нам природные ресурсы.
Наталья СЫЧЕВА, Fishnews

Какие перспективы у MSC в России.
Как развивается MSC-сертификация в рыбной отрасли России, как повлиять на стоимость сертификата, нужна ли России собственная национальная система добровольной экологической сертификации? Об этом журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал директор по стратегическому развитию ООО «Морская сертификация» Павел Трушевский.
ТЕПЕРЬ – И МАЛЫЙ БИЗНЕС
– Павел Владимирович, в каком направлении развивается международная сертификация в рыбной отрасли? Какие наиболее характерные тренды можете назвать?
– Все крупные промыслы в России либо уже сертифицированы, либо находятся в процессе сертификации. И сейчас у системы есть только один путь дальнейшего развития – это сертификация малого и среднего бизнеса. Кроме того, в России вообще нет сертификации аквакультуры (ASC). Вероятно, это связано с тем, что эта отрасль плохо развита в России и, насколько я понимаю, аквафермы не имеют проблем со сбытом, поэтому дополнительные конкурентные преимущества им не нужны. Сертификация однозначно нужна там, где предложение выше спроса, где нет дефицита и за потребителя надо бороться. То есть единственным двигателем сертификации является рынок.
Возвращаясь к MSC, отмечу резкий рост интереса к сертификации пресноводных промыслов. Мы это, можно сказать, наблюдаем из первого ряда. Например, буквально месяц назад выдали еще один «пресноводный» сертификат (промыслу судака и окуня на эстонской стороне Чудского озера), а сейчас закончили «полевую», то есть основную, оценку другого промысла уже на российской стороне озера. В согласованных планах на следующий год – сертификация промысла окуня на Усть-Илимском водохранилище. Скорее всего, кто-то еще на нас выйдет из «пресноводников».
– Пресноводные промыслы – это, как правило, малый и средний бизнес. Их интерес – как раз иллюстрация того, что он уже заходит в сертификацию.
– Да, это путь любой сертификационной системы. Она начинает развиваться за счет грантов и лидеров бизнеса, которые берут на себя затраты исключительно для имиджевых целей. А потом процесс принимает рыночный характер и сертификацией занимаются уже не для имиджа, а ради реальной прибыли за счет премии в цене, доступа к рынку, увеличения стоимости бизнеса (например, при подготовке к IPO). Именно это и происходит сейчас в России с MSC-сертификацией. Какое-то время она развивалась исключительно за счет больших промыслов. Но сейчас она подошла к тому, что стала расти за счет малого и среднего бизнеса.
НУЖНА ЛИ РОССИИ СВОЯ СИСТЕМА?
– Что вы думаете о ранее озвученной идее создания российской национальной системы сертификации?
– Перед тем, как начать что-то делать, мы должны задать себе вопрос: зачем? Нужно определиться с целью. В свое время MSC и ей подобные сертификации развивались для того, чтобы у конечного потребителя в магазине или ресторане было понимание, что, выбирая продукт с экомаркировкой, он, помимо качественных характеристик, поддерживает и другие содержательные характеристики продукта – экологические, социальные, культурные и т.д. А в России? Задайте себе вопрос: готов ли наш российский потребитель осознанно переплачивать за наличие экомаркировки на морепродуктах?
– Нет, конечно.
– Вот и ответ. Поэтому приходится работать с тем, что есть – международными системами MSC и ASC, хотя они очень сложные и дорогие. Добровольная российская национальная система сертификации могла бы иметь смысл, если перед ней была бы поставлена более узкая, конкретная задача. Например, обеспечение прослеживаемости, то есть российская сертификация гарантировала бы покупателям, что готовый продукт на их столе имеет абсолютно легальное происхождение. Но тогда нужно называть все своими именами. Что мы хотим создать – систему прослеживаемости или систему добровольной экологической сертификации. Это просто разные вещи.
ГДЕ ДОРОЖЕ
– Себестоимость и цены на Западе и в России сопоставимы?
– Что касается России, то когда мы полтора года назад получили международную аккредитацию, то сразу сделали минус 20-25% к той текущей стоимости сертификации американских, английских и норвежских коллег. Что касается других стран – то в каждой стране все по-разному. Допустим, в Китае MSC и ASC стоит намного дешевле, чем в России. Так традиционно сложилось. Однако замечу, что в Китае почти нет сертификации промыслов, там сертифицируются только цепочки поставок рыбы и морепродуктов от рыбоперерабатывающего цеха до покупателя. А в развитых странах сейчас стоимость сертификации (по крайней мере, сертификации промыслов) близка к российской или выше, чем в России.
– Но сертификацией в том же Китае все равно занимаются западные компании, а не местные, китайские?
– Да, ею занимаются те же самые англичане и американцы. В Азии, кроме западных и одного российского органа по сертификации, вообще нет таких организаций. Но в Китае и условия другие: там порядка 400 цепочек поставок уже сертифицировано, а в России – их несколько десятков. Это сильно влияет на стоимость сертификации: если продукт эксклюзивный, штучный – он стоит дороже, а когда он становится массовым – падает цена. Прибавьте к этому ожидания рынка – в Китае темпы роста сертификации кратные, Россия растет единицами новых сертификатов.
– А почему в Китае сертифицируют цепочки поставок, но не промыслы?
– Для сертификации промыслов нужен доступ к научной информации, а она у них закрыта. Законодательство такое.
– Насколько сертификация распространена на Западе?
– Сертификацию MSC имеют 12% мировых промыслов, это более трехсот промыслов в 34 странах. Еще 86 промыслов находятся в стадии оценки. Если говорить по видам, то сертифицировано более 70% промыслов лобстера и холодноводной креветки, 55% – трески, пикши и хека, более 40% – камбалы и лосося, порядка 20% – тунца.
КАК УПРАВЛЯТЬ ЦЕНОЙ
– Можете ли вы управлять себестоимостью процесса сертификации и ее конечной ценой?
– Сертификация – это интеллектуальный труд, и 70-75% ее себестоимости – затраты на персонал. И если мы хотим управлять себестоимостью, то мы должны управлять прежде всего фондом оплаты труда, что мы и пытаемся делать. Проблема в том, что цикл сертификации очень большой, в среднем год-полтора. Поэтому все процессы, которые в нем происходят, процессы внутреннего роста персонала, обучения, стажировок и так далее – тоже очень растянуты по времени. Мы запустили процесс подготовки нескольких российских специалистов, которые, естественно, будут стоить дешевле, чем, скажем, англичане, но все это происходит не быстро. Готовить своих специалистов дорого, непросто, но мы осознанно идем по этому пути, чтобы в дальнейшем сделать сертификацию в России доступней.
Клиенты тоже могут влиять на цену. Многие уже сообразили, что если для одной компании цена велика, то можно прямо под сертификацию создать ассоциацию, и тогда расходы будут разделены между ее членами. В настоящее время мы находимся в стадии завершения переговоров с эстонской ассоциацией Peipsi Kalandusuhistu. В нее входит 23 компании. Они небольшие, но если 80-90 тысяч долларов разделить на 23 компании, то получится не так уж и дорого. Вот хороший пример того, как в процесс сертификации входит малый и средний бизнес.
– Нужна ли рынку альтернатива MSC-сертификатам?
– Альтернативы существуют, например, Friend of the Sea, или FOS, есть еще ряд сертификаций, которые появляются в разных странах – в Америке, Великобритании. Некоторые охватывают несколько видов водных биоресурсов, есть более узкоспециализированные сертификации. Но пока что MSC остается лидером рынка, потому что она глобальна, универсальна и, самое главное, признаваема рынком.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ НАКАПЛИВАЮТ ДОКУМЕНТЫ
– Как продвигается сертификация промысла тихоокеанской трески в Западно-Беринговоморской зоне и на Восточной Камчатке с приловом белокорого палтуса Ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП)?
– Мы провели предварительный аудит этого промысла в декабре 2016 года. Аудитор хорошо отработал, выявил все возможные слабые места, и сейчас АЯП занимается подготовкой к оценке. Они работают с экспертами, с научными организациями, чтобы накопить необходимый объем научно-исследовательской информации. По большому счету сертификация промысла крутится вокруг доступа к большим массивам научных данных: об экосистеме промыслов, динамике водных биоресурсов и другой информации хотя бы за последние 10-15 лет.
Кстати, на этом этапе тоже есть рычаги, чтобы влиять на конечную цену сертификации. Мы убедились, что когда предприятие выходит на основную оценку с уже подготовленной необходимой информацией, то оценка проходит в течение 8-10 месяцев. Если информации недостает, основной аудит увеличивается на дополнительные 3-6, а то и больше месяцев, что, естественно, отражается на его себестоимости, ведь экспертам, работающим в режиме «вопрос-ответ», надо платить. И АЯП правильно подходит к сертификации, накапливая необходимую информацию без объявления о проведении основной оценки. В том же самом режиме работает и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока. В конце 2016 года мы для них провели предоценку, и они сейчас собирают информацию, чтобы выходить на полную оценку. Я думаю, что в 2018 году мы проведем оба этих аудита, а это очень большие сертификации. Как я понимаю, многие сейчас наблюдают за тем, насколько качественно мы сможем отработать с этими двумя сертификациями, чтобы потом решиться работать с нами.
– Хватает ли в России научных данных для сертификации?
– В этом плане в России все очень и очень неплохо. Научных данных накоплено достаточно. Конечно, под нужды сертификации их еще необходимо определенным образом классифицировать и проанализировать. Плюс кое-какая информация закрыта или частично закрыта. Тогда рыбакам надо связываться с учеными и договариваться, чтобы они эту информацию открывали, обязательно делали публичной. MSC-сертификация – это публичный процесс, и отчеты о ней загружаются в Интернет, в публичный доступ. Но нужно сказать, что мы ни разу не сталкивались с тем, что какая-то информация была просто закрыта и никто с нами не хотел ею делиться. Все упиралось только в сроки ее предоставления.
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Российская рыбная биржа обретает прописку и международное имя.
За последние полгода вопрос развития биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией в России вышел на иной, более высокий уровень. За проектом, который с 2014 года в этой сфере реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом», теперь следят в госструктурах и крупных финансовых организациях Китая, Южной Кореи и, наконец, в самой России. О ключевых событиях последних месяцев, которые привели к таким результатам, журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.
– Сергей Егорович, о планах по строительству во Владивостоке комплекса для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией широко заговорили в июне на российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Толчком для этого послужила не просто презентация проекта, но и переговоры с китайскими инвесторами?
– Важным событием для нас стало подписание соглашения с Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР о схеме финансирования строительства биржевого комплекса во Владивостоке. В эти же дни мы презентовали наш проект на панельной сессии «Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: первые истории успеха». Мероприятие действительно получило широкое освещение в российских и китайских СМИ, что привлекло к нам дополнительное внимание.
Более того, в эти же дни состоялись переговоры с руководством Харбинского филиала Банка развития Китая (China Development Bank). Результатом стало положительное решение о выделении нам через программу сотрудничества с Россельхозбанком 1 млрд рублей на строительство биржевого комплекса.
Таким образом, события в Харбине можно считать для нас переломным моментом, поскольку после этого к нам начали активно обращаться крупные китайские компании. Одна из них, созданная по инициативе российско-китайского делового совета и имеющая широкую сеть представительств, уже аккредитовалась на нашей биржевой площадке.
– Переговоры с иностранными партнерами продолжились на Восточном экономическом форуме в сентябре?
– Следующим ключевым событием года для нас стало приглашение Росрыболовства представить биржевую площадку на объединенном стенде федерального агентства и рыбопромышленников на площадке ВЭФ. Совместно с отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group и Биржей «Санкт-Петербург» в короткие сроки была проделана колоссальная работа. Мы одновременно работали с более чем 30 компаниями-производителями на предмет их регистрации в качестве участников торгов. А это и подготовка документов, и сбор различных материалов о продукции, и подготовка биржевых инструментов (в общей сложности мы завели в биржевую систему более 150 новых инструментов и изменили биржевую спецификацию). Активная работа проводилась с торговыми представительствами России в Южной Корее, Японии и Китае, а также с представителями Росрыболовства в этих странах. Была подготовлена и разослана информация по зарубежным компаниям – импортерам российской рыбопродукции, ряд из них включился в работу на бирже.
В результате по итогам двух дней торгов в рамках специальных сессий, которые транслировались на объединенном стенде, было заключено сделок на сумму свыше 51,5 млн рублей. Непосредственными участниками торгов стали 7 крупных российских компаний («Русская рыбопромышленная компания», НБАМР, «Океанрыблот», ПБТФ и другие) и 2 иностранных.
Но еще важнее, что к проекту удалось привлечь большое внимание со стороны посетителей стенда – российских и зарубежных бизнесменов и политиков. Так, с работой площадки подробно ознакомились губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, президент «Опоры России» Александр Калинин, сенатор от Приморского края Людмила Талабаева.
Но главное, что на ВЭФ нам удалось выполнить основную цель – популяризировать биржевую форму торговли рыбопродукцией среди наших партнеров из стран АТР. Достаточно большое количество иностранных участников форума ознакомилось с работой торговой площадки, но особо отмечу визит на стенд министра морских дел и рыболовства Республики Корея: г-н Ким Ён Чун детально изучил работу биржевой площадки, задавал много конкретных вопросов о принципах организации торгов и их возможностях. Его визит дал новый импульс нашим взаимоотношениям с Кореей.
– Сегодня на бирже зарегистрировано в общей сложности 32 компании, включая 5 иностранных. Какие-то дополнительные шаги вы предпринимаете для привлечения к биржевому проекту иностранных компаний?
– Мы понимаем, что для более активного вовлечения в проект иностранцев нам нужны некие опорные точки в этих странах. И первым шагом в этом направлении для нас стало соглашение с компанией «Глобал Бизнес Консалтинг», которая выполняет функции представителя «Дальневосточного аукционного рыбного дома» на территории Республики Корея. Эффективность нашего сотрудничества очень высока. За короткий срок нам удалось найти серьезных инвесторов, и в рамках ВЭФ мы подписали соглашение с корейской компанией DNG Global Co., Ltd., которая занимается импортом морепродуктов из России. Глава компании г-н КУ (Koo Byoung Jin) отдельно отмечал, что видит потенциал в развитии рыбной биржевой площадки в России, прежде всего для заключения прозрачных проектов, а также облегчения поиска новых поставщиков и упорядочения ценообразования.
Кроме того, за развитием нашей биржевой площадки и биржевой торговли рыбопродукцией в России в целом сейчас внимательно следят в Министерстве морских дел и рыболовства Южной Кореи и в соответствующем комитете парламента республики.
Хочу отметить, что два этих события, в Харбине и во Владивостоке, подтолкнули иностранных участников к большей активности в направлении биржевой торговли на территории России. На сегодня у нас есть значительное число заявок со стороны южнокорейских и китайских компаний на приобретение российской рыбопродукции.
– Помимо того, что биржа вызывает большой интерес у представителей зарубежного бизнеса и властей, какие еще выводы о роли этой торговой площадки можно сделать сегодня?
– Прежде всего, мы можем говорить о роли биржи в качестве ценового индикатора, в том числе на международном рынке. Работа площадки показала, что это достижимо при регулярном выставлении предложений от наших производителей и заявок от покупателей. Например, анализируя заявки, которые поступают нам от иностранных покупателей, мы уже можем судить о тех ценах, по которым российская рыбопродукция должна продаваться. И в ряде случаев мы видим, что на экспорт отечественная продукция уходит по более заниженной цене.
В ходе работы с иностранными компаниями мы столкнулись с еще одним важным моментом. Заявки от них мы не просто выставляем на биржу, а пытаемся находить компании-продавцов, у которых есть интересующая зарубежных покупателей продукция. В результате выяснилось, что зачастую у крупных производителей вся продукция законтрактована, т.е. она перекупается более мелкими компаниями, которые, в свою очередь, могут не давать никаких гарантий на качество, сроки и вообще сам факт поставки товара при последующей перепродаже. И иностранцы очень боятся рисковать в подобной ситуации.
Хочу сказать, что такие мелкие компании-перекупщики не идут на биржу, а иностранные покупатели из-за высокого риска не идут на такие внебиржевые сделки.
– То есть российским компаниям пока недостает понимания сути и значения биржевой торговли рыбопродукцией?
– Российские компании по-прежнему часто задают нам вопрос, зачем им идти на биржу. Иностранный бизнес таких вопросов не задает – он идет на биржу, потому что понимает преимущества и возможности такой формы торговли.
Во-первых, биржа может обеспечить дополнительное число покупателей как из числа российских компаний, так и компаний – нерезидентов РФ. Т.е у производителя расширяется круг потенциальных клиентов, что положительно отражается на цене товара.
Второй и очень важный момент: совместно с Биржей «Санкт-Петербург» мы готовы проводить как адресные сделки, так и безадресные, т.е. сделки с участием клиринговой организации. Она в этом случае берет на себя все финансовые риски, и это стопроцентная защита и покупателя, и продавца от мошенничества, риска непоставки товара, несвоевременных поступлений денег и т.д. Вы понимаете, что возможность заключения таких сделок для иностранных клиентов особенно важна. Привлекая клиринговую организацию, мы способны в итоге создать на территории Приморского края полноценную биржу мирового уровня по реализации товаров из ВБР.
– А могут компании-нерезиденты участвовать в биржевых торгах не только в качестве покупателей?
– К нам уже начали поступать подобные запросы от зарубежных компаний. Речь идет о том, чтобы иностранные компании – производители продукции из водных биоресурсов – выставляли свой товар на бирже, а покупателем при этом выступали компании как из России, так и любых других стран.
Мы видим, что российская биржевая площадка способна выступить связующим звеном не только между российским и азиатским рынком, но с тем же успехом привлечь к торгам и европейский, и американский рынки. Таким образом, реализация подобной схемы имеет еще и важное геополитическое значение, причем не только для укрепления позиции России в АТР как серьезного игрока на рынке рыбопродукции, но и в качестве страны, обладающей регулятором движения товарных потоков из рыбопродукции.
Но для того чтобы биржа работала эффективно, необходима соответствующая инфраструктура, с собственными современными холодильными мощностями, складами и смотровыми площадками.
– Одним словом, нужен современный комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, о котором вы упоминали в начале разговора.
– Да. Такой комплекс будет выполнять несколько важных функций. С одной стороны, это базис поставки, куда продукция поставляется до начала биржевых торгов. С другой – это дополнительная проверка качества продукции и обеспечение надлежащих условий хранения. И, наконец, это безопасность сделок: понятно, если продукция будет находиться на биржевом складе, отгружена она будет оттуда только покупателю.
Использование такого комплекса выгодно и государству (прозрачная система, которая легко контролируется), и покупателям (доверие биржевой площадке становится на порядок выше), и даже конечным потребителям (за счет уменьшения числа посредников цены становятся ниже).
И, могу сказать, этот проект имеет хорошие перспективы. На сегодняшний день у нас есть более чем трехлетний опыт проведения биржевых и аукционных рыбных торгов, мы приступили к активной фазе реализации проекта строительства самого комплекса во Владивостоке. Проведена серия переговоров с руководством Россельхозбанка, который всячески поддерживает создание такого комплекса.
Кроме того, серьезное влияние на решение вопроса быть или не быть международной бирже в Приморском крае оказали события последних месяцев – смена главы Приморья внесла очень позитивную струю в этот процесс. Тема биржевых торгов Андрею Тарасенко знакома из личного опыта, поэтому в ходе первой же нашей встречи с врио губернатора разговор проходил на одном языке. Он поддержал идею создания международного биржевого центра во Владивостоке, который, на его взгляд, будет иметь колоссальное значение для развития торговли рыбой и морепродуктами в целом.
– В администрации Приморского края нам сообщили, что конкретные аспекты участия краевых властей в проекте создания биржевого комплекса пока еще обсуждаются. Но в целом о чем идет речь, вам уже известно?
– Эти вопросы обсуждались на отдельном совещании в администрации, окончательные решения пока еще не вынесены. Но планируется, что проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства, доля государства в проекте при этом может составить не менее 30%. Вероятнее всего, компанией-оператором создаваемого комплекса станет «Дальневосточный аукционный рыбный дом». В настоящее время по указанию врио губернатора ведется подбор площадки для размещения комплекса.
Безусловно, реализовывать такой проект без участия государственных властей было бы весьма затруднительно. И особенно для иностранцев это очень важный ориентир. Поэтому проявленную активность со стороны края уже позитивно оценили наши иностранные партнеры, как китайские инвесторы, так и южнокорейские, а также в Министерстве морских дел и рыболовства Республики Кореи.
По сути, реализация данного проекта способна стать ярким примером межгосударственной интеграции, сближения интересов России, Китая и Южной Кореи. Такое сочетание само по себе является уникальным, я думаю, что это первый случай взаимодействия наших стран в сфере биржевой торговли, и тем более водными биоресурсам.
– А есть ли какие-то подвижки в направлении организации государственных закупок рыбопродукции на площадке «рыбной» биржи?
– В октябре этот вопрос мы поднимал на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросу осуществления госполитики в сфере рыболовства и сохранения ВБР. Мы предложили внести изменения в федеральное законодательство, которые позволили бы заключать договоры для государственных нужд на биржевых торгах. Это позволит напрямую производителям рыбной продукции, в том числе и рыбодобытчикам, обслуживать заказы государственных учреждений (а сегодня в силу специфики законодательства не все имеют такую возможность). Результатом этого должно стать повышение качества закупаемой в резерв продукции и оптимизация расходов государства.
Наталья СЫЧЕВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Илья Шестаков: регулировка цен только на рынке рыбы бессмысленна
Рыба и икра, а также цены на них были одним из самых обсуждаемых в СМИ вопросов конца ушедшего 2017 года. Почему не стоит вспоминать ценообразование на этот вид продовольствия времен Советского Союза, каких изменений в отрасли хотелось бы и есть ли будущее у бренда "Русская рыба", рассказал в интервью корреспондентам РИА Новости Ирине Андреевой и Антону Мещерякову глава Росрыболовства Илья Шестаков.
— Илья Васильевич, рынок рыбы и рыбных продуктов регулярно оказывается в центре обсуждения — покупатели удивляются ценообразованию, обращаются в надзорные органы с просьбой его проверить. А регулировка этого процесса возможна? Это стоит делать?
— С одной стороны, это свободный рынок, но регулировать его плавно и правильно, мне кажется, было бы можно. Вот вопрос — заниматься этим только в сегменте рыбы? Наверное, неправильно. Более правильно было бы делать это на всем ассортименте сельскохозяйственных товаров, на всем продовольствии. И, действительно, если цепочки ценообразования детально рассмотреть, то какие-то меры предпринять необходимо.
Мы всегда говорим, что у нас очень слабо развито оптовое звено. Это, к сожалению, правда. Ладно, что в торговые сети сейчас сложно попасть, закон о торговле меняется, добавляются какие-то новые положительные меры, но ситуацию кардинально это не меняет.
Мне кажется, что эта товаропроводящая инфраструктура — набившее уже оскомину определение — необходимо стимулировать именно с точки зрения создания оптовых покупателей, оптовых компаний, заниматься именно этим вопросом. Без него сложно, сложно, когда в торговых сетях не представлены сильные игроки с большими возможностями, и в том числе лоббистскими. Компаниям более мелкого масштаба сопротивляться и бороться с ними тяжело, поэтому создание таких больших, крупных оптовых компаний, специализирующихся на торговле рыбной продукции, позволило бы, это мое мнение, в какой-то мере ситуацию с ценами улучшить.
— А кто-нибудь предлагает?
— Не могу сказать, что это никому не интересно, но пока, к сожалению, таких решений нет.
— Ставший уже традиционным вопрос к Росрыболовству, а почему у нас такая дорогая рыба, вам не надоел? Учитывая, что агентство не отвечает за формирование цены на рынке?
— Надо объяснять, показывать людям, что ситуация складывается таким образом в целом на рынке продовольствия. Объяснять, что рыба дикая, выловленная в естественной среде, это ограниченный ресурс. Больше ее становиться не будет, а население растет, потребление растет. Свежий пример — рост среднего класса в Китае и значительный скачок спроса на дикую рыбу, так как люди начинают думать, что они едят, могут себе позволить заботиться о здоровом питании.
Дикая рыба никогда не сможет конкурировать с мясом птицы. С таким же успехом можно сравнивать рыбу с говядиной, которая, вообще-то, сейчас премиальный продукт. А рыба чем от нее отличается? Такой же премиальный продукт. Мы видим, как растет спрос на треску в Европе, а запасы ее, наоборот, сейчас показывают тенденцию к снижению, такой биологический цикл. В этом году мы добыли около 500 тысяч тонн трески, да, больше, чем в прошлом году, но посмотрите на цифры производства мяса птицы — только за 11 месяцев оно превысило 5,56 миллиона тонн.
— А их надо сравнивать?
— Кому-то кажется, что это несравнимые вещи, кому-то кажется, а почему бы и не сопоставить. Или давайте тогда сравнивать с курицей аквакультурную рыбу, выращенную, как и птица, в искусственных условиях, на фермах. Например, с карпом. Тилапия и пангасиус стоят примерно столько же. Вот поэтому нам важно развивать сегмент рыбоводства в том числе.
Все вспоминают Советский Союз. Все говорят о том, что в Советском Союзе рыба была, а сейчас ее нет. Раньше была доступна, а сейчас недоступна. Я жил немного при Советском Союзе и помню, что карасей в пруду ловил и жарил — это была доступная рыба. Остальное — сосиски и курица только по праздникам.
— Обращение главы мурманского рыбкомбината к президенту Путину на пресс-конференции вызвало большой интерес. Он высказал свои претензии к закону об инвестквотах и к Росрыболовству в частности. Есть какое-то продолжение истории?
— Мы провели совещание, на котором присутствовал господин Зуб. Все то, что он сказал президенту, не соответствует действительности, что ему и показали на примерах, объяснили законопроекты, постановления. Он, видимо, имел собственное прочтение этого документа и по-своему его интерпретировал, потому что все те вопросы и проблемы, которые он озвучивал, на самом деле в постановлении решены.
Кроме одного, что он озвучивал, — он говорил, что приоритет в распределении инвестиционных квот надо отдать не строительству рыбопромыслового флота, а рыбоперерабатывающим предприятиям. Но в этом как раз была наша стратегическая задача — нам необходимо обновлять рыбопромысловый флот. Это, во-первых, вопрос не только экономики, а безопасности условий труда. Во-вторых, качество рыбы, произведенной на судне, будет всегда выше, чем у перерабатывающих береговых заводов. И если возвратиться к началу истории, то мы хотели все 20% отдать только на рыбопромысловый флот. Но решение правительства было другое, и 5% заложили на рыбоперерабатывающие заводы. Почему? Безусловно, присутствует социальный аспект — развитие приморских регионов, рабочие места на берегу и так далее. Поэтому квота была выделена для береговой переработки. Это те вопросы, которые поднял Зуб.
— Смогли понять друг друга?
— В процессе обсуждения стало понятно, что у него есть проблемы коммерческого характера и связаны они с тем, что построенный им завод может работать, к сожалению, только на сырье из Норвегии. А в рамках продэмбарго возможность получать это сырье исчезла.
Очень странно для меня, что у него есть завод, который пустует и на котором нет сырья, и он не может договориться с российскими компаниями: они не хотят поставлять ему сырье, так как ранее были несвоевременные выплаты, необоснованные претензии по качеству. В то же время он подает документы для получения инвестиционных квот на строительство еще одного завода.
Если уже есть завод, но нет сырья, то было бы логично подать заявку на получение квоты на строительство рыбопромыслового судна. А затем начать загружать тот завод, который у тебя уже есть.
— Зуб остался удовлетворен результатами встречи с Росрыболовством?
— Мы сейчас смотрим, какие есть возможности обеспечить сырьем этот завод.
— А Росрыболовство всем так помогает?
— Мы как федеральное агентство должны помогать всем, кто обратился. Он обратился, будем помогать ему. Когда есть серьезные обращения, мы помогаем, почему нет? Мы стараемся так поступать в отношении многих предприятий. Это нормально.
— Вам не кажется, что и граждане, и производители зачастую путают, в чем заключается функционал Росрыболовства?
— Если говорить с точки зрения цен на рыбу, то, безусловно. Мы федеральное агентство именно по рыболовству, мы не министерство рыбного хозяйства, мы не отвечаем за торговлю рыбной продукции и утилизацию на полигонах.
— Как можно изменить такое восприятие?
— Думаю, необходимо просто четко обозначить функционал. Сейчас он немного размыт.
— Сейчас у нас устанавливаются минимальные розничные цены на водку, максимальные цены на сигареты. Может быть, стоит рассмотреть возможность установления и минимальных или максимальных цен на какие-то виды рыб?
— Минимальные цены на водку были введены для борьбы с фальсификатом и некачественной продукцией, чтобы легальная продукция не проигрывала нелегальной на полках. В нашей отрасли задача немного другая, и предлагать подобные варианты, наверное, неправильно.
Если говорить об ограничении торговой наценки, мне кажется, применять такую меру тоже не стоит. Мы возвращаемся к первому вопросу: мы в рыночной экономике живем или не в рыночной? Необходимо создавать институты развития, инфраструктуру. Необходимо бороться с тем, что рыбаки не могут нормально заниматься реализацией своей продукции. Мы подвигаем рыбаков к тому, что нужно идти в реализацию, и на Дальнем Востоке уже есть рыбодобывающие компании, которые начинают открывать свои сетевые магазины небольшого формата.
— Как обстоит ситуация с брендом "Русская рыба"?
— Бренд существует, мы его постоянно представляем на различных выставочных площадках. Что пока не удалось сделать, так это сподвигнуть рыбаков к тому, чтобы они этот бренд продвигали со своей стороны. Мы можем создать задел, но развивать бренд за них не наша задача. Это требует больших финансовых вложений.
— А интерес у самих производителей есть?
— У некоторых компаний интерес есть, они готовы финансировать продвижение бренда, некоторые не готовы или не хотят. А вложения и результаты развития бренда будут влиять на весь рынок в целом. Пока нет договоренности внутри сообщества. Но, я думаю, что постепенно и этот вопрос мы тоже решим.

Без промразведки стратегических целей не достичь.
В рамках реализации стратегии развития рыбной отрасли до 2030 года научному сопровождению отведена одна из ключевых ролей. Перед рыбохозяйственными институтами поставлен целый ряд задач – от повышения достоверности прогнозов и разработки новых технологий до более тесного сотрудничества с бизнесом при определении направлений исследований. Каким образом ученые смогут ответить на эти вызовы, стоит ли ждать новых сюрпризов по лососю и зачем возрождать промразведку, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.
– Кирилл Викторович, хотелось бы начать с итогов завершившейся лососевой путины. В некоторых регионах не обошлось без неприятных сюрпризов, подходы горбуши вновь оказались ниже ожидаемого. Что происходит с красной рыбой? И какие рекомендации может дать отраслевая наука?
– На самом деле итоги мы еще не подводили, их только предстоит проанализировать. Но еще в прошлом году мы говорили, что будет уменьшение. По прогнозам, которые делала рыбохозяйственная наука, было ясно, что сахалинские рыбаки получат меньше рыбы, и эта тенденция явно продолжится. В ней нет ничего странного, это отражение многолетней климатической цикличности. Как отмечали на последнем ДВНПС, если вспомнить советские годы, то там уловы были в восемь раз ниже, чем сегодня.
Перед нами стоит задача не просто проанализировать ситуацию, а предложить пути решения того, как сохранить имеющийся потенциал. И ученые предложили: внести изменения в правила рыболовства, которые касаются вопросов регулирования орудий лова, наведения там порядка, установления правильных проходных дней, исключения бесконтрольного лова различными сетями и т.д. Это целый комплекс мер, который обсуждался на ДВНПС, причем мы предложили, чтобы эти изменения касались не в целом правил для Дальневосточного бассейна, а каждого региона в отдельности. И именно так и будет.
Сегодня по степени, скажем так, беды у нас на первом месте стоит Сахалин, на втором месте – Амур, а потом уже все остальные. На Камчатке благодаря биологическим причинам, мы думаем, что и 2018 год будет достаточно удачный. В целом-то улов на стабильном уровне и, наверное, таким и останется, но значительно изменится распределение вылова по регионам.
– На ДВНПС представители регионов говорили о чрезмерном количестве рыбопромысловых участков и ставных неводов. Предложенные изменения в правила рыболовства касаются регулирования промысловой нагрузки?
– Безусловно, надо смотреть на условия распределения промысловых участков. Количество РПУ, заводов и переработки, сконцентрированных на Сахалине, никак невозможно сравнить с Камчаткой. Естественно, из-за изменившихся условий люди находятся в невыгодном положении. Еще надо понимать, что хотя правила нацелены на то, чтобы через несколько лет ситуация улучшилась, сразу они вряд ли всем могут понравиться.
Важную роль играет и сознательность самих рыбаков. Например, многие крупные промышленники готовы сегодня идти даже на определенные убытки, для того чтобы сохранить стабильность промысла в будущем.
– Сложилась странная ситуация вокруг лососевых рыбоводных заводов: одни их называют чуть ли не главными виновниками неудачной путины, другие, наоборот, считают, что только ЛРЗ спасут ситуацию. Какой точки зрения придерживается наука?
– Наверное, сказать, что это ЛРЗ во всем виноваты, будет неправильно. Люди действовали в рамках возможностей и правил. Но помимо биологии и мнения науки есть еще чисто экономические параметры. Огромное количество РПУ распределено между мелкими участниками рынка, которые закредитованы, и у них нет другого выбора. Они не могут думать, как крупные предприниматели, планировать на пять лет. Они понимают, что или сегодня, или никогда. Соответственно этим пользуются те, у кого ресурсы больше, и из-за этого подрывается запас. Вот в этой части регулирования не хватало.
Вторая причина – это управление комиссиями на местах. Регионы пытаются вытащить на себя полномочия и говорят, что на месте виднее, но по факту получается так, что чем ближе к промыслу, тем меньше науки и меньше правил. Видимо, потому, что больше заинтересованности у людей, которые принимают эти решения. На мой взгляд, эти комиссии должны быть максимально изолированы от местных условий. Любые лососевые – это федеральный ресурс, именно поэтому окончательное решение будет принимать регулятор.
– В сентябре на Международном рыбопромышленном форуме вы говорили о необходимости восстановления системы промразведки на базе частно-государственного партнерства – научных институтов и бизнеса. Какие шаги предпринимаются в этом направлении? И есть ли желающие со стороны рыбопромышленников участвовать в таких проектах?
– На самом деле идея формулирования этой задачи пришла от бизнеса, потому что бизнес растет и хочет осваивать новые районы, готов вкладывать деньги в новое оборудование. В ближайшее время у нас должен серьезно обновиться флот, появятся суда различного класса, в том числе ледового. Все это говорит о том, что бизнес пойдет дальше, не ограничиваясь рыболовством в тех зонах, где мы ловим сегодня. Когда четко указано, как, что и где ловить, конечно, это всем выгодно. Другое дело, кто за это будет платить.
Раньше за все платило государство. В принципе оно и сегодня могло бы себе это позволить, если бы мы понимали, какой источник средств. Мы не раз обсуждали этот вопрос, например, то, чтобы погрузить какую-то часть денег в сборы, которые взимаются с рыбаков. Это, кстати, предлагала Общественная палата. Теоретически, наверное, так тоже можно сделать, но как это реализовать технически, честно говоря, мы не совсем понимаем. Поэтому и родилась идея государственно-частного партнерства. Скорее всего, это будет какой-то фонд. Мы рассматривали разные предложения, в том числе такие формы, как эндаумент, но это решение еще будет обсуждаться руководством.
Есть еще один узкий момент для промразведки – это что делать с уловом. В соответствии с нашими законами мы обязаны уничтожать уловы. Такая схема, наверное, в какой-то момент была оправдана, но с точки зрения рационального использования водных биоресурсов это, конечно, непозволительная роскошь. И если мы найдем схему и нам удастся убедить руководство в ее целесообразности, посмотреть на опыт наших коллег за рубежом, где это используется, думаю, что эксплуатация таких судов будет значительно дешевле и выгоднее.
– Вы имеете в виду, чтобы промразведка окупала себя за счет производства?
– В том числе есть и такие предложения. Когда обсуждается освоение нового района, то сами бизнесмены говорят: «Разрешите нам туда выйти, там никто никогда ничего не ловил, но если мы там что-то поймаем, то это все наше». Логика-то железная. Почему бы не разрешить? Заодно мы получим какие-то новые данные. Но в рамках сегодняшних законов этого разрешения им никто не даст. Выходит, что мы сами стали заложниками такой ситуации. Может быть, десять лет назад это было не видно, но сегодня понятно, что достичь амбициозных целей, которые поставлены в стратегии развития до 2030 года, без промразведки невозможно.
– Как обстоят дела с финансовым обеспечением деятельности отраслевых НИИ на 2018 год? Есть ли опасность сокращения научных программ и экспедиционных исследований?
– На мой взгляд, сегодня проблема не в том, что научные программы не финансируются, а в том, что происходит старение научного флота. Сейчас запланированы достаточно серьезные средства, в том числе и на ремонт научного флота, которые позволят нам хотя бы удержать количество экспедиций.
Плюс ко всему значительно увеличивается финансирование новых исследований. Мы рассматривали этот вопрос на ученом совете. Пока не буду говорить, о какой цифре идет речь, но она значительно выше, в сравнении с плановой, которая переходит с 2017 года. В планы на ближайшие годы мы включили такие экспедиции, которые не проводились десятилетиями. Это и освоение новых территорий, и возвращение в районы Арктики и Антарктики, и изучение морских млекопитающих. На мой взгляд, сегодня научный задел, наработанный советскими учеными, уже не соответствует реалиям дня и требуется серьезное обновление информационной базы. В противном случае прогнозы, которые мы даем, просто не позволят рыбакам работать.
– Ранее речь шла о проектировании и строительстве нескольких научно-исследовательских судов для Росрыболовства. В какой стадии сейчас эта работа?
– В соответствии с решением Госсовета мы должны получить три новых научно-исследовательских судна. Наш институт принимает участие в работе по проектированию первого НИС ледового класса, которое должно стать флагманом и, с моей точки зрения, 250-300 дней в году бороздить моря и океаны и поставлять нам новые данные.
Если удастся закончить эту программу в ближайшие два-три года, это будет огромная победа для Росрыболовства в целом. Одно такое судно может заменить сразу с десяток тех, которые используются сегодня. Это очень серьезное оборудование, самое современное, это пилотируемые и беспилотные летательные и подводные аппараты. На новых НИС можно будет проводить исследования любой сложности.
Проектанты определены постановлением правительства – это верфи в Нижнем Новгороде, мы для них готовим техническое задание. Пока оно в процессе обсуждения, но уже есть визуализация головного судна, первые прикидки, которые позволяют нам быть уверенными в завтрашнем дне. Сроки сжатые, в этом году или в начале следующего мы должны получить проект.
– В числе перспективных объектов промысла, которые могут дать существенный прирост объемов добычи, большие надежды возлагаются на дальневосточную сардину (иваси). Какие прогнозы дает наука по этой капризной рыбе? Насколько оправданы заявления о миллионе тонн и по силам ли нашему флоту освоить такие объемы?
– Я бы сказал, что цифра эта взята с потолка: пока нет никаких данных, которые бы подтвердили, что это будет миллион тонн, полмиллиона или полтора. Мы просто видим, что это цикличность, что рыба появилась вновь и что, если опираться на старые, еще советские данные, скорее всего, она пойдет в большом объеме.
Другое дело, что мы сегодня однозначно не готовы к тому, чтобы выбирать такое количество ресурса, потому что это очень нежная рыба, она требует специальных средств лова и соответствующей переработки. Поэтому компании, которые планируют заниматься этой продукцией, очень серьезно инвестируют в переработку и в суда. Это не так просто, как кажется: вот пришла иваси и все мы тут озолотились. Нет, над этой рыбой придется серьезно поработать, чтобы сохранить ее органолептические свойства.
Мы к этой работе тоже подключились. В рамках нашего технопарка «Красносельский» мы собираемся открыть экспериментальную линию по иваси. Планируем, что в ноябре она уже заработает и мы сможем отрабатывать различные технологии – по консервации, по засолке, по транспортировке, по заморозке.
Для того чтобы предложить качественную продукцию, а она сегодня очень сильно востребована на рынке, придется поменять многие вещи, например, освежить технические условия. Или сегодня есть мнение, что транспортировать иваси в готовом виде с Дальнего Востока нельзя. А с другой стороны, я знаю, что есть крупные компании, которые считают, что это не так. Все это мы сейчас как раз изучаем.
– Технопарк «Красносельский», созданный на базе ВНИРО, по замыслу должен стать основой экспериментально-производственного комплекса. Кто участвует в этом проекте помимо института? И когда вы рассчитываете получить первые результаты?
– На самом деле мы единственные в рыбной отрасли, кто получил такой статус. Я бы, наверное, покривил душой, если бы сказал, что мы всю жизнь мечтали быть технопарком, у нас как у федерального института и других задач хватало. Мы в основном беспокоились за наше экспериментальное производство на Ижорской, где отрабатывались разные технологии. В том числе, мы выпускали небольшие партии продукции для школьных завтраков и обедов, работали с водорослями, выпускали деликатесную продукцию, лечебно-профилактические препараты, например, мидийный гидролизат. У нас там находится современное оборудование, есть собственные документы по стандартизации, которые мы, кстати, активно распространяем.
И вот для того чтобы приблизиться к рынку, мы решили создать технопарк. Это позволит максимально задействовать имеющееся оборудование, сделать отдельные испытательные лаборатории, чтобы предоставлять услуги не только для рыбников, но и для всех предприятий в том районе Москвы, кто занимается производством пищевой продукции.
Организация технопарка – это сложный процесс, нужно пройти очень много согласований. Так как мы бюджетное учреждение, нам потребовалось получить разрешение Росимущества, Росрыболовства, подготовить план, согласовать его и с нашими ведомствами, и с правительством Москвы. Сейчас этот процесс на стадии завершения. Мы планируем разместить в технопарке несколько якорных резидентов, которые будут вместе с нами решать эти задачи.
С одним из наших будущих резидентов мы уже реализуем проект по производству продукции из дальневосточной сардины (иваси), о котором я говорил.
– А кто ваши резиденты по профилю? Это рыбопромышленники или компании из других отраслей?
– Это рыбные компании, причем крупные. Нам были интересны люди, которые готовы вместе с нами инвестировать в новые технологии. Конечно, предприятия, которые обладают собственным флотом и могут привезти сюда свою продукцию, нас устраивают больше, потому что в этом случае мы можем контролировать всю цепочку качества – от вылова до прилавка. Именно с такими компаниями мы сегодня ведем переговоры. Их не должно быть много, я считаю, что одна-две – это максимум, это полная загрузка технопарка.
Не забывайте, что в соответствии с правилами якорные резиденты технопарка получают налоговые льготы, поэтому они не просто так рвутся туда. Это льготы в рамках налогов, которые установлены правительством Москвы. Соответственно мы хотим, чтобы сэкономленные для предприятий деньги были направлены на новые технологии.
Среди перспективных продуктов, которые может выпускать технопарк, – три-четыре вида новых БАДов, которых сегодня на рынке нет. Это БАДы на основе печени краба, различных вытяжек. Пока не буду все называть, потому что мы еще до конца не определились с ассортиментом. Кроме того, планируем проводить эксперименты с новыми кормами, что тоже сегодня крайне востребовано рынком.
– Вы очень кстати упомянули о кормах. Росрыболовство не раз подчеркивало важность научного обеспечения развития товарной аквакультуры, но пока складывается впечатление, что разработки отраслевых НИИ сильно оторваны от практики и тихо гаснут в институтах. Чем конкретно может помочь ВНИРО предприятиям аквакультуры?
– Здесь я с вами не соглашусь, они нигде не гаснут. Гаснет, к сожалению, желание у людей, которые занимаются товарной аквакультурой, взаимодействовать с научными учреждениями. Многие приходят в эту сферу со своими идеями и деньгами и искренне не понимают, зачем им наука. Ведь можно посмотреть, как работают в Норвегии, в Дании, в Израиле, целиком купить эту технологию, перевезти ее в Рязанскую губернию и работать.
Эти активные бизнесмены уже по всей стране зазвучали, зазвенели, в том числе из-за проблем, вытекающих из такого подхода. Оказывается, перенести зарубежную технологию в наши условия совсем не просто. Есть ряд очень серьезных проблем, например, с ветеринарными правилами, которые до сих пор не готовы. Нет единых стандартов, хоть как-то соответствующих международным. Зато живы старые клише, например, очень трудно объяснить людям, что выращивание, скажем, карпа и судака – это абсолютно разные вещи.
Если посмотреть на самый удачный зарубежный проект – норвежский по выращиванию атлантического лосося, то видим: норвежцы в течение десятилетий колоссальные деньги тратили на его научную основу. А сегодня они владеют рынком и планируют его увеличить. Если у нас такие же амбиции или хотя бы близкие к этому, то, наверное, стоит слушать то, что говорит наука.
На базе наших институтов мы планируем в дальнейшем структурировать научное сопровождение аквакультуры. У нас уже есть великолепные центры, которые занимаются в том числе и осетровыми. Например, астраханский БИОС, который позволяет не только выполнять работы по селекции и другим чисто научным вопросам, но и совершенно спокойно организовывать курсы повышения квалификации для всей страны. Еще одно важное направление – разведение новых видов, которых мы до этого не выращивали. Скажем, по судаку или щуке технологии уже есть. Мы над ними работали не один год и считаем, что это очень перспективные виды рыб для разведения в неволе, с хорошим экспортным потенциалом.
Поэтому могу сказать, что аквакультурой мы занимаемся серьезно. В рамках проектного офиса ВНИРО подготовлены типовые решения для среднего и малого бизнеса. Практически все предложения и просьбы, которые поступают от начинающих и желающих, мы удовлетворяем. Наука заинтересована в скорейшем внедрении своих разработок в аквакультурные хозяйства, поэтому мы не только разрабатываем технологии, готовые к практическому внедрению, но и работаем над оценкой экономической эффективности новых технологий, анализируем обратную связь.
Анна ЛИМ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Вступительное слово заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова на брифинге по итогам 2017 года.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Хотел бы рассказать в целом, что удалось сделать за 2017 год.
По оперативным данным на 25 декабря 2017 года, добыто более 4,7 млн тонн – на 2,5% больше уровня рекордного прошлого года, итоговую цифру ждем к концу февраля – началу марта 2018 года.
По аквакультуре итоги еще не подведены, но динамика за девять месяцев показывает существенный рост: производство товарной продукции увеличилось на 20% и превысило 140 тыс. тонн. Достичь такого результата удалось за счет того, что все сформированные рыбоводные участки были оперативно предоставлены в пользование, в полном объеме проведено перезаключение договоров с уже действующими хозяйствами и введено около 1,5 тыс. новых участков, где в настоящее время предприятия уже начали осуществлять аквакультуру.
Во время лососевой путины на Дальнем Востоке добыто более 350 тыс. тонн – в целом неплохой среднемноголетний показатель. В разрезе регионов для одних она прошла успешно, в других подходы были значительно ниже прогнозируемых. Рекордные выловы на Камчатке и в Магаданской области подтверждают наблюдения ученых о смещении рыбы севернее. Миграции связаны в том числе с потеплением воды. Согласно прогнозам отраслевой науки, в ближайшие годы такая специфика сохранится. Вместе с этим к российскому берегу возвращаются пелагические виды: сардина иваси и дальневосточная скумбрия. 2017 год – второй год возобновления промысла этих перспективных объектов после 25-летнего перерыва. В этом году научное сопровождение пелагической путины было на высоком уровне, в том числе благодаря тому, что возобновили промразведку, которая не осуществлялась со времен СССР.
То есть научно-исследовательское судно работало не над ресурсными исследованиями, а занималось оперативным поиском скоплений для того, чтобы ориентировать флот на районы эффективной добычи. Это позволило в пять раз увеличить выловы скумбрии в Тихом океане (до 51 тыс. тонн) и в 2,5 раза – сардины иваси (более 16,1 тыс. тонн).
В этом году мы закончили подготовку и приступили к масштабному обновлению производственных мощностей рыбопромышленного комплекса. Утвержден механизм распределения инвестиционных квот на строительство современных рыбопромысловых судов на российских верфях и рыбоперерабатывающих береговых предприятий. Завершилась заявочная кампания по участию в отборе проектов на получение инвестквот.
В Росрыболовство к 7 декабря поступило 68 заявок на получение квот господдержки, в том числе 34 – на строительство рыбопромысловых судов и 34 – на строительство рыбоперерабатывающих заводов. При этом 28 инвестиционных проектов планируется реализовать на Дальнем Востоке: 10 по обновлению флота (семь крупнотоннажных судов длиной более 105 м, три среднетоннажных) и 18 по береговой переработке. По количеству судов на Дальнем Востоке есть небольшой недобор, однако мы уверены, что в следующем году оставшаяся часть инвестиционных квот по крупнотоннажным судам будет выбрана. Предприятия заявляют, что они готовы подавать заявки в 2018 году и строить дополнительные суда. Связано это с тем, что в настоящее время российские судоверфи не могут в полном объеме выполнить заказ рыбаков. На Северном бассейне активность выше среди желающих строить новые суда на российских верфях – 24 заявки, 18 заявок подано по перерабатывающим фабрикам. Общий объем инвестиций оценивается в 130 млрд рублей.
Сейчас к отбору заявок приступила рабочая группа и специальная комиссия. В ее состав входят представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минэкономразвития и ФАС. Необходимо отметить, что достаточно большое количество судов уже находится в процессе строительства, есть обоснованная надежда, что в следующем году часть из них уже сможет приступить к промыслу.
Еще о результатах работы в 2017 году. Закончено объединение государственных рыбоводных заводов в единую структуру – ФГБУ «Главрыбвод». Уже заметны первые результаты этой работы: процесс воспроизводства рыбных запасов становится более прозрачным и эффективным. Благодаря проведенной реорганизации в 2017 году удалось привлечь 1,2 млрд рублей из внебюджетных источников при объеме общего государственного задания, без учета дальневосточных рыбоводных заводов, чуть меньше 1,7 млрд рублей. По сути, помимо выполнения государственного задания, Главрыбвод начал активно заниматься осуществлением компенсационных мероприятий, что, безусловно, позитивная тенденция. Планируем, что в дальнейшем доля внебюджетных источников Главрыбвода будет расти: на следующий год мы ожидаем поступления в объеме 1,8 млрд рублей, цель на ближайшую перспективу – довести эту цифру до 2 млрд рублей. При этом на начальном этапе объединения внебюджетные поступления составляли менее 100 млн рублей.
Реализуется стратегия обновления портовой инфраструктуры. В 2017 году мы заключили большое количество договоров аренды на использование портовых мощностей. Важно отметить, что все договоры подразумевают инвестиционные обязательства. Проекты находятся в разной степени реализации, предусмотрены комфортные для арендаторов условия (от трех до четырех лет), но вместе с тем заложены достаточно жесткие штрафные санкции в случае невыполнения своих обязательств – это увеличение ставки арендной платы и штрафы. Ожидаем, что большая часть из этих проектов, связанных с улучшением инфраструктуры на Дальнем Востоке, с перевалкой уловов, с обновлением холодильных мощностей, даст ощутимый эффект.
В этом году произошло еще одно важное событие: мы провели в Санкт-Петербурге Первый Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В деловой программе форума и выставке приняли участие свыше 200 компаний и представителей более 20 стран: Австралии, Бельгии, Беларуси, Германии, Дании, Ирана, Исландии, Испании, Камбоджи, Китая, Латвии, Марокко, Намибии, Нидерландов, Норвегии, США, Чили, Японии и др.
Результат первого мероприятия даже превзошел наши ожидания, поэтому принято решение снова провести форум и выставку в Санкт-Петербурге в 2018 году. Мероприятие запланировано с 13 по 15 сентября в выставочном центре «Экспофорум». На сегодняшний день уже забронировано 40% выставочной площади.
Если говорить о ключевых задачах на 2018 год, нас ожидает большая работа по закреплению долей квот за пользователями на новый исторический период – 15 лет. Предстоит переоформить порядка 7 тыс. заявок, причем в сжатые сроки. Для прозрачности процедуры в рабочую группу и специальную комиссию мы пригласили наблюдателей от рыбацких объединений, в том числе ВАРПЭ, а также представителей Общественного совета при Росрыболовстве, новый состав которого будет сформирован в ближайшее время. Будут привлечены специалисты из территориальных управлений Росрыболовства.
Хочу поблагодарить вас за профессиональный подход, объективное и своевременное освещение событий в рыбной отрасли. От себя лично поздравляю с наступающим Новым годом и хочу пожелать, чтобы
и в следующем году мы продолжили открыто и оперативно работать.

Атака на марифермеров Приморья – банальный передел рынка.
В Приморском крае предприятия марикультуры уже больше года не могут спокойно работать на рыбоводных участках в границах региональных памятников природы, образованных еще в 1974 году. О недопустимости такой деятельности говорит региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориальное управление Росрыболовства отказывается фиксировать выпуски молоди. Между тем ученые утверждают, что аквакультурные хозяйства благотворно влияют на природу и дикие популяции гидробионтов. О битве пользователей за право работать на своих участках и о других проблемах отрасли Fishnews рассказал сопредседатель координационного совета Дальневосточного Союза ассоциаций аквакультуры, заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В БОРЬБЕ
- Недавно Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», Дальневосточный Союз предприятий марикультуры и Ассоциация марикультурных организаций Приморского края создали координационный совет. Роман Сергеевич, чем вызвана эта необходимость?
– Уходящий год показал, что у ведущих марикультурных ассоциаций Приморского края практически одинаковые позиции по проблемным вопросам в отрасли. И, соответственно, одинаковое видение путей их решения. У нас возникали трудности, связанные с прохождением экологической экспертизы, деятельностью хозяйств на ООПТ, браконьерством, выделением земли пользователям. Также проблемами, безусловно, стали завышенные обязательства по договору пользования РВУ в части выращивания минимального объема товарной продукции, недоработки в методике с коэффициентами изъятия и ряд других вопросов. Вызывает сомнения необходимость присутствия специальных комиссий при выпусках молоди для пастбищной аквакультуры, ведь для индустриальной такого требования нет. Все это не только мешает развитию марикультуры в Приморье, но и может ударить по аквафермерам в любой части России. Обо всех проблемных точках мы рассказали в обращениях к главе Росрыболовства, Илья Шестаков в курсе этих вопросов.
Мы решили, что целесообразно объединить три ассоциации в единый совещательный орган – координационный совет Дальневосточного Союза ассоциаций аквакультуры. По сути, те, кто активно занимался решением проблемных вопросов, продолжат заниматься, но уже под эгидой единого координационного совета. Само по себе его создание – лишь формальность, потому что ведущие ассоциации аквакультуры Приморья выступают с консолидированной позицией уже давно.
ОТРАСЛИ ПОДСТАВЛЯЮТ ПЛЕЧО
– Чувствуется ли поддержка со стороны федеральных органов власти?
– Сейчас в этом плане наблюдается положительная тенденция. Усилия аппарата полпреда президента в ДФО, Минвостокразвития и его структурных подразделений направлены на создание цивилизованных предприятий марикультуры. Мы видим, что они ведут активную работу по формированию перспективных участков, которые действительно будут работать.
На сегодняшний день, на наш взгляд, выстраивается достаточно понятная схема, участки формируются под конкретных инвесторов по заявкам, в рамках правового поля осуществляется поддержка со стороны федеральных органов власти. Пользователю помогают правильно подать заявку, сформировать свои желания с учетом специфики конкретной акватории. Ведь есть масса нюансов с точки зрения и науки, и ограничений, например, в части наличия судоходных морских путей. Мы видим, что предприятия не бросают не произвол судьбы – не просто «сформировали участок, выставили на аукцион, государство получило деньги, и все!» Поддержка идет на постоянной основе, причем хочу отдельно отметить действенную помощь со стороны Минвостокразвития и краевого департамента рыбного хозяйства.
ПЕРО ЧИНОВНИКА ВМЕСТО ПУЛИ БАНДИТА
– Сегодня один из основных вопросов для аквакультуры Приморского края - проблемы с работой хозяйств, оказавшихся в границах еще советских памятников природы. Насколько сильно ударила эта ситуация по марикультурным предприятиям?
– Затронуты интересы практически всех пользователей – и действующих, и потенциальных инвесторов. «Заморожено» порядка 80 тыс. га самых пригодных для марикультуры акваторий!
Нам фактически сорвали все плановые работы текущего года. Как я уже рассказывал ранее, часть предприятий весной выпустила молодь трепанга, но акты выпуска терруправление так и не подписало. В связи с этим завод, с которым был заключен долгосрочный договор, прекратил поставки молоди до урегулирования ситуации. Его условие – как минимум, подписание весенних актов. Отмечу, что есть положительная позиция Росрыболовства по данному вопросу, краевая прокуратура препятствий для подписания тоже не видит. На совещании в теруправлении 17 октября было предложение: акты подписать, зафиксировать выпуск, но с примечанием, что решение по изъятию выращенной товарной продукции будет принято после окончательного урегулирования ситуации. Это было, на мой взгляд, очень здравое предложение от науки, ведь выпуск молоди трепанга в любом случае природе не вредит. Трепанг растет минимум четыре года, этого достаточно, чтобы разрешить спорную ситуацию по ООПТ.
Однако начальник отдела аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов теруправления Росрыболовства Константин Гарбушин упорно отказывается направить сотрудников на выпуски молоди. Причем это противодействие, насколько мне известно, идет вразрез с позицией главы теруправления Александра Громова. В результате сорваны и весенний, и осенний выпуски. При том что еще в ноябре прошлого года вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение: проработать вопрос о возможности размещения хозяйств марикультуры в границах морских ООПТ.
Отмечу, что практически все трепанговые заводы Приморья сейчас работают по схеме нереста один раз в год – летом, и, соответственно, выпуск молоди в основном проводят только осенью. И это очень обидно, фактически потерян год. Мы говорим на всех совещаниях, что, по нашему мнению, краевой департамент природных ресурсов в лице его руководителя Александра Коршенко и начальник отдела аквакультуры теруправления Росрыболовства Константин Гарбушин своими действиями фактически создают предпосылки для одностороннего расторжения договоров пользования РВУ, а также причиняют серьезный репутационный ущерб действующим предприятиям. Ведь если пользователи не проводят выпуски, срываются графики выращивания товарной продукции и, соответственно, не выполняются условия договоров пользования участками.
И последствия уже наступили. Предприятия потеряли на определенном этапе веру в государство, потеряли деньги, теряют время, к тому же на развитие нашей ситуации ведь смотрят и потенциальные инвесторы! В крае и так неважно с инвестиционной привлекательностью, азиатский бизнес к нам не идет. Все просто боятся того, что в России не соблюдаются правила игры. И наш пример – достаточно серьезный маркер для инвесторов. Где гарантия, что завтра какой-нибудь очередной «ретивый» чиновник не вытащит еще один древний документ, и, прикрываясь интересами государства, природы и будущих поколений, не начнет перекраивать очередной лакомый кусок действующего бизнеса?
Понимаете, в чем выигрышность положения чиновника: с формальной точки зрения он может быть прав. Можно поставить под сомнение легитимность деятельности предприятий, например, «Жилсоцсервиса», который уже 20 лет работает, и ничего чиновнику за это не будет, он же может ошибаться! А у нас отрасль лихорадит второй год, фактически убираются конкуренты в нашем лице. Ведь у всех предприятий, которые сейчас находятся в границах морских ООПТ, возникли проблемы. От кого-то отказались партнеры, кто-то не смог реализовать планы по развитию...
В одном из своих выступлений краевой прокурор Сергей Бесчастный применил замечательную формулировку, правда, не в привязке к проблемам марикультуры: «Злоупотребление властью в контексте, который пока не оценивается с точки зрения уголовно-процессуальной системы. Это использование несовершенства законодательства и лазеек, но формально – злоупотребление, потому что каждый сидящий во власти должен работать только для людей. Как только его действия перестают в этом направлении работать, они становятся тормозом и ведут к стагнации». Это как раз наш случай.
Сложившуюся ситуацию с «отжатием» морских участков можно сравнить с девяностыми годами. Только раньше вопросы решались силовым путем на «стрелках», а сейчас все это делает чиновник, не выходя из кабинета. Ведь можно без стрельбы, взрывов и рейдерских захватов одним росчерком пера лишить действующее предприятие имущества и возможности работать!
Когда департамент природных ресурсов прошлой осенью возбудил административное дело в отношении одного из пользователей за работу на ООПТ, мы приходили к Александру Коршенко, предлагали провести совещание с пользователями и заинтересованными органами государственной власти для поиска решения, но глава департамента заявил, что ему это не надо. Ответом на наш визит стала попытка со стороны департамента инициировать возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора компании-пользователя. Благо в Следственном комитете не пошли на поводу у департамента.
Прокурор Приморского края Сергей Бессчастный прямо заявлял, что административное дело должно быть прекращено. Но департамент фактически проигнорировал поручение краевого прокурора и продолжал настаивать на том, что компания нарушила законодательство. К счастью, Хасанский районный суд разобрался в этом вопросе непредвзято, и дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Департамент не представил доказательств того, что деятельность предприятия марикультуры вредит природе.
Примечательно, что на момент создания участков для аквакультуры в границах в ООПТ в 2009 году у департамента природных ресурсов возражений по этому поводу не было. Не возражал департамент и до этого, когда на памятниках создавались участки для рыболовства.
КТО ГЛАВНЫЕ «ЗЛОДЕИ»?
Противодействие проявляется и в мелочах. Во-первых, пытаются занизить число предприятий, участки которых оказались в границах морских ООПТ. На совещаниях называются разные цифры: два, три, пять… А их двенадцать! Во-вторых, все пытаются сконцентрировать внимание на заливе Посьета, хотя проблемные акватории им не ограничиваются. Считаю, что атака идет персонально на меня за то, что наш союз занял принципиальную позицию и активно отстаивает свои права. Я действительно являюсь учредителем двух предприятий марикультуры, которые работают в заливе Посьета, в бухте Новгородская.
Также подвергается нападкам первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш, а в последнее время в негативных публикациях стала фигурировать фамилия представителя Минвостокразвития Андрея Майорова. Он курирует направление аквакультуры в Приморском крае и прикладывает массу усилий для развития новых предприятий и поддержки действующих.
Наши оппоненты уже договорились до того, что аквакультура якобы наносит экологический ущерб памятникам природы. Но это значит, что она вредит не только в водах ООПТ, а везде. Значит, аквакультуру надо полностью запрещать! Когда нет фактов, нет конкретных аргументов, начинается словоблудие и передергивание фактов, и мы видим и слышим это на различных площадках.
ВЕРДИКТ НАУКИ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
– Кто-то еще пытается разобраться в ситуации? Обсуждение на различных площадках приносит плоды?
– 12 декабря прошло совещание у врио вице-губернатора Валентина Дубинина, его позиция однозначная: в границах морских памятников природы должны и работать действующие предприятия, и создаваться новые рыбоводные участки. Департаменту рыбного хозяйства поручено совместно с отраслевыми ассоциациями подготовить варианты решения возникших нормативно-правовых противоречий. Готовится проект постановления о внесении изменений в решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 года № 991. Также отраслевым и профильным ученым наконец-то направили запрос – наносит ли марикультура вред? Свою позицию вице-губернатор будет доносить до главы региона.
Кроме того, 14 декабря проблему рассмотрели на заседании краевого общественного экспертного совета по экологической безопасности. Мероприятие было достаточно знаковым: на вопрос обратили внимание, мы увидели желание членов совета разобраться в ситуации.
Я задал логичный вопрос: почему за полтора года баталий никто из органов власти не направил элементарный запрос отраслевым ученым: вредна марикультура для природы или нет? Ведь у нас есть ТИНРО-Центр, Национальный научный центр морской биологии морской биологии ДВО РАН, масса компетентных специалистов, наработанной информации. Но почему-то до последнего времени слушали людей, которые весьма опосредованно имеют отношение и к морю, и к экологии, и к пониманию сути вопроса.
На заседании предельно четко высказались специалисты. Так, заместитель директора департамента рыбного хозяйства Валерий Корко сообщил, что когда в заливе Посьета создавались участки в 2009 году, никаких замечаний по этому поводу не было, и до этого существовавшие на протяжении многих лет РПУ никому не мешали. Он озвучил позицию департамента рыбного хозяйства: занятие аквакультурой не противоречит режиму ООПТ, более того, данный вид деятельности полностью соответствует тем целям и задачам, для которых и формировались памятники природы.
Так же считают и ученые ТИНРО-Центра. Руководитель института Алексей Байталюк в очередной раз подтвердил, что марифермы, находящиеся в границах памятников природы, выполняют функцию по восстановлению подорванных запасов морских гидробионтов не только в границах своих РВУ, но и за их пределами, факты нанесения какого-либо вреда природе отсутствуют. И никаких оснований, для того, чтобы прекращать деятельность этих хозяйств, нет.
С коллегами солидарен и руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников. Он рассказал, что трепанг, разведение которого, по мнению псевдоэкологов, якобы вредит природе, – самый нейтральный объект, он утилизирует донные отложения. Специалист обратил внимание, что большую роль в обезлесивании берегов, заиливании дна и сокращении популяций гидробионтов на памятниках природы сыграло как раз население прилегающих к морю районов. Ученый подчеркнул, что все данные о вреде пастбищной аквакультуры основаны на ложной информации. Часть выпущенной на участки молоди гидробионтов самостоятельно или с помощью течений покидает пределы РВУ. Ученые подтверждают, что марифермы фактически являются «донорами» моря. И именно на легальных участках марикультуры есть режим охраны.
ОПТИМИЗМА ПРИБАВИЛОСЬ
– Каковы перспективы положительного решения вопроса на сегодняшний момент?
– Они достаточно высокие, гораздо выше, чем весной, когда пользователи были настроены пессимистично. В конце мая краевая прокуратура вынесла протест администрации Приморья на постановление губернатора 2009 года, которым был сформирован большой блок участков, в том числе и спорных, находящихся на ООПТ. И, по нашей информации, краевая администрация планировала этот протест удовлетворить. Тогда теруправление Росрыболовства либо самостоятельно, либо по представлению прокуратуры признало бы заключенные договора ничтожными. И не было бы на этих акваториях никаких марикультурщиков, были бы одни браконьеры.
Но на круглом столе при Генеральной прокуратуре РФ в Хабаровске мы привлекли внимание заместителя генпрокурора Юрия Гулягина к проблеме. Он поручил краевому прокурору Сергею Бессчастному взять вопрос на контроль. Сергей Алексеевич занял конструктивную позицию, которую неоднократно подтверждал на различных совещаниях: действующие предприятия, попавшие в эту ситуацию, являются законными пользователями, никаких ограничений на них накладываться не должно.
Есть еще и такой вариант развития событий: возможно, в границах памятников природы оставят только действующие предприятия. Но мы очень надеемся, что вопрос решится не «половинчато» и 80 тыс. га акваторий на ООПТ будут введены в легальный оборот, на новых предприятиях марикультуры будут созданы рабочие места. Надежду на это дает и конструктивная позиция, которую сейчас занимает администрация Приморского края в этом вопросе. Нам оказывает содействие Законодательное собрание региона, в частности, председатель комитета по природоохранной политике и природопользованию Евгений Зотов. Также надеемся, что с «разморозкой» акваторий поможет сенатор от Приморья Людмила Талабаева, Координационный Совет Дальневосточного Союза ассоциаций аквакультуры направил ей обращение с описанием сложившейся ситуации.
ГРАНИЦЫ – ЗАДНИМ ЧИСЛОМ?
– Ваши оппоненты тоже не сидят, сложа руки?
– Да, сейчас в частности, проходит оценку регулирующего воздействия проект постановления администрации Приморья о внесении изменений в 991-е решение, подготовленный департаментом природных ресурсов. Этот документ предполагает уточнение географических названий ООПТ, а также их границ и площадей по итогам проведенных кадастровых работ. Ведь при создании памятников природы в отношении в частности ООПТ бухты залива Посьета было указано лишь местонахождение: «В Посьетском заливе, ограниченной прямой, соединяющей м. Дегера и м. Острино». В соответствии с кадастровым паспортом эта ООПТ занимает 300 га, при этом границы и место не определены. Однако постановка на кадастровый учет географических координат на водной акватории требует соблюдения действующего законодательства «О навигационной деятельности» и нанесения координат памятников природы на морские навигационные карты. Кадастровые работы инженеров по установлению границ и площади морских ООПТ по сухопутным ориентирам, будут заведомо некорректны и неточны, что подтверждается заключением Гидрографической службы ТОФ. Кроме того, согласно российскому законодательству, охранные зоны памятников природы регионального значения не могут быть расположены в границах внутренних морских вод и территориального моря РФ.
Мы считаем, что нарушены сроки определения границ и площади морских ООПТ, которые были установлены нормативными актами, действующими на момент создания этих памятников природы. Департамент пытается спустя более 40 лет установить границы и площадь этих ООПТ, хотя за десятилетия законодательство в этой части было существенно изменено. Принятие этих поправок значительно усугубит сложившуюся конфликтную ситуацию и позволит расторгнуть договоры с законными пользователями РВУ. Координационный совет направил соответствующие обращения краевому прокурору и врио вице-губернатора Валентину Дубинину.
Ситуацию рассмотрели на Приморском рыбохозяйственном совете 27 декабря. Было принято единогласное решение: рекомендовать врио губернатора Андрею. Тарасенко в нынешнем виде до комплексного урегулирования сложившейся ситуации проект постановления не подписывать.
МИРНЫЙ «РАЗВОД» МАРИФЕРМЕРОВ УСТРОИТ
– А если все-таки работать на ООПТ запретят? Какие последствия ожидают предприятия, получившие там участки, и в целом марикультуру Приморского края?
- Возможно, даже четкого запрета не будет, все просто затормозится, решение вопроса зависнет на текущем уровне. Это тоже на руку нашим оппонентам. Ведь органы власти и надзора, к сожалению, до сих пор не заняли единой конкретной позиции по данному вопросу. Уже второй год - ни туда, ни сюда. Наши оппоненты пользуются этим и продолжают выживать законных пользователей с акваторий ООПТ.
И глава Росрыболовства Илья Шестаков, и Минсельхоз в курсе ситуации, но они недооценивают серьезность проблемы и не прилагают достаточно усилий для ее решения, думая, что это региональный, несущественный вопрос. Мы будем привлекать их внимание к этой проблематике так как вопрос связан с федеральной собственностью, внутренним водным объектом, где по заключенным с ФОИВ договорам работают предприятия. Да и интересы государства здесь в первую очередь должны отстаивать федеральные органы власти.
Однако есть вероятность и того, что Минприроды отклонит проект изменений в 991-е решение, который готовит департамент рыбного хозяйства Приморского края. Ранее министерство с подачи регионального департамента природных ресурсов заняло позицию, согласно которой аквакультура вредит природе.
С другой стороны, хоть наши оппоненты и называют ответ Минприроды заключением, это не заключение. Это всего лишь позиция отдельно взятого, пусть и высокопоставленного, чиновника, которая ни на чем не основана, и она может измениться на прямо противоположную.
Итак, допустим, определенные силы будут противодействовать, и Минприроды не согласует этот проект. Тогда теруправление - самостоятельно либо по представлению прокуратуры - признает заключенные договоры ничтожными. Предприятия с акватории памятников природы уберут, и, безусловно, пользователи пойдут в суд.
Это будут долголетние судебные тяжбы: я сомневаюсь, что государство добровольно возместит компаниям убытки и за потерянную товарную продукцию, которая сейчас находится в воде, и за высаженную молодь, и за неполученную прибыль. Ведь минимальный срок, на который были заключены договоры, – 20 лет. Понятно, что предприятия планировали свою деятельность, рассчитывая на получение дохода. Итогами судебных процессов станут разорение компаний и снижение инвестиционной привлекательности отрасли после этого ниже ноля.
Возможен и второй вариант, цивилизованный и более благоприятный для инвестиционной привлекательности: государство честно компенсирует компаниям все расходы и недополученную прибыль за счет бюджета.
На самом деле многие собственники предприятий, попавших в эту ситуацию, предпочли бы вариант с добровольным расторжением договоров и получением адекватной компенсации, потому что работать в таких условиях в принципе невозможно. А после приведения законодательства в соответствие с реалиями, безусловно, те пользователи, которые работали на этих акваториях, должны будут иметь приоритетное право на повторно вводимые в оборот участки. Но я слабо верю в такое развитие событий.
А «вакуума» на этих акваториях не будет. Никто не будет охранять эти ООПТ, их и сейчас никто, кроме пользователей участков не охраняет, потому что у государства нет на это денег. Туда хлынут криминальные элементы, которые, я считаю, нам и противодействуют.
Заметили, что «общественность» и псевдоэкологи вдруг в унисон резко озаботились этим вопросом? Таких совпадений не бывает, видно, что узкая группа псевдозащитников природы фактически лоббирует интересы третьих лиц. При этом никого не волнуют реальные экологические проблемы залива Посьета, связанные с постоянным жестким негативным воздействием угольного терминала порта Посьет, который сбрасывает в воды памятника природы неочищенные сточные воды и угольную пыль. Однако в его случае Минприроды не только не настояло на прекращении негативного воздействия на природу, но и с легкостью согласовало вывод морской акватории порта из границ памятника природы. В довесок департамент природных ресурсов наделил порт Посьет обязательствами по охране этого ООПТ, причем бессрочно. Двойные стандарты?
CUI PRODEST?
- Получается, запрет на работу мариферм в границах памятников природы на руку только браконьерам?
– Имеются и признаки недобросовестной конкуренции. У нас есть информация, что группой инвесторов готовится к возрождению одно из старейших предприятий на юге Хасанского района. И, безусловно, им нужны акватории для развития. Есть мнение, что браконьеров используют втемную для «зачистки». Катализатором противостояния стали планы теруправления сформировать участки в бухте Экспедиции, наши оппоненты говорят об этом практически в открытую.
Я думаю, первоначальный план был таким: с участков убирают пользователей, а затем в законодательство все-таки вносятся соответствующие изменения, чтобы на спорных акваториях можно было заниматься марикультурой. Пока решается этот вопрос, браконьеры выбирают весь трепанг и гребешок на никем не охраняемых памятниках природы, получая сверхприбыль, а потом формируются новые участки под конкретного инвестора. Это наше мнение, основанное на знании ситуации и определенных нюансов. Государство все равно не допустит, чтобы такие площади, пригодные для марикультуры, простаивали. На мой взгляд, происходящее сейчас перетряхивание 991-го решения - это банальный передел рынка.
При таком исходе событий в проигрыше, как обычно, останется государство, которому придется выплачивать компенсации, нести репутационные потери и терять потенциальных инвесторов.
Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Илья Шестаков: «Россия может полностью обеспечить себя рыбой».
Глава Росрыболовства Илья Шестаков — о замещении импорта, перспективах экспорта и высоких зарплатах специалистов.
В этом году Россия добилась очередного рекорда по вылову рыбы. На прилавках магазинов сейчас около 80% всей продукции имеет отечественное происхождение, а поставки за рубеж в несколько раз превышают объемы импорта. Об итогах 2017 года и перспективах развития отрасли в интервью «Известиям» рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
— Каковы последние данные по вылову водных биоресурсов в этом году? Как этот показатель отличается от прошлогоднего?
— В прошлом году был выловлен рекордный за последние 20 лет объем водных биоресурсов — 4,8 млн т. В этом году мы идем с опережением в 2,7% к уровню прошлого года. Традиционно основу вылова составляют минтай, тихоокеанская сельдь, треска и лососевые виды рыб. Большой потенциал при этом видим в освоении перспективных объектов рыболовства — скумбрии и сардины иваси. В этом году вылов скумбрии вырос в пять раз, иваси — почти в 2,5 раза.
— Эксперты отмечали, что в этом году добыча лососевых снизилась у берегов Сахалина. А раньше там можно было наблюдать один из самых больших уловов. В чем причина?
— Подходы лососевых подвержены цикличности, поэтому выловы и сравнивают по четным и нечетным годам. Но могу сказать, что этот год показал неплохой результат. Да, выловлено меньше, чем в 2016 году, но достаточно — более 350 тыс. т лососевых. И это выше средних показателей за последние 7–10 лет. Конечно, объемы вылова в разных регионах отличаются. Сахалин закончил этот год со снижением, такая тенденция наблюдается уже два года подряд. Схожая ситуация и в Хабаровском крае. При этом на Камчатке улов составил более 240 тыс. т — рекордный объем практически за всю историю наблюдений. Больше стали вылавливать и в Магаданской области. Получается, в этом году подходы лососей переместились севернее. Как такового дефицита в России мы не видим.
— Каковы показатели экспорта всех водных биоресурсов? И какие перспективы по развитию поставок в ближайшее время?
— В этом году экспорт вырос на 13% (до 1,8 млн т). Тенденция роста в целом не радует, потому что в основном мы поставляем за рубеж мороженую рыбу. Вместе с тем стоит задача экспортировать не сырье, а переработанную продукцию, например, рыбное филе, фарш, чтобы добавочная стоимость оставалась на территории России. На это нацелена реализация нового закона о рыболовстве в части инвестиционных квот. Он предусматривает строительство новых заводов и рыбопромысловых судов, в том числе с перерабатывающими фабриками на борту. В этом году Росрыболовство провело заявочную кампанию: от желающих получить квоты на реализацию инвестиционных проектов поступило более 60 заявок. Сейчас начался отбор.
— Каких результатов ожидаете от кампании?
— Большое количество заводов появится в Северном бассейне. Здесь же будет введено в строй много новых судов. Ряд предприятий уже приступили к строительству на отечественных верфях. Проекты будут реализованы в течение 3–5 лет, а некоторые даже раньше. Достаточно большое количество перерабатывающих заводов намерены создать на Дальнем Востоке — около десяти, также поступили заявки на строительство семи крупнотоннажных судов со значительными возможностями по вылову и объему переработки.
— В рыболовстве зафиксированы самые высокие зарплаты молодых специалистов. Как показало исследование РАНХиГС, у тех, кто выбирает это направление деятельности, средний доход составляет 36,8 тыс. рублей в месяц. С чем это связано?
— Рыболовство — это всегда довольно тяжелые условия труда, которые должны хорошо оплачиваться. Это работа далеко от берега, в шторма и в условиях сложной ледовой обстановки. Многие промысловые суда уходят в море на три, а то и на шесть месяцев. Кроме того, хорошая зарплата — это способ привлечь молодых специалистов. Дело в том, что в рыболовстве существует острая нехватка кадров, средний возраст плавсостава близок к пенсионному. И могу отметить, что сейчас интерес молодежи к этой сфере постепенно растет.
В образовательных учреждениях, подведомственных Росрыболовству, в этом году заполнены все бюджетные места. Стали набирать популярность даже те направления, которые ранее были не так востребованы у абитуриентов. Кроме того, выпускники охотно шли даже на платное обучение по отраслевым, профильным специальностям.
— Можно ли сказать, что в этом году Россия приблизилась к тому, чтобы заместить импорт в рыбной отрасли?
— В целом ситуация такая: на прилавках сейчас около 80% отечественной рыбной продукции и 20% зарубежной. И можно смело говорить, что Россия уже сейчас может полностью обеспечивать себя рыбой. Импортируем мы в основном для разнообразия ассортимента. И причем объем импорта в три раза меньше объема экспорта. При этом растет внутреннее производство: объем переработки за 10 месяцев 2017 года увеличился на 4,3%, до 3,5 млн т.

Об уроках лососевой путины.
Лососевая путина на Амуре в этом году привлекала широкое внимание: большие уловы последних лет, видимо, остались позади. В рамках бассейновых правил рыболовства предполагается предусмотреть новые ограничения промысла. Обсуждаются и меры повышения эффективности рыбоохраны. О позиции рыбаков рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
– Александр Иванович, первый вопрос – уроки лососевой путины. На Амуре в этом году она оказалась непростой, хотя ученые, в общем-то, уже давно говорят о том, что подходы лососей на Дальнем Востоке будут снижаться. Как вы считаете, какие выводы можно сделать? Что нужно предусмотреть при организации промысла следующего года?
– Те пики лососевых подходов, которые наблюдались на протяжении последних пяти-шести лет, дали возможность сформировать дополнительные рыбопромысловые участки, создать дополнительные мощности по переработке в тех местах, где никогда на Амуре промышленное рыболовство не осуществлялось. Но сейчас промысловую нагрузку надо снижать. Это осознают и власти, и наука, и ответственные рыбопромышленники. Однако молодые компании, которые, в общем-то, не до конца сформировались, не хотят понимать, что они вычерпывают рыбу, которая должна была дойти до нерестилищ и обеспечить воспроизводство ресурса.
О необходимости снижения нагрузки лова было сказано на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, в частности делегацией Хабаровского края: в случае слабых подходов лососевых надо очень оперативно принимать меры по закрытию отдельных районов добычи. Это в состоянии делать комиссия, которая занимается регулированием вылова анадромных видов рыб. Закрытие нужно начинать, наверное, с верхних районов, которые ближе к нерестилищам, если есть угроза, что оптимальный объем производителей не дойдет до нерестилищ.
– Ранее вы отмечали, что рыбопромысловые и рыбоводные участки формируются слишком близко к нерестилищам.
– К счастью, нас услышали, и сейчас принято решение полностью убрать промысел с нерестовых притоков. Единственное, пока останется традиционное рыболовство для представителей коренных малочисленных народов (КМНС) в местах компактного проживания. Это первая мера. Если она не будет действовать, будут дальше приниматься другие решения по сохранению популяции.
– На заседании ДВНПС руководитель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов отметил, что профильная региональная комиссия за год не сформировала ни одного РПУ. Была такая информация.
– Да, действительно, комиссией было принято такое решение. Для бассейна Амура, на мой взгляд, это правильно.
– То есть сейчас нужно прийти к мысли, что таких подходов лосося, как в предыдущие годы, уже не будет, и надо больше заботиться о том, чтобы рыба как полагается отнерестилась и обеспечила возвраты?
– Да, именно так. Наши общие действия в этом вопросе – залог успеха. Главное, чтобы популяция оставалась в хорошем состоянии и сохранялось промышленное рыболовство. Это важно и по летним лососям, и по осенней кете.
– А как в целом Николаевский район отловился по лососевым объектам?
– Скажем так, отловились все неважно, но те предприятия, которые имеют современные базы переработки и выпускают продукцию высокого качества, отработали не с минусовой экономикой, ситуация у них нормальная.
– На ноябрьском заседании ДВНПС были одобрены важные изменения бассейновых правил рыболовства, в том числе по регулированию лососевого промысла на Амуре. Как вы их оцениваете?
– Все решения, в общем-то, понятны, в большей степени мы их поддерживаем и считаем очень своевременными. Мне кажется, приняты даже достаточно мягкие меры, можно было бы еще жестче сделать.
– Росрыболовство ранее заявило о готовности проанализировать работу региональных комиссий по анадромным, сделать выводы, и, возможно, порядок деятельности комиссий будет пересмотрен. Как вы считаете, какие изменения необходимы?
– К работе комиссий нужно подключить как можно больше профессионалов. Неважно, будут ли это представители государственных учреждений, общественных организаций или промышленных предприятий. Важно, что это должны быть те, кто имеет профессиональное образование, опыт работы в рыбной либо смежных отраслях. Нужны люди, которые разбираются в ситуации, а не статисты.
– Тема, напрямую связанная с путиной, – это охрана водных биоресурсов. Мы уже не раз писали о той работе, которую в Хабаровском крае ведут власти и предприятия, чтобы обеспечить пропуск рыбы на нерестилища, защитить ее от браконьерских бригад. Как в нынешнем году готовились к лососевому сезону?
– Сохранение биоресурса – важнейший для нас вопрос. Мы начали обсуждать его с госорганами задолго до начала промысла. Решили организовать информационно-наблюдательные посты на путях миграции лососевых и в местах основных нерестилищ. В летнюю путину таких групп было порядка 16, в сезон хода осенних лососей – около 40. Они охватили практически все места, куда заходит рыба в амурском бассейне. Для меня самое страшное было осознать, что нерестилища на постоянной основе не охраняются практически никем.
Амурское территориальное управление, в общем-то, уже в открытую говорит о том, что оно не в состоянии обеспечить охрану. Но делать что-то все равно надо. Поэтому я считаю правильным, что Росрыболовство сегодня прорабатывает вопрос о перекрестных полномочиях с другими ведомствами, занимающимися охраной природных ресурсов. Очень хорошее предложение, его реализация позволит увеличить численность инспекторского состава в несколько раз – за счет привлечения сотрудников лесоохраны и охотнадзора.
Не нужно забывать еще и о правоохранительных органах, Росгвардии, с ее силовым блоком, – она обеспечена большим количество техники, вертолетов и так далее. Поэтому, на мой взгляд, чтобы обеспечить эффективную охрану нерестилищ, необходимо организовать совместную работу Росрыболовства, лесоохраны, охотнадзора, подключить силовой блок – МВД, Росгвардию. Совместный план действий надо составить уже в этом году, чтобы предусмотреть численность личного состава.
И в эту работу могут быть вовлечены силы промышленных предприятий. Мы обладаем техникой, знаниями, у нас есть специалисты, что позволяет обеспечить информационное сопровождение. Мы расскажем рассказать, какие места заслуживают особого внимания в плане охраны нерестилищ. Мы готовы поделиться такими данными.
– Насколько я понимаю, в рамках работы информационно-наблюдательных постов рыбопромышленники могут сообщать о подозрительной активности на тех или иных участках, чтобы госорганы могли оперативно среагировать и принять меры.
– Да, именно так. Сейчас, учитывая, что принято решение о снижении промысловой нагрузки на лососе, может освободиться большое количество катеров, водителей. Их можно привлечь к работе по сбору информации.
– Чтобы ограничения по лососевому промыслу на Амуре принесли результат, важно контролировать их соблюдение. И тут как раз встает вопрос об эффективной рыбоохране.
– Конечно. Но, пообщавшись с людьми, я могу сказать, что большинство будет соблюдать ограничения. Ну а с теми, кто пойдет на нарушения, будут разбираться правоохранительные структуры. Это тяжелая работа, но ее необходимо делать.
– Также Росрыболовство ранее сообщало, что прорабатывается вопрос о направлении определенного процента от суммы штрафа на поощрение инспекторов. Как вы считаете, это одна из мер, которая могла бы помочь?
– Да, это очень хорошее предложение. Если оно пройдет, инспекторы и другие проверяющие будут напрямую заинтересованы в результатах.
– Ассоциация и предприятия уже запланировали сотрудничество с государственными органами в сфере рыбоохраны на следующий год? В прошлом году, я помню, обсуждения велись с самых первых месяцев.
– Мы этот процесс и не останавливаем. По нашему мнению, он должен идти на круглогодичной основе. Возможно, непосвященным кажется, что путина закончилась, но на самом деле нерест будет продолжаться чуть ли не до конца декабря. Поэтому мы и сейчас находимся на нерестилищах, следим за обстановкой. И после Нового года либо продолжим мероприятия по другим видам, либо начнем готовиться к новому сезону. Работа не останавливается.
– То есть главный урок лососевой путины – это необходимость сохранения биологического ресурса?
– Не будет сохранения ресурса – не будет и промышленного рыболовства. Мы это понимаем, хотелось бы, чтобы поняли все.
Справка: Вылов лососей в Хабаровском крае в 2017 году составил более 48 тыс. тонн. Добыча традиционно осуществляется в нескольких районах – в подзоне Приморье (к северу от мыса Золотой), Амуре и лимане, на охотоморском побережье. На Амуре и в лимане в рамках промышленного лова освоено около 23 тыс. тонн.
Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews – новости рыболовства»

Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением.
Проблема избыточных административных барьеров продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в рыбной отрасли. Подтверждением этому служит в том числе и поручение, которое председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал по итогам совещания с рыбаками на Сахалине 23 августа. Речь идет о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Однако по некоторым из таких вопросов принятие, казалось бы, очевидных решений, по мнению рыбаков, неоправданно затягивается. Таким примером может служить до сих пор не разрешенная ситуация с перегрузом припасов и сменой экипажа в штормовых укрытиях для судов рыбопромыслового флота, прошедших пограничный контроль. В интервью Fishnews эту проблему проанализировал председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
– Юрий Станиславович, в чем суть проблемы, которую поднимает ваша ассоциация?
– Сама проблема, что называется, с бородой: о ней давно говорят в отрасли, но до сих пор решение не принято.
Как известно, время от времени возникают ситуации, когда находящиеся на промысле суда вынуждены укрываться и пережидать плохую погоду в специально отведенных для этого районах во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации.
Очевидно, что этот период, дабы избежать непродуктивной траты времени, судовладельцам логичнее всего использовать для перегрузочных работ, пополнения необходимых для обеспечения промысла припасов, смены экипажа и т.д. Однако здесь мы и сталкиваемся с барьером: в предоставлении прошедшим пограничный контроль рыболовным и приемотранспортным судам возможности осуществлять подобные операции в штормовых укрытиях.
– Но с перегрузом улова таких проблем не возникает, этот вопрос в настоящее время нормативно урегулирован?
– Федеральным законом от 1 апреля 1993 года №4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» предусмотрено следующее:
«Российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный контроль при убытии с территории Российской Федерации, могут неоднократно пересекать Государственную границу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля на основании разрешения пограничных органов для перегрузки во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в районах, определенных Правительством Российской Федерации, и подлежащих доставке на территорию Российской Федерации, в случаях, если неблагоприятные гидрометеорологические условия не позволяют осуществлять перегрузку уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов за пределами территориального моря Российской Федерации».
Однако нет объяснения тому, что подобный подход до сих пор не применяется к другим видам грузов: тароупаковке, припасам (продукты, вода), ГСМ, а также к возможности смены экипажа.
– Есть ли в законодательстве прямой запрет на осуществление подобных операций? Что говорят ваши юристы?
– Правовой анализ этой ситуации позволяет сделать вывод: в законодательстве отсутствуют какие-либо нормы, запрещающие указанным выше судам проводить операции по перегрузке припасов, тары и смены экипажа в определенных законом районах укрытия при неблагоприятных погодных условиях.
Строго говоря, если промысловое судно или транспорт, в отношении которых осуществлен пограничный контроль при убытии с территории РФ, находясь с разрешения пограничных органов во внутренних водах или территориальном море, наряду с биоресурсами начнут осуществлять перегрузку припасов и т.п., то законных оснований для запрещения такой деятельности вроде бы и нет. Но раз существует разрешающая норма, которая касается биоресурсов, то создается иллюзия исчерпывающего перечня товаров, разрешенных к перегрузу. Это, в свою очередь, провоцирует контролирующие органы к принятию запретительных мер в отношении других товаров.
– Рыбаки обращались с этой проблемой к регулятору?
– Неоднократно Федеральное агентство по рыболовству рассматривало, в том числе в межведомственном формате, предложения рыбацкого сообщества по решению этого вопроса. Не поступало и со стороны органов исполнительной власти, в том числе контролирующих, каких-то заявлений об угрозах и рисках, которые могут возникнуть в случае, если перегрузка, смена экипажа и прочие подобные операции в штормовых укрытиях будут разрешены. Но до настоящего времени проблема так и не получила решения.
Абсурдность ситуации заключается в том, что судно, находясь в зоне укрытия от непогоды, имеет право перегружать рыбопродукцию, а для того, чтобы получить снабжение и сменить экипаж, оно должно дождаться улучшения погоды и выйти за пределы внутренних морских вод и территориального моря. В результате, по информации, предоставленной членами нашей ассоциации, суммарные потери из-за непродуктивного простоя и переходов промысловых и приемотранспортных судов только по Дальневосточному бассейну в среднем могут достигать порядка 500 млн рублей в год.
– Иными словами, проблема, на ваш взгляд, имеет простое решение и объективных препятствий для того, чтобы устранить пробел в законодательстве и снять административный барьер, нет?
– Полагаю, что затянутость процесса рассмотрения данного вопроса совершенно не оправдана. Тем более что отсутствуют принципиальные возражения со стороны федеральных органов власти против внесения необходимых изменений в нормативную базу.
Поэтому мы просили бы Росрыболовство и Минсельхоз завершить начатую работу на межведомственном уровне. Это позволило бы снять еще один барьер, препятствующий эффективной промысловой деятельности рыбаков-судовладельцев.
Александр ИВАНОВ, Fishnews

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил.
Владимир БАРДЫК, Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
С января в Охотском море стартует сезон «А» минтаевой путины, а значит, на север вновь устремится более полутора сотен судов. Пока освобождать винты от намотанных снастей и чинить заглохшие двигатели будет только буксир «Преданный». ЛСС «Сибирский» выйдет в море весной, после капитального ремонта. О планах спасателей на ближайшее время и о том, как рыбопромышленникам уберечь флот и экипажи на непростом промысле, Fishnews рассказал начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык.
– Владимир Викторович, в этом году остро встала проблема с финансированием отряда, три ледокольно-спасательных судна – «Суворовец», «Сибирский» и «Справедливый» – были выведены в отстой. Впоследствии Росрыболовство обещало помочь с деньгами на ремонт. Получится ли в ближайшее время вернуть спасательный флот в строй?
– «Сибирский» сейчас проходит первый этап ремонта, 25 декабря нам должны сдать пароход, уже объявлен аукцион на последующий ремонт. Судну нужно продлить документы на класс Российского морского регистра судоходства, это говорит о большом объеме работ. Надо отдать должное Росрыболовству, ведомство все-таки выделило деньги – 90 млн рублей, еще около 30 млн рублей отряд направил из собственных средств. 11 декабря пройдут торги, в которых будут участвовать три компании Приморского края: Находкинский судоремонтный завод, Славянский судоремонтный завод и ООО «СК Первомайское».
Планируем, что 31 марта 2018 года «Сибирский» отправится на дежурство. Такую задачу поставил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
У нас сменился главный инженер в составе аппарата управления, в отделе закупок новые люди, они стараются. Служба технической эксплуатации флота (СТЭФ) с приходом нового инженера «подтянулась» – и на пароходах бывают, и ремонтом занимаются, и судоремонтные предприятия подгоняют, все на контроле. Поэтому все должно пройти по плану.
В апреле в док зайдет уже «Преданный», его тоже нужно будет предъявлять регистру, деньги на этот ремонт опять-таки выделило Росрыболовство. Так что в итоге в строю будут два спасателя. К сожалению, не знаю, поставит ли федеральное агентство нас в целевую программу по «Справедливому», отряд подал документы на 2018 год. Если получим субсидии на ремонт, там, правда, большая сумма, то к концу следующего года у нас будут уже три спасателя на ходу. Если средств на «Справедливый» не найдется, тогда придется обходиться двумя судами. Но, конечно, все же это лучше, чем одно!
Сейчас мы берем курс на то, что спасательные суда будут находиться в море не по три-четыре месяца, а дольше, месяцев по шесть. Уже есть перевозчик для доставки продуктов и топлива. Экипажи будут меняться или с помощью транспортных судов, или во время захода спасателей во Владивосток на профилактический ремонт. К этому моменту уже будут проведены аукционы для верфей, быстрый ремонт – и вперед, на дежурство! Постараемся создать максимум комфортных условий для работы рыбаков.
– «Преданный» сейчас в Охотском море?
– Да, он вышел в очередной рейс 8 ноября, и будет в море до 15 апреля. Судно находилось на Южных Курилах, обеспечивало путину сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Сейчас «Преданный» поднимается на Северные Курилы, юг Камчатки. Правда, там ужасная погода: северо-западные ветра до 30 метров в секунду и высота волны метров до шести. Поэтому переход получается небыстрый, спасатель вынужден прятаться за островами.
– А как прошла пелагическая путина с точки зрения обеспечения безопасности? Много аварий было?
– Происшествий было немного, последние случаи: заглох главный двигатель и отправили на берег заболевшего члена экипажа. В целом пелагическая путина прошла достаточно спокойно: к нам не поступало ни аварийных радиограмм, ни другой информации о серьезных проблемах. За предыдущий рейс «Преданного» – с июля по конец октября – был только один аварийный случай – намотка на винт.
– Можно ли говорить, что ситуация на промысле сайры, скумбрии и иваси улучшилась в сравнении с предыдущими годами?
– В 2016 году эта путина тоже прошла спокойно, намоток не было. Да и флота в последние годы выставляется значительно меньше, чем при Советском Союзе. Тогда на сайре работало порядка ста судов! Сейчас сайры мало, и судовладельцы не особо хотят направлять суда на ее промысел. Когда флота было много, было больше и аварий, например, кошельковые неводы на винты наматывали. А сейчас и «кошельками» почти никто не ловит: оказалось, что добывать иваси близнецовым тралом лучше.
– А какие аварии наиболее характерны для минтаевой путины?
– Намотки на винт. Могут еще возникнуть проблемы с главным или вспомогательным двигателями, но в основном – намотки на винт. Потому что флоту приходится работать в тяжелых условиях, особенно когда лед уже становится. Они же в полыньях ловят: по 10-15 судов там друг за другом ходят, и кто-то может зацепить соседа.
Бывает, и свои тралы наматывают. Такое, например, на прошлой минтаевой путине случилось с БМРТ «Бородино». Я смотрел видеозапись – никогда такого раньше не видел: на винт намотали всю сеть полностью! Выручал рыбаков спасатель «Сибирский», водолазы около недели ныряли, резали и распутывали трал. Капитан траулера сначала удивлялся, почему так долго, а когда ему показали видео, схватился за голову. Таким образом судно потеряло и орудие лова, и много промыслового времени.
Наверное, мы от таких случаев никуда не уйдем, потому что намотки практически всегда происходят из-за человеческого фактора. Важны профессионализм, опытность капитана, судоводителя, людей, управляющих постановкой и выборкой трала.
– Неоднократно поднималась проблема с выбрасыванием за борт негодных сетей, которые потом возвращаются на винты.
– Выброшенных сетей очень много, в прошлом году Петр Степанович даже поставил вопрос о том, чтобы суда начали вести учет: куда они девают отработанный сетной материал. Чтобы его складировали на борту и учитывали вплоть до килограмма. Брошенные орудия лова – это серьезная проблема в экспедиции, поэтому мы начинаем за этим внимательно следить. В отряде есть капитаны старшего поколения, например, мои заместители Иван Павлович Лаптев и Анатолий Владимирович Цыганков. Они говорят, что раньше таких нарушений было гораздо меньше. А сейчас целые большие куски выбрасываются.
– В советское время лучше контролировали такие вопросы?
– Раньше никто особо не контролировал, просто менталитет, наверное, у людей меняется. Квалификация кадров понижается, кроме того, моряков почему-то не волнуют последствия. В прошлом все осознавали: пройдет другой пароход – рыбак или транспортное судно, – намотает на винт. А сейчас: «Мне все равно!» – отрезал, выбросил, побежал дальше.
Между тем негодную сеть можно применить с пользой. Я работал на транспортах, и мы выписывали на складах специальную дель для сепарации груза. Ее можно было заменить бэушным сетным материалом, который брали у рыбаков и тоже использовали для сепарации, отделяли сетью одну партию продукции от другой. Почему сейчас так не делают, не знаю. В трале несколько разных частей, возможно, какие-то из них все же используют, а что-то выбрасывают.
– Ожидается, что возможностей одного «Преданного» хватит, чтобы справиться с возникающими проблемами на путине?
– В советские времена на охотоморской путине работали два буксира. Но это далеко не первая путина, когда приходится обходиться одним. Прошлый год примечательный: время было тяжелое, и в Охотском море дежурили два спасателя – «Суворовец» и «Сибирский». Так как они сейчас ждут ремонта, то «Преданный» пока будет сопровождать экспедицию один. И это очень плохо, потому что ЛССы у нас имеют усиленный ледовый класс, они более мощные, более автономные, а у буксира «Преданный» и корпус более слабый, и двигатели. Но на безрыбье и сам рыбой станешь. Деваться некуда, и мы рады, что хотя бы этот пароход на путине будет, ведь охотоморская экспедиция – самая сложная. Поэтому постараемся как можно скорее вывести в море «Сибирского». Уже к концу ремонта мы намерены снабдить судно и продуктами, и водой, и топливом, обеспечить экипажем, чтобы на следующий день после принятия работ ЛСС уже было в море.
– Учитывая непростые условия со спасательной поддержкой, что бы вы могли пожелать, посоветовать рыбакам, на что им обратить особое внимание для безопасного промысла?
– Тут каких-то особых рекомендаций быть не может, нужно просто соблюдать установленные правила безопасности мореплавания. Не надо ничего придумывать, не надо быть семи пядей во лбу. Все уже прописано, причем кровью! Если не нарушать требования безопасности мореплавания, «нормативку», прописные истины из учебников, то вероятность трагического происшествия становится очень мала.
Вот почему произошла авария «Дальнего Востока»? Были нарушены элементарные требования по остойчивости судна и другие нормы безопасности. Кроме того, судовладелец набрал на работу низкоквалифицированных иностранцев, эти люди, может быть, даже не знали русского языка.
Это тоже проблема. Росрыболовство нам поручает проверять в отношении безопасности мореплавания компании, которым нужно согласование для привлечения иностранной рабочей силы. Они, кстати, должны согласовывать это и с профсоюзами, но почему-то не согласовывают.
В марте в Охотском море был пожар на судне «Каролина-33». Подошел «Сибирский» – увидели, что на палубе стоят то ли малазийцы, то ли филиппинцы. Капитан тут же пересадил иностранцев на другое судно, потому что они никакие в борьбе с огнем: ничего не знают, не обучены. Если приглашаешь работников из-за рубежа – будь добр, обучи их русскому языку и элементарным правилам техники безопасности.
Это сделать вполне реально, есть добросовестные компании, легально нанимающие иностранцев, например, северных корейцев. Как-то, проходя медкомиссию, я встретил в поликлинике человек 40-50 индонезийцев или малазийцев, получающих медкнижки для работы на судне. Судовладелец нашел на это время и средства. Знаю, что другая компания организовала специальные курсы для своих иностранных обработчиков – их обучают, как отрезать минтаю голову, а не себе руки. Кадры должны быть подготовленными и квалифицированными!
Алексей СЕРЕДА, Fishnews

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил.
В сентябре 2017 года бывший зампред правительства Сахалинской области Сергей Подолян был избран депутатом областной думы, но уже в конце ноября принял предложение вернуться в исполнительную власть в новом статусе – заместителя губернатора. В сферу его ответственности вошла координация деятельности правительства области по реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, вопросы ТОР «Курилы» и свободного порта Владивосток, а также организация взаимодействия региона с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Федеральным агентством по рыболовству и Минсельхозом России.
В беседе с главным редактором журнала «Fishnews – Новости рыболовства» Эдуардом Климовым он рассказал о новых задачах, приоритетных направлениях работы и ответственности перед жителями области.
– С сегодняшнего дня вы – вице-губернатор Сахалинской области. Бесспорно, у вас накоплен огромный опыт в период работы мэром на Курилах, заместителем губернатора, статс-секретарем Росрыболовства, в том числе последние несколько лет работы зампредом областного правительства. Но избирательная кампания – это совсем другой сюжет. В августе-сентябре вы много встречались и общались с жителями округа. Что вы вынесли из этого общения? Удалось ли взглянуть на проблемы жителей одного из самых рыбных регионов страны другими глазами? Вы планировали поработать законодателем?
– Законодателем поработать, конечно же, планировал, однако сразу после выборов были приняты изменения в бюджетный кодекс, что повлекло резкое уменьшение доходной части бюджета области, и губернатор предложил мне вернуться в исполнительную власть, так как требуется перенастройка работы регионального правительства. Однако ваш вопрос – в точку. Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение. На выборы я пошел в сложном округе самовыдвиженцем, а так как я не партийный человек, то, поверьте, все было более чем откровенно. Выслушал все претензии.
– Самовыдвижение – это один на один с избирателями?
– Да. Было очень много встреч. На рыборазводных и рыбоперерабатывающих заводах, судах рыбопромыслового флота, в рыболовецких станах в бригадах прибрежного лова, конечно же, в школах, больницах, просто во дворах и т.д. Несколько тысяч человек. За месяц.
С учетом же того, что мой округ объединяет Курильский, Южно-Курильский и Корсаковский районы и за меня проголосовало подавляющее число избирателей, видимо, у меня нашлись аргументы, для того чтобы убедить людей.
– И какие выводы можно сделать? О чем обычно спрашивают люди?
– Диапазон вопросов, как вы понимаете, огромен, но, учитывая, что Fishnews – отраслевое издание, могу перечислить вопросы по рыбной тематике, звучавшие почти на каждой встрече: «Что с горбушей и кетой, почему мало?», «Много ли будет сельди иваси и скумбрии?», «ЛРЗ – это вред или польза?», «Почему нельзя ловить лосося местным без ограничений?», «Когда закончится мораторий на проведение конкурсов на участки спортивно-любительского рыболовства?», «Когда победим браконьерство?» и так далее.
Мой первый вывод: мы слабо работаем. Мы не разъясняем, к сожалению, людям, чем занимаемся. Иногда не находим времени, может быть, не находим аргументов, да и компетентных чиновников больше не становится. Как-то замкнулись сами в себе: комиссии – подкомиссии – рабочие группы, а о жителях забыли. Мы спорим на совещаниях, пикируемся на страницах различных изданий, а с людьми-то не разговариваем. Я бы сказал, что вот этой разъяснительной работы с населением – через прямые разговоры – очень не хватает. Это при том, что губернатор Олег Кожемяко на самом деле встречается с людьми постоянно.
Но очевидно, что только встречами не обойтись. Интернет, СМИ выдают такие «рыбацкие страсти», что от рыбаков шарахаются, как от чумных. К сожалению, времена, когда в порту рыболовецкие суда встречали с оркестром, а жители приморских регионов гордились этой профессией, закончились. Лихие браконьерские 90-е давно в истории, а черную метку с отрасли никак не снимем. Мы не предпринимаем шаги к популяризации профессии, очень мало рассказываем о тяжелом труде российского рыбака. Фермер-кормилец, а рыбак-браконьер – вот такую картинку видит россиянин.
И еще о картинках. На доступных каналах мы смотрим документальные сериалы о тяжелом труде рыбаков США в Беринговом море в Атлантике и… сопереживаем, а своих обливаем грязью, хотя наши ребята в этих же водах делают такую же работу. Мне представляется, что пришло время, когда надо именно на медиасоставляющую в отрасли поднажать. Если хотите, на агитацию и пропаганду. Выставки и конференции – это хорошо, конечно, но неплохо бы о рыбаках и об их суровых буднях рассказать жителям страны.
– Уровень функционала и сфера ответственности вашей новой должности практически совпадают с ареалом избирательной кампании – территория опережающего развития и ФЦП «Курилы», и рыба.
– Собственно, поэтому губернатор и пригласил меня вернуться в исполнительную власть в новом статусе – с несколько изменившимися полномочиями и, скажем так, расширенным сектором вопросов, которые нужно курировать. Очевидно, что реализация законов, принятых год-два назад, и распоряжения правительства о федеральной целевой программе, пролонгированной до 2025 года, столкнулась с трудностями.
Изменения, внесенные в бюджетный кодекс, серьезно урезают возможности региона, и задача представительства в Москве – централизовать работу органов исполнительной власти субъекта Федерации и перенастроить ее на другие цели. Условно говоря, нам предстоит не столько презентовать новые инвестиционные проекты, сколько выбивать деньги из министерств.
Другой пример – закон «О свободном порте Владивосток». Территория Корсаковского городского округа входит в зону свободного порта, шесть резидентов есть, запланировано создание транспортно-логистического узла, но на практике это пока не работает. А вот как сделать так, чтобы применение закона стало заметно и на самой территории, чтобы эти предприятия – резиденты порта не просто номинально туда вошли, а работали и приносили пользу? Вот этот вызов я увидел на месте, в Корсакове. Будем пытаться эту ситуацию менять. И в моих новых полномочиях конкретно прописана координация работы правительства в части реализации закона о свободном порте Владивосток.
Несколько слов о территории опережающего развития и ФЦП «Курилы». Надо понимать, что Курилы – это не просто геополитическая история. Это территория, на которой живет и трудится уже не одно поколение людей. И они не хотят слышать только красивые лозунги, они хотят видеть изменения и улучшения, хотят, чтобы все работало сейчас, а не через двадцать или пятьдесят лет. Хотя двадцать лет назад, в 1998 году, я и мечтать не мог, что на Итурупе будут такие дороги, школа, больница, новые жилые дома, новый аэропорт. Но еще очень много предстоит сделать, и моя задача в этой должности – в силу своих полномочий, компетенций, профессионализма максимально реализовать эти планы.
– Еще один совпавший сектор – рыба.
– Если уж говорить применительно к рыбной отрасли, то давайте не будем забывать, что в депутаты я был избран от трех районов, которые по большому счету являются основными рыбными районами Сахалинской области. Достаточно посмотреть на карту и станет понятно, что именно на юге Сахалина и Курилах размещаются основные производственные мощности по переработке водных биоресурсов, рыборазводные заводы, порты и портопункты. Было бы сложно представить, что заместитель сахалинского губернатора, работая в Москве, не будет обращать внимания на вопросы развития рыбопромышленного комплекса. Разумеется, я буду этим заниматься.
И потом, что лукавить, после почти семь лет работы в руководстве Росрыболовства, думаю, это логично, что я буду координировать работу правительства региона в этом секторе. Анализ практики применения закона о рыболовстве и закона об аквакультуре в Сахалинской области входит в сферу моей ответственности. Вот и будем анализировать.
– Сахалинская область, как мне кажется, сейчас выглядит несколько активнее других прибрежных регионов в плане различных инициатив. В ходе заявочной кампании по инвестиционным квотам и предстоящего перезаключения договоров о закреплении долей квот областная администрация планирует оказывать поддержку сахалинским рыбакам?
– Я думаю, что инициатив достаточно в любом регионе. Но важна не столько инициатива, сколько умение доводить ее до логического завершения. Хотя порой мы и выступаем с проектами, иногда не очень комфортными для исполнителей и контролирующих структур: с этими нашими «тремя хвостами», «шестью милями»…, но ведь внесенные изменения в правила рыболовства в рамках прибрежного эксперимента принесли реально ощутимую пользу для рыбаков. Считаю, что мы стараемся находить какие-то ходы, чтобы рыболовство не застаивалось, не костенело, и, главное, чтобы и рыболовы, и рыбопромышленники, и жители Сахалина и Курил почувствовали эффективность принятых управленческих решений.
Что же касается заявочной кампании, то мы не будем вмешиваться в компетенцию рабочих органов, которые будут созданы Росрыболовством, – рабочей группы и межведомственной комиссии. Но, естественно, для нас имеет большое значение, как будет проходить заявочная кампания по инвестиционным квотам, потому что, насколько мне известно, наши предприятия проявляют определенную заинтересованность к участию в этих проектах. И это замечательно, потому что, если в рамках этой программы будут построены заводы или суда, это напрямую будет влиять на экономику региона.
Конечно, правительство Сахалинской области и я лично будем этому содействовать в рамках существующего законодательства. Это моя прямая обязанность – организовать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти максимально эффективно.
Вообще хотелось бы отметить внимание к нашему региону со стороны Росрыболовства. Накануне Дня рыбака руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетил Курилы, а буквально через месяц в Соловьевке принял участие в совещании под председательством премьер-министра. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в ноябре провел в Южно-Сахалинске заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, что, в общем-то, случается не так часто, а летом он был активным участником конференции по техрегламенту.
Росрыболовство видит нашу энергию, инициативность нашего губернатора, и при всех сложностях мы находим взаимопонимание с регулятором.
– Вы упомянули сахалинские проекты. Как вы оцениваете итоги «шестимильного» эксперимента с «прибрежкой»? Не с точки зрения руководства области, которое уже отчиталось в положительном ключе. А вот местные жители ощутили перемены?
– Честно скажу, мои районы в силу географии меньше всего оказались вовлечены в эксперимент. Но в целом отношение к нему было позитивное. Прежде всего, это касается вопросов возможности заполнения промыслового журнала на берегу и увеличения процента прилова – предприятия это оценили.
Нельзя не сказать о ярмарках – да, более дешевая и доступная рыба – да, безусловно. Хотя многим хотелось бы еще дешевле. Люди почувствовали эту энергию и отдачу от бизнеса, получившего преференции. Мы хотели больше, и все хотели больше, но те ярмарки, которые я увидел, и те магазины позволяют мне говорить, что далеко не в полной мере, но частично то, что мы задумывали, воплотить удалось.
– Все прибрежные регионы призывают органы федеральной власти расширить рамки прибрежного эксперимента, ссылаясь на сахалинский опыт.
– Ну а чья, по-вашему, была идея тиражировать? Это ведь мы готовили правила рыболовства для эксперимента. Получилось то, что сейчас может быть использовано и в других регионах. Да, можно копировать, но не под кальку, потому что есть нюансы, и не бездумно, потому что в 2019 году мы приходим к совершенно иной формуле работы в промышленном рыболовстве, когда уже без каких-то нюансов будет единое промысловое пространство.
На мой взгляд, нужно думать и говорить не об экспериментальном режиме – это было сказано полгода назад, – а ставить вопрос шире. Нужно серьезно работать с правилами рыболовства, понимая, что 2019 год будет другим. Рыбная промышленность начнет жить в новых реалиях и наверняка не обойдется без встряски. Росрыболовство сейчас активно занимается этими вопросами, и мы обязательно присоединимся к рабочей группе.
– К сожалению, рыболовство завязано на очень большое количество контролирующих органов. Это и пограничники, и таможня, и причалы, и Россельхознадзор. Руководители всех этих служб сидят здесь, в Москве. Соответственно, как выстраиваются контакты с ними?
– Если вы говорите о возможностях субъекта Федерации относительно снижения административного пресса на предприятия рыбопромышленного комплекса, то, опять же, мы можем действовать только в секторе своих полномочий. Августовское совещание на Сахалине под председательством главы правительства Дмитрия Медведева четко расставило акценты в этой части. В протоколе еще раз было подчеркнуто, где у нас основная горячая точка.
Понятно, что, пока есть контролирующие органы, будут и барьеры. Барьеры нужны, но они не должны быть избыточными. Это разные вещи. Должны быть барьеры, чтобы не пускать контрафакт, чтобы выпускалась качественная продукция. Ну как можно без контроля в сфере ветеринарии или санитарии гражданину быть спокойным относительно того, что он приобретает?
Проблема не в барьерах, проблема в их избыточности. И вот эту дельту мы можем и должны постоянно исследовать. Конечно же, мы поддерживаем постоянный контакт с руководством Россельхознадзора, Роспотребнадзора и других ведомств и направляем им информацию, которая касается барьеров, непосредственно влияющих на работу предприятий. Будем и дальше эти сигналы выдавать. И хочу сказать, что федеральные органы на это реагируют, хотя и не любят признавать свои ошибки.
Эдуард КЛИМОВ,
Анна ЛИМ,
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Где лучший дом для лосося?
Лососевая путина-2017 напомнила о том, как много в рыбной отрасли зависит от природы. Прогнозы науки по этому поводу достаточно сдержанны: катастрофы не произойдет, но к снижению объемов вылова в ближайшие годы готовиться придется. И не стоит на этом фоне недооценивать роль лососевых рыбоводных заводов, считают ученые.
Бесспорен, к примеру, вклад ЛРЗ в уловы кеты Сахалинской области, где на сегодняшний день самое большое число таких заводов. Планами по строительству рыбоводных мощностей поделились власти Хабаровского края, обратить внимание на это направление рекомендовали и местным рыбопромышленникам.
С чего же начать строительство современного ЛРЗ и как выбрать оптимальное место для будущего завода? Этими вопросами на Дальнем Востоке уже более 5 лет занимаются специалисты ООО «Альянс». Насколько успешно – можно судить по количеству выполненных за это время проектов: порядка 15 по лососевым рыбоводным заводам на Сахалине, Курилах, Камчатке и в Приморье. Еще около 5 проектов – это холодильные и рыбоперерабатывающие мощности.
«Инженерные изыскания – то, чем мы занимаемся, – это первый и самый важный шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» директор ООО «Альянс» Александр Садов. А если речь идет о строительстве рыбоводного завода, то задача усложняется и становится для изыскателя еще интересней.
– Александр, ваша компания специализируется на инженерных изысканиях. Т.е. в случае с рыбоводными заводами вы профессионально подходите к поиску оптимальных мест и условий для воспроизводства лосося. Ваше мнение: все-таки нужны ли ЛРЗ?
– На самом деле, когда на каких-то дальних землях, необитаемых Курильских островах мы со своим современным оборудованием, научными знаниями выходим к старым заброшенным японским постройкам, которые столетия назад использовались в качестве питомников для лосося, мы понимаем, что и тогда люди искали возможность помочь природе и обезопасить малька. Ведь в природе выживаемость мальков всего несколько процентов, а рыбоводные заводы увеличивают их шансы во много раз.
Для тех, кто занимается рыбоводством, это уже нечто большее, чем просто работа. Зачастую эти люди живут своим делом, душой болеют за него – сколько по-настоящему увлеченных людей мы встречаем на Дальнем Востоке! Достаточно самому приехать на тот же Сахалин, побывать на рыбоводном заводе, на выпуске малька, чтобы понять – это полезно, это правильно.
– Видно, что вы увлечены своим делом не меньше. Расскажите о своей компании, она возникла не на Дальнем Востоке?
– Наша компания из Вологды. Первое время, когда мы приезжали на острова, где одна сплошная пограничная зона, к нам относились настороженно: «люди из Вологды приехали разводить дальневосточного лосося?» У многих это вызывало сомнения, но результатами своей работы эти сомнения мы развеяли.
Первую закалку наша компания прошла на объектах Лукойла и Газпрома на Крайнем Севере: побережье Баренцева моря, в качестве доступного транспорта – вертолеты, вездеходы; ночевка в палатках… Работа на опасных, серьезных объектах была для нас лучшей практикой и опытом.
Сегодня у нас трудится более 20 человек, у большинства по два высших образования, в том числе полученных в последние пять лет работы на Дальнем Востоке, – этого потребовала рыбная специфика изыскательной деятельности. С инерционным советским подходом и нежеланием постоянно учиться новому в этой сфере сегодня нельзя. Каждый из наших сотрудников – это универсальный специалист, который способен одновременно выполнять разные функции, ведь мы работаем на стыке нескольких наук. А проекты для рыбоводства – это и вовсе синтез геологии, геодезии, гидрогеологии, гидрометеорологии и, конечно, биологии – целый комплекс.
– Когда вы начали работать с рыбной отраслью?
– С 2011 года, в 2014 году был закончен первый проект. За эти годы мы познакомились с ведущими рыбопромышленными компаниями Дальнего Востока, глубоко изучили эту тему, погрузились в специфику самих производств.
Первым для нас стал ЛРЗ на озере Лагунное. Затем там же, на острове Кунашир, мы взялись за масштабный проект по модернизации предприятия «Южно-Курильский рыбокомбинат», в котором участвуем до сих пор. Очень интересная работа, у руководства компании много планов: генеральный директор Константин Коробков без устали ищет новые решения, технологии для совершенствования своего производства. По нашим материалам сегодня на предприятии работают европейские проектировщики.
Потом был остров Парамушир: работа с компаниями «Азимут» и «Гранис». Здесь мы проводили изыскания для строительства крупного лососевого рыбоводного завода, рассчитанного на выпуск 50 млн мальков. На тот момент это был самый большой и сложный проект, в первую очередь из-за удаленности территорий, проблем с доставкой туда техники и людей.
С компанией «Каниф» мы работаем по очень интересному, глобальному по своей задумке проекту. Это юг восточного побережья Сахалина. Местная популяция лосося была истреблена много лет назад, т.е. никакого естественного нереста там не было уже давно. Цель проекта, которым занялись рыбопромышленники, – не просто решение биологической проблемы, восстановление утраченной популяции и возвращение лосося в здешние реки, но и получение в итоге собственного промыслового стада. Для этого на реках побережья строится сразу несколько рыбоводных заводов: на первом уже два года идет полноценная закладка икры, второй также вступил в строй, исследования по третьему ЛРЗ мы сдали несколько месяцев назад.
Таким образом, на пустом месте, где даже дорог не было, строятся рыбоводные заводы, создается инфраструктура, появляются рабочие места. Такой подход, как там, я встретил впервые. На протяженном участке побережья организовано воспроизводство лососевых. Это яркий показатель того, в какие долгосрочные проекты способен вкладываться бизнес, если появляется определенная стабильность и возможность строить планы на годы вперед.
За эти годы были и другие крупные проекты, такие как изыскания для ООО «Рыбак», ООО «Курильский рыбак». Среди наших заказчиков – компании «Салмо», «Меридиан», «Тунайча», «Биосервис» и другие.
– По рыбоводным заводам у вас на сегодняшний день реализовано уже 15 проектов.
– Да, это примерно три четвертых всех ЛРЗ на Дальнем Востоке, которые были построены за последние 5 лет, строятся сегодня или находятся на стадии проекта.
Кроме того, мы давно работаем и по проектам строительства холодильников, рыбоперерабатывающих производств – здесь также не обойтись без изысканий. Например, мы проводили исследования на Шикотане для масштабного проекта, который включает в себя строительство целого рыбоперерабатывающего комплекса. Нашей задачей было дать современную оценку грунтам, изучить прочие факторы, чтобы дать проектировщикам основу для подготовки проекта уже с использованием современных решений и материалов.
– С чем к вам обычно обращается заказчик?
– Как правило, нам звонят рыбопромышленники, которые видят конечную цель – рыбоводный завод. В свою очередь мы берем на себя решение всех технических задач: инженерные изыскания территории, разработка принципиальной модели и проектирование завода. Оперативное и грамотное решение этих задач – основа нашей репутации.
– А что вы подразумеваете под моделью?
– Модель – это принципиальная схема завода, зависящая от характера рек, особенностей рельефа, геологических условий и климата. Мы занимаемся изучением природных условий и поиском оптимального места, которое может предоставить природа для того, чтобы с минимальными вложениями построить рыбоводный завод, который будет стабильно работать. Таким образом, мы исследуем грунты, подземные воды, особенности рельефа и растительности, экологическую обстановку на предполагаемой площадке. Ведь условия в каждом регионе очень разные.
Например, на севере Камчатки на побережье очень холодная вода, поэтому на нерест рыба уходит высоко вверх по рекам. А на юге полуострова есть теплые источники и реки, которые не замерзают даже зимой, – там все создано самой природой для рыбоводных заводов. В то же время в Приморье и на Сахалине такие условия редкость. Поэтому наша задача – найти эти теплые воды в грунте, чтобы даже в условиях суровой зимы вода определенной, приемлемой для малька, температуры поступала на завод постоянно. Также важна транспортная доступность, обеспеченность коммуникациями, незатопляемость участка и другие факторы. И мы в природе такие места находим.
– Но может так случиться, что на участке заказчика нет таких условий?
– Может получиться так, что строить ЛРЗ заказчику будет дорого, невыгодно. Тогда мы ищем такие места, которые потребуют минимальных затрат.
– Сколько времени обычно уходит на изыскания?
– Всегда по-разному. Для рыбоводного завода – месяца два. Но, опять же, смотря где. Если это Северные Курилы, необитаемый остров и требуется доставка буровой, топлива, а тут еще и циклоны, нелетная погода… Бывают и такие места, куда даже морем сложно добраться. Например, курильский остров Шумшу – бывший оплот японской армии. Там до сих пор со времен войны брошенные японские танки, самолеты, целые аэродромы. На этом острове очень суровый климат, сложный отлив-прилив, разрушенный пирс, так что и сегодня туда сложно попасть.
Да и сама природа на Дальнем Востоке уникальная. Казалось бы, похожий климат, рельеф, но на самом деле модель, которая работает, к примеру, на Южных Курилах, совсем не подходит Северным Курилам, Сахалину и уж тем более Приморью.
– Приходится тесно взаимодействовать с отраслевой наукой?
– Конечно, мы знакомы со многими ведущими биологами Дальнего Востока. К сожалению, приходится по крупицам собирать информацию по нашей теме – рыбоводно-биологические обоснования остались еще с советских времен, ведь когда-то такая работа осуществлялась централизованно: изучались нерестилища (сколько их и где); исследовалось, как ведет себя рыба. Сегодня у отраслевой науки недостаточно средств и специалистов на такие масштабные исследования. Многие ругают науку за то, что она плохо прогнозирует, но на самом деле в нее никто не вкладывает деньги. А это должно быть не финансирование отдельных проектов, а постоянный бюджет. В идеале отраслевая наука не должна испытывать зависимость от спонсора, от общественного или политического влияния – нужны независимые исследования.
Вместе с тем я был просто поражен тем, сколько на Дальнем Востоке интересных, увлеченных специалистов в области лососеводства. Когда погружаешься в эту проблематику, начинаешь видеть всю ее глубину, масштабы работы, опыт, который накапливался годами.
Прекрасных специалистов мы встречаем и на самих предприятиях. Например, в компании «Каниф» очень талантливый рыбовод, я считаю его одним из лучших в рыбовоспроизводстве на Дальнем Востоке – Виктор Погодин. Этот человек – настоящий исследователь: он болеет своим делом, не боится экспериментировать. И здорово, когда таким специалистам еще и обеспечивают полноценные условия для работы, когда появляется простор для создания чего-то нового.
Очень помогает в исследованиях современное оборудование. В удаленных районах мы используем датчики НТЛ «ЭлИн», которые помещаются в воду и круглогодично регистрируют ее температуру.
Плотно работаем с ТПК «Полтраф» из Санкт-Петербурга, где изготавливают приборы, которых нет в массовом производстве. Например, комплекс «АкваМПРС», который позволяет нам точно определять коэффициент фильтрации грунта. Мы его адаптировали, и сейчас это незаменимый прибор в наших исследованиях при поиске воды необходимой температуры для рыбоводных заводов.
Для исследования специфических грунтов мы применяем прибор Бойченко, малоизвестный на Дальнем Востоке, но широко используемый на тиксотропных грунтах (грунты, теряющие устойчивость при вибрационных нагрузках, опасны для строительства – прим. ред.) Северной столицы.
– А как вы оцениваете проблемы, которые испытывает сегодня лососеводство? Какие факторы, сдерживающие развитие этой отрасли, вы считаете наиболее серьезными?
– Необходимо урегулировать вопросы законодательства совместными усилиями регулятора, рыбаков и рыбоводов. Потому что пока в этой сфере какой-то бардак: мы работаем в рыбной отрасли с 2011 года и ситуация только усугубляется. Нет рыбы – ищут виновных и, несмотря на то, что это абсурдно, пытаются обвинить тех, кто эту рыбу воспроизводит. Если есть вопросы к использованию рыбоучетных заграждений, то надо идти на заводы и смотреть, как это работает и для чего они вообще нужны. Я считаю, что сами обвинения в адрес компаний, использующих РУЗы для целей рыбоводства, возникают из-за неграмотности людей со стороны и непонимания ими сути ситуации.
Что касается самих ЛРЗ, то мы работаем чаще всего не на основных реках, а на притоках и всегда объясняем заказчику необходимость строительства заводов именно там. Это безопаснее для природы, понятнее для экологов и удобнее для строительства, для самого заказчика.
Но главная беда на лососевых реках – это, конечно, браконьерство в промышленных масштабах. Все об этом знают, но справиться с этой проблемой пока не удается. В результате опять больше всего достается тем, кто работает на реках легально – рыбакам и рыбоводам. Ведь браконьеры – это такая «плавающая субстанция»: сегодня они здесь, завтра уже в другом месте, сложно вычислить, поймать. Поэтому крайних пытаются найти среди тех, кто работает легально, на виду – потому что так проще.
– Рыбная отрасль для вас сегодня основная сфера работы, но не единственная?
– Конечно, чтобы не зависеть полностью только от одной отрасли и одного региона, мы параллельно делаем и другие объекты. Но все-таки можно сказать, что основное место базирования для нас сейчас – Дальний Восток. На Сахалине у нас есть своя база, где находится наше оборудование, буровые и т.д.
– Наверно, Сахалин вы уже основательно изучили?
– Нет, конечно. Основательно его могли бы изучить разве что в советские годы. Сейчас, как я уже говорил, нет такого финансирования, а главное, нет таких идей в головах тех, кто решает вопросы подобного уровня.
– А что у вас в планах?
– На данный момент мы выполняем работы по изысканиям и проектированию ряда предприятий рыбной отрасли на Сахалине и Курильских островах, ведем переговоры с рыбопромышленниками Камчатки. Хотим расширить географию своих объектов. Опыт, который мы приобрели на Дальнем Востоке, вполне применим и в других регионах.
В 2017 году, к сожалению, лососевая путина сложилась не очень удачно, так что многие рыбаки приняли решение сделать паузу в работе по проектам на перспективу. Но в то же время проблемная рыбалка дала четко понять, где, в каких регионах без наращивания лососевых рыбоводных мощностей в ближайшие годы уже не обойтись. Например, в Хабаровском крае. Думаю, какие-то решения в этом направлении будут приниматься, и мы готовы участвовать в подобных проектах.
Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Герман Зверев: новые квоты потопят девять предприятий и 50 млрд инвестиций
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников в интервью Business FM рассказал о возможных последствиях изменения порядка распределения квот на вылов
Владимир Путин поручил рассмотреть предложенную ему инициативу об изменении системы выдачи квот на вылов краба. Новый порядок предусматривает возвращение к аукционам и сокращение долгосрочных квот.
Представители рыбной отрасли выступают против таких изменений: они ставят под вопрос проекты по строительству судов, грозят дефолтом предприятий и сокращением налоговых платежей рыбной отрасли на 20%. Об этом в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
В отрасли возникла острая ситуация. Обсуждается инициатива, она внесена в правительство и администрацию президента: предлагается коренным образом изменить систему распределения квот на вылов пока что только краба. Но, наверное, все понимают, что если система изменится по одному виду добычи, то она коснется и всего остального. Как я понял, смысл этой инициативы заключается в том, чтобы сократить долгосрочные квоты, которые вдобавок если производитель — добытчик рыбы правильно реализует, может пролонгировать и, грубо говоря, разыгрывать все это за деньги все чаще и чаще. Что вы об этом думаете, почему это важно и почему такая инициатива возникла?
Герман Зверев: Это важно для отрасли и рынка. Мы слышим сигналы, что может быть разрушена система законодательства, которая сформировалась за последние десять лет и которая позволила российской рыбной отрасли выйти из глубокого пике, из глубокого кризиса. Еще 15-16 лет назад рыбная отрасль представляла собой черную дыру, не видимую ни официальными бухгалтерскими балансами, ни потребителями. Отсутствие нормальной, качественной рыбы было приметой времени на рубеже 90-х и нулевых годов, когда в отрасли действовала абсолютно свободная конкуренция, когда ежегодно перераспределялись квоты и каждая рыбопромысловая компания в сентябре-октябре приезжала в Москву, надеясь на то, что в следующем году она все-таки будет работать и получит эти квоты. В начале 2000-х годов, 15 лет назад, на смену этой системе пришли аукционы. Они продолжались два года. По итогам этих аукционов российские рыбопромышленные предприятия заплатили в общей сложности около 2 млрд долларов за право добычи, вылова водных биологических ресурсов. Это была точка отсчета. У нас говорят об историческом принципе. История квот началась ровно с этого периода, с тех 2 млрд долларов, которые были заплачены рыбопромышленниками. После этого, в 2003 году, квоты были предоставлены на пять лет. Затем с теми предприятиями, которые обеспечивали вылов этих квот в полном объеме, договоры были перезаключены на десять лет. Это было в 2008 году. И мы ожидали, что 31 декабря 2018 года, когда завершится срок действия этих договоров, распределение квот будет перезаключено еще на 15 лет. Под эти планы, под эту законодательную гарантию, которая установлена законом «О рыболовстве», многие предприятия стали строить планы на будущее. Ничто так не окрыляет, как твердая почва под ногами, тем более законодательная почва.
Здесь не твердая почва, а как раз…
Герман Зверев: А здесь возникла морская зыбь. И это вызвало, конечно, большую тревогу.
Если эта система будет все время воспроизводить себя — кто застолбил, тот застолбил, кто справляется, тот и останется — не значит ли это, что она полностью воспрещает выход на рынок новых игроков? Кто был, тот и будет.
Герман Зверев: Совершенно неверное утверждение, потому что за последние пять лет в рыбной отрасли появилось несколько очень крупных игроков.
Новых?
Герман Зверев: Да. Они входят в отрасль путем покупки действующих компаний. Точно так же, как в любом другом бизнесе, приобретается компания, у которой, допустим, есть земельный участок. Приобретается компания и активы этой компании. Поэтому за последние пять лет в отрасль вошло несколько новых крупных игроков. Происходит капитализация, укрупнение, и эти твердые законодательные нормы являются основой для долгосрочного планирования строительства новых судов.
Я понимаю. И все-таки, мне кажется, те, кто выступает под флагом свободной конкуренции, могут сказать: группа компаний этот рынок застолбила, она выполняет нормативы, платит государству за пользование водными ресурсами, но получается, что только если они захотят продать и будут диктовать цену за продажу своего бизнеса, а свободной конкуренции нет, она несвободная.
Герман Зверев: Такая же система существует во всем мире во всех отраслях, связанных с добычей любых природных ресурсов. Вхождение в любую отрасль, будь то нефтяная, газовая, будь то отрасль, связанная с добычей водных биологических ресурсов, с добычей как воспроизводимых, так и невоспроизводимых природных ресурсов, во всем мире регулируется достаточно жестко, абсолютной конкуренции в духе Адама Смита, его книги «Богатство народов» нет. Кстати, и он в своей работе указывал на целый ряд секторов, где так называемая свободная конкуренция не очень эффективна. Поэтому без твердых законодательных основ, без таких договоров, которые обеспечивают горизонт планирования, и без обязательств, а в прошлом году в закон были внесены очень жесткие нормы, которые предусматривают инвестиционные обязательства предприятий…
А что это значит на практике — инвестиционные обязательства?
Герман Зверев: Это на практике означает, что в следующем году при перезаключении договоров предприятия будут заключать договор не на тот объем, который у них существовал в предыдущие десять лет, а на объем 80%, то есть минус 20%. Эти 20% водных биологических ресурсов — это примерно 550 тысяч тонн в масштабах страны — предприятия могут получить только при двух условиях: если они построят новое рыбопромысловое судно либо новое рыбоперерабатывающее предприятие.
Я проведу аналогию. В Москве 55 радиостанций, у нас есть частоты в FM-диапазоне, они разыгрываются на конкурсе один раз, однако затем мы можем пользоваться ими до тех пор, пока работаем. Но я могу себе представить, если бы каждые три года все эти частоты разыгрывались заново, я думаю, что нашей редакции просто не было бы. С земельными участками тоже, пожалуй, трудно себе представить, чтобы территория того, кто выращивает пшеницу, вдруг на следующий год выставлялась на конкурс. Куда он денется потом, проиграв землю, со своими комбайнами? Тем не менее открыть какую-то лазейку для непосредственно выхода в море совершенно новых компаний, вы думаете, все-таки можно или нет? Или это, как с пашней: купите все как есть — вместе с домом, комбайном, удобрениями либо не покупайте вовсе?
Герман Зверев: Дело в том, что сейчас квоты на вылов водных биологических ресурсов регулируют далеко не весь объем вылова рыбы, которую едим мы, россияне, едят за рубежом. Россия вылавливает 4,5 млн тонн водных биологических ресурсов: минтай, треска, горбуша. Например, в отношении всех лососевых — горбуши, кеты, которая добывается на Дальнем Востоке, вообще нет квот. От 300 тысяч до 500 тысяч тонн в год остается за бортом квот. Туда свободный вход. Еще примерно 200-300 тысяч тонн — это сельдь иваси, скумбрия, на которые также не установлены квоты. Кроме того, как я вам сказал, минус 20% от квот сейчас, в 2018 году, будут выделены и помещены в инвестиционный мешок.
Что будет, на ваш взгляд, если новый порядок будет введен?
Герман Зверев: Новый порядок приведет к нескольким последствиям. Прежде всего, он коснется проектов по строительству судов. Предприятия в этом году решили строить 24 судна, уже заключили контракты с несколькими верфями. Соответственно, верфи уже заключили контракты с подрядчиками на приобретение двигателей, специального оборудования.
Инвестиционный процесс замрет, потому что если квота под вопросом, то и заказ судна, безусловно, тоже под вопросом. А кредитные обязательства?
Герман Зверев: Одну секунду, это минус 50 млрд инвестиций. Для сравнения: ежегодные инвестиции в рыбную отрасль в предшествующие шесть лет в среднем составляли 15-16 млрд, а тут минус 50 млрд. Второе: примерно девяти предприятиям грозит дефолт. Это 15-16 млрд рублей долгов по кредитам.
Потому что у них кредиты под квоту, которую все рассчитывали иметь как минимум...
Герман Зверев: ...еще на следующий срок. Это еще дефолт. Около четырех тысяч занятых в отрасли, налоги. По нашим оценкам, это приведет к сокращению налоговых платежей по налогу на имущество, по налогу на доходы физических лиц примерно на 6-8 млрд рублей ежегодно, притом что сейчас рыбная отрасль платит около 40 млрд рублей в год. Минус одна пятая.
В заключение поговорим уже не про бизнес, а просто про московский стол. Мы уже три года существуем в некой модели рыбного импортозамещения. Каковы достижения? Я так понимаю, проблема транспорта с Дальнего Востока сюда, в европейскую часть, выглядела неразрешимой. Может, я ошибаюсь?
Герман Зверев: Очень серьезно вырос объем поставок в европейскую часть страны и сюда, в столицу, рыбы с Дальнего Востока, прежде всего селедки. Сейчас в Москве в магазинах практически нет импортной селедки, очень мало атлантической селедки, в основном селедка тихоокеанская. Очень серьезно выросли поставки, примерно с 10 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, филе минтая на внутренний рынок, филе трески. Значительно приросли поставки креветки, хотя тот объем, который раньше закрывался импортными поставками, к сожалению, за счет российских мы закрыть не можем, потому что мы не добываем такого большого количества креветки, какое потребляем у нас в стране.
Которое съедают москвичи.
Герман Зверев: Да. 70 тысяч тонн — это пиковое потребление. Наш вылов креветки — 20-22 тысячи, поэтому здесь импортозамещение не стопроцентное. По различным видам лососевых также пока мы не смогли заместить ту нишу, которую занимали до этого и в которой доминировали норвежцы со своей аквакультурной рыбой. Но сейчас есть хорошие подвижки по доставке рыбопродукции.
Что изменилось?
Герман Зверев: Сроки доставки. Два года назад вагон с рыбой шел из Владивостока в Москву 20-25 суток и столько же обратно. Сейчас вагон идет около десяти суток, то есть в 2,5 раза увеличилась скорость движения, увеличилась оборачиваемость вагонов. Следовательно, это мотивирует бизнес на то, чтобы обновлять подвижной состав и использовать более качественный подвижной состав.
А по цене? Все-таки это колоссальное транспортное «плечо». Предположим, вдруг бы санкции отменили. Наша дальневосточная рыба по цене в европейской части смогла бы конкурировать с европейской с учетом доставки?
Герман Зверев: Пока нет. Главная причина не транспортное «плечо». Главная причина в том, что контракты на всю импортную рыбу, которая ввозилась в Россию, страховались в специальных государственных фондах, и она ввозилась без предоплаты. Все российские рыбопереработчики получали датскую креветку, фарерскую селедку, норвежскую селедку без предоплаты. Они могли оплачивать это сырье через четыре, пять, шесть месяцев. Это, конечно, колоссальный люфт, колоссальная преференция. Мы, работая на Дальнем Востоке от путины к путине, такой роскоши лишены. Мы работаем, как правило, за предоплату, и это существенно ухудшает наши финансовые условия по сравнению с импортными компаниями.
Спасибо.
Илья Копелевич

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу.
Масштабное событие готовится в сфере таможенного регулирования: должен вступить в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Документ учитывает передовые положения мировых стандартов, заявили в Минфине России. На какие изменения стоит обратить внимание рыбопромышленникам, в интервью Fishnews рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.
ТОНКОСТИ И НАДЕЖДЫ НОВОГО ДОКУМЕНТА
– С 1 января 2018 года вместо ныне действующего Таможенного кодекса Таможенного союза вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. Юрий Михайлович, каких нововведений стоит ожидать рыбакам?
– 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Полным ходом идут ратификационные процедуры и в других странах союза. Таким образом, основной документ вступит в силу с 1 января 2018 года. При этом хочу отметить, что не все положения будут действовать сразу, некоторые требуют разработки отдельных нормативных актов.
Необходимо будет обновить федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Разрабатывается новый документ, основные положения которого также должны быть готовы к 1 января.
Если говорить об изменениях, которые ждут рыбаков, то прежде всего хотелось бы остановиться на новых требованиях к декларированию временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, ввозимых после осуществления операций по ремонту. Речь идет о судах.
Действующий Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) предусматривает, что в случае совершения операций по ремонту судна, не предусмотренных пунктом 1 статьи 347 ТК ТС, без помещения транспортного средства под процедуру переработки вне таможенной территории, при ввозе нужно уплачивать таможенные пошлины, налоги согласно статье 262 ТК ТС. При этом не установлена обязанность помещения таких судов под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Для исчисления таможенных платежей может использоваться таможенный приходный ордер.
То есть предусмотрена следующая схема: судно ушло, отремонтировалось за рубежом, прибыло обратно, добросовестный участник внешнеэкономической деятельности приходит в таможню, заявляет о ремонте, вносит необходимые платежи. Считаю, что это было достаточно лояльно. При этом статья 347 предусматривает случаи, когда не потребуется уплаты таможенных платежей. В частности, такое освобождение предусматривается, если за пределами таможенной территории союза произошла авария и судну потребовался ремонт.
Эти же случаи отражены и в новом таможенном кодексе – в статье 277 ТК ЕАЭС. При совершении операций, не предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 277, без помещения временно вывезенных транспортных средств под процедуру переработки вне таможенной территории при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС потребуется помещение под процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 186 нового кодекса.
В противном случае подлежат уплате таможенные пошлины, налоги согласно статье 56 и пункту 5 статьи 72 ТК ЕАЭС – это свидетельствует, что такие транспортные средства признаются товарами, незаконно перемещенными через границу союза. Исчисления платежей будет производиться без применения тарифных преференций и льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов. На это нужно обратить внимание.
Нормы, касающиеся соблюдения ограничений в области ветеринарного контроля при перемещении рыбопродукции через границу союза, совершении операции, связанных с прибытием-убытием рыбопродукции, помещением под таможенные процедуры с подачей таможенной декларации, по сути своей не меняются.
Еще одна острая тема в работе с рыбаками – оформление тароупаковочных материалов. Мы обращались в ФТС России, высказывали свое мнение по этому вопросу.
Определение припасов дано в статье 2 ТК ЕАЭС, оно, в общем-то, прежнее. Новый таможенный кодекс дает надежду на то, что вопрос отнесения тароупаковки к припасам, будет урегулирован. Пункт 9 статьи 281 ТК ЕАЭС предусматривает, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вправе определять критерии отнесения отдельных категорий товаров к товарам, используемым в качестве припасов, в зависимости от вида транспорта, которым перемещаются товары.
СТАТУС – ВОПРОС ВАЖНЫЙ
– Больше года прошло со времени обнуления вывозных пошлин на продукцию из водных биоресурсов. Как это событие повлияло на объемы и структуру экспорта рыбных товаров?
– Да, действительно, с 1 сентября 2016 года вывозные пошлины на экспорт товаров группы 03 ТН ВЭД были отменены. Исключение сделано для тунца, но он и не экспортировался. Если смотреть статистику по поставкам товаров этой группы, то за девять месяцев прошлого года объемы экспорта составили 946 тыс. тонн (здесь и далее привожу округленные величины), за тот же период 2017 года – почти 1,1 млн тонн. Прирост – 16%. Стоимостные показатели за девять месяцев 2016 года – 1 млрд 677 млн долларов США, за тот же промежуток 2017-го – 1 млрд 899 млн долларов США. Прибавка составила 13%. В целом на увеличение экспорта, на наш взгляд, повлиял комплекс факторов.
Что касается платежей, то за девять месяцев прошлого года мы взыскали 1 млрд 376 млн рублей, за тот же период нынешнего года – около 10 млн рублей. В основном это сборы за таможенное оформление.
– Одна из актуальных тем – статус рыбной продукции, произведенной в открытом море на российском судне. Летом по этому вопросу вновь дал поручение президент Владимир Путин. Какова сегодня позиция таможенных органов?
– Нормативные документы не поменялись. Порядок совершения таможенных операций в отношении судов рыбопромыслового флота и продукции морского промысла регламентированы постановлением Правительства РФ от 19 марта 2008 года № 184, а также приказом ФТС России от 15 января 2013 года № 40. В соответствии с пунктом 1 этого приказа таможенные операции и таможенный контроль продукции морского промысла осуществляются с учетом Правил определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения от 25 января 2008 года.
Пункт 3 приказа № 40 говорит о том, что таможенные органы не совершают таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском ввозимой на территорию Таможенного союза продукции морского промысла, в случае, если в результате совершения таможенных операций при прибытии продукции морского промысла установлено, что такая продукция с учетом подпунктов 6 и 7 пункта 2 Правил определения страны происхождения товаров является полностью произведенной в Российской Федерации и в соответствии с подпунктом 37 пункта 1 статьи 4 ТК ТС является товаром союза.
По соглашению, товарами, полностью произведенными в данной стране, считается:
– продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, полученная судном данной страны;
– продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны исключительно из продукции, указанной в предыдущем абзаце.
Таким образом, продукция, полученная на борту российского судна из сырья, добытого иностранным судном в Мировом океане, не является товаром Таможенного союза и должна рассматриваться как иностранный товар. То есть она подлежит декларированию.
Поручение президента внести изменения еще раз указывает: в законодательстве есть противоречие. Вопрос статуса рыбопродукции находится на контроле, и в соответствии с указанием главы государства уполномоченные органы готовят изменения правовой базы.
ОТКРЫТАЯ ТАМОЖНЯ
– Вернемся к вопросу о новом таможенном кодексе и тех изменениях, которые будут вноситься в законодательство на национальном уровне. На что бы вы обратили внимание участников ВЭД? К чему им нужно готовиться?
– Коротко на этот вопрос не ответить. В новом Таможенном кодексе множество новелл. Без преувеличения можно сказать, что кодекс затронул все этапы перемещения товаров от момента представления предварительной информации до момента выпуска товаров. Поэтому с 1 декабря в ДВТУ, как и в других региональных таможенных управлениях, начнет работу горячая линия для приема обращений заинтересованных лиц по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. А в Федеральной таможенной службе будет работать Консультационный центр для информационного и консультативного сопровождения работы должностных лиц таможенных органов Российской Федерации.
Заинтересованные лица могут задать нам вопросы по новому Таможенному кодексу. Желательно, конечно, в письменном виде, ведь речь идет о нюансах законодательства. Обратиться к нам можно по электронной почте: dvtu_odo@ca.customs.ru или по телефонам 8 (423) 230-82-77, 8 (423) 230-82-12 (отмечу, что адрес электронной почты и номера телефонов, по которым можно задать интересующий вопрос по новому Таможенному кодексу, будут размещены на сайте ДВТУ и на информационных стендах таможен и таможенных постов). Если не сможем ответить сами, направим запрос в ФТС – в любом случае человек или компания получит ответ. Ответы на чаще всего задаваемые вопросы будут также размещаться на сайте ФТС России.
Кроме того, в начале декабря мы готовимся провести мероприятие с участниками внешнеэкономической деятельности по разъяснению основных новшеств Таможенного кодекса ЕАЭС.
– Принять участие могут все желающие?
– Конечно. К тому же, все материалы с этих встреч размещаются на сайте управления – мы абсолютно открыты. При необходимости также готовы провести круглый стол для участников внешнеэкономической деятельности, таможенных представителей по новому кодексу. Ответим на все возникающие вопросы.
СПРАВКА:
За 9 месяцев 2017 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен Дальневосточного региона проведено 27 таможенных проверок по переработке судов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 3 уголовных дела по ст. 194 УК РФ. Взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 263,7 млн рублей.
Всего за 10 месяцев 2017 года участники внешнеэкономической деятельности заявили о 131 ремонте судов, за произведенный ремонт уплатили более 2 млрд рублей таможенных платежей.
Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Инвестор должен быть «застрахован».
До конца текущего года Росрыболовство завершит прием заявок от рыболовных компаний, которые рассчитывают воспользоваться инвестквотой. Регулятор рассчитывает на масштабное обновление основных фондов отрасли. Однако, по мнению председателя Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрия Алексеева, чтобы система стимулирования заработала в полную мощь, нормативную базу еще необходимо совершенствовать. Особенно в части обеспечения поддержки инвесторов, строящих суда на российских верфях. Ведь любое существенное уменьшение прибыли инвесторов отрицательно скажется на кредитоспособности рыбаков. На актуальные вопросы Юрий Алексеев ответил в беседе с корреспондентом «Fishnews – Новости рыболовства».
– В декабре текущего года состоится рассмотрение заявок по инвестиционным квотам. Как вы считаете, готовы ли рыбаки, судостроители?
– Да, 7 декабря завершается прием Росрыболовством заявлений о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, что предусмотрено соответствующим постановлением правительства. Судя по активности рыбопромысловых предприятий, уже сейчас заключивших с верфями контракты на строительство порядка 30 судов, со стороны судовладельцев имеется уверенность, что созданный государством механизм инвестквот будет работать и позволит обновлять флот. Что касается судостроителей, то я бы выразил надежду, что промышленность сможет обеспечить поставку рыбакам судов требуемого качества в оговоренные сроки и по согласованным ценам. Хочется верить, что практически полное отсутствие опыта строительства рыбопромысловых судов не станет для наших верфей критичным в исполнении заказов рыбаков.
– Оцените изменения в постановление правительства относительно длины судов. Ранее вы заявляли о необходимости таких поправок. Насколько ваши ожидания оправданы?
– Что ж, правительство отреагировало на предложения потенциальных заказчиков судов быстро и внесло достаточную ясность в нормативную базу.
– Есть ли еще моменты в законодательной базе, которые необходимо регулировать?
– Да, полагаю, совершенствовать существующую нормативную базу еще нужно, в первую очередь в части обеспечения поддержки инвесторов, строящих суда на российских верфях.
В частности, можно было бы предусмотреть использование рыбаками отдельных инструментов поддержки, применяемых для агропромышленного комплекса.
Несомненно, необходимо продлить до 2025 года действие постановления Правительства РФ от 22 мая 2008 года № 383 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) в 2008 – 2016 годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 – 2016 годах с российским лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов» и распространить его действие для строительства рыбопромысловых судов. При этом я не могу согласиться с высказываемой ранее позицией представителей отдельных министерств о том, что инвесторам, поддерживаемым инвестквотами, такую финансовую поддержку предоставлять не следует. Высказанное мной предложение является вполне правомерным и не противоречит позиции правительства в части предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, так как поддержка инвестквотами не является монетарным инструментом государственной поддержки.
– Что вы считаете необходимым закрепить в договоре о предоставлении инвестквот?
– Сегодня у нас до сих пор остаются вопросы к примерной форме договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели. В соответствии с условиями договора, заказчик судна значительно рискует обеспечением (а это гарантия на сумму до 1 млрд рублей и значительный объем собственной квоты) в случае, если верфь будет срывать сроки строительства. Я здесь имею в виду риски, которые возникают в связи с возможными санкциями иностранных государств в отношении судостроительных верфей – госкомпаний (а таких большинство – они в системе ОСК). Так сложилось, что основные комплектующие - от двигателей до рыбоперерабатывающего оборудования – иностранного производства и достойных аналогов им в России нет. Введение санкций однозначно приведет к срыву сроков строительства судна и, увы, санкциям к рыбакам со стороны Росрыболовства. Нужно непременно эту проблему решать и вносить изменения в нормативную базу, тем более что конкретный сигнал в отношении «Адмиралтейских верфей» от американцев уже прозвучал.
– Что еще, на ваш взгляд, может «затормозить» обновление флота?
– Еще один серьезный вопрос лежит в сфере регулирования Налогового кодекса. От решения зависит перспектива обновления флота. Минсельхоз и Росрыболовство ведут работу по выполнению поручений президента об установлении ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в размере 100% для организаций, осуществляющих промышленное и прибрежное рыболовство, за исключением градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей, колхозов и предприятий, выпускающих рыбную продукцию высокой степени переработки, а также выработки механизмов индексации ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов для предприятий, осуществляющих экспортные поставки продукции низкой степени переработки. В работе принимают участие представители компаний, ассоциаций, обсуждение открытое, заинтересованное.
Важнейшими являются, на мой взгляд, два аспекта. Во-первых, не нужно менять размеры действующих ставок, тем более что президент такого поручения не давал. Во-вторых, отмена льготы должна быть поэтапной и связанной с процессом обновления основных фондов, способных производить продукцию высокой степени переработки. Основываемся на том, что правительством определены сроки реализации проектов, поддерживаемых инвестквотами: 5 лет + 1 год дополнительный, и вот после окончания этого инвестиционного периода можно требовать от пользователей ВБР производства продукции высокой степени переработки в обмен на льготу в 15%.
Отмечу для примера, что на производство мороженого филе и пищевого фарша в 2016 году направлено всего 11,2% вылова минтая, и это является максимальным показателем за последние десять лет. Возможности переоборудования имеющихся рыбопромысловых судов с целью увеличения объемов производства филе и фарша ограничены возрастом и износом, а также характеристиками: заложенные в проектах большинства имеющихся судов технические решения не позволяют осуществить их комплексную модернизацию для достижения требуемых показателей переработки уловов. В то же время судостроительная промышленность России с учетом технологического оснащения и специализации верфей, а также их загруженности оборонным заказом может построить ограниченное число крупнотоннажных рыбопромысловых судов с глубокой переработкой уловов.
– У вас есть какие-то конкретные предложения по переходу? И почему вы считаете, что переход на отмену льготы должен быть поэтапным?
– Если говорить конкретно, нам видится такой график. Значения количества выловленного сырца, направленного на производства такой продукции, по достижении которых у плательщиков возникает право на использование льготы: с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года не менее 25%, с 1 января 2025 года до 1 января 2027 года не менее 40%, с 1 января 2027 года не менее 50%. Если вводить отмену льготы раньше, увеличение налоговой нагрузки приведет к существенному уменьшению прибыли инвесторов, а прибыль в отрасли – главный источник инвестиций и ее показатели в первую очередь принимаются во внимание банками при финансировании инвестпроектов. Зачем же ухудшать кредитоспособность рыбаков, желающих работать на современных судах?
Ксения ПИСАРЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Люди - последние в очереди за мойвой.
Константин ДРЕВЕТНЯК, Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.
Директор ПИНРО прокомментировал Fishnews открытие промысла мойвы в Баренцевом море, поделился оценками состояния запасов трески, пикши и путассу в среднесрочной перспективе и рассказал о перспективах рыбохозяйственной науки в России.
- Константин Владимирович, прокомментируйте ситуацию с прогнозами по восстановлению популяции и открытию промысла мойвы по результатам последней сессии СРНК.
- Баренцевоморская мойва – один из видов морских рыб, динамику запаса которого очень сложно моделировать. Это связано с тем, что вид короткоживущий, после нереста значительная часть (до 80%) погибает. Мойва - это пищевой объект практически для всех баренцевоморских хищников. Количество потребленной ими мойвы учесть очень сложно, не стоит забывать и об условиях внешней среды. Поэтому математическое моделирование для этой рыбы имеет значительное количество неопределенностей. Сегодня единственный и наиболее точный вариант оценки запаса мойвы - тралово-акустическая съемка. Ежегодно в августе-сентябре Россия и Норвегия выполняют совместную специализированную тралово-акустическую съемку запаса мойвы. Эта съемка всегда была совместной. С 1974 не было ни одного года, когда в море выходили бы только норвежские или только российские суда. В настоящее время акватория моря разделена на районы ответственности, в которых каждая страна выполняет свою часть исследований.
Далее результаты всех судов обобщаются, анализируются и на основании этого выполняется оценка запаса мойвы. Процедура установки ОДУ на следующий год достаточно сложная, используются несколько моделей, и вдаваться в детали не стоит. Если сказать в двух словах – то определяется, сколько мойвы в море на момент исследований, определяется объем неприкосновенного нерестового запаса на весну следующего года, объемы потребления треской и т.д. Остаток могут выловить рыбаки. Это и есть ОДУ. Мы, люди, последние в очереди за мойвой.
Повторюсь, что исследования по мойве в текущем году выполнены в полном объеме как норвежскими, так и российскими учеными. И мне совершенно непонятна информация, которая появилась в прессе после очередной сессии СРНК. Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский заявил, что «решение об открытии промышленного лова мойвы было принято на основании данных норвежских ученых об увеличении ее промыслового запаса, а их российские коллеги из-за нехватки ресурсов и малого объема исследований не смогли объективно спрогнозировать запас этого ресурса и не предупредили заблаговременно рыбаков». В этой ситуации могу посоветовать больше общаться с наукой, чтобы понимать на основании чего и как определяется ОДУ и разрабатываются прогнозы. Я директор ПИНРО с декабря 2013 года, но мне не приходилось общаться с представителями Союза рыбопромышленников Карелии. В то же время мы открыты для диалога со всеми рыбаками Северного бассейна.
- Каковы перспективы промысла (точнее, установления ОДУ) трески, пикши, путассу в Северном бассейне на ближайшие годы?
- Согласно оценкам ученых, в настоящее время запасы тресковых рыб (треска и пикша) в Баренцевом море имеют тенденцию к снижению. Резкий рост биомассы трески и пикши в предыдущие годы произошел из-за появления очень урожайных поколений этих видов рыб в 2004-2006 годы. В дальнейшем такого феномена не наблюдалось, рыба из середины «нулевых» годов практически выловлена, более молодая гораздо меньше по численности, и в ближайшем будущем запасы неизбежно продолжат снижение.
Вместе с тем запасы тресковых на данный момент находятся на уровнях выше безопасного и тем более лимитирующего. Поэтому на 2018 год ИКЕС рекомендовал достаточно высокий уровень эксплуатации, согласно новому принятому правилу СРНК (условие не более 20-процентного уменьшения ОДУ), которое, условно говоря, защищает больше интересы рыбаков, чем рыбы. При использовании «предострожного» уровня промысловой смертности Fpa = 0,4, ОДУ трески на 2018 год должен составлять 654 тыс. тонн, т.е. уменьшение на 27%.
Однако выработанная и согласованная между Россией и Норвегией стратегия устойчивого вылова позволяет сохранить стабильность для рыбаков, учитывая при этом состояние запасов и прогноз их развития. Детальный анализ научных данных позволил СРНК принять решение о снижении в 2018 году ОДУ трески и пикши приблизительно на 13%.
Согласно прогнозам, запасы тресковых, несмотря на снижение, останутся на уровне выше среднего, так как ожидается вступление в промысловый запас ряда средних по численности поколений.
Для российских компаний сокращение добычи станет неудобным, но не критичным фактором. В действующей схеме распределения объемов добычи тресковых заложены механизмы передачи 10% нереализованных квот с предыдущего года и вылов до 10% «авансом» в счет ОДУ следующего года. Если рыба будет ловиться хорошо, национальную квоту можно увеличить, опираясь на дополнительные исследования и решения СРНК.
Теперь о путассу. Международная тралово-акустическая съемка по этому объекту, выполненная в районе к западу от Британских островов в марте-апреле 2017 года, показала увеличение биомассы путассу по сравнению с результатами съемки 2016-го. Общая биомасса путассу на акватории съемки в этом году составила 3,13 млн тонн.
ИКЕС на основе расчетов и стратегии максимально устойчивого вылова рекомендовал установить ОДУ в 2018 году на уровне 1 387 872 тонны.
Окончательный ОДУ путассу устанавливают прибрежные государства по отношению к этому запасу (Норвегия, ЕС, Фарерские острова и Исландия). Российская Федерация приглашается на Консультации прибрежных государств в качестве специального участника. На прошедшем в середине октября в Лондоне совещании прибрежные государства согласились с рекомендацией ИКЕС.
Квота России складывается из национальной квоты вылова путассу в международных водах, а также квот, полученных в рамках двусторонних договоренностей: в ФРЗ (рыболовной зоне Фарерских островов) и в НЭЗ (Норвежской экономической зоне). Согласованная на 2018 год величина ОДУ означает, что Россия будет иметь национальную квоту немного выше уровня 2017 г.
На перспективу (ближайшие 2-3 года) запас и вылов путассу будут постепенно снижаться в связи с отсутствием урожайных поколений в последние годы.
- Как, по вашим предположениям, будет складываться ситуация с финансированием рыбохозяйственной науки (и в частности экспедиций) в следующем году и в среднесрочной перспективе? Что о финансировании на ближайшие годы говорят Минсельхоз и Росрыболовство?
- По моим ощущениям по финансированию рыбохозяйственной науки мы достигли дна, и это понимают и в Федеральном агентстве по рыболовству, и Минсельхозе. Теперь главное, чтобы дно было твердое и мы смогли от него оттолкнуться, а не завязнуть. В ноябре в Федеральном агентстве по рыболовству пройдет совещание, где будет рассмотрен план финансирования рыбной науки на 2018 год. В этом плане заложены дополнительные деньги по сравнению с текущим годом. Однако надо заметить, что для рыбной науки помимо денег, очень важно иметь «инструментарий» для проведения исследований. Это современные научно-исследовательские суда, передовые научные приборы, кадры и т.д. И в этом главная проблема! Даже если завтра у государства появятся деньги и оно сможет обеспечить научные организации достойным финансированием, то наука не сможет рационально их использовать на устаревающем научном флоте, который к тому же снижает свою численность из-за списания судов по возрасту. А постройка новых научных судов займет не месяцы, а годы.
- Вы можете сравнить уровень расходов на рыбохозяйственную науку в России с уровнем в других странах с развитой рыбной отраслью?
- Я не вижу смысла сравнивать абсолютные уровни расходов на рыбохозяйственную науку в России и других странах. Эти сравнения не несут полную ясность картины. Так финансирование Института морских исследований (г. Берген, Норвегия) в абсолютных цифрах сравнимо с финансированием всей рыбохозяйственной науки России, но меня, как директора ПИНРО, не интересует, сколько денег у моих коллег. Меня больше беспокоит зарплата сотрудников института, уровень исследований ПИНРО и объем морских экспедиций. Если сотрудники ПИНРО будут обеспечены достойной зарплатой и будут заниматься наукой, а не думать, где найти денег до следующей выплаты; если институт будет проводить морские экспедиции и исследования на уровне, который позволит отстаивать интересы России, то мне нет необходимости заглядывать в «кошелек иностранных ученых».
- Какой уровень развития рыбохозяйственной науки вы считаете оптимальным (и какие критерии для такой оценки используются)?
- Прикладная наука существует для того, чтобы предоставлять заказчикам, в нашем случае – в первую очередь рыбакам, достоверную информацию о состоянии запасов водных биологических ресурсов и грядущих изменениях в промысловых запасах, а также разрабатывать рекомендации по их оптимальной эксплуатации. Чем выше уровень науки – тем лучше.
Критериями могут являться как само состояние запасов основных промысловых объектов, которые наука изучает, так и достоверность оценок этого состояния, чтобы быть уверенными, что в дальнейшем запасы будут развиваться именно так, как прогнозировалось, и не иначе. Это позволит с большей эффективностью осуществлять планирование работы предприятий, координировать работу промысловиков и переработки, осуществлять инвестиции, строить новые суда и т.д.
Оценка запаса трески и пикши выполняется квалифицированными российскими и норвежскими специалистами, подвергается тщательному исследованию и проверяется независимыми экспертами.
Российские ученые оппонируют зарубежным коллегам в ходе научных дискуссий и приходят к согласованному мнению на основе установленных фактов. Инструментами для аргументации российской позиции служат отечественные исследования, объем которых в последнее время период, к сожалению, как уже отмечалось, снижается.
Так, например, в 2016 году не выполнена российская донная съемка, которая не прерывалась 30 последних лет. В ней мы получали данные о численности пополнения запасов трески, пикши и черного палтуса; а также данные о состоянии ряда параметров окружающей среды. Фактически мы лишились собственных данных, и приходится использовать только норвежские, которые в последние годы также не лишены недостатков. Как результат, уровень среднесрочного прогнозирования также снизился, появилось множество неопределенностей. В свою очередь, рекомендации ПИНРО для наших рыбаков также будут менее конкретны. Если негативные тенденции сохранятся, то, возможно, рыбаки услышат прогноз «треску в Баренцевом море, скорее всего, можно будет ловить».
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Илья Шестаков: По браконьерам нужно бить рублем.
Штрафы для браконьеров вырастут в 8 раз, а инспекторов наделят перекрестными полномочиями в сфере лесного, охотничьего и рыбного контроля. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.
При советской власти рыба стоила дешевле мяса. А сейчас она дороже. Когда все будет по-прежнему?
Илья Шестаков: Могу сказать честно - никогда. В СССР рыболовство серьезно субсидировалось. Цены в магазинах были экономически неоправданны - затраты гораздо выше. Сейчас организация промысла не субсидируется, рыбалка регулируется рыночными механизмами.
Перелом с ценами может произойти, если мы сократим число посредников, которые сейчас существуют на пути рыбы к потребителю. 80 рублей на Дальнем Востоке у рыбака за килограмм минтая - это доступная цена? Да. Но почему здесь, в Москве, он стоит 220? Из-за посредников: если вычесть перевалку и железнодорожный тариф, "прилипает" более 100 рублей. У рыбаков продукция доступна по цене, но цепочка до прилавка не отлажена.
Если сократить цепочку, то розничные цены сразу бы упали?
Илья Шестаков: Цены сократились бы однозначно, если цепочку сделать короче. В этом году оптовая цена у рыбаков упала практически на 10 процентов. А потребительская цена все равно выросла. Количество посредников большое, и розничная цена вырастает в три раза, пока рыба едет от судна до прилавка. Стоимость доставки с Дальнего Востока составляет, если брать от розничной цены на рыбу, 10-15 процентов. Если от оптовой, то 5 процентов.
Легко ли производителям напрямую зайти в торговые сети?
Илья Шестаков: Зайти в сети сложно, а еще сложнее выдержать потом все их условия. И здесь надо внимательнее отслеживать исполнение нового Закона о торговле с принятыми изменениями. Я считаю, что здесь непаханое поле для всех проверяющих и контролирующих органов.
В сибирских магазинах свежей рыбы практически нет, вся она в ледяной глазури. Хотя в Кузбассе открылся цех по производству радужной форели. Как добиться того, чтобы свежая рыба появилась на прилавках?
Илья Шестаков: У нас есть возможность поставлять свежую рыбу по более низким ценам. Это, конечно, в большей степени зависит от перспективы развития аквакультуры, объемы производства которой постоянно увеличиваются. Так, в 2016 году рост составил 30 процентов, за первое полугодие 2017 года показатель увеличился на 17 процентов. Производство лососевых также растет: в 2016 году произведено 12,9 тысячи тонн семги (+17% к 2015 году), объем производства форели вырос на 12 процентов до 28,4 тысячи тонн. Но объемы еще недостаточны, если учитывать, что при добыче в 4,8 миллиона тонн мы производим только 0,2 миллиона товарной рыбы и морепродуктов.
Когда заработает Закон о любительском и спортивном рыболовстве?
Илья Шестаков: Мы будем обсуждать этот резонансный документ скорее всего в весеннюю сессию в 2018 году в Госдуме. Здесь должны быть четко выверены все позиции. Хотя многое сейчас в области любительского рыболовства уже отрегулировано, но все равно есть еще ряд рисков, которые требуют дальнейшего обсуждения. Например, объем полномочий регионов. С одной стороны, нельзя допустить хаоса, потому что, к сожалению, в регионах свои полномочия исполняют по-разному. С другой - объектов промысла очень много и в каждом регионе своя специфика, чтобы ее учитывать, оптимально передать часть полномочий властям на местах.
Будет ли ужесточена борьба с браконьерами?
Илья Шестаков: Сейчас мы готовим постановление по повышению таксы значительно, от 5 до 8 раз. Считаем, что все равно размеры штрафов недостаточны. Вместе с увеличением таксы прорабатывается вопрос об увеличении штрафов за нарушения Закона о рыболовстве. Но в этом случае в КоАП планируется заложить дифференцированный подход и нормативно закрепить понятие "грубое нарушение правил рыболовства", что позволит судам безальтернативно выносить решения в отношении злостных браконьеров с конфискацией орудий лова и применением максимальных штрафов, приближенных к минимальным штрафам Уголовного кодекса - около 250 тысяч рублей (за грубое нарушение). Сейчас для граждан максимальный штраф не превышает 5 тысяч. Уголовных дел заведено много, но большинство из них заканчивается условными сроками. Может быть, и лучше делать упор не на уголовное преследование, а повышать штрафы и бить рублем браконьеров, которые занимаются массовым выловом краснокнижных видов. Учитывая большие размеры выплат, это станет экономически невыгодно.
Наделят ли инспекторов перекрестными полномочиями в сфере лесного, охотничьего и рыбного контроля?
Илья Шестаков: С минприроды договоренность об этом есть, вопрос прорабатывается на уровне внесения изменений в законодательство. Это будет серьезным подспорьем. Сейчас на нашего инспектора приходится 1900 километров рек и 16 тысяч гектаров озер и водохранилищ. Если удастся объединить усилия, это даст хороший эффект.

Моллюски справят второй день рождения.
На Дальнем Востоке проходит операция «Путина». Об «уловах» сотрудников транспортной полиции, об опасных рейдах и о мерах ответственности за браконьерство рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу полковник полиции Игорь БЕЗУХОВ.
- Игорь Анатольевич, более десяти лет вы принимаете участие и организуете работу по проведению оперативно-профилактической операции «Путина». Что изменилось за эти годы?
- Улучшилось оснащение сотрудников транспортной полиции техникой. Десять лет назад у милиции не было достаточно плавсредств, телефонов, раций, навигационного оборудования. Оборудованием располагали единицы подразделений: Хабаровское, Северо-Восточное линейные управления. Да и у них суда были устаревшие, что часто не позволяло полноценно бороться с браконьерами. На сегодняшний день все подразделения, в которых имеется водный транспорт, обеспечены быстроходными катерами. В основном на вооружении сотрудников стоят катера серии «Норд-Сильвер-Про» различных модификаций. Они обеспечены современным навигационным оборудованием, и на их борту могут разместиться от шести до восьми сотрудников.
- С кем взаимодействуют сотрудники транспортной полиции при проведении мероприятий?
- К сфере обслуживания сотрудников транспортной полиции региона относится судовой ход рек и с недавних пор - необитаемые острова, расположенные на реках Дальнего Востока, морские акватории портов. Учитывая, что браконьеры имеют хорошее оборудование, современные специальные и плавательные средства, транспортная полиция для пресечения преступлений и правонарушений тесно взаимодействует с территориальными органами полиции, Росгвардией, ГИМС МЧС России, Росрыболовством. То есть в борьбе с незаконным выловом биоресурсов участвуют несколько государственных органов.
- В какое время года проводится операция «Путина» на Дальнем Востоке?
- Наш регион один из самых больших в России. В каждом районе свои климатические условия. С учётом этого мы и планируем проведение мероприятий. У каждого вида рыб есть период нереста, когда их вылов запрещён. А в заповедных районах ловить рыбу нельзя круглый год.
Например, в Хабаровском крае «Путина» начинается в мае, а заканчивается в конце октября, на Сахалине проходит с 1 июня по 1 октября, в Находке - с середины апреля по середину июня - первый этап, а второй - с середины сентября по конец октября. Можно сказать, что операция «Путина» проводится на территории Дальнего Востока круглогодично, за исключением зимних месяцев. Но и зимой сотрудники выходят в рейды, например, в залив Николаевского района Хабаровского края, где браконьеры вылавливают осетра и подо льдом.
- Какие виды биоресурсов изымают транспортные полицейские у браконьеров Дальнего Востока чаще всего? Перечислите крупные изъятия за последнее время.
- Основные незаконно добываемые виды биоресурсов - это лососёвые. Семейство распространено на территории всего Дальнего Востока. На территории Хабаровского края обитают осетровые. Рыбы нерестятся в мае. В морских районах добавляются крабы, гребешки, трепанги, креветки и другие виды ракообразных.
Сотрудники Ванинского ЛО МВД России на транспорте при проведении операции «Путина» задержали местного жителя, который добывал крабов при помощи стационарных ловушек в районе мыса Советско-Гаванского Хабаровского края. Улов злоумышленник готовил к реализации. С места происшествия полицейские изъяли 2,5 тысячи конечностей краба, надувную лодку с мотором и стационарные ловушки.
А сотрудники Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте в акватории Авачинского залива обнаружили в катере браконьера 360 экземпляров рыб семейства лососёвых.
В Хабаровском крае сотрудники Управления на транспорте МВД России по ДФО изъяли из незаконного оборота 200 килограммов икры осетровых видов рыб.
В прошлом году при проведении операции в моторной лодке жителя Амурска сотрудники полиции обнаружили 200 килограммов икры и 700 килограммов фрагментов рыб осетровых видов.
Пару лет назад в Находке сотрудники выявили двоих граждан, в машине которых обнаружили 1200 особей неразделанного дальневосточного морского гребешка. Моллюсков сотрудники транспортной полиции выпустили в естественную среду обитания.
Операция «Путина-2017» ещё не окончена, и мы можем подвести только промежуточные итоги. С начала текущего года транспортные полицейские Дальнего Востока изъяли из незаконного оборота свыше 21 тонны рыб лососёвых видов, свыше 540 килограммов красной икры и 400 килограммов чёрной, 250 килограммов осетровых видов рыб, 200 килограммов морских животных: гребешков, трепангов, крабов. Кроме того, в рамках операции сотрудники обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы, 30 плавсредств и три километра сетей.
- Какие самые сложные, опасные участки на территории Дальнего Востока, где приходится нести службу сотрудникам транспортной полиции по пресечению противоправной деятельности браконьеров?
- Чтобы уберечь водные биологические ресурсы от хищнического вылова, сотрудники полиции рискуют жизнями независимо от маршрута патрулирования. Где бы ни проходила их служба, вода всегда несёт опасность. Ночью, когда в основном и проводятся рейды, риск возрастает вдвойне: в воде встречаются брёвна, различные плавуны. Поэтому сотрудники стараются всегда использовать освещение.
Браконьеры нередко вооружены. Раскраска нашей техники позволяет им заранее знать, что идёт катер транспортной полиции. Злоумышленники передают информацию по сотовой, спутниковой связи сообщникам, уничтожают или скрывают доказательства преступных деяний. Пытаясь покинуть место происшествия, могут пойти на таран.
В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2012» при патрулировании акватории реки Амур недалеко от города Николаевска-на-Амуре во время погони за браконьерами перевернулась лодка и пропали без вести старший сержант полиции Сергей Аржаков, майор полиции Андрей Баканов и старший сержант полиции Максим Харин.
- Какова судебная практика привлечения к ответственности за незаконный вылов биоресурсов?
- Согласно статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Это в случае совершения преступления с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору.
Статьёй 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, предусмотрено максимальное наказание на срок от пяти до семи лет.
Однако реальные сроки за браконьерство получают редко. В основном злоумышленников приговаривают к выплате штрафов, которые могут доходить до двух миллионов рублей.
Беседу вела Ольга МИРОНЕНКО

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли.
Вячеслав ШПОРТ, Губернатор Хабаровского края.
Год назад, подсчитывая рекордные уловы в Хабаровском крае, эксперты прогнозировали спад, который закономерно должен прийтись на 2017 год. С какими показателями проходит этот непростой для себя год рыбохозяйственный комплекс края и какие решения актуальных вопросов отрасли предлагают местные власти, в интервью Fishnews рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
– Вячеслав Иванович, вопросы лососевой путины сегодня среди наиболее сложных. Ранее вы давали поручение организовать обсуждение ситуации с добычей лосося в бассейне Амура. Какую цель здесь ставят для себя краевые власти? Какими принципами, на ваш взгляд, нужно руководствоваться, чтобы найти оптимальные решения в регулировании промысла?
– В общих объемах вылова Хабаровского края тихоокеанский лосось составляет порядка 20-25%, при этом на бассейн Амура приходится около 80% общих объемов вылова лососевых в крае. Можно констатировать, что экономика большей части предприятий зависит от итогов красной путины.
Особенностью этого года стала низкая интенсивность хода лососей. В связи с этим лишь по осенней кете рекомендованный объем вылова в бассейне реки Амур был освоен более чем наполовину – на 62%. По летней кете этот показатель составил 45%, по горбуше – 25%.
Таким образом, общий вылов лосося по Амуру и лиману в 2017 году составил 26 600 тонн. На фоне последних лет, когда уловы лососевых в Амуре неуклонно росли (для сравнения: в 2015 году было добыто 36 100 тонн, в 2016 – 61 800 тонн), это является тревожным сигналом, т.к. затрагивает не только экономические, но и социальные и экологические вопросы.
В крае организовано обсуждение проблем, связанных с добычей лосося в бассейне Амура по итогам прохождения путины 2017 года. Цель этой работы – сохранение популяции амурских лососей и сохранение Амура в качестве одного из крупнейших рыбохозяйственных водоемов, строго нормированная добыча рыбных ресурсов в интересах всего населения Хабаровского края, в том числе жителей, относящихся к числу КМНС.
Пути решения известны. Но необходимо приложить значительные усилия со стороны как государственных организаций, так и общественности одновременно по ряду направлений. Это обеспечение постоянного мониторинга нерестового хода производителей от лимана и до естественных нерестилищ и лососевых рыбоводных заводов, а также качественного учета ската молоди.
Необходимо кардинальное усиление охраны лососевых от браконьерского промысла на всем пути нерестовой миграции, прежде всего за счет увеличения штата должностных лиц, непосредственно исполняющих функции рыбоохраны в Амурском территориальном управлении Росрыболовства, и привлечения к этой работе органов УМВД края и Росгвардии. Особое внимание – охране нерестилищ для обеспечения успешного воспроизводства.
Еще одно направление работы – внесение изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в части ограничения использования по видам орудий лова.
Только совместными усилиями и комплексной работой можно будет сохранить Амур.
– Лосось на Амуре – это важный, но не единственный объект промысла, который формирует результаты работы рыбного хозяйства края. Каковы показатели по вылову в целом, по производству рыбопродукции и налоговой отдаче отрасли на сегодняшний день?
– Продолжительное время рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края демонстрировал положительную динамику по всем производственно-экономическим показателям. В текущем году показатели по вылову и производству по сравнению с уровнем прошлого года снижены. Как я уже отмечал, это обусловлено состоянием ресурсной базы по тихоокеанским лососям в бассейне реки Амур и их низкими подходами, а также тем, что в подзоне Приморье нынешний год является «неурожайным» по горбуше.
При этом следует отметить, что более 75% объемов вылова и поступлений налогов в бюджет края приходится на предприятия, которые осуществляют промысел в исключительной экономической зоне РФ и прибрежных районах. Основные объекты промысла здесь – минтай (более 50% общего вылова), сельдь (доля примерно 20%), а также крабы, креветки, палтус, корюшка.
В целом по итогам года ожидаем, что общий вылов будет не менее 350 тыс. тонн. Отставание от 2016 года может составить порядка 25 тыс. тонн. Но стоит учитывать, что в прошлом году Хабаровский край достиг абсолютного максимума по вылову за последние четверть века.
Соответственно уменьшится и объем производства – до 275 тыс. тонн. Что касается налоговых поступлений в бюджет края, то они должны превысить прошлогодний уровень и составить не менее 1,4 млрд рублей.
В целом ситуация в отрасли остается стабильной.
– На совещании, которое глава Правительства Дмитрий Медведев проводил в августе на Сахалине, вы подняли тему рыбопромыслового судостроения на дальневосточных верфях. Премьер-министр поручил проанализировать возможности судостроительных предприятий ДФО, причем в работе должны были принять участие власти регионов. Есть ли информация о планах рыбаков по строительству судов на верфях края?
– В рамках реализации постановлений Правительства РФ, регулирующих распределение инвестиционных квот, потенциальными заказчиками строительства на верфях Хабаровского края (это ПАО «Амурский судостроительный завод» и АО «Хабаровский судостроительный завод») являются 10 предприятий. В том числе 6 компаний из Хабаровского края и 4 – из Приморского.
Кроме того, хабаровская компания ООО «Север» готовится к заключению контрактов на закладку серии среднетоннажных краболовных судов на Хабаровском судостроительном заводе.
Вместе с тем мы видим ряд барьеров, которые препятствуют размещению заказов на дальневосточных верфях. И это не только отсутствие готовых проектов современных промысловых судов на судостроительных предприятиях и высокая стоимость строительства (особенно по сравнению с судами со вторичного рынка). Отсутствие для Дальневосточного бассейна инвестквот по рентабельным видам промысла (минтаю, сельди) для строительства мало- и среднетоннажных судов не добавляет стимулов рыбопромышленникам для инвестирования в обновление флота.
Кроме того, предусмотренный при строительстве судов на верфях Дальнего Востока повышающий коэффициент 1,2 включается в расчет только тогда, когда совокупное количество долей заявителей, соответствующих требованиям, превышает 100% инестквоты. Если же эти 100% по заявкам не набираются, закрепление квоты происходит без учета повышающего коэффициента.
– Ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» вы рассказывали о том, что власти Хабаровского края выступали с предложением об использовании рыбопромысловых участков под аквакультуру. Это изменения, о необходимости которых говорят и в других регионах. Возможно, с того момента Хабаровский край направлял и другие предложения по снятию барьеров в рыбной отрасли?
– Мы сформулировали ряд предложений по решению проблем, связанных с практической реализацией механизма распределения инвестквот. Я уже озвучивал их на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева на Сахалине. Эти предложения поддерживают в Росрыболовстве и в Минвостокразвития России.
Мы полагаем, что нормативно-правовые акты к закону по инвестквотам требуют доработки. Так, на наш взгляд, следует исключить избыточные требования по видам и типам судов, а также требования по их технологической оснастке. В частности, стоит отказаться от регламентных требований по наличию оборудования по производству филе, рыбной муки и жира в фиксированных объемах. Такое требование ставит предприятия в определенные рамки, обязывающие обеспечить вылов и переработку фиксированных объемов ВБР, что не всегда возможно.
На наш взгляд, единственным требованием к инвестпроекту должно быть условие строительства судов на российских верфях. При этом при определении степени локализации судостроительных проектов должны учитываться реальные экспертные оценки возможностей оснащения строящихся судов современным российским оборудованием.
Следует пересмотреть и требования к финансовому обеспечению инвестиционных проектов. Использование банковских гарантий первоклассных банков ведет к завышению стоимости самих проектов, но не гарантирует выполнение сроков их реализации со стороны российских судостроителей.
Кроме того, мы предлагаем внести изменения в постановления Правительства РФ № 633 и 648 для того, чтобы дать возможность инвесторам и при строительстве мало- и среднетоннажных судов претендовать на такие рентабельные объекты, как минтай и сельдь. А также предлагаем скорректировать условия применения повышающего коэффициента, чтобы он стал по-настоящему рабочим инструментом для привлечения заказов на дальневосточные верфи.
– В апреле вышло постановление Правительства РФ о создании ТОСЭР «Николаевск». Как продвигается работа по реализации проектов?
– В рамках ТОСЭР «Николаевск» планируется реализовать 8 инвестиционных проектов в сфере рыбохозяйственной деятельности с общим объемом финансирования 3,8 млрд рублей. Сейчас идет процесс оформления инвесторами статуса резидентов ТОСЭР: три инвестора уже получили такой статус, по остальным ведется работа с Корпорацией развития Дальнего Востока. Кроме того, инвесторы занимаются оформлением земельных участков для строительства объектов.
– Какие результаты в этом году по реализации в Хабаровском крае проекта «Доступная рыба»? Расширяется ли ассортимент?
– В текущем году в рамках проекта «Доступная рыба» жителям края реализовано 611 тонн рыбной продукции, в том числе около 280 тонн продукции из лососевых видов рыб. Рыба отгружалась в торговые сети Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина, в Николаевский, Охотский, Хабаровский, Вяземский районы и муниципальный район им. Лазо. В ближайшие дни планируется поставка продукции из лосося в Верхнебуреинский район. Мороженый лосось в рамках проекта продается на ярмарке выходного дня в Хабаровске.
Кроме лосося в рамках проекта предприятия поставили в торговые сети порядка 180 тонн мороженой наваги. Розничная цена на нее составила 66 рублей за 1 кг – более чем на 30% ниже обычной розничной цены на этот товар. Также организована продажа от производителя охлажденной и мороженой продукции из частиковых видов рыб: сазана, щуки, карася, толстолоба, верхогляда и др.
– Как планируется работать по обеспечению населения рыбными товарами в дальнейшем?
– Проект осуществляется уже третий год, показал свою высокую эффективность. В следующем году реализация проекта «Доступная рыба» также продолжится. С учетом пожеланий жителей края планируем организовать поставку не только мороженой и охлажденной рыбопродукции, но и соленой продукции из тихоокеанской сельди.
– Вячеслав Иванович, 2017 год в России был объявлен Годом экологии. Как власти Хабаровского края выстраивают свою работу в этом направлении, какие вопросы на первом плане?
– Основная наша задача – привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды, решить вопрос, как сохранить природные богатства Хабаровского края, в частности уникальной реки Амур.
Не секрет, что усиление браконьерского пресса, сокращение нерестового фонда в результате антропогенных воздействий, неблагоприятные гидрологические условия, отмечающиеся в последнее время в бассейне Амур, приводят к истощению запасов лососевых и осетровых видов рыб. Решение задачи пополнения запасов амурских популяций калуги, осетра, а также лососевых видов рыб и других гидробионтов на российской территории Дальнего Востока возможно решить путем строительства на территории края рыбоводных заводов.
Работы по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей проводятся в Хабаровском крае на протяжении многих лет. Эффективность применяемых в этой сфере биотехнологий искусственного воспроизводства подтверждена массовым возвратом меченых рыб к заводам.
Сегодня в крае действуют 7 ЛРЗ (3 государственных и 4 частных) и 1 осетровый (государственный) рыбоводный завод. Заводами в этом году было выпущено 71,5 млн штук молоди лососевых видов рыб и 1 млн штук молоди осетровых видов рыб.
В рамках Года экологии впервые произведен выпуск в реку Тумнин (Ванинский муниципальный район) 4,7 тыс. штук молоди сахалинского, или зеленого, осетра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Хабаровский край – единственное место в мире, где сегодня занимаются искусственным воспроизводством этого редкого вида. Работы ведутся с 2006 года, за это время сформировано ремонтно-маточное стадо из производителей, взятых из реки Тумнин.
Планируется также строительство второй очереди завода по выпуску амурского осетра на базе Анюйского РРЗ.
В сложившейся ситуации крайне важна постоянная работа по увеличению воспроизводства рыбных запасов Амура, как путем сохранения естественных нерестилищ, так и создания дополнительных мощностей заводов.
Справка: За 9 месяцев 2017 г . предприятия Хабаровского края добыли 303,6 тыс. тонн водных биоресурсов, это на 17 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 г . Вылов тихоокеанских лососей сократился на 35 тыс. тонн к уровню прошлого года. Рост вылова наблюдается по минтаю – на 10 тыс. тонн к уровню 2016 г ., корюшке – на 2,7 тыс. тонн, крабоидам – на 2,7 тыс. тонн.
Два предприятия края: ООО «Софко» и АО «Тралфлот» – начали работать на промысле дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии в зоне Южных Курил: добыто 2,9 тыс. тонн и 4,6 тыс. тонн соответственно.
Рыбной продукции произведено 233,2 тыс. тонн, что на 6 тыс. тонн меньше, чем в 2016 г . Индекс промышленного производства – 104,8%.
В бюджет края от предприятий отрасли поступил 1 млрд 249 млн рублей. Это на 294 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2016 г .
Светлана ВАСИЛЬЕВА, газета « Fishnews Дайджест»

Двойные преференции.
Павел КЛИМЕНКО, Генеральный директор ООО «Колд Трейд»
Заказчики морозильного оборудования «Колд Трейд» на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток смогут воспользоваться двойными государственными преференциями благодаря уникальным юридическим особенностям компании. Об этом в интервью Fishnews рассказал генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
– Павел Борисович, в чем особенности вашей компании?
– «Колд Трейд» занимается производством компрессорного и вспомогательного оборудования в открытой экономической зоне Калининградской области. Для производства мы закупаем импортные и российские комплектующие. Процентное соотношение между зарубежными и российскими составляющими – 60% на 40%. То есть мы официально являемся российским производителем, что подтверждено сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ. Таким образом, наши заказчики имеют возможность получения дополнительных льгот, субсидий от государства в части финансирования, получения особых условий по кредитованию и многому другому в рамках государственной стратегии поддержки отечественных производителей.
– Но в свободном порту Владивосток и ТОРах предоставляются преференции по таможенным платежам и налогам…
– Да, в СПВ и ТОРах установлен режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования, при котором предприятия при приобретении производственного оборудования освобождаются от уплаты таможенных пошлин, НДС и так далее. Это несколько ухудшает работу с российскими производителями, у которых таможенные пошлины и НДС (если использовались иностранные комплектующие), заложены в конечную цену. Поэтому предприятиям в СПВ и ТОРах более интересны иностранные поставщики. Но мы в этом смысле универсальны: мы предлагаем те же условия, что и иностранные компании.
У нас есть свое юридическое лицо в Германии, которое может заключать прямые валютные контракты на поставку всего комплекта оборудования, часть из которого производится в Калининграде.
То есть, работая с нами, с российской компанией, заказчик получает все льготы, которые он получил бы при работе с иностранной компанией. Но не забудем, что наше оборудование имеет отечественное происхождение. Это дает заказчику еще дополнительный плюс, о котором сказано выше.
– А цена?
– Режим Калининградской ОЭЗ позволяет нам ввозить комплектующие в Россию по европейской закупочной стоимости, что позволяет существенно снижать себестоимость продукции при европейском качестве. На выходе преимущество в цене – более 35%. Мы достигли результата по снижению себестоимости и смело декларируем, что наше оборудование находится в одном ценовом сегменте с китайским, но с высоким европейским качеством.
– Можете назвать своих заказчиков на Дальнем Востоке?
– Это колхоз «Дружба» в Поронайском районе Сахалинской области – мы поставили им две очереди суммарно на 100 тонн заморозки в сутки; Южно-Курильский комбинат – мощности на 200 тонн заморозки в сутки плюс холодильник на 1,5 тыс. тонн с увеличением до 2 тыс. тонн. Кроме того, в Сахалинской области мы сотрудничали с «Курильским рыбаком» и компанией «Монерон», для которой было поставлено оборудование для воздушной заморозки. Также мы работали на Камчатке, выполняя заказы для предприятия «Народы Севера» и колхоза «Красный труженик». Мы поставляем оборудование и на суда: на многих в системах заморозки и хранения рыбы эксплуатируется наш компрессор Howden.
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Китобойный флот окупил себя с лихвой.
Виктор ЩЕРБАТЮК, Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях.
Ровно 85 лет назад Советский Союз начал промышленную добычу китов. Сегодня это воспринимается как легенда, хотя еще полвека назад отрасль переживала пик своего развития. О том, как страна организовывала промысел морских исполинов, как его совершенствовала и почему прекратила, корреспонденту Fishnews рассказал капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобоях «Антарктика за кормой» Виктор Щербатюк.
ПРИВЯЗАНЫ К БЕРЕГУ
- Виктор Павлович, как вы стали китобоем?
- В 1949 году я окончил в Находке мореходную школу юнг. Она была создана в 1944 году, с ее помощью правительство хотело, с одной стороны, уменьшить «влияние улицы» на молодежь (как из благополучных, так и не очень семей), а с другой – начать подготовку морских специалистов среднего звена. Эта школа находилась на территории бывшего исправительно-трудового лагеря, в бараках для заключенных. Размерами они были 50 на 12 м, с двумя торцевыми выходами и одиночными рамами на окнах. Когда заведение преобразовали в мореходную школу, статус был повышен, но жилые условия практически не изменились. Правда, общие бараки разделили на кубрики по 25-30 человек.
Еще до мореходной школы я получил небольшой опыт работы в море и учиться пришел, можно сказать, уже готовым моряком. Для меня не новы были жесткие условия. После окончания школы был зачислен матросом на китобоец «Пурга», затем перешел на однотипный «Буран». Эти суда – изначально военные тральщики для разминирования - мы получили в 1944 году от США по ленд-лизу, в китобойцы их переоборудовали после войны. На Курилах было пять береговых китобойных баз. Китобойцы буксировали добытых животных на эти базы, там туши разделывали, затем продукция направлялась во Владивосток.
Мы не могли далеко отходить от баз, поскольку мясо кита, которого продержали, например, пару суток после добычи, никуда не годилось, кроме как на муку для корма зверей. А при изготовлении продуктов для людей использовали только кондиционное, свежее мясо усатых китов. Поэтому китобойцы Второй Дальневосточной флотилии (которая работала на Курильские базы) вели промысел вдоль Курильской гряды.
- Но другие суда осуществляли еще экспедиционный промысел?
- Да, была флотилия «Алеут», которая работала в северной части Тихого океана – в районе Алеутских островов и Камчатки. Их район промысла тоже был ограничен, хотя не так сильно, как наш. Дело в том, что китобойная база «Алеут» и ее суда («Трудфронт», «Энтузиаст» и «Авангард»), купленные в 1932 году в Норвегии, работали на угле. Поэтому им были необходимы частые бункеровки углем и заодно водой. На Камчатке они оборудовали удобные места для приема воды прямо из водопадов на горных речках, куда можно было протянуть шланги прямо с борта. И эти китобойцы тоже особенно далеко от базы не отходили, они знали относительно недалекие районы, где было достаточно китов.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
- Как вообще в СССР появился промысел китов?
- Попытки организовать промысел китов предпринимались еще до революции и на Дальнем Востоке, и в других регионах Российской империи. Где-то эти эксперименты имели временный успех, однако масштабным явлением они не стали.
Фактически полноценная промышленная добыча китов у нас была организована в 1932 году. Был тогда на Дальнем Востоке такой капитан - Александр Игнатьевич Дудник, который, работая на судне береговой охраны «Наркомпрод Брюханов», гонял иностранных браконьеров. Он наблюдал, как незваные гости ведут промысел, и видел, что китов в наших водах достаточно. И у него появилась идея создать советскую китобойную флотилию. С этим предложением Александр Дудник обратился к наркому внешней и внутренней торговли СССР Анастасу Микояну.
Ранее Александр Дудник уже приобрел для советского флота первое краболовное судно, которое показало неплохие результаты. Поэтому капитану пошли навстречу.
Он присмотрел в Америке сухогруз «Глен Ридж», который был приобретен Советским Союзом и направлен для переоборудования в Норвегию. В частности, на судно необходимо было установить кормовой слип, чтобы поднимать китов на палубу для разделки. До этого животных свежевали на плаву, что было не очень рационально (многие части туши приходилось выбрасывать).
Норвежцы отказались переоборудовать судно (которое уже было переименовано в «Алеут»), и тогда Александр Дудник перегнал будущую китобазу в Кронштадт, где и была совершена переделка. В октябре 1932 года, по пути к месту постоянного базирования - во Владивосток, китобойцы «Алеута» добыли первых китов у мексиканских островов Ревилья-Хихедо.
- А в перерывах между добычей китов суда занимались рыбой?
- Нет, рыбу они ловили мало. Ее вообще на Дальнем Востоке тогда добывали не очень много, рыбацкий флот состоял из маленьких судов-«прибрежников». На одном из них я проходил практику – это был сейнер с девятью членами экипажа, который отправлялись на промысел на день и не имел возможности уходить далеко в море.
Правда, в послевоенный период перед рыбаками поставили задачу осваивать новые районы. Для этого начали закупать и строить суда, обладающие большей автономностью. Тогда приобрели много СРТ в Германии, они могли выходить далеко в море, и уловы начали расти. Позже появились более мощные суда с современным оснащением.
- То есть в 1930-1940-е годы китобоев было больше, чем рыбаков?
- Скажем так: китобои давали больше продукции. И если исходить из показателя «количество тонн готовой продукции на одного человека, работающего в отрасли», то китобойный промысел был рациональней, чем рыбный. Ведь даже уже в 1930-1940-е годы японцы добывали в наших водах больше рыбы, чем советские рыбаки. Мы не могли освоить свои рыбные ресурсы из-за нехватки судов добывающего флота.
В основном рыболовецкие суда работали в заливе Петра Великого в Приморье, в районе Сахалина. Это преимущественно были колхозные суда, которые вели прибрежное рыболовство небольшими тралами и снюрреводами. Поэтому китобойный промысел давал больше продукции.
Конечно, китобойцы оправдывали свое назначение. Строительство плавбазы «Советская Россия» обошлось в 15 млн рублей, каждый китобоец к ней стоил около 1,5 млн рублей – и все они окупили себя за три-четыре путины, а потом пошла прибыль.
ГОДЫ РАСЦВЕТА
- Продукция поступала на внутренний рынок?
- Да, в основном. Но были отдельные продукты, которые шли и на внешний рынок. Например, на экспорт отправляли амбру – воскообразную массу, образовывающуюся в кишечнике кашалота. Это вещество обладает свойством удерживать запахи, его использовали в парфюмерии, это был очень дорогой и валютоемкий продукт.
Вообще продукция китобойного промысла была очень разнообразной. И объекты промысла – тоже, у нас добывали и усатых китов (которых использовали в пищу), и зубатых китов (кашалотов), чье мясо не усваивалось человеческими желудками и поэтому отправлялось на корм зверям…
- Какие годы стали пиковыми для китобойного промысла в СССР?
- Середина 1960-х, когда одновременно работали китобойные флотилии «Слава», «Юрий Долгорукий», «Советская Украина», «Дальний Восток», «Владивосток», «Алеут», «Советская Россия».
Однако с начала 1960-х уже начали вводить в строй китобойные базы («Владивосток» и «Дальний Восток»), рассчитанные на диверсификацию промысла. Эти базы немецкой постройки водоизмещением по 26 тыс. тонн были нацелены на то, чтобы летом (когда есть разрешение Международной китобойной комиссии) работать на промысле китов, а зимой (когда нет разрешения, да и сам промысел нецелесообразен) – на минтаевой путине. И этот механизм стал применяться довольно успешно. Более старые базы, например «Советская Россия», работали в режиме «девять месяцев на промысле кита, три месяца – на переходе и в ремонте».
КРИЛЬ НЕ ЗАМЕНИЛ КИТОВ
- Когда был закрыт китобойный промысел и почему?
- К закрытию шли достаточно долго. На каждой китобойной базе, включая береговые, находились ученые, которые вели строгий учет убитых китов и отсылали собранные сведения в штаб-квартиру Международной китобойной комиссии. Там данные анализировали и устанавливали регулирующие правила. Они все более ужесточались с уменьшением численности китов.
В 1970-е китобойный флот стал сокращаться. В итоге в 1979 году добыча китов была полностью прекращена на Дальнем Востоке СССР (за исключением традиционного промысла коренными народами). Китобойные базы и китобойцы были перепрофилированы на другие виды промысла и постепенно списаны. Правда, флотилия «Советская Украина» еще продолжала работу в других районах Мирового океана до 1987 года, когда в СССР окончательно был запрещен промысел китов.
Попытки переориентироваться на лов криля - зоопланктона, рачков, напоминающих креветку, - предпринимались с 1960-х, а пика они достигли в 1980-х. Запасы криля в Мировом океане весьма существенны, самое ценное в этой продукции – белок. Мясо криля по консистенции напоминает мясо краба, поэтому в трале оно выдавливалось и, в основном, не доходило до обработки. Моряки стали приспосабливаться – искать возможности доставлять криль на обработку в воде, которая смягчала механическое воздействие. Чтобы отделить мясо от хитиновой оболочки начали экспериментировать с горячим воздушным потоком. Был и альтернативный путь - паста «Океан», которую получали путем выдавливания белка из криля под прессом. Однако при таком способе в белок попадали и ферменты внутренних органов криля, которые приводили к быстрой порче продукта: паста зеленела на вторые-третьи сутки.
В итоге промысел криля так и не смог заместить добычу китов, в первую очередь из-за отсутствия приемлемых технологий обработки.
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

PICES – уникальная международная организация.
Алексей БАЙТАЛЮК, Врио директора ТИНРО-Центра.
Сессия международной Организации по морским наукам северной части Тихого океана (ПИКЕС, PICES) проходила во Владивостоке с 22 сентября по 1 октября. На острове Русский состоялось более 20 заседаний научных комитетов, групп и различных структур организации. Руководители PICES отметили, что мероприятие получилось насыщенным и весьма интересным. Большое внимание на сессии уделили промежуточным результатам нескольких глобальных проектов организации. О важности и перспективах работы PICES в интервью Fishnews рассказал врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей Байталюк.
– Алексей Анатольевич, сессия PICES , возможно, привлекла не столь широкое внимание, как различные отраслевые форумы и конгресс, между тем это значимое событие для науки, и приятно, что исследователей Северной Пацифики принимал Владивосток. Расскажите, пожалуйста, какую роль сегодня играет Организация по морским наукам северной части Тихого океана?
– PICES – уникальная международная организация. С одной стороны, она не имеет такой административной значимости, как региональные рыбохозяйственные организации – Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) и другие. В рамках Организации по морским наукам северной части Тихого океана не принимают решений по управлению рыбными запасами, не разрабатывают и не внедряют меры регулирования промысла. С другой стороны, основное для PICES – анализ, исследование и, как итог, разработка экосистемных моделей, демонстрирующих, как в целом меняется биота, составные части крупных экосистем, оценка происходящих океанологических, климатических изменений и изменений в экосистемах. Этим организация интересна и важна.
Организация по морским наукам северной части Тихого океана была образована в 1992 году. После ратификации конвенции в 1994 году Россия стала одним из активных участников PICES. В текущем году – 25-я годовщина успешного международного сотрудничества. Пройден большой путь, организация претерпела определенную трансформацию, развитие привело к некоторой смене приоритетов исследований.
Роль России в PICES отражает наш научный вклад, наши исследования. Обширные ряды научных данных, крупные исследовательские проекты в рамках организации – это как раз работа рыбохозяйственных институтов российского Дальнего Востока, в том числе ТИНРО-Центра. Мы продолжаем заниматься крупными экосистемными комплексными исследованиями в северной части Тихого океана.
- А сколько в этом году участников работало на сессии?
- Нынешняя сессия собрала 325 участников из 11 стран, 18 представителей международных организаций и программ. Это уже третья сессия PICES на территории Владивостока. Также одна из встреч проходила в Хабаровске, на базе нашего филиала. ТИНРО обеспечивал работу всех этих форумов.
Нужно отметить, что Россию на площадке PICES представляют не только рыбохозяйственные институты, но и академическая наука и другие научные организации. Это Тихоокеанский океанологический институт, Институт биологии моря, Тихоокеанский институт географии, ДВНИГМИ. Участвуют и вузы: Дальневосточный федеральный университет, Дальрыбвтуз.
Ежегодные сессии PICES и работа в межсессионный период – прекрасные площадки для пробы сил молодых специалистов: в научной среде доброжелательное отношение к будущей смене.
- Можно несколько слов о том, почему так важно продолжать работу в рамках Организации по морским наукам северной части Тихого океана?
- Наверное, пришло уже время рассматривать рыболовство не как отдельный процесс, а как деятельность, которая непосредственно сказывается на экосистеме. А это невозможно сделать без экосистемного прогнозирования, оценки последствий. И такую работу способен вести большой международный творческий коллектив.
- Подготовка к следующей сессии, насколько я понимаю, начинается сразу же?
- Да, она уже стартовала. Научный комитет согласовал место проведения и тематику предстоящей сессии. Она пройдет в Йокогаме. Одним из элементов подготовки к сессии станет симпозиум по рыбным ресурсам океанических фронтальных зон, который состоится в Мексике.
- Какие темы планируется обсудить на новой сессии?
– В числе перспективных тем продолжение FUTURE – комплексной многолетней программы, направленной на увеличение потенциала стран-участниц PICES в понимании и прогнозировании реакции морских экосистем. Дальнейшая работа по программе Human Dimensions, для того чтобы оценить, как влияет рыболовство на крупные и мелкие экосистемы. Работа по программе эвтрофикации морских участков, по изучению траекторий цунами, тайфунов. Вообще на самом деле работ огромное количество.
- Если отвлечься от темы PICES , какие встречи по вопросам рыболовства в северной части Тихого океана у нас ожидаются в ближайшем будущем?
- Одно из самых знаковых для нас мероприятий пройдет во Владивостоке в декабре. Это заседания малых рабочих групп Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО). В частности, будет дана оценка динамики запасов, динамики освоения японской скумбрии. Оценка запасов позволит установить меры регулирования добычи по этому объекту. Также будет работать группа по сайре. Ранее наблюдалось снижение ее ресурсов, теперь – стабилизация, и важно не нанести по ней удар избыточным промыслом. Для дальневосточных рыбаков это важные встречи, особенно если учесть рост интереса к сайре, скумбрии, сардине-иваси в тихоокеанских водах у Курильских островов.
Кроме того, в Хабаровске с 21 по 25 мая 2018 года будет работать Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК). Как одно из важных направлений надо отметить подготовку к Международному году лосося где, кстати, планируется задействовать все три крупных тихоокеанских международных комиссии – НПАФК, ПИКЕС, СТО. Так что нам предстоят значимые мероприятия.

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс.
Максим БЕРГЕЛЯ, Председатель рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов
Ситуация, которая сложилась в этом году на реке Амур и в Амурском лимане на промысле летней и осенней кеты, оказалась непростой для всех. Для науки и властей – потому что потребует серьезного анализа ситуации и, скорее всего, изменения подходов к оценке, организации и регулированию помысла. Для рыбопромышленников и местного населения – потому что ожидания очень многих не оправдались, и кто-то впервые увидел пустые сети и цеха переработки.
Свое видение ситуации и причин ее возникновения, а также предложения, как не допустить повторения такой картины на будущий год, высказывают все участники процесса. Представители ряда районов среднего Амура для консолидации и продвижения своей позиции даже объединились в новую ассоциацию – рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края. О том, какие выводы из нынешней лососевой путины для себя сделали члены этого объединения, Fishnews рассказал председатель АРУК Максим Бергеля.
– Максим Александрович, давайте начнем с цифр: как в этом году сложилась путина для предприятий вашей ассоциации?
– Прогнозы науки по подходам лосося на этот год для Хабаровского края на Амур и лиман были неплохими: более 35 тыс. тонн по кете и порядка 2,7 тыс. тонн по горбуше. В итоге по горбуше у наших предприятий в Ульчском и Комсомольском районах по нулям. По летней кете от рекомендованного объема мы освоили менее 7% и раньше времени добровольно прекратили промысел, чтобы пропустить хоть какую-то рыбу на нерестилища.
Вылов осенней кеты, на которую все очень рассчитывали, в Ульчском районе едва превысил 4 тыс. тонн. По остальным районам, расположенным выше по Амуру, общий вылов – немногим более 1,2 тыс. тонн. Таким образом, выделенный на наши районы объем осенней кеты мы смогли освоить лишь наполовину.
Отсутствие рыбы в наших сетях мы связываем с тем, что она просто не поднялась до наших районов. И, к сожалению, если у нас сети оказались пустыми, то это показатель того, что рыба не прошла и на нерестилища. А это самое плохое.
Все это в совокупности привело нас к некоторым выводам. И главный из них – причина подрыва запасов лосося в Амуре все-таки не в плавных сетях.
– Давайте уточним: плавные сети – это основное орудие лова для предприятий Ульчского и Комсомольского районов?
– Да, особенно это касается Ульчского района. Единственный ставник здесь находится на самой границе с Николаевским районом.
– Почему вы не можете использовать ставные невода, заездки?
– Дело в том, что на разных участках Амура есть свои природные особенности, и в Ульчском районе это большие глубины: 20-30 метров, а в районе Тырского утеса и вовсе более 80 метров. А ставные невода могут устанавливаться только на глубине не более 10 метров, как правило, 6-8 метров.
Плюс у нас сильные течения, особенности береговой полосы (крутые берега) – мы просто не имеем возможности использовать на промысле стационарные орудия. В то же время рыбаки в низовьях Амура, в лимане одновременно ловят и ставниками, заездками, и плавными сетями, т.е. происходит двойная нагрузка на ресурс.
– Как же вы в этом случае отнеслись к заявлениям регулятора о том, что предприятиям нужно готовиться к уходу от промысла плавными сетями?
– Рыбопромышленники наших районов конструктивно восприняли высказанную Росрыболовством позицию. Сразу приступили к поиску возможностей по использованию альтернативных орудий лова. Уже на осенней кете на участках предприятий Ульчского района работали специалисты Дальрыбвтуза в рамках соглашения с Фондом «Амур». К сожалению, отловить успели всего месяц и на фоне очень слабых подходов лосося, но результаты все равно есть, они будут направлены в научные организации, в Росрыболовство и создаваемые рабочие группы. На следующий год эти исследования будут продолжены.
Вместе с тем пока достойных альтернатив плавным сетям не найдено.
Считаю, важно отметить, что сейчас, выстраивая работу Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края на ближайшую перспективу, одной из главных целей мы определили сохранение ресурса в реке. И для нас эта задача стоит на одном уровне с защитой интересов членов АРУК. Т.к. каждый из нас прекрасно понимает: если не будет рыбы, то не будет и смысла строить планы по развитию бизнеса, развитию глубокой переработки водных биоресурсов. Надеемся, это понимают все пользователи на Амуре.
– Какие пути достижения этой цели – сохранения рыбы в Амуре – вы видите?
– Я уже озвучивал позицию нашей ассоциации по этому поводу: все-таки это отказ от использования на Амуре ставных неводов типа «заездок». Это кардинальное, но наиболее эффективное решение проблемы реального снижения нагрузки на водные биоресурсы Амура и лимана. Безусловно, это должно сопровождаться жесткой регламентацией технических характеристик, количества и условий использования плавных сетей, которые важно сохранить в качестве основного орудия лова на реке. Считаем, что это позволит лучше контролировать и регулировать нагрузку на ресурс.
– Да, вы предлагаете непростой вариант: поставить на весы два полярных решения проблемы. Тем более что и заездки, и плавные сети используются на Амуре уже более 100 лет, и оба орудия являются сегодня разрешенными, прописанными в правилах рыболовства.
– В данном случае речь идет все же не о полном запрете стационарных орудий лова. Мы стараемся проявлять гибкость и участвовать в поиске компромиссных решений, поэтому после заседания рабочей группы при Амурском теруправлении Росрыболовства, где эта проблема обсуждалась с участием всех заинтересованных сторон, наша ассоциация приняла решение отстаивать позицию частичного запрета. Суть в том, чтобы в лимане и в устье Амура, до нулевого километра реки, использовать ставные невода, а выше 0 км – плавные сети. Но от заездков при этом необходимо отказаться полностью.
– Такая схема, на ваш взгляд, позволит снизить промысловый пресс?
– Такая схема прежде всего позволит стабилизировать нагрузку на ресурс и унифицировать орудия лова.
Вообще вред и опасность любого орудия лова нужно рассматривать в разных аспектах: экологическом, экономическом, социальном. Что касается экологического аспекта в отношении заездков, то сегодня в интернете и СМИ представлено достаточно много видео и публикаций, которые показывают суть работы этих орудий. В стационарные ловушки вся проходящая мимо рыба направляется километровыми «крыльями», так что по сути заездки – это забор, которым перегораживается река именно в тех местах, где идет основной объем рыбы.
Конечно, все мы понимаем, что любое орудие лова нацелено на то, чтобы захватывать улов и делать это как можно эффективнее. Но в случае с заездками беда в том, что они являются крайне негибким инструментом с точки зрения управления. Это подтвердила и нынешняя путина, когда в проходные периоды по решению комиссии по анадромным было сделано исключение для ставных неводов и заездков. Несмотря на то что в правилах рыболовства четко прописано: в проходные периоды на РПУ запрещено иметь в рабочем состоянии орудия лова и в этих орудиях не должна находиться рыба.
Объяснялось такое решение якобы тем, что невозможно быстро убрать ставной невод. Хотя мы точно знаем, что на самом деле есть возможность делать технические «окна» в «крыле» ставника и таким образом хотя бы частично открывать проход для лосося.
– Вы обращались за официальными разъяснениями, почему комиссия приняла такое решение?
– Наши рыбопромышленники обращались в краевое минприроды, но ответ содержал лишь отсылки на решение комиссии по анадромным, которое принимается большинством голосов, и рекомендацию обратиться в теруправление Росрыболовства, т.к. «вопросы разрешения нахождения водных биоресурсов в орудиях промысла не входят в компетенцию комиссии».
Позже комиссия все-таки устранила такое исключение по проходным периодам, но это произошло уже перед самым закрытием путины.
Хочу отметить, что наша позиция в отношении заездков совпадает с позицией представителей коренных малочисленных народов Севера, которые живут по берегам Амура, в том числе в Ульчском, Комсомольском, Амурском, Нанайском районах. Сегодня из-за низких уловов они оказались в еще более сложной ситуации, чем рыбаки.
Разделяют наши опасения и во Всемирном фонде дикой природы. На пресс-конференции в студии РИА «Новости» директор WWF России Игорь Честин высказался по этому поводу достаточно однозначно: заездки в низовьях Амура попросту перекрывают путь рыбе, которая идет из моря, и мешают ей попасть на нерест.
Отсюда вытекают выводы и по двум другим аспектам проблемы: экономическому и социальному. Для местного населения зачастую рыбная ловля, работа на наших предприятиях – единственный легальный источник дохода. А в сложившейся ситуации мы фактически лишаемся ресурса, несмотря на то, что имеем и промысловые участки, и разрешенные объемы. Рыба к нам просто не доходит. Кстати, схожая ситуация складывается на промысле корюшки.
Члены АРУК – а это более 20 предприятий Ульчского и Комсомольского районов – вкладываются в модернизацию и углубление рыбопереработки, не говоря уже о выполнении социальных обязательств в отношении местных поселений. Эта ответственность – естественная и очевидная для нас вещь. Но после низких уловов зимой, а потом и провальной лососевой путины рыбопромышленники вынуждены пересматривать или вовсе отказываться от своих проектов. А это – сокращение рабочих мест и подрыв экономического состояния населения в наших поселках.
– Позиция вашей ассоциации ясна. Каковы будут ваши дальнейшие действия в выбранном направлении?
– Нам важно было заявить о проблеме Амура на общероссийском уровне, привлечь максимально широкое внимание к сложившейся ситуации. Сейчас мы намерены продолжать активное участие в рабочих группах на уровне края, на федеральном уровне, будем предлагать свои варианты решения. Подорванный ресурс необходимо восстанавливать!
В ближайшее время совместно с нашими коллегами: экологами, учеными, промышленниками – мы намерены предметно изучить мировой опыт, в частности американский. Там рыбаки уже прошли через похожую ситуацию на промысле лосося и в итоге отказались от ставных орудий лова в пользу жаберных сетей, жестко регламентируя их использование.
Но это лишь одно, хотя и очень важное для нас, направление. Хочу отметить, что предприятия, входящие в АРУК, активно участвуют в решении самых разных задач, которые Росрыболовство формулирует для отрасли. Мы полностью поддерживаем регулятора в том, что необходимо развивать глубокую переработку, выходить с качественной и современной рыбопродукцией на внутренние и внешние рынки, изучать и использовать альтернативные орудия лова, осуществлять мониторинг ската молоди лосося и нереста. Согласны, что необходимо содействовать рыбоохранным мероприятиям, восполнению запасов ВБР – строить рыбоводные заводы и т.д. И во всем этом наши компании реально участвуют, потому что понимают: все это необходимо делать, чтобы у отрасли были перспективы, но главное – чтобы сохранить и восстановить ресурс.
Так, в этом году в селе Тахта Ульчского района был запущен новый перерабатывающий завод. Продолжается масштабная стройка перерабатывающего комплекса замкнутого цикла в селе Новотроицкое (с переработкой рыбных отходов со всего района). Проекты по модернизации рыбопереработки реализуются или были запланированы на ближайшее время на всех предприятиях, входящих в нашу ассоциацию. Все эти заводы и цеха по мощности рассчитаны на реальные объемы промысла, которыми располагают пользователи. В планах также компенсировать промысловую нагрузку воспроизводством лосося. Это лишь часть той работы, которая ведется в Ульчском и Комсомольском районах.
К сожалению, по итогам 2017 года наши районы Хабаровского края оказались в очень непростой ситуации. Поэтому у нас нет выбора – мы продолжим отстаивать интересы наших предприятий и местных жителей. Мы готовы обсуждать, слушать, предлагать. Ведь проблема – подорванный ресурс – она общая для всех пользователей на реке и она должна объединить Амур. Сегодня всем нам надо не конкурировать, а сотрудничать для общего результата в виде заполненных нерестилищ, нормального ската молоди и полноценных возвратов лосося.
Светлана ВАСИЛЬЕВА, Fishnews

Лазерная рыболовная сеть и отопление от Гольфстрима/ Рассказывает лауреат Глобальной энергии - профессор Сигфуссон(Исландия)
Лауреат премии «Глобальная энергия» 2007 года, профессор Торстейнн Инги Сигфуссон, выступая в рамках РЭН 2017 как участник второго дня VI саммита «Глобальная энергия», рассказал о впечатляющих успехах в деле экономии ресурсов — это лазерный трал и новая форма отопления в арктических условиях.
Мероприятие собрало экспертов из четырех стран, включая Россию, для беседы на тему «Формирование синтеза трёх „Э“ (экономики, экологии и энергетики) как фактора здоровья планеты Земля.
Применение тепловых насосов для отопления за счет тепла Гольфстрима, обеспечивающего постоянный плюс 7-8 градусов в арктических условиях — инновация впечатляющая, но лазерный трал — это действительно ошеломляющее экологическое открытие, которое сможет не только изменить соотношение 1 тонна нефти — 1 тонна рыбы, но что гораздо важнее — полностью меняет подход к промыслу живых ресурсов. Самый разрушительный вариант такого промысла — когда корабль тащит за собой донный трал, кторый буквально сдирает со дна все, что там растет, захватывая до 90% ненужной биомассы и непромысловой рыбы, топит морских млекопитающих и птиц.
Однако уже несколько лет развивается концепция Internet of the sea. В частности три ведущие бренда по переработке морепродуктов — Espersen, Icelandic Seachill и Nomad Foods — запустили проектную задачу, направленную на переосмысление рыбной ловли, как мы ее знаем.
Суть в том, что можно получать подробную информацию обо всем, что творится в море под судном в режиме реального времени. Знание того, где можно ловить рыбу, может сэкономить стоимость топлива за счет сокращения времени, которое требуется кораблю в поисках рыбы и для обнаружения именно той рыбы, которая ему нужна. Для этого может быть использован комплекс приборов, схематично изображенный на рисунке:
Самый большой из изображеннх — так называемый скат, способен не только анализировать большие потоки данных о расположении рыбы, но и управлять специальными торпедами (обозначены цифрой 3) которые смогут своим шумом (может быть и светом) направлять рыбу в нужный «конус», где ее может удобно захватить прицельно выпущенная сеть.
Есть и более продвинутые варинаты с прокачкой рыбного стада через всасывающую трубу, причем оптический датчик отличает нужную рыбу от ненужной и сортирует ее как точно также, как это делалось в пневматической почтовой сортировке.
Тралы представляют собой воронкообразные мешки с сетями, которые тянутся горизонтально в океане. Это либо донные тралы, либо пелагические (или в середине) тралы в зависимости от того, тралятся они по дну океана или на средней глубине. Тралы классифицируются далее по типу рыболовства, к которому они были приспособлены, таким как донные тралы для донной рыбы, креветок и омаров и пелагические тралы для океанического морского окуня, мойвы, сельди.
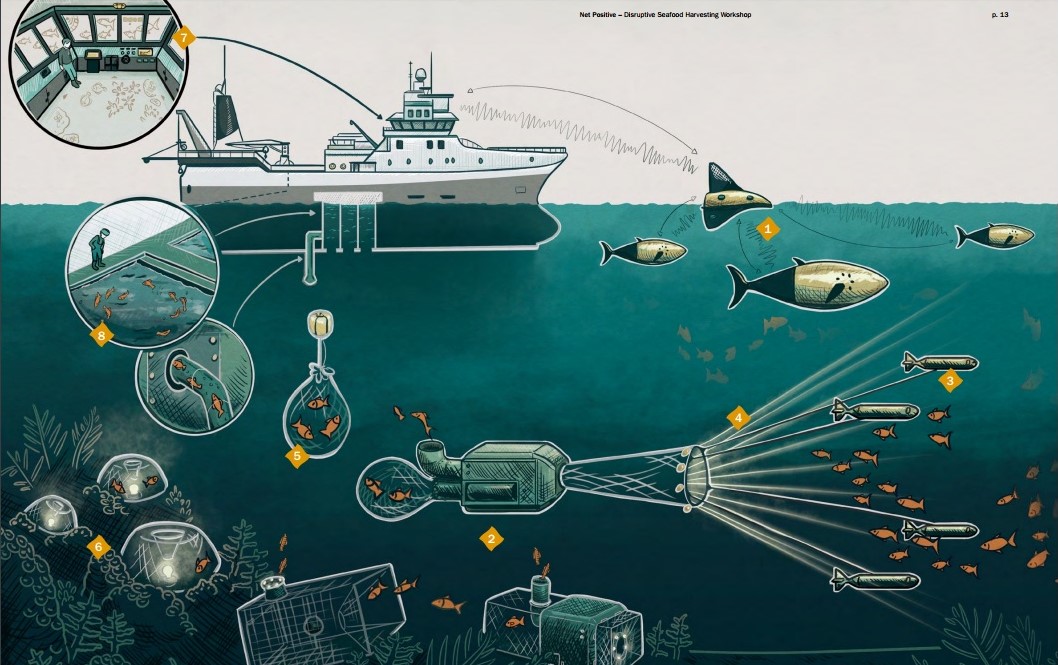

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор.
Кирилл ПРОСКУРЯКОВ, Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который призван решить вопрос получения участков для пастбищной аквакультуры лососевыми рыбоводными заводами. Согласно документу хозяйства, которые работали по договору на искусственное воспроизводство лососей, будут иметь право на заключение договора пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной аквакультуры без торгов. Границы РВУ при этом будут соответствовать границам акватории, на которой предприятия и вели свою деятельность. Оценку законопроекту в интервью Fishnews дал исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.
– Насколько мне известно, изменения в ФЗ «Об аквакультуре…» распространяются на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимались искусственным воспроизводством анадромных за счет собственных средств на основании договора до вступления в силу закона. А что будет с теми предпринимателями, которые заключили договоры после вступления в силу закона?
– Исходя из текущей редакции законопроекта, право на перезаключение договора на искусственное воспроизводство без торгов получат как предприятия, которые занимались искусственным воспроизводством до вступления в силу закона об аквакультуре, так и те, что запустили свои заводы в промежутке между вступлением в силу базового закона и формированием пакета подзаконных актов к нему.
Наконец-то услышаны наши просьбы приравнять нас к предприятиям, осуществляющим товарное рыбоводство. И мы рады, что все дальневосточные предприятия, работающие в режиме искусственного воспроизводства, в котором они «застряли» не по своей воле, будут переведены в долгожданный режим товарной аквакультуры.
А потому оценка законопроекта сегодня может быть лишь одна: очень надеемся и ждем, когда он будет принят. Потому что сейчас мы все больше проблем испытываем из-за текущей правовой неурегулированности. Новеллы, которые должны быть введены, в принципе, полностью отвечают нашим интересам.
– А много сейчас на Сахалине таких предприятий?
– На сегодняшний день предприятий, заключивших после вступления в силу закона об аквакультуре договор на искусственное воспроизводство, порядка десяти. Если говорить об объемах производства, то это около 100-120 миллионов. Это восьмая часть выпускаемых объемов.
Для всех законопроект решает самый главный вопрос – доступ к выращенному ресурсу. На сегодняшний день у нас нет прямой взаимосвязи между деятельностью заводов и изъятием продукции – объектов аквакультуры. Мы получаем право на вылов «окольными путями» – через промышленные объемы. Нам приходится преодолевать массу преград, подчас абсолютно абсурдных, чтобы получить доступ к ресурсу, который сами вырастили.
Последнее, конечно, не было бы так страшно, если бы нам не приходилось сталкиваться с различного рода спекуляциями, как со стороны государственных органов, так и со стороны рыбаков, которые любыми путями пытаются получить доступ к выращенной нами продукции, прикрываясь позицией, что она является федеральной собственностью.
Мы надеемся, что после вступления в силу опубликованного законопроекта спекуляции на тему принадлежности ресурса утихнут. Повторюсь, мы его сами вырастили и намерены сами его осваивать. Это суть нашей работы.
– Возможно, законопроект, если он вступит в силу без изменений, практически полностью решит ваши проблемы. Однако, как мне кажется, он лишь обострит конфликт между рыбаком и рыбоводом.
– Конфликт есть сейчас. Есть прямая конфронтация. Однако, как только рыбаки и рыбоводы разойдутся по разным правовым режимам, встанет единственный вопрос: как разделить объекты аквакультуры и водные биоресурсы. Для Сахалина ответ на него есть уже сейчас. Если вы возьмете путинные прогнозы по тихоокеанским лососям за последние пять-десять лет, то увидите, что осенняя кета на Сахалине формируется исключительно стадами заводского происхождения, кроме летней кеты реки Поронай (идет и промышляется она одновременно с горбушей и не является массовым объектом аквакультуры), «транзитной» амурской кеты на севере Сахалина, а также незначительных объемов дикой кеты северо-западной части острова. В этих районах нет рыбоводных заводов.
Понятно, что в этом вопросе не будет все так легко и просто. Но как сказано в Писании: «Дорогу осилит идущий».
В свое время наши предприятия – такие же добытчики и переработчики – решили идти по пути воспроизводства ресурса, поняв, что в перспективе эта стратегия принесет свои плоды. И как мы сейчас видим, они не ошиблись – ресурс себе надо выращивать! Ведь мы рыбой обеспечены, а те, кто просто ловил, остались ни с чем. Реки – это не бездонная бочка. Невозможно наращивать промысловые усилия бесконечно, никак не восполняя запасы.
– Как вы планируете решать вопросы рыбоохраны?
– В принципе, мы и сейчас решаем их самостоятельно. Базовые реки заводов находятся под охраной. Большинство из нас охраняет их, начиная с горбушовой путины, поддерживая естественное воспроизводство. Имея рыбоводный завод, не стоит пренебрегать нерестилищами, сохраняя которые мы получаем дополнительную прибавку к вылову. Работа по охране базовых водоемов отлажена, и мы знаем, как, что и когда делать. Рыбоводные реки на сегодня одни из самых охраняемых и заполняемых. Главная проблема, которую в перспективе нам придется решать, – как организовывать охранные мероприятия в морской акватории. Потому что мы видим, что основной браконьерский промысел перебазировался в море.
– А насколько проработаны юридические и технические детали «перехода» с договоров на искусственное воспроизводства на договоры пользования РВУ?
– Оценивать степень проработки юридических и технических деталей пока не приходится. Законопроект сейчас в стадии рассмотрения, а проектов подзаконных актов к нему не существует.
Исходя из текста проекта, основными критериями являются наличие договора об осуществлении искусственного воспроизводства за счет собственных средств (он есть у всех коммерческих рыбоводных предприятий), а также наличие зданий, сооружений и другого имущества, предназначенного для выращивания, содержания и выпуска.
Сегодня на всех предприятиях, которые заключили договоры на искусственное воспроизводство, ежегодно комиссией в составе территориальных органов Федерального агентства по рыболовству, бассейновых управлений, отраслевой науки проводится актирование производственных мощностей рыбоводных заводов.
В первом приближении проблем с переходом быть не должно. Но как оно будет на самом деле, время покажет.
Справка: Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» размещен в базе Госдумы.
Согласно документу договор пользования РВУ будет заключаться на оставшийся срок действия договора на искусственное воспроизводство.
Изменения предусматриваются не только в закон об аквакультуре, но и в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
Ксения ПИСАРЕВА, Fishnews

Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу.
Алекс РАМАНАУСКАС, Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки.
По вопросу использования жаберных сетей на Камчатке уже высказывались публично и рыбаки, и федеральные, и региональные власти, и конечно же, наука. Тема непростая, обсуждается долгое время.
Недавно в интернете появился фильм о необходимости запретить жаберные сети при промысле лосося на полуострове. Подробнее о поднятых вопросах c корреспондентом Fishnews побеседовал один из героев съемки – президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс Раманаускас.
– По вопросу запрета жаберных сетей на Камчатке есть разные точки зрения. Какова ваша позиция, как руководителя ассоциации?
– Проблема использования жаберных сетей существует, и она не решена. Раньше это были факультативные орудия лова, например, на тот случай, если вдруг сорвало невод. Но теперь сети становятся основными орудиями промысла. Некоторые умельцы даже автоматизируют процесс, умудряются осуществлять переборку с использованием различных хребтинно-выборочных комплексов. При этом уловистость с каждым годом повышается. Если раньше с одного участка добывали 100-150 тонн, то сейчас в «нерыбный» год берут и 200-250 тонн. Мы прекрасно понимаем, что если мыслить категориями будущего, то нельзя так расточительно и необдуманно выбирать ресурс.
Если вспомнить ситуацию десятилетней давности, количество неводов на западном побережье было в разы меньше! И то, в «нерыбный» год люди не задействовали в промысле все закрепленные за ними участки, ведь установка невода затратна. Сетной промысел достаточно «бюджетный», поэтому любой рыбопромышленник может использовать все имеющиеся РПУ. А их сейчас 240-250 по всей Западной Камчатке. Представляете, какая нагрузка на ресурс?
Кроме того, есть практика, когда рыбопромысловый участок сдается в аренду. И тот, кто получает РПУ таким образом, старается выжать из него по максимуму. Для этого выставляется как можно больше сетей. И все, через этот участок рыба просто-напросто не проходит.
Еще один момент – сеть рыба не замечает. Не расценивает ее как препятствие. А сетное полотно невода видно. Лосось видит преграду, начинает ее обходить – попадает в ловушку. Но кижуч, например, следует, минуя ее. А теперь, с более массовым распространением сетного промысла, популяция кеты и кижуча – это установили авиаучеты – на западном побережье подорвана. Горбуша в «нерыбный» год тоже становится уязвимой. В нынешнюю путину ей повезло с погодой: рыба прошла по полной воде, ее не удалось взять ни в море, ни в реке.
Если говорить об экономической составляющей, то здесь можно выделить два момента. Первое – использовать сеть гораздо дешевле, нежели ставной невод. Рыбопромышленник не относится к ее потере как к событию. Отсюда возникает проблема брошенных орудий лова, угроза безопасности мореплавания.
Второй момент – практически вся выловленная рыба со следами объячеивания и отправляется в производство вторым сортом. Это сказывается на цене в широком масштабе.
– А если запрещать сети, то использовать территориальный принцип?
– В некоторых районах использовать на промысле ставные невода невозможно. Например, район выше реки Ичи по западному побережью. Очень сильные приливно-отливные течения, стенка невода будет постоянно провисать. Там, конечно, однозначно надо оставлять альтернативу.
Но есть районы, где возможно использование других орудий лова. Предложение в таких районах оставить сети, регламентировав их использование, считаю, не обеспечит должного эффекта. Отследить количество сетей, их размер, расположение по всему западному побережью – однозначно проблема. Правоприменители столкнутся с вопросом, как доказать нарушение. Нерадивые пользователи в ответ на претензии к взаимному расположению сетей будут говорить, что орудие лова снесло течением.
А сейчас вообще никакого регламента нет, сети выставляются в сплошные линии. Разве лосось может пройти через такое препятствие?
– То есть, по вашему мнению, правила нужно устанавливать по территориальному принципу? В некоторых районах полностью запрещать сетной лов? Вы считаете, такая модель сработает?
– Если в основу брать территориальный принцип, то в некоторых районах промысел ставными неводами, как я уже говорил, невозможен. Там, конечно, запрещать сети нельзя, иначе рыбак будет поставлен в невозможные для него условия, не сможет вообще взять улова. Другое дело – районы, где со ставных неводов перешли на сети.
КамчатНИРО может провести инвентаризацию участков и сказать: вот тут можно ловить неводом, а вот здесь нельзя. И исходя из этого уже будет приниматься решение. А просто ограничениями – по размеру сетей, их количеству, взаимному расположению – порядка не навести. Все равно будут злоупотребления. И опять же, если пользователь сам не будет использовать сети, то будет сдавать участок в аренду, а арендатор будет стремиться извлечь максимальную выгоду.
– Есть мнение, что в основе выступлений против жаберных сетей – конкурентная борьба.
– Здесь позиции разделились по принципу перспектив дальнейшей работы. Для тех, кто связывает свою судьбу с добычей и переработкой в ближайшие года-два, а также тех, кто берет участок в аренду, сети с их минимальной себестоимостью – это благо. Для тех, кто собирается продавать предприятие, они тоже выгодны: можно показать хорошую статистику по уловам и тем самым повысить привлекательность в глазах покупателей. Но для тех, кому небезразлично будущее ресурса через пять-десять лет, сети – зло. Может быть, наша дискуссия и выглядит как конкуренция, но в ее основе – желание работать дальше.
Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам.
Руслан ЗАКРЕВСКИЙ, Директор компании «Интеррыбфлот»
Сейчас в рыбной отрасли происходят большие изменения: вводится механизм инвестиционных квот, вступил в силу техрегламент ЕАЭС, начинают действовать новые требования по опломбировке технических средств контроля на судах, готовится к внедрению электронный промысловый журнал. Эти нововведения, по мнению рыбаков, иногда несут не только благо, но и определенные неудобства. О проблемах и перспективах для отраслевого бизнеса корреспонденту «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал директор компании «Интеррыбфлот» Руслан Закревский.
– Руслан Александрович, сегодня одна из самых актуальных тем – инвестиционные квоты. С момента выхода изменений в законе о рыболовстве прошло больше года. В мае выпущены соответствующие постановления правительства. Есть ли у вас претензии, замечания по этим документам? Будет ли «Интеррыбфлот» участвовать в заявочной кампании?
– Мы отлично знакомы с этой темой, претензий к самой идее в целом, конечно, нет. Что касается замечаний по документам, то их уже неоднократно озвучивали и «Интеррыбфлот», и другие компании через отраслевые объединения, в том числе Ассоциацию «Ярусный промысел» и Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока. А если при распределении инвестквот на практике будут соблюдаться цели и задачи, которые руководство страны ставило при разработке нормативной базы, то любые претензии и замечания станут неуместны.
Строить суда под инвестквоты будем однозначно: компании нужны ярусоловы, крабовый флот и траулеры. Но сперва необходимо очень грамотно рассчитать финансирование этих проектов, чем мы сейчас и занимаемся.
– С 1 сентября вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности рыбы и рыбопродукции. Готов ли «Интеррыбфлот» к его требованиям?
– К действию техрегламента мы готовы. Конечно, в том числе потому, что срок аттестации судов отложили. Однако, по нашему мнению, рыбакам легче не станет – возрастет контролирующая нагрузка.
– А даст ли, по-вашему, рыбопромышленникам преимущество оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде, которое со следующего года станет обязательным?
– Я считаю, это, конечно, облегчит документооборот, не нужно будет собирать бумаги, везти их, все это можно будет подавать в электронном виде. И, насколько я знаю, все документы будут принимать по принципу «одного окна», процесс упростится.
«Интеррыбфлот» сейчас тренируется, пробует оформлять такие ВСД в тестовом режиме. Достаточно удобно, экономится время: ты сам набираешь документ, а ветеринарный специалист его заверяет. В целом идея хорошая, и если она будет нормально работать, всем станет только легче.
– В июле Росрыболовство выпустило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Опломбировать ТСК в соответствии с этими рекомендациями компании должны были до 1 сентября, впоследствии переходный период продлили до конца года. Реально ли, по вашему мнению, уложиться в этот срок?
– Мы – уложились, «Интеррыбфлот» уже на всех судах опломбировал ТСК по новым правилам. Однако я считаю, что период опломбировки стоило изначально установить до конца года и не заставлять рыбаков нервничать. Многие компании частично или полностью привели свои пароходы в соответствие с рекомендациями до 1 сентября, но это стоило бизнесу огромных убытков.
– Компания уже больше года принимает участие в тестировании ПТК «Электронный промысловый журнал». Заметны ли улучшения в работе программного комплекса?
– ЭПЖ у нас установлен на двух пароходах, будет возможность – поставим и на другие суда. Программа постепенно совершенствуется, но двух самых важных изменений по-прежнему нет. Во-первых, разрешения на промысел автоматически не попадают в ЭПЖ. Во-вторых, в электронный промысловый журнал автоматически не вносятся изменения по этим разрешениям – добавления объектов, орудий промысла и пр. Это не ошибка, а, скажем так, недореализация ЭПЖ. Разработчики знают про это и собираются исправить, добавить в программный комплекс новые функции, потому что без них использовать ЭПЖ очень сложно. Многие компании из-за этого отказались от тестирования.
– «Интеррыбфлот» планирует развивать промысел скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Компания уже начала добычу в этом году?
– После промысла тихоокеанского кальмара планируем перевести флот на добычу скумбрии и иваси. Сдавать уловы будем на рыбокомбинат «Островной» на Шикотане. Нужно учитывать, что у мороженой иваси небольшие сроки годности. Сколько сможем, наморозим, сколько сможем, доставим в охлажденном виде, по максимуму забьем завод сырьем.
– Компания начала активно осваивать тихоокеанский кальмар, недавно решился вопрос о его поставках в Китай, на очереди японский рынок. Азия сильно заинтересована в этом моллюске?
– Мы первыми обратили внимание на тихоокеанский кальмар в прошлом году, практически всю квоту выбрали по Западному Сахалину. В 2017 году к промыслу присоединились и другие компании.
Азиатские страны весьма заинтересованы в этом объекте. Тихоокеанский кальмар очень интересен японским переработчикам, у них сейчас довольно высокий спрос на это сырье.
Вопрос поставок в Японию озвучивался на 33-й сессии Российско-Японской комиссии по рыболовству в декабре 2016 года в Токио. Также эту тему поднимали на шестом заседании Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам 24 июля в префектуре Тояма. Японские переработчики уже сами просят Министерство экономики, торговли и промышленности добавить квоту по импортным поставкам.
Планируем вновь инициировать обсуждение этого вопроса на 34-й сессии Российско-Японской комиссии по рыболовству в конце года. Надеюсь, японский рынок скоро откроется для тихоокеанского кальмара из России.
– «Интеррыбфлот» готовит себе некоторые кадры самостоятельно – помогает курсантам и студентам получать профильное образование. Сколько ребят сейчас учится по этой программе?
– Хочу отметить, что в этом году у нас выпустился первый готовый специалист. Он получил диплом электромеханика и собирается принять дела уже в ноябре. Договор с компанией составлен на пять лет.
Сейчас с помощью «Интеррыбфлота» получают образование шесть человек: три будущих электромеханика, два штурмана и один рефмеханик. В этом году поступили еще пять абитуриентов. Это ребята с Сахалина (на рефмеханика), Ульяновской области (на штурмана), Башкирии (двое на штурманов) и Челябинской области (на электромеханика).
В данный момент три человека направлены на производственную практику.
– А как устроена практика на судах «Интеррыбфлота»? Получают ли ребята необходимые профессиональные знания и навыки? На недавней конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли такую проблему: курсантов в основном используют на судах как обработчиков.
– Наши ребята обучаются на судах работе по своим будущим специальностям положенные восемь часов в сутки, ну а потом по желанию ходят еще на подвахты и получают за это дополнительный пай. То есть нужные знания на «боевых постах» они получают, мы за этим следим, капитаны не привлекают курсантов к рыбообработке по своему усмотрению.
– Какие проблемы вы бы отметили как особо актуальные, что сейчас мешает работать «Интеррыбфлоту» и другим компаниям?
– Проблемы все те же. Например, по-прежнему актуален вопрос с контрольными точками. Мы уже давно выносим его на обсуждение и ждем решения от властей. Считаем, что требование по прохождению контрольных пунктов российскими добывающими судами нужно исключить, эти точки просто не нужны. Диалог продолжается.
Кроме пограничного, проблемы приносит и таможенный контроль: сильно страдаем от того, что не можем завезти свою тару в Россию, не заплатив пошлину. По мнению компании, это судовые припасы, так же как топливо, вода, продукты питания – мы же их не декларируем как товар, хоть и закупаем за границей, ведь это для собственного потребления. Тара, в том числе нитки для мешков, например, – это расходный материал.
Вопрос неоднократно поднимался, у таможенников своя точка зрения, у нас – своя. Насколько мне известно, некоторые компании даже выигрывали суды, однако у таможни такая позиция: эта компания выиграла суд, значит, им можно завозить тару как припасы, а остальным – нельзя. То есть прецеденты не работают. Так что «Интеррыбфлоту» тоже придется вступать в судебный спор, мы сейчас в стадии разбирательства.
– Но, несмотря на все препоны, дела у компании идут неплохо?
– Да, «Интеррыбфлот» в этом году приобрел три среднетоннажные шхуны, провел их модернизацию, пробуем добывать палтуса донными сетями (раньше мы его ловили ярусами). При промысле донными сетями рыбу должны меньше объедать косатки. Сейчас осваиваем новый промысел. Результаты неплохие.
Кроме того, два из этих трех судов легко переоборудуются под вылов сайры. Один пароход уже приступил к промыслу.
Увеличение флота потребовало расширить штат специалистов и перебраться в более просторное помещение. Поэтому в августе мы сменили адрес – переехали на мыс Чуркин во Владивостоке. «Интеррыбфлот» теперь располагается в отдельно стоящем здании – трехэтажном, со своей парковкой, там нашим офисным сотрудникам гораздо комфортнее и удобнее работать. Это большой шаг для компании. Теперь нас можно найти по новому адресу: Владивосток, улица Дубовая, 6б.
Алексей СЕРЕДА, журнал «Fishnews – новости рыболовства»

Образовательный стандарт теснее привязали к профессиональному.
Минобрнауки утвердило новые стандарты для высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры – «Промышленное рыболовство», «Водные биоресурсы и аквакультура». Введение этих стандартов, которые вступают в силу с 30 декабря 2017 г., Fishnews прокомментировала заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана Лисиенко.
– Светлана Владимировна, вы участвовали в разработке и профстандартов, и образовательных стандартов с самого начала. В чем суть нововведений?
– Хотелось бы немного уточнить. Непосредственной разработкой образовательных стандартов и профстандартов занимались наши коллеги из Калининградского государственного технического университета (КГТУ). Это уполномоченный Министерством образования и науки университет, на базе которого работает научно-методический совет в области рыбного хозяйства ФУМО по укрупненной группе направлений и специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Мы – преподаватели и сотрудники кафедр «Промышленное рыболовство» и «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза – участвовали в обсуждении основных положений, давали экспертные заключения, вносили предложения, замечания, корректировки. Иными словами, в полном объеме участвовали в «рождении и продвижении» стандартов.
К слову, профстандарты по должностям, для занятия которых нужно получить профильное образование в соответствующих областях рыбного хозяйства, были утверждены одними из самых первых, еще в 2014 году. Тогда Минтруда только начинало процесс стандартизации должностей во всех отраслях народного хозяйства. В 2015 году Минобрнауки начало внедрение образовательных стандартов уровней высшего образования, так называемых стандартов 3+. В них уже была заложена основная идеология «новой» подготовки бакалавров, специалистов и магистров – ориентация на практическую подготовку, потребности работодателей и региональные рынки труда в конкретных отраслях.
Утвержденные «новые» образовательные стандарты – совсем не новые, это логичное продолжение обозначенной идеологии образования. Углубляются и связываются в одно целое подготовка специалистов с высшим образованием и их последующая интеграция в профильную отрасль для работы на конкретных должностях по соответствующим квалификационным уровням профстандартов.
Сейчас к каждому образовательному стандарту «привязан» перечень профстандартов, в соответствии с требованиями (обобщенными трудовыми функциями) которых образовательные организации должны разработать и начать реализацию образовательных программ. В помощь учебным заведениям предложат примерные основные образовательные программы, разработанные уполномоченными Минобрнауки организациями, в нашем случае это КГТУ. Поскольку «рыбное» образование в сфере рыбного хозяйства оказалось практически пионером в этом направлении, уже сейчас, с 13 по 15 сентября, в Санкт-Петербурге на очередном Пленуме научно-методического совета по рыбному хозяйству обсуждался вопрос о создании примерных основных образовательных программ. Именно на этой площадке мы обсудили все тонкости будущей подготовки специалистов не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием, т.к. система СПО также находится на этапе структурной перестройки.
Время на так называемый переход к реализации новых образовательных программ есть. Хотя они вводятся с 30 декабря 2017 года, Минобрнауки дает образовательным организациям практически год на разработку таких программ. Т.е. можно приступать к их реализации уже с 1 сентября 2018 года и набирать новых абитуриентов.
Перевод студентов последующих курсов для обучения по «новым» образовательным стандартам можно также производить по их согласию. Такие организационные вопросы образовательные организации будут решать самостоятельно. Главное – быть готовым, иметь весь комплект учебной и учебно-методической документации, необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение. Для образовательных организаций это не является большой проблемой, т.к. за последние 6 лет - это будет третий переход на образовательные стандарты. Система образования не стоит на месте!
– Как между собой будут увязаны профессиональный и образовательный стандарты в процессе дальнейшего трудоустройства выпускников?
– По нашему мнению, трудоустройство специалистов будет происходить по следующему сценарию. Например, есть должность мастер по добыче рыбы, на которую имеется соответствующий профстандарт. В нем установлены требования к наличию образования, к опыту практической работы для первичного занятия должности или для перехода на следующий квалификационный уровень. Также в документе определены обобщенные трудовые функции по квалификационным уровням по должностям: мастер по добыче рыбы (тралмастер), сменный мастер по добыче рыбы, старший мастер по добыче рыбы (старший тралмастер), помощник капитана по добыче рыбы, начальник службы по добыче рыбы, флагманский мастер по добыче рыбы (флагманский тралмастер), старший мастер-флагман по добыче рыбы. Это я привожу все должности, обозначенные в профстандарте «Мастер по добыче рыбы», на которые кадровые службы рыбацких предприятий могут принимать сотрудников.
При приеме на работу на эти должности или переводе на более высокий квалификационный уровень («повышающую» должность) специалист по кадрам должен руководствоваться требованиями к конкретной должности: наличием образования, опытом практической работы. Кроме того, работодатель должен проводить аттестацию на соответствие кандидата обобщенным трудовым функциям по компонентам «трудовые действия», «необходимые умения», «необходимые знания». При полном соответствии требованиям профстандарта работодатель будет обязан принять соискателя или перевести сотрудника на более высокую должность. Это, безусловно, должно создать благоприятные условия для трудоустройства и выпускников вузов и ссузов и определить их так называемую дорожную карту профессионального роста.
Одновременно образовательные организации должны разработать новые программы, ориентированные на подготовку выпускника к работе на имеющихся должностях. Учебным заведениям нужно установить набор и объем дисциплин, практик, с помощью которых студент освоит компетенции, являющиеся одновременно обобщенными трудовыми функциями по одной или нескольким должностям профстандарта.
Безусловно, будет иметь место и согласование компетенций работодателями, в т.ч. их общественными объединениями. В нашей отрасли это различные ассоциации рыбопромышленников.
Пока мы в начале пути. Думаю, что в процессе разработки новых образовательных программ образовательные организации все больше и больше должны взаимодействовать с организациями реального сектора экономики – предприятиями рыбной отрасли. Мы к этому готовы всецело.
– Будет ли еще кто-то, кроме непосредственно работодателя, проводить аттестацию на соответствие должности?
– Пройти профессиональную аттестацию можно будет как на своем предприятии, так и в планируемых Минтрудом независимых центрах аттестации, которые будут выдавать документ о соответствии. Думаю, что это правильно – уйти от субъективизма в случае возникновения каких-либо трений с работодателем. Система независимой оценки будет принята со временем для всех должностей во всех отраслях.
На сегодня такие центры только начинают создаваться. Еще нет общего представления, как это будет реально действовать на практике. Поживем – увидим.
– Центры аттестации будут при вузах?
– Нет. Вероятнее всего, на начальном этапе система независимой оценки будет выстроена на уровне региона, города. Все только начинается. Вероятно, что в аттестационные комиссии будут привлекать профильных специалистов, в том числе из вузов и профессиональных организаций (СПО).
– У вас есть представление о том, сколько и какие специалисты требуются отрасли на этот отрезок времени или на перспективу (краткосрочную или долгосрочную)?
– Такой информации, к сожалению, нет. Конечно, нам бы хотелось иметь в этом вопросе более точную информацию. Пока не существует системы прогнозирования потребности в кадрах для отраслевых предприятий по регионам.
На сегодняшний день имеется большая проблема трудоустройства выпускников на предприятия рыбной отрасли. К слову, показатель трудоустройства выпускников учитывается при ежегодном мониторинге деятельности образовательных организаций – они должны достичь установленного Минобрнауки критерия. Кроме того, у учебных заведений есть государственное задание (количество «бюджетников») на подготовку специалистов, в соответствии с которым определяется бюджетное финансирование. Иными словами, государство дает госзадание, выделяет средства, а образовательные организации должны выучить студентов или курсантов и дать готовых специалистов государству для работы в реальных секторах народного хозяйства. Это, конечно, идеальный сценарий.
На практике, к сожалению, все не так. Большинство предприятий рыбной отрасли не являются государственными. По большому счету, государство не может заставлять их нести ответственность за трудоустройство выпускников. Однако не секрет, что сегодня в рыбном хозяйстве имеется проблема с кадрами, связанная со старением персонала и другими социальными и экономическими факторами. Поэтому и для предприятий очень важен вопрос обеспечения своей потребности в кадрах на перспективу, если, конечно, предприятие работает на перспективу своего развития. Вот бы и сложить потребности бизнеса и возможности образовательных организаций в одну систему. Тем самым обозначив вектор развития и системы отраслевого образования, и кадрового обеспечения предприятий.
Безусловно, сегодня учебные заведения делают все возможное для обеспечения трудоустройства своих выпускников. Например, заключают договоры на трудоустройство с «продвинутыми» предприятиями, которые обращаются напрямую к вузам и ссузам. Но, поверьте, таких компаний практически единицы! К сожалению, одних усилий образовательных организаций не хватает. Нужны и реальные действия бизнеса в этом направлении.
– Светлана Владимировна, хотелось бы задать вам, как специалисту в области отраслевого образования, вопрос о перспективах Мурманского государственного технического университета, который «вливают» в Мурманский государственный арктический университет. С этой целью МГТУ уже вывели из системы Росрыболовства и передали в ведение Минобрнауки. Как вы к этому относитесь?
– Укрупнение вузов прокатилось по всей стране волной. Это, знаете, как известное высаживание кукурузы в хрущевское время или вырубки виноградников в рамках борьбы с алкоголизмом – в горбачевское. Сейчас эта волна пошла на спад (кое-где начались уже обратные процессы), но МГТУ под нее все-таки попал.
У России пять основных рыбохозяйственных бассейнов (Северный, Западный, Азово-Черноморский, Каспийский и Дальневосточный). И у каждого из них до настоящего времени был свой профильный отраслевой вуз. Кроме того, сетью филиалов этих вузов мы закрывали еще и внутренние водоемы – реки, озера. А сейчас у нас Северный рыбохозяйственный бассейн остался без своего вуза. Конечно, в этом сыграли роль местные власти с их желанием усилить создаваемый университет за счет потенциала МГТУ.
Мы знаем МГТУ как сильный отраслевой вуз. Они выступили, на мой взгляд, с вполне оправданной инициативой: сохранить морское и рыбохозяйственное образование путем выделения соответствующих направлений и специальностей в отдельное образовательное учреждение – Академию рыбопромыслового флота, которая бы входила в отраслевую систему образования. Заручились поддержкой региональных рыбопромышленных предприятий.
Считаю, что это был бы хороший выход. В том числе и для нас. Так как развивать различные формы межвузовского взаимодействия, например, при сетевой реализации образовательных программ, было бы, безусловно, проще и профессиональнее при отсутствии межведомственных барьеров и ненужных согласований, тормозящих любой процесс. Есть много своих тонкостей, которые характерны именно для нашей профильной системы обучения и их можно было бы решать оперативно и грамотно! Хочу пожелать своим коллегам терпения и мужества!
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

ПОЧЕМУ АГРОПРОМ ТОРМОЗИТ?
После запрета, наложенного властями на импорт сельхозпродукции, ожидалось, что отечественные аграрии совершат революционный прорыв и добьются устойчивого роста производства. Однако оптимистов ждало горькое разочарование.
Эксперты утверждают, что рост сельского хозяйства имел место лишь в течение четырех осенних и зимних месяцев прошлого года. Потом он замер, а с июня 2017 г. пополз вниз. Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин объяснил спад производства холодной погодой.
«У нас июльский показатель сельского хозяйства примерно на 3% ниже прошлого года. В целом это связано со смещением уборки урожая», - отметил министр.
В качестве еще одной причины, затормозившей рост сельхозпроизводства, некоторые эксперты назвали уменьшение размера господдержки, однако министр сельского хозяйства Александр Ткачев с ними не согласился, заявив, что за три последних года поддержка отрасли из федерального бюджета выросла почти на треть - со 190 млрд рублей в 2014 г. до 242 млрд рублей в 2017-м.
Получается, другой причины регресса, кроме скверной погоды, у отечественного агропрома в наличии не имеется. Что ж, в этом нет ничего нового. Еще в советские времена родилась горькая шутка: мол, нашему крестьянину мешают хорошо трудиться четыре причины - зима, весна, лето и осень.
С тех пор у нас сменился строй, но причины, не дающие агропрому удивить страну и мир высокими показателями, остаются все теми же. Однако, перефразируя известную поговорку, на погоду надейся, но и сам не плошай. Между тем плошать продолжаем.
Почему, например, до сих пор не сумели наладить доставку и хранение выращенного урожая? В результате бедствием в равной степени являются как плохой урожай, так и хороший, в гигантских количествах остающийся гнить на полях.
Почему яблочное изобилие из Орловской или Тамбовской областей не попадает в Москву и другие крупные города? Зато туда исправно попадают польские яблоки. Раньше вагоны с ними шли напрямую, теперь, после импортного табу, идут через Белоруссию.
Почему до сих пор мы не в состоянии организовать доставку в центр страны дальневосточной рыбы, а китайцы своей - могут?
Ответы на все эти вопросы должен дать Минсельхоз, правительство в целом, однако ничего, кроме жалоб на погоду, мы от чиновников добиться не можем. Не заметно, чтобы у них была стратегия действий, да и с прогнозами дело обстоит не ахти - то они низкие, то вдруг начинают лезть в гору.
Тут вспоминается библейская притча о египетском фараоне, увидевшем сон про семь тучных коров, которых съели семь тощих коров. Потом он увидел сон, в котором семь полных и хороших колосьев были поглощены колосьями, иссушенными ветром.
Египетские мудрецы, в отличие от молодого еврейского коллеги, истолковать сны не сумели. Иосиф же поведал фараону про семь тучных и семь голодных лет. Пророчество Иосифа сбылось. Потом он еще дал владыке Египта советы, скажем так, из области управления. Они тоже пошли на пользу делу.
Вот бы и нам такого мудреца, который смог бы точно прогнозировать урожаи, а заодно разрабатывать стратегии и выстраивать иерархию приоритетов. Тогда, глядишь, и сезонный фактор не смог бы помешать нашему агропрому получать высокие урожаи.
Максим Грегоров

Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов.
Андрей ФИЛИМОНОВ, Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Значительная часть нарушений в области рыболовства допускается из-за недостаточного знания требований в этой сфере, отмечает заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей Филимонов. В интервью Fishnews он рассказал также о борьбе с незаконным промыслом, которые осуществляют «подфлажники», и ответил на вопросы об аквакультуре.
- Как вы оцениваете ситуацию с браконьерством в зоне деятельности пограничного управления по сравнению с предыдущими годами?
- Комплекс мероприятий, которые пограничные органы проводят по противодействию ННН-промыслу, в значительной степени повлиял на снижение активности браконьеров, работающих под «удобными» флагами.
Согласно межправительственным соглашениям о противодействии ННН-промыслу, таким судам запрещены заходы для сдачи морепродукции в южнокорейские и японские порты. В результате значительная часть недобросовестных добытчиков водных биоресурсов Дальнего Востока отказалась от использования судов-«подфлажников», вывела их из регистра третьих стран. Кроме того, благодаря работе пограничников по защите водных биоресурсов, которая осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными ведомствами, за последние десять лет в подзоне Приморье восстановлена до промышленных объемов популяция краба-стригуна опилио. Сейчас добыча этого объекта разрешена.
Вместе с тем тенденция незаконного лова, который ведут в российской экономзоне иностранные граждане, сохраняется.
Существенным фактором, негативно влияющим на обстановку в морском пограничном пространстве, остаются заходы судов КНР и КНДР в территориальное море и исключительную экономзону России для незаконного лова биоресурсов – кальмара, краба.
Чтобы бороться с такими нарушениями, сотрудники нашего пограничного управления постоянно проводят профилактические мероприятия, в том числе с использованием дипломатических каналов.
- Изменились ли браконьеры – их тактика, оснащение, юридическая защита?
- Тактика браконьеров, которые специализируются на добыче ценных видов водных биоресурсов с использованием «подфлажников», за последнее время сильно не поменялась. Они стремятся действовать скрытно. Поэтому в большинстве случаев стараются установить на суда современное дорогое оборудование, на плавсредства, которые применяются на прибрежном направлении, устанавливают мощные подвесные моторы.
Если говорить о юридической защите компаний-владельцев «подфлажников», то стоит отметить, что, несмотря на многочисленные ухищрения капитанов по сокрытию улик, уйти от ответственности чаще всего не удается.
- Предприниматели, которые занимаются марикультурой в Приморье, жалуются на российских браконьеров, похищающих значительную часть урожая. Можно ли с этим что-то сделать?
- Согласно федеральному закону от 2 июля 2013 г. № 148, аквакультура – это вид предпринимательской деятельности, относящийся к сельскохозяйственному производству.
В соответствии с федеральным законодательством, объекты аквакультуры, ее продукция, рыбоводные участки, объекты рыбоводной инфраструктуры являются объектами гражданских прав, а рыбоводные хозяйства – это собственники объектов аквакультуры. Законодательство четко определяет, что организация охраны рыбоводных хозяйств – вопрос частный, он находится вне компетенции пограничников.
- На какие требования законодательства вы хотели бы обратить внимание рыболовецких компаний?
- Как показывает статистика, значительная доля нарушений в области рыболовства происходит из-за недостаточных знаний требований в этой сфере. Капитанам рыбопромысловых судов следует обратить внимание на полноту и качество ведения регламентируемого перечня документации. При подготовке судовых суточных донесений значения показателей и реквизитов должны строго соответствовать судовому, промысловому и технологическому журналам. На борту судна должен быть документ, который подтверждает соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнений, а также свидетельство об управлении безопасностью для судов. Нужно помнить о том, что запрещается вести учет и представлять сведения о вылове водных биоресурсов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, используемых орудий промысла, сроков, а также районов добычи.
Александр ИВАНОВ, Fishnews
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























