Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Новые технологии, в овладении которыми признался Иран, способны приблизить страну к созданию ядерного оружия и более совершенных ракет. Мировому сообществу становится все сложнее сдерживать Тегеран, а дальнейшее ужесточение политической и технологической изоляции чревато непредсказуемыми последствиями.
Все в дом
В нарушение эмбарго ООН Иран заполучил возможность производить углепластиковые композиционные материалы. "Мы вошли в десятку стран, способных производить их", - сообщил министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. "Это устранит узкое место в иранском производстве современных военных средств", - цитирует главу военного ведомства агентство Associated Press со ссылкой на иранское государственное агентство ИРНА.
Углепластиковые композиты играют одну из ключевых ролей в создании, например, современных твердотопливных ракетных двигателей. Учитывая то внимание, которое Иран уделяет разработке твердотопливных ракет большого радиуса действия, подобное демонстративное объявление не может не вызывать некоторого беспокойства у заинтересованных сторон.
Композитные материалы - вообще одна из чувствительнейших технологий двойного назначения, надзор за экспортом которых в разного рода "неблагонадежные" страны осуществляется очень пристально. Иран попал под мягкую удавку подобного управления развитием после 2004 года, и, насколько можно судить, сразу же противопоставил международным санкциям открытую контрабанду.
Уже в 2005-2006 годах начали появляться сведения о том, что некоторые фирмы, базирующиеся в странах Персидского залива и зарегистрированные на выходцев из Ирана, осуществляют нелегальный ввоз металлокерамических композитов из Китая и Индии.
Металлокерамические композиты - исключительно интересный вид специальных материалов. В частности, без них практически невозможно решить некоторые задачи в области создания конструктивных элементов для тепловыделяющих сборок атомных реакторов - проще говоря, в технологии ядерного топлива. Применяются они и при создании реактивных двигателей, там, где требуются жаропрочные материалы. Как и в случае с углепластиковыми композитами, перед нами попытка ввезти на родину отсутствующую технологию, - и, насколько можно судить, успешная.
Если говорить о режиме контроля за ракетными технологиями, то Иран потихоньку овладевает так называемой "категорией II" - перечнем ключевых решений двойного назначения, не являющихся собственно предметом регулирования оборонного экспорта, однако непосредственно влияющих на возможность развертывания производства современных ракет. Схожие процессы идут и в сфере атомных технологий.
Серебряная пуля для целой отрасли
Проходная, вроде бы, история из нелегкой жизни экспортного контроля на самом деле имеет интересную подоплеку. Речь идет о том, насколько иранская оборонная промышленность вообще способна вести ракетно-ядерный проект в автономном режиме, без заметного технологического трансфера извне. И ответ на такой вопрос все больше похож на "да, способна".
Арабские державы Ближнего Востока порой сильно вкладывались в свои прорывные оборонные программы (главным образом, атомные), но, по сути, их экономики оставались достаточно отсталыми с инженерно-технологической и кадровой точек зрения.
Как правило, речь шла о единичном "секретном объекте", построенном с высоким уровнем внешней помощи. Широчайшие номенклатуры ключевого оборудования ввозились извне, а целый ряд работ на месте осуществлялся иностранными специалистами. Подобная ситуация делала ядерные проекты арабов крайне уязвимыми, провоцируя на хирургические удары по болевым точкам инфраструктуры потенциально опасного производства.
Этим сполна воспользовался Израиль. Сначала в 1981 году его авиация в ходе операции "Опера" разнесла с воздуха иракский реактор "Озирак" в исследовательском центре Аль-Тувайта, чем, по отзывам экспертов, практически аннулировала ядерную программу Багдада. А в сентябре 2007 года подвергся авианалету некий объект на территории Сирии, по ряду сведений, относившийся к ядерному проекту дамасского правительства.
Оба эти удара достигли цели: продвижение недружественных Тель-Авиву арабских режимов к бомбе серьезно затормозилось. Однако в случае с Ираном такая лихая кавалерийская атака системного успеха иметь уже не может. У Израиля нет никакой возможности ее реализовать, и дело здесь отнюдь не в удаленности иранской территории. В конце концов, когда Тель-Авиву в 1976 году потребовалось силой освобождать заложников на угандийском аэродроме Энтеббе, была блестяще проведена операция по нелегальной переброске спецназа над Красным морем, Сомали и эфиопским Огаденом.
Проблема кроется в уровне промышленного и научно-технического развития Ирана, который значительно выше, чем у Сирии или саддамовского Ирака. Это косвенно признают и сами израильтяне, отмечая, что с Тегераном тот же номер, что с Дамаском или Багдадом, не пройдет. "В Иране [атомный] проект выглядит по-другому. Нет такой серебряной пули, чтобы один раз попал, и все", - образно посетовал агентству Reuters высокопоставленный чиновник военного ведомства Израиля.
Иран обладает хорошей научной школой, мощной системой естественнонаучного образования (желающие могут изучить, например, результаты международных физико-математических олимпиад для школьников - иранцы там представлены весьма достойно) и очень качественно организует подготовку инженерных кадров для исследовательских и промышленных задач. Придушить такую научно-производственную махину крайне сложно, если вообще возможно.
По-видимому, привычку воспринимать иранский режим как большого и бестолкового бутуза, которому только атомной бомбы и не хватало для полного счастья окружающих, уже очень скоро придется оставить. Рано или поздно вопрос о праве Ирана на самостоятельное владение самыми современными военными технологиями, не исключая и ядерное оружие, встанет во весь рост.
И чем жестче мировое сообщество будет сдерживать Тегеран технологически и изолировать его политически, не предлагая взамен альтернатив по кооптации на тот уровень мировой политики, которого иранское государство уже де-факто достигло, тем болезненнее для окружающих это право будет реализовано. Константин Богданов, военный обозреватель РИА Новости.
Поговорка о том, куда ведут благие намерения, очень ярко иллюстрирует ситуацию с гуманитарной помощью, которая поступает в Сомали под эгидой ООН. Уже в июле в эту страну было отправлено приблизительно 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Однако, как заявило агентство Associated Press, масштабная программа ООН оказания помощи голодающим сомалийцам не отличается особой эффективностью.Почти половина объемов поступающего в Сомали продовольствия, вовсе не распространяется бесплатно среди голодающих. Как утверждают представители AP, гуманитарную помощь разворовывают «бессовестные бизнесмены». В результате мешки с зерном и другими продуктами с символикой ООН можно обнаружить на сомалийских продовольственных рынках. Данное явление приняло массовый характер, и теперь эксперты ООН занимаются расследованием всех подобных инцидентов. Однако ООН не собирается приостанавливать реализацию программы продовольственной помощи, так как в ином случае масштабы гуманитарной катастрофы в Сомали быстро достигнут критической отметки.
Официальные власти страны, фактически распавшейся на несколько автономных территорий, находящихся под контролем различных формирований, осознают серьезность ситуации, а потому всячески стараются помешать разграблению гуманитарных грузов. Проблема заключается в том, что зона влияния официального правительства Сомали составляет лишь несколько кварталов Могадишо и прилегающих территорий.
По данным ООН от голода в Сомали страдает около 3,2 млн. человек – приблизительно половина населения страны. От засухи, которая и вызвала нынешний голод, уже погибли 29 тысяч детей, которые в своей жизни так и не узнали, что существуют развивающие игрушки от 1 года, осваиваемые их ровесниками в более благополучных странах. Сейчас для всех сомалийцев – и детей, и взрослых, - главной задачей является выживание, а международное сообщество оказывает этой стране всю возможную помощь.
Во вторник, 23 августа, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салех в сопровождении представителей иранского Общества красного полумесяца отправился с визитом в Сомали.
В столице Сомали Магадишу Салехи встретился с высокопоставленными официальными лицами страны: премьер-министром Абдивели Мохамед Али, главой МИД Мохамедом Ибрагимом, министром внутренних дел и национальной безопасности Абдишакур Шейх Хасан Фарахом.
Глава МИД ИРИ посетил пораженные засухой районы Сомали, крупнейший лагерь для беженцев в Могадишу, а также лагерь для пострадавших от засухи и голода сомалийцев, который был открыт при участии иранского Корпуса стражей исламской революции.
В ходе визита иранского министра была достигнута договоренность о том, что президент Сомали Шейх Шариф Шейх Ахмед в скором времени посетит с визитом в Тегеран.
По словам главы МИД ИРИ, Иран уже оказал гуманитарную помощь Сомали в размере 25 млн. долларов.
Конец джамахирии
Повстанцы и НАТО разобрались с режимом Каддафи. Осталось разобраться с Ливией
Ливийские повстанцы ликуют — после пяти месяцев сопротивления режим Каддафи все-таки пал. Мировому сообществу, которое на протяжении всего этого срока поддерживало ливийскую оппозицию, ликовать рано. Только теперь мир увидит, кем на самом деле являются повстанцы, а НАТО, которое в ходе всего конфликта поддерживало оппозицию, узнает цену этой поддержки.
Ситуация в захваченном повстанцами Триполи рискует развиваться по багдадскому сценарию апреля 2003 года. Тогда после того, как американские оккупационные войска вошли в иракскую столицу, страна погрузилась в пучину насилия. Несколько недель местные кланы боролись друг с другом за сферы влияния. «Было бы очень оптимистичным считать, что гражданская война в Ливии закончена. И это понимают все в генералитете НАТО», — заявил «МН» источник в Североатлантическом альянсе, пожелавший остаться неизвестным.
«Тогда американским войскам в конце концов удалось остановить раскол страны, — говорит «МН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. — В Ливии же религиозно-клановая система гораздо пестрее. Сотни арабских племен, десятки берберских. Ливия может стать вторым Сомали, где номинальное центральное правительство контролирует несколько кварталов в столице».
Политический раскол повстанцам грозит после того, как выяснится судьба Муаммара Каддафи. «Пока ливийцам есть против кого бороться, страна останется целой, — заявил «МН» эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. — Когда он уйдет с политической арены, сразу возникнут противоречия внутри новых властей, будет расти экстремистский мусульманский фактор, и кто выйдет победителем в этой борьбе, неизвестно».
В любом случае НАТО декларирует, что не будет играть роль рефери на ливийском политическом ринге. «Мы придерживаемся той позиции, которую избрали с самого начала: мы готовы помогать ливийским народным властям, и только в том случае, если нас об этом попросят. Основной контакт между Переходным национальным советом (ПНС) и международным сообществом поддерживают ООН и контактная группа стран, не Североатлантический альянс», — добавил «МН» источник в НАТО. США также неоднократно заявляли, что не собираются вмешиваться в дела новых ливийских властей и только готовы в ограниченной степени поддерживать международную военную операцию против Каддафи.
Однако полностью устраниться от ответственности за развитие событий в Ливии Запад явно не сможет. Муаммар Каддафи стал не просто четвертой (после сбежавшего из Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, судимого в Египте Хосни Мубарака и де-факто свергнутого в Йемене Али Абдаллы Салеха) жертвой «арабской весны». В ливийском конфликте силы коалиции открыто поддержали в ходе гражданской войны одну из сторон, которая вела борьбу за полный контроль над страной и в итоге получила его. Подобных прецедентов в истории Североатлантического альянса не было.
«Сконцентрировавшись на падении Каддафи, мы не обращали достаточно внимания на то, что произойдет вслед за этим, — заявил «МН» бывший командующий центром по выработке стратегии сухопутных сил, один из лучших современных военных стратегов Франции генерал Винсен Депорт. — После войны нужно создать ситуацию, которая была бы лучше, чем довоенное положение. Я не уверен, что мы принимаем достаточно мер для этого».
По мнению генерала, в Ливии будет трудно найти политическую силу, способную распространить власть на всю страну и стабилизировать ее.
«В любом случае нужно будет восстановить государство, — продолжает генерал. — Для этого потребуется стабилизационный контингент. Предположим, его решит направить ООН. Но на это решение потребуется полгода. До тех пор Евросоюз должен направить туда силы, которые обеспечат порядок до прихода контингента ООН».
Предпосылки для мрачных прогнозов есть. Противоречия между повстанцами, о которых говорили давно, стали очевидны всем 29 июля, когда неизвестные боевики в Бенгази расстреляли главнокомандующего сил ПНС и одного из немногих профессиональных генералов в составе повстанцев Абделя Фатаха Юниса. Он был одним из старейших соратников Каддафи и переметнулся к повстанцам в начале гражданской войны.
Юнис прибыл в Бенгази, повинуясь ордеру, подписанному заместителем главы исполкома ПНС Али аль-Исави. Впоследствии выяснилось, что целый ряд коллег аль-Исави если не организовали, то были связаны с убийством генерала или знали о нем. 8 августа исполнительный комитет был расформирован практически в полном составе по приказу председателя совета Махмуда Абделя Джалиля.
Вчерашний арест повстанцами в Триполи сына Каддафи Сайф аль-Ислама, который долгое время был главным «публичным лицом» Ливийской джамахирии и сосредоточил в своих руках немалую власть, обнажил еще одну проблему. Сайф аль-Ислама наряду с его отцом и главой ливийской разведки Абдуллой Сенусси ждут в Гааге — Международный уголовный суд выписал ордер на их арест. Однако многим членам руководства ливийских повстанцев эта идея не нравится, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«Если Каддафи и его соратники начнут на суде говорить перед телекамерами, мир сможет услышать немало любопытных вещей про тех же руководителей ПНС, — заявил собеседник «МН». — Некоторые из них бывшие каддафисты, вовремя предавшие режим для того, чтобы взять власть в стране в свои руки».
У стремительного успеха, который в последние дни развили в Ливии повстанцы, есть две составляющие: прогресс в обучении военному делу, которым они обязаны присланным из Европы спецназовцам, и более высокая точность авиаударов НАТО. Хотя альянс и открещивается от прямой помощи повстанцам, именно улучшение координации между силами НАТО в воздухе и силами революционеров на земле сыграло решающую роль в судьбе ливийской диктатуры.
Повстанцы со временем научились пользоваться технологиями, предоставленными им союзниками, лучше выбирать цели и передавать их местоположение в командный центр в Италии, говорит старший политический аналитик американского стратегического исследовательского центра RAND Фредерик Уэйри. Это произошло главным образом благодаря тому, что самые активные участники ливийской операции Великобритания и Франция направили в помощь повстанцам своих спецназовцев, чтобы тренировать и вооружать их. В итоге кумулятивный эффект не только уничтожил военную инфраструктуру Ливии, но и значительно уменьшил способность подчиненных полковника Каддафи управлять вооруженными силами. «Мы всегда знали, что настанет момент, когда эффективность правительственных вооруженных сил сократится почти до нуля и центр больше не сможет руководить ими, — заявил The New York Times неназванный представитель НАТО. — Действия НАТО становились все более точными. США с помощью беспилотников Predato круглосуточно следили за все уменьшающимися областями, находящимися под контролем ливийских вооруженных сил, и наносили по ним удары».
Однако об окончательной победе революции говорить рано. В понедельник днем председатель ПНС Мустафа Абдель Джалиль признал на пресс-конференции в Бенгази, что повстанцы контролируют Триполи не полностью: верные Каддафи войска до сих пор оказывают сопротивление мятежникам. «Резиденция Каддафи и окрестности остаются вне нашего контроля. По этой причине мы не знаем, где находится Каддафи». Каддафи остается главной целью повстанцев. Как заявил представитель ПНС Ахмед Джибриль, операция «Сирена» будет продолжаться до тех пор, пока полковник не сдастся.
По некоторым данным, Каддафи находится в больнице города Таджур неподалеку от Триполи. Кроме того, арабские телеканалы сообщают, что в аэропорту видели два самолета из ЮАР, и предполагают, что они были высланы для того, чтобы эвакуировать Каддафи. Инициатива Африканского союза состояла в том, чтобы предоставить опальному ливийскому лидеру убежище в одной из африканских стран, не входящих в юрисдикцию МУС. Впрочем, МИД ЮАР после этих сообщений официально заявил, что не помогает Каддафи.
Эксперт американского совета по международным делам Дэниел Сервер опубликовал статью, в которой утверждает, что даже если повстанцам удастся полностью уничтожить всех сторонников режима Каддафи, междоусобные войны тут же начнутся в их собственных рядах. Гуманитарная проблема будет не менее сложной: по крайней мере полмиллиона ливийцев покинули свои дома. Как минимум половина из них до сих пор в Ливии, а те, кто бежал, будут стремиться вернуться в страну, как только режим Каддафи падет. Возникнут проблемы с пищей, водой, жильем и медицинским обслуживанием. Если в городах прекратится водо- и электроснабжение, беспорядки усилятся, предсказывает эксперт.
Такие результаты повредили бы имиджу американцев и их союзников по НАТО, а кроме того, вызвали бы проблемы с поставками электроэнергии, потерей крупных инвестиций и непрекращающимся потоком беженцев. Ливийские беженцы могут также создать проблемы Тунису, Египту и остальному Средиземноморью.
Главной задачей международного сообщества Сервер называет обеспечение безопасности. Для этого, по его словам, нужно быстро разместить несколько тысяч миротворцев военизированных формирований, которые могли бы поддерживать порядок в Триполи и других населенных пунктах. Если это не сработает, продолжает эксперт, то может потребоваться вмешательство НАТО. «Но только в крайнем случае, чтобы предотвратить раскол страны и гуманитарную катастрофу. Тогда международное сообщество может вмешаться без приглашения ливийских властей, а США могут начать наземную операцию», — говорит Сервер.
«У США в Ливии не так много интересов, но им необходим более или менее спокойный переход от режима Каддафи к более открытой, демократической Ливии, чтобы оправдать вмешательство международных сил под командованием НАТО, — считает Сервер. — Если к тому же удастся возобновить экспорт нефти и газа из Ливии, то это продемонстрирует способность международного сообщества управлять подобными конфликтами и в других странах «арабской весны», в том числе в Йемене и Сирии».
Именно политическая нестабильность остается главной угрозой для возобновления экспорта ливийской нефти. До войны страна производила около 2 млн баррелей нефти в день. Основными потребителями ливийской нефти была Италия (на нее приходилось 28% ливийского экспорта), Франция (15%) и Германия (10%).
В западных компаниях, которые разрабатывали ливийские месторождения, нам заявили, что внимательно отслеживают ситуацию в стране, но о сроках своего возвращения на рынок сказать не готовы.
Во французской компании Total «МН» заявили, что возобновить операции в Ливии пока не могут из соображений безопасности. Представитель немецкой Wintershall Анна Бунгартен заявила «МН», что они закрыли свое представительство в Ливии и блокировали операции по добыче нефти в пустыне в конце февраля и пока не восстанавливали. «Мы выслали своих сотрудников из страны и оставили только местных, которые охраняют производственные мощности на месторождениях, — говорит она. — На данный момент еще слишком рано предсказывать, когда, как и при каких условиях производство в Ливии может начаться снова».
В итальянской Eni со ссылкой на главного операционного директора компании Клаудио Дескальци «МН» заявили, что Eni может перезапустить производство газа в течение 2–3 месяцев после разрешения конфликта, а для возобновления экспорта и производства нефти понадобится год. Они отказались отвечать на вопрос, с кем им удобнее работать — с правительством Каддафи или с новой властью.
Главный аналитик нефтяного рынка банка Nordea Bank Norge Тина Салдведт отметила в разговоре с «МН», что говорить о восстановлении былых объемов экспорта еще очень рано. По ее подсчетам, должно пройти не менее 2–3 лет, чтобы окончательно наладить и производство в нужном объеме, и поставки в Европу.
«С режимом Муаммара Каддафи крупным компаниям вести дело было трудно, — говорит Тина Салдведт. — Правительство слишком жестко контролировало рынок, устанавливая высокие экспортные цены и затрудняя инвестиции в промышленность. Не совсем было понятно, куда и кому они уходят, а сама отрасль становилась игрушкой в руках политиков и была очень коррумпированна. Теперь все должно измениться».
Представитель Международного энергетического агентства Грег Фрост говорит, что на восстановление экспорта нефти Ливии потребуется не более двух лет, а местного производства — несколько недель.
«Падение режима Каддафи позволит возобновить производство нефти, а значит, европейский рынок от этого только выиграет. И компании смогут вернуться уже на новых условиях», — заявил он «МН».
В компаниях «Лукойл» и «Газпромнефть» корреспондентам «МН» сказали, что в ближайшее время вести переговоры с ливийской Национальной нефтяной корпорацией о контрактах в Ливии не собираются.
Спецпредставитель президента РФ по Африке Михаил Маргелов заявил «МН», что международная операция НАТО в Ливии не принесет положительных результатов. «Это лишь очередная страница, трагическая страница в истории страны», — говорит он. Россия никогда не поддерживала военную операцию стран НАТО в Ливии, подчеркивает наш собеседник: наоборот, Москва продолжает придерживаться позиции, согласно которой достижение национального единства в Ливии может произойти только в случае начала переговоров между силами Каддафи, ПНС, союзниками двоюродного брата ливийского диктатора Ахмада Каддафи ад-Дама, который сегодня базируется в Каире, а также представителями королевской династии Ливии, которая была свергнута Каддафи и ныне находится в европейской иммиграции. «Захват повстанцами Триполи — лишь новый этап ливийского политического кризиса», — полагает Маргелов. Мария Ефимова, Игорь Крючков, Владимир Добровольский , Елена Данилович
Поговорка о том, куда ведут благие намерения, очень ярко иллюстрирует ситуацию с гуманитарной помощью, которая поступает в Сомали под эгидой ООН. Уже в июле в эту страну было отправлено приблизительно 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Однако, как заявило агентство Associated Press, масштабная программа ООН оказания помощи голодающим сомалийцам не отличается особой эффективностью.Почти половина объемов поступающего в Сомали продовольствия, вовсе не распространяется бесплатно среди голодающих. Как утверждают представители AP, гуманитарную помощь разворовывают «бессовестные бизнесмены». В результате мешки с зерном и другими продуктами с символикой ООН можно обнаружить на сомалийских продовольственных рынках. Данное явление приняло массовый характер, и теперь эксперты ООН занимаются расследованием всех подобных инцидентов. Однако ООН не собирается приостанавливать реализацию программы продовольственной помощи, так как в ином случае масштабы гуманитарной катастрофы в Сомали быстро достигнут критической отметки.
Официальные власти страны, фактически распавшейся на несколько автономных территорий, находящихся под контролем различных формирований, осознают серьезность ситуации, а потому всячески стараются помешать разграблению гуманитарных грузов. Проблема заключается в том, что зона влияния официального правительства Сомали составляет лишь несколько кварталов Могадишо и прилегающих территорий.
По данным ООН от голода в Сомали страдает около 3,2 млн. человек – приблизительно половина населения страны. От засухи, которая и вызвала нынешний голод, уже погибли 29 тысяч детей, которые в своей жизни так и не узнали, что существуют развивающие игрушки от 1 года, осваиваемые их ровесниками в более благополучных странах. Сейчас для всех сомалийцев – и детей, и взрослых, - главной задачей является выживание, а международное сообщество оказывает этой стране всю возможную помощь.
Черная напасть
Российская гуманитарная помощь Африке остается минимальной
С самой страшной за последние 60 лет засухой в Африке мир борется практически без участия России. Эксперты утверждают, что помощь Черному континенту не относится к главным приоритетам Москвы.
Сегодня в Риме пройдет экстренное заседание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на котором эксперты и руководители министерств сельского хозяйства обсудят меры борьбы с засухой. Стихийное бедствие ударило по Восточной Африке. Особенно трудное положение сложилось в Сомали, Эфиопии, Уганде, Кении и Джибути, густонаселенных странах с низким уровнем жизни. По данным экспертов ООН, на преодоление кризиса необходимо около $2,5 млрд, засуха может унести жизни 12,4 млн человек.
Другая часть проблемы в том, что существенный процент предоставляемой помощи (предположительно от 10 до 20%) разворовывают нечистые на руку африканские «гуманитарные организации» или местные власти. «Центр засухи — это Сомали, государство, которое существует только на карте, — рассказал «МН» российский африканист Аполлон Давидсон. — Внутриклановые распри и отсутствие какого-либо центрального аппарата делают невозможным распределение там международной помощи».
В ФАО подтвердили, что многие гуманитарные организации ООН сталкиваются в Сомали с большими проблемами. «Например, Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая занимается раздачей непосредственно продовольствия, не могла получить доступ в ряд районов, — заявила «МН» официальный представитель ФАО Ирина Уткина. — Наша организация, в свою очередь, специализируется на более долгосрочной помощи. Мы прежде всего раздаем фермерам семена и инструменты, помогая им пережить тяжелые времена. Это не вызывает такого неприятия, как раздача гуманитарной помощи».
Найти информацию о российских денежных вливаниях в Африку оказалось сложно. В общеафриканском отделе МИД РФ отказались комментировать российское участие в борьбе с голодом. Сотрудники департамента министерства по гуманитарному сотрудничеству и правам человека сказали «МН», что в их компетенцию африканская помощь не входит. Представители Россотрудничества (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) заявили нам, что их профиль — культурные связи, а африканские проблемы их не затрагивают. Российское МЧС в свою очередь пояснило, что высылает спасательную технику по приказу властей РФ и ничего не знает о том, сколько это стоит. Пресс-служба Минфина РФ заявила, что вопросами распределения гуманитарной помощи Африке занимаются два человека, и они оба в отпуске, так что комментарии по техническим причинам можно будет получить лишь в понедельник.
Источник, близкий к отечественной программе содействия международному сотрудничеству, отметил, что российская государственная система распределения гуманитарной помощи — одна из самых закрытых и нетранспарентных в мире. «Этим занимается МИД вместе с Минфином при поддержке Всемирного банка. Кроме того, часть программ проходит через Россотрудничество и МЧС, — утверждает источник. — В 2007 году эта сумма составляла около $200 млн, а в 2010 году — уже $800 млн. И если раньше иностранные эксперты уже заявляли, что эти фонды используются для отмывания денег, то по мере роста сумм они будут делать это все громче».
Однако Джейн Говард, официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН, приоткрыла завесу тайны. «В текущем году Россия поддерживает Кению ($1 млн) и Гвинею ($1 млн), — заявила она «МН». — Говоря о кризисе на Африканском Роге, российский постпред про ФАО и ВВП Алексей Мешков ранее в этом месяце заявлял, что Россия собирается направить $2 млн Сомали. Он также добавил, что Россия может увеличить эту сумму в дальнейшем».
Нежелание помогать африканскому континенту объясняется приоритетами политики РФ, заявил «МН» глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. «Российская кризисная помощь распространяется примерно на десять стран, — рассказал Кокорин. — Однако эти программы акцентированы прежде всего на Средней Азии, в частности на Таджикистане и Киргизии».
В распоряжение «МН» попал документ с семинара «Стратегические коммуникации в рамках российской программы оказания помощи международному развитию», который проводился в начале текущего года под патронатом Всемирного банка. В нем перечисляются приоритетные направления, куда должна распространяться помощь. Первым пунктом идут «бывшие страны СНГ, преимущественно участники договора об интегрированном экономическом пространстве и Евразийского экономического сообщества», вторым — Азия, третьим — Африка, четвертым — Ближний Восток, пятым — Латинская Америка. Игорь Крючков, Мария Ефимова
Япония, Россия и Нигерия лидируют по показателям средней стоимости рекламного клика (CPC) и средней цены за тысячу показов рекламы (CPM) в социальной сети Facebook, свидетельствуют данные исследовательской компании SocialBakers.
Средний CPC на японском рынке составляет 3,96 доллара, в России - 3,72 доллара, в Нигерии - 3,53 доллара. Примечательно, что, согласно статистике SocialBakers, в российском сегменте показатель с начала года колебался в пределах 1-2 доллара, а резкий скачок цен произошел в конце июля текущего года.
В США, где расходы на онлайн-рекламу уже стали опережать бюджеты на печатную, средняя стоимость клика оценена в 2,41 доллара, по этому показателю США находятся на девятом месте. Минимальные показатели зафиксированы в Сомали и на Сейшельских островах (по 0,12 доллара), в Гамбии и на Маршалловых островах (0,11 доллара). Лишь в четверти из 213 исследованных стран средняя стоимость рекламного клика на Facebook превышает 1 доллар США.
Те же страны лидируют по среднему показателю CPM - в Японии он составляет 1,7 доллара, в России - 1,6 доллара, в Нигерии - 1,52 доллара. Средняя цена за тысячу показов рекламы превышает 1 доллар лишь в десяти странах мира, включая США, Южную Африку и Казахстан.
По данным TBG Digital на конец июня 2011 года, стоимость рекламного клика в социальной сети Facebook на ключевых рынках США, Франции, Великобритании и Германии выросла в среднем на 74% по сравнению с предыдущим годом. Цена кампаний в расчете на тысячу демонстраций рекламного объекта (cost-per-thousand impressions) на Facebook выросла за тот же период на 45%. Средняя стоимость рекламного клика на Facebook в этих странах в 2010 году составляла 0,49 доллара.
Рост цен на рекламу в соцсети связан с тем, что крупные бренды перераспределяют свои рекламные бюджеты от традиционных каналов телевидения и печатных изданий в пользу интернета, в то время как Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире с более чем 750 миллионами пользователей.
Рекламная выручка социальной сети Facebook за 2010 год, которая активизировала монетизацию сервиса и продолжает разработку рекламных форматов, составила порядка 1,86 миллиарда долларов. В 2011 году, по прогнозу аналитиков Wedbush Securities, доля Facebook на глобальном рынке онлайн-рекламы составит 4%, выручка - порядка 2,84 миллиарда долларов. К 2015 году рост этих показателей прогнозируется до 15,4% и 15,55 миллиарда долларов соответственно. Алина Гайнуллина
Голодные цены
Неурожай в США поможет российским сельхозпроизводителям
Всемирный банк сообщил о рекордном росте цен на продовольствие. По итогам июля 2011 года, рост в годовом выражении составил 33% — подобная картина наблюдалась лишь летом 2008 года. Высокие цены грозят населению беднейших стран — в Восточной Африке уже начался голод. А вот российским производителям рост цен на руку, в стране ожидается хороший урожай.
Всемирный банк в понедельник вечером опубликовал информацию о скачке цен на продовольствие: цены на сахар выросли за год на 62%, на пшеницу — на 55%, а на соевое масло — на 47%. Настоящим лидером роста стала кукуруза, подорожавшая на 84%. Среди основных факторов названы дорогие удобрения и рост цен на нефть почти на 45% за год.
В России цены на продовольствие, которые до сих пор оставались высокими после прошлогодней засухи, постепенно снижаются. В июле стоимость продуктов питания была на 0,9% ниже, чем год назад. Эта же тенденция заметна в первую неделю августа: цены на гречку, самый дефицитный товар в прошлом году, снизились на 0,9% за неделю, а на пшено, муку, масло подсолнечное и некоторые другие продукты — на 0,1–0,2%.
Производители заявляют о рекордных снижениях оптовых цен на зерно и гречку. С 29 июля по 5 августа цены на пшено упали с 26,3 тыс. руб. до 17,9 тыс. руб. за тонну, сообщил вчера Интерфаксу генеральный директор ООО «Прозерно» Владимир Петриченко. За эту же неделю гречка подешевела на 2860 руб. за тонну, до 60,1 тыс. рублей.
В России урожай в этом году оказался лучше, чем в засушливом прошлом году. В России, по данным Минсельхоза, к 14 августа было произведено 45,3 млн т зерна — почти на 16% больше, чем в 2010 году. Минсельхоз планирует собрать 85–90 млн т зерна.
Но не во всем мире урожай оказался настолько удачным. США в этом году сильно пострадали от стихии: разлив Миссисипи привел к потере части урожая риса, юго-восточные штаты пережили засуху, а ряд регионов накрыли торнадо. Американский минсельхоз еще весной прогнозировал, что катаклизмы снизят производство зерна в Штатах на 7%, а на мировом рынке крупнейшего экспортера заменят страны Азии и ЕС. Ведомство недооценило потери — по последней оценке, будет произведено на 20% меньше зерна. Мировые запасы риса, пшеницы и кукурузы уменьшились, по оценке ведомства, на 2,5%, — странам приходится открывать резервы, чтобы сдержать рост цен.
Российским производителям зерна неудачный урожай в США и рост мировых цен уже помогли — удержали внутренние цены от падения, признал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Но на росте экспорта российским производителям заработать вряд ли удастся — вывозится и так уже достаточно много зерна, добавил эксперт.
На данный момент от кризиса продовольствия сильнее всего пострадали страны Африканского Рога. Голод, разразившийся там, может унести жизни 12 млн человек. Наиболее пострадала от голода раздираемая гражданской войной Сомали. Продовольственный кризис в стране затронул уже 3,7 млн человек. Рост цен на продукты местного производства, например на красный сорго, достигает 240%, сообщает Всемирный банк. Ольга Шамина
Иранское отделение Красного Полумесяца готово направить вторую партию гуманитарной помощи голодающим в Сомали, сообщает в воскресенье иранское информационное агентство Фарс со ссылкой на руководителя Организации Махмуда Мозаффара.
В минувший четверг голодающие дети Сомали получили 40 тонн гуманитарной помощи из Ирана. С начала июля сотни тысяч сомалийцев в результате засухи, которая стала причиной голода в Восточной Африке, покинули свои дома и направились за помощью в столицу Сомали - Могадишо. Кроме этого, лагеря для беженцев из Сомали, работу в которых благотворительные организации ведут еще с середины июля, разбиты в Кении. По сведениям ООН за последние три месяца от последствий засухи скончался каждый десятый ребенок в возрасте до 5 лет.
"Вторая партия гуманитарной помощи, которую Иран собирается направить в Сомали, обеспечит лекарствами более 50 тысяч сомалийцев. Иранское отделение Красного Полумесяца - одна из первых организаций, решившая помощь голодающим сомалийцам", - приводит агентство слова Мозаффара.
По его словам, ни одна из западных стран, включая США, до сих пор не направили в Сомали "никакой гуманитарной помощи или лекарства".
"Только Турция, ОАЭ и Кувейт направили свою помощь и группы людей в Сомали", - отметил Мозаффар.
По данным ООН, в Сомали половина населения живет на грани голода. При этом более двух миллионов из них проживают в южных районах, контролируемых боевиками-исламистами, закрывшими международным гуманитарным организациям доступ в эту часть страны.
Всего же, по оценкам ООН, на востоке Африки нехватку продовольствия из-за засухи испытывают более 11 миллионов человек.
Значительный рост в последние недели числа пиратских нападений у побережья Бенина в Западной Африке вынуждает десятки судов избегать маршрутов близ этой страны, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на командующего ВМС Бенина.
Лондонские компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, уже внесли Бенин в список районов, особо опасных для плавания.
"Десятки судов уже покидают наши воды из страха перед этими пиратами", - заявил командующий ВМС Максим Ахойо (Maxime Ahoyo), не приведя при этом точные цифры о числе нападений.
Пиратство в Гвинейском заливе, отмечают эксперты, несравнимо по масштабам с пиратством у берегов Сомали, однако, если прилегающие к заливу страны не усилят свои флоты, число атак может увеличиться.
Президент Бенина Бони Яйи (Boni Yayi) призвал к проведению саммита по проблеме пиратства.
Сомали не может справиться с проблемой пиратства с 1991 года, когда страна перестала существовать как единое государство после падения режима Мохаммеда Сиада Барре, правившего с конца 1960-х годов. Сейчас в качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство Сомали, однако последнее контролирует лишь часть столицы - города Могадишо и ряд небольших районов распавшегося государства.
Борьба с пиратами у побережья страны ведется в рамках проводимой с 2008 года военно-морской миссии Евросоюза "Аталанта" и начатой в 2009 году операции НАТО Ocean Shield. В ходе нее, помимо первоочередной задачи борьбы с пиратством, предполагается также помочь странам региона запустить собственные меры противодействия пиратам. В операциях по защите судоходства участвуют и российские корабли.
Швеция продолжает свою помощь пострадавшим от засухи странам Африканского рога. Часть территории этого полуострова на востоке Африканского континента входит в состав государства Сомали, а часть - в состав Эфиопии. Только в Сомали в неотложной помощи нуждаются 3,7 миллиона человек. А потребность в помощи, на самом деле, значительно больше, говорит Абдуллахи Аресс/ Abdullahi Aress, работающий в СИДА/Sida:
- Потребность в помощи безгранична, а не сиюминутна, поскольку в ней нуждаются не только умирающие от голода люди, но и те, кто потерял вследствие засухи весь свой скот. То есть, помощь нужна и в более дальней перспективе, говорит он, заверяя, что помощь доходит до тех, кто в ней нуждается. В СИДА поступают ежедневные отчеты о том, сколько еды доставлено и сколько детей, получивших питание, было зарегистрировано в центрах кормления, - говорит он.
Швеция - через СИДА и МИД - выделила уже 350 миллионов крон в помощь голодающим региона. Кроме того, миллионы крон собирают добровольные объединения и благотворительные организации. Только шведское отделение Красного Креста уже отправило семь миллионов крон, использованных на еду и лекарства, говорит Тумас Сёдерман/Thomas Söderman, советник Красного Креста по катастрофам:
- 162 000 человек получили месячный паек продуктов, благодаря нашей помощи. И мы продолжаем работать в разных регионах страны, и не только с доставкой продуктов, но и питьевой воды, и лекарств, - говорит он.
Среди тех, кто работает в сомалийской столице Могадишо, есть и представители шведского отделения организации "Врачи без границ". Медсестра Карин Фишер-Лиддл/Karin Fischler Liddle, по пути из Кении в Могадишо, отметила дополнительную проблему - эпидемию кори, которая оособенно опасна для детей младше пяти лет:
- Наш персонал работает в лагерях беженцев. Прежде, чем распределять помощь, надо составить себе четкую картину, иначе мы создадим только хаос, панику и будем дублировать работу друг друга. Поэтому, мы сначала знакомимся с ситуацией и теперь, в частности, начали кампанию прививок детей от кори. Потребности огромны, мы каждый день нанимаем новых людей, - рассказывает она, подчеркивая, что речь пока идет о Сомали и столице Могадишо, где она проработала много лет. Работать там отнюдь небезопасно и, например, шведская телевизионная команда вынуждена передвигаться под конвоем восьмерых вооруженных охранников.
США выделяют дополнительные 105 миллионов долларов на гуманитарную помощь страдающим от голода в Восточной Африке.
"После сильнейшей засухи в Восточной Африке за последние 60 лет ООН объявила, что голод сейчас затрагивает пять областей Сомали и может скоро распространиться по южной части страны. Тысячи сомалийцев бегут от голода и ищут убежища в Кении и Эфиопии, также пострадавших от засухи. По данным ООН, более 12,4 миллиона человек в Эфиопии, Кении и Сомали остро нуждаются в гуманитарной помощи", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джея Карни.
В этом году, отметил Карни, США выделили примерно 565 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи.
"Сегодня от лица американского правительства и американского народа, президент одобрил выделение дополнительных 105 миллионов долларов на экстренную помощь в регионе Африканского рога... США продолжат помогать финансировать поставки необходимого продовольствия и воды, а также медицинскую помощь и улучшение санитарных условий для тех, кому отчаянно нужна помощь", - отмечается в сообщении. Мария Табак
Переходное правительство Сомали предлагает боевикам движения "Аш-Шабаб" амнистию и призывает их "воссоединиться" со своим народом, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя правительства.
"Мы предлагаем амнистию: бросьте ваше оружие и боеприпасы, придите и воссоединитесь с вашим народом и вашей страной", - приводит агентство слова представителя переходного правительства Сомали Абдирахмана Османа (Abdirahman Osman).
По его словам, боевики должны наконец-то сделать свой выбор и "положить конец войне".
В прошлую субботу президент Сомали Шариф Шейх Ахмед заявил, что правительственные войска одержали победу над боевиками движения "Аш-Шабаб", заставив их начать вывод своих группировок из столицы страны Могадишо.
Вооруженные столкновения начались в столице Сомали Могадишо еще в конце июня, на следующий день после того, как в город были по воздуху доставлены первые гуманитарные грузы Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), призванные спасти регион от продовольственного кризиса.
Продовольствие доставляется в Могадишо по воздуху, так как морской путь его доставки в настоящее время небезопасен и отнимает гораздо больше времени.
Ранее ООН распространила заявление, в котором предупредила мировое сообщество о гуманитарной катастрофе и угрозе голодной смерти для более чем семи миллионов сомалийцев на юге страны, если им немедленно не окажут продовольственную помощь.
Само исламистское движение "Аш-Шабаб" считает предупреждение ООН об угрозе голодной смерти для миллионов сомалийцев политически ангажированным и не соответствующим действительности.
Сомали перестала существовать как единое государство с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее лишь отдельные кварталы Могадишо и часть окраинных районов распавшегося государства.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе исламистская группировка "Аш-Шабаб", имеющая связи с группировкой "Аль-Каида".
Погром в Тоттенхэме
Власти опасаются повторения французского сценария
В ночь на воскресенье в лондонском районе Тоттенхэм произошли уличные беспорядки, каких британская столица не видела много лет. В столкновениях между полицией и толпой примерно в 500 человек пострадали 26 полицейских. Сгорели две полицейские машины и автобус, разграблено и подожжено несколько магазинов, повреждены здания местной администрации. Более 40 человек арестовано.
Причиной беспорядков стала смерть местного жителя— 29-летнего чернокожего Марка Даггана. По официальной версии, в четверг Даггана попытались задержать полицейские из подразделения по борьбе с вооруженными уличными бандами. Как заявляет полиция, Дагган первым открыл огонь и был убит ответным выстрелом.
Семья убитого не стала дожидаться результатов судебного расследования и в субботу пришла к местному полицейскому участку требовать объяснений. Начала собираться толпа. Стычки с полицейскими быстро переросли в массовые беспорядки и погромы.
«У полиции не хватило порядочности и уважения к нам, чтобы выйти и объяснить, что происходит,— заявила одна из протестующих.— Мы будем приходить сюда каждый день, пока не получим ответы на наши вопросы».
Как рассказывают очевидцы, полицейские поначалу закрылись в участке, надеясь, что толпа разойдется, и лишь когда ситуация полностью вышла из-под контроля, попытались остановить погромщиков.
«Я не мог поверить своим глазам,— сказал журналистам продавец одного из магазинчиков на главной торговой улице района, иммигрант из Африки,— люди грабили магазины, тащили еду, выпивку, мобильные телефоны— все подряд. Я могу представить такое где-нибудь в Сомали, но в Лондоне это было видеть странно. Должно быть, люди сильно недовольны жизнью».
Полиция опасается, что толпу погромщиков в Тоттенхэм привлекли сообщения в социальных сетях. Уже в первые моменты беспорядков более 100 фотографий горящих полицейских машин появилось в Twitter и на других сайтах. Заместитель мэра Лондона Кит Молтхаус пообещал, что полиция сделает все, чтобы в следующую ночь беспорядки не повторились.
Сейчас полиция утверждает, что беспорядков ничто не предвещало, и отрицает наличие каких-либо проблем в отношениях с молодежью Тоттенхэма. Авот представители местной общины говорят, что эти отношения в последнее время заметно ухудшились.
«Власти недооценивают силу коллективной памяти»,— говорит руководитель местного молодежного центра Симеон Браун, намекая на события 1985 года. Тогда конфликт между полицией и жителями муниципального микрорайона Броудуотер-Фарм разгорелся после того, как одна женщина умерла от разрыва сердца после полицейского обыска. Он закончился настоящим побоищем, в результате которого погибли два стража порядка и еще 58 полицейских были отправлены в больницу. Хотя Тоттенхэм с тех пор внешне изменился, основные проблемы, как говорят его жители, остались: безработица, нищета, напряженные отношения с полицией. Малоимущие получают здесь государственное жилье в основном бесплатно.
Застреленный в четверг Марк Дагган вырос и жил в том же Броудуотер-Фарм. Его сосед Джон Блейк заявил газете Daily Mail: «Язнаю, что полиция его запугивала. Если вы живете в Броудуотер-Фарм, полиция следит за вами постоянно».
Проблема уличных вооруженных банд в районах с преимущественно чернокожим населением тревожит власти. Полиция оказалась там в непростой ситуации: борьба с бандами тинейджеров требует жестких мер, которые вызывают в местных общинах возмущение, способное вылиться в уличные протесты. Как показали события в Тоттенхэме, протесты легко перерастают в беспорядки и грабежи.
Однако наибольшую тревогу лондонских властей вызывает возможность повторения французского сценария, когда конфликт полиции с абсолютно отчужденной от общества иммигрантской молодежью привел к по-настоящему масштабным столкновениям. Александр Баранов
Супруга вице-президента США Джилл Байден на выходных побывает в Кении, чтобы оценить ситуацию с поставками продовольствия в пострадавшую от сильнейшей засухи Сомали.
"Я хотела бы сказать несколько слов по голоду в Сомали. Доктор Джилл Байден возглавит делегацию высокопоставленных официальных лиц, которая включает главу Агентства по международному развитию Раджива Шаха и заместителя госсекретаря США Эрика Швартца, и которая отправится на выходные в Кению, чтобы оценить ситуацию. Ситуация в Сомали и восточной Африке очевидно свидетельствует о том, что нам всем надо реагировать на разворачивающуюся там человеческую трагедию", - объявила в четверг на совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой Джоном Бэрдом госсекретарь США Хиллари Клинтон.
По данным ООН, в Сомали в продовольственной помощи нуждаются миллионы людей. При этом более двух миллионов из них проживают в южных районах, контролируемых боевиками-исламистами, закрывшими международным гуманитарным организациям доступ в эту часть страны.
Всего же, по оценкам ООН, на востоке Африки нехватку продовольствия из-за засухи испытывают более 11 миллионов человек.
Сомалийское исламское движение "Аш-Шабаб" считает предупреждение ООН об угрозе голодной смерти для миллионов сомалийцев, проживающих на юге страны, политически ангажированным и несоответствующим действительности. Мария Табак
15-ти метровая лодка, которая причалила с южной стороны итальянского острова Лампедуза помимо 271 живого беженца предположительно из Нигерии, Ганы и Сомали, несла в своем трюме и трупы 25 мужчин. Местные полицейские обнаружили такую находку в моторном отсеке корабля.
Некоторые тела уже начали разлагаться, так что предположительно эти люди умерли, пока лодка находилась в нейтральных водах несколько суток назад. Наиболее вероятная причина – смерть от удушья. Люди просто задохнулись выхлопными газами. Возможно, они даже пытались покинуть моторный отсек, почувствовав неладное, но не смогли это сделать, так как дверь, которая сюда ведет, имеет ширину только 50 см. Все найденные трупы были отправлены в морг для проведения вскрытия, чтобы определить истинную причину смерти, а сотрудники полиции в настоящее время опрашивают выживших беженцев.
Итальянский остров Лампедуза стал воротами для людей, покинувших неспокойную Ливию и другие страны Северной Африки воротами в Европейский союз. Италия даже поссорилась с Францией, когда стала раздавать вид на жительство практически всем беженцам, прибывшим к ее берегам. Африканцы, получившие легальные документы, тут же покинули остров и Италию, направившись во Францию в поисках работы.

Десять тенденций, меняющих мир
Неотвратимые потрясения и революционное обновление
Резюме: США по ряду причин, прежде всего социально-экономических, выступают в качестве той части Запада, которая не может позволить себе устойчивое развитие. Как ни парадоксально это прозвучит, Америка столкнется с проблемами слаборазвитой страны, в которой американская мечта превратится в американский кошмар.
Данная статья представляет собой переработанную версию доклада, сделанного на симпозиуме «Справедливая сила», который прошел в мае 2011 г. в Университете Сент-Галлен (Швейцария).
Мы живем в переломную эпоху, и когда завершится переходный период, начавшийся крушением Советского Союза, мир станет совсем другим. Зловещих предзнаменований хватает, одним из них стала двойная террористическая атака в Норвегии в июле (на эту тему – ниже). Предсказать, каким он будет, сейчас невозможно, но тенденции, набирающие силу на наших глазах, позволяют по крайней мере наметить контуры возможных перемен. Выделим десять основных трендов. Пять из них разворачиваются в глобальном пространстве между государствами и регионами, еще пять – в социальном пространстве между группами людей.
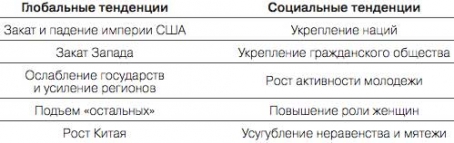
В результате мы становимся свидетелями масштабных перемен, сопоставимых с переходом от греко-римской античности к Средневековью, а затем к раннему Ренессансу и современной эпохе (1789) на Западе. Эти перемены происходили в условиях глобализации христианства, тогда как нынешние преобразования осуществляются в условиях глобализации капитализма и глобального потепления.
Пять глобальных тенденций могут восприниматься как подтверждение теории сообщающихся сосудов: когда один опорожняется, другой наполняется. Запад «мелеет» – «остальные» поднимаются, Соединенные Штаты ослабевают – Китай усиливается. Все эти тенденции взаимосвязаны, но в то же время они проявляются не менее отчетливо или даже нагляднее и как пять независимых друг от друга явлений, каждое из которых развивается в соответствии с собственной социальной логикой.
Так, упадок американской империи имеет свои причины и следствия, вполне сопоставимые с тем, что мы знаем из истории об упадке других империй. Закат Запада в целом связан с этим явлением, но имеет свою мотивацию, когда США по другим причинам, прежде всего социально-экономическим, выступают в качестве той части Запада, которая не может позволить себе устойчивое развитие. Как ни парадоксально это прозвучит, в качестве слаборазвитой страны, в которой американская мечта превращается в американский кошмар.
Закат и окончательное падение империи – это разные процессы, связанные с неизбежной логикой развития империй как организмов, начиная с их рождения, роста и достижения зрелости вплоть до старения и смерти. При грамотной организации и щедро вознаграждаемых за сотрудничество элитах на периферии центр способен добиться от окраин существенной экономической зависимости, поселить в них страх перед возможным применением силы, создать стремление идентифицировать себя с центром и добиться подчинения. Но лишь до поры до времени: империя становится жертвой собственного успеха, переоценивая свои возможности и/или недооценивая возможности державы, выступающей в качестве противовеса. Период экспансии заканчивается, и ему на смену приходит длительный период статус-кво, когда консервируется крайняя несправедливость во всех четырех аспектах силы.
Империя является архетипом несправедливой силы, поскольку добивается зависимости и притворного послушания, сея страх и насаждая коллаборационистские элиты. Иногда периферия сливается с центром. Когда речь идет о соседних географических регионах, этот процесс нередко обозначается термином «строительство нации». Именно так это происходило в Испании, Франции, Великобритании, Германии, России и Китае.
Урок, преподнесенный Британской, Французской, другими западноевропейскими и советской империей, должен сподвигнуть Соединенные Штаты начать производить товары, а не жить за счет неравноправной торговли и тиражирования «мировой валюты». Гибель доллара в этом качестве неминуема, как и приход на смену ему валютной корзины. Нужно сосредоточиться на внутренней обороне, оставив бесчисленные военные базы и прекратив войны по всему миру, начать диалог с другими культурами и договариваться о политических компромиссах вместо того, чтобы стремиться диктовать всем свою волю.
Но, несмотря на растущее число проигранных войн, привлекательность других культур (ислам, Япония, Китай) и растущее неподчинение, экономическая эксплуатация может какое-то время не ослабевать, будучи встроена в неравноправные международные торговые структуры, где ресурсы и человеческий труд стоят ничтожно мало. Конечно, будет иметь место известная доля распределительной справедливости в виде помощи в развитии, призванная скрыть трансферты в противоположном направлении, извлекаемые благодаря эксплуатации, бегству капитала, коррупции. Более того, за чисто экономическими способами поощрения скрывается куда более важный социологический эффект западной помощи в развитии. Стипендии выдаются перспективным молодым людям, которые затем пополняют ряды постколониальной элиты. Другие трансферты также призваны поставить эту группу в выгодное положение. Кваме Нкрума (основатель современной Ганы, видный представитель африканского антиколониального движения. – Ред.) точно охарактеризовал подобную политику как неоколониализм.
Неустойчивое равновесие было достижимо до тех пор, пока Запад пользовался монополией на обрабатывающие отрасли. Япония стала первой неевропейской страной, бросившей вызов такому положению. За ней последовали четыре малых «дракона», а потом четыре огромные страны БРИК. Прежнее равновесие нарушилось, и это стало одним из факторов заката Запада. За этими первыми ласточками вскоре последуют «остальные», которые также начнут производство если не на экспорт, то по крайней мере для обеспечения своих элит.
Растущее во всем мире предложение могло бы соответствовать такому же быстрорастущему спросу, если бы не обострение неравенства на Западе, при котором у 30–50–70%, представляющих собой население «дна», не хватает покупательной способности, чтобы приобретать товары с высокой долей добавленной стоимости. Прибавьте к этому существование – в силу неравенства – такой аномалии, как перетекание ликвидности к высшим классам, не оставляющее им другого выбора, кроме спекуляции. В их распоряжении масса новых финансовых инструментов вроде деривативов для быстрой купли-продажи – своего рода азартная игра. В результате: бум финансовой экономики + замороженный реальный сектор = крах. Тем более что этому содействуют экономисты, неспособные или нежелающие предсказывать или предвидеть. Если «остальные» и Китай, подобно Индии, попадутся в эту ловушку, их усилению придет конец, как это случилось с той же Японией.
Рецепт исцеления Запада столь же прост, сколь неосуществим: не накачивать ликвидностью банки, неспособные выжить, жестко регулировать финансовый сектор, а затем стимулировать людей, начиная с нуждающихся слоев населения. Поощрять небольшие компании, сельскохозяйственные кооперативы, поликлиники с лекарствами-дженериками для лечения обычных болезней простых людей, школы для обоих полов и всех возрастных групп. Но правящие классы на Западе скорее готовы защищать банкиров, чем обычных людей. Китайская формула «капитализм-коммунизм», поднимающая людей со «дна», облегчающая их лишения и включающая их в реальную экономику, могла бы совершить чудо на Западе. Однако камнем преткновения стали бы ярко выраженные классовые различия, и не только в США. Отсюда последний из социальных трендов – усугубление неравенства и мятежи.
Если главный ключ к развитию и прогрессу – повышение покупательной способности населения, влачащего существование «на дне» общества, все больше стран, включая Индию, будут подражать Китаю. Это негативно отразится на самоуважении и чувстве собственного достоинства жителей Запада и приведет к росту душевных болезней. Не исключено повторение эпидемии суицидов, с которой начался закат империи Габсбургов.
Главная причина неотвратимости тенденции к закату государства и усилению регионов на удивление проста. Маркс писал о средствах производства, но не о средствах связи и транспорта. Благодаря SMS и скоростному перемещению все процессы в мире протекают в режиме реального времени, и размеры большинства стран значительно сокращаются. Выживут только сильнейшие – БРИК, США и некоторые другие; остальные будут все больше втягиваться в орбиту регионов, которые отличаются географической близостью и культурным родством. В результате получаем:
светско-христианский Европейский союз,смешанный Африканский союз,индуистско-мусульманскую Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК),смешанную Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),светско-католическую Латинскую Америку,мусульманскую Организацию Исламская конференция (ОИК), простирающуюся от Марокко до Филиппин,буддистско-конфуцианскую Восточную Азию исветско-православную Российскую Федерацию, где Чечня имеет такую же автономию, как Нидерланды в Евросоюзе.
А на смену Организации Объединенных Наций (ООН), скорее всего, придет Организация Объединенных Регионов (ООР).
Государство – это территория, власть на которой сконцентрирована в одноименной организации – «государстве». Что же касается наций, речь идет о культурных группах, характеризующихся четырьмя признаками: общий язык, религия-идеология, время – общие представления об истории, прошлом, настоящем и будущем – и пространство, то есть общая территория и география. В мире две тысячи наций и около 200 государств, но только 20 из них представляют собой национальные государства, в которых преобладает одна нация. Только в четырех из 180 многонациональных государств нет преобладающей нации (в Европе это Швейцария, в которой несколько наций сосуществуют на равных, а также Бельгия, раздираемая проблемами межнациональных отношений, а в Азии – лингвистически федеральная Индия и Малайзия). Что касается остальных стран, то самый верный прогноз в их отношении – это борьба, часто насильственная. Нации, находящиеся в тени, будут бороться за место под солнцем – либо за полную независимость, автономию в рамках федерации, за другие виды суверенитета.
Процесс становления наций уходит корнями в историю, и зародившееся когда-то во Франции определение нации как «граждан одного и того же государства» убеждает теперь немногих. Линия водораздела, за которой мобилизуется готовность убивать и быть убитым, сегодня редко совпадает с границами государства – она проходит между нациями, религиями, языками и территориями. Характер войны меняется, но формула «от межгосударственных конфликтов к внутригосударственным междоусобицам» слишком поверхностна и не выдерживает критики. Нации иногда занимают территории разных стран, равно как и многие страны являются общим домом для многих наций. Это приводит к образованию многочисленных и разнообразных конфедераций. Однако регионы могут служить своего рода адаптационными «зонтиками», по мере того как увеличивающийся поток людей, пересекающих государственные границы, все больше сближает их.
Государства размываются могущественными силами сверху – такими, как регионализм и глобализирующийся капитализм транснациональных корпораций и банков. И снизу – национализм и негосударственное, некапиталистическое гражданское общество, которое вдохновляет людей на солидарность и порождает новое самоопределение и идентичность: расширенные семьи, кланы, племена, профсоюзы, города и села, религиозные группы, повстанцы. Государства сжимаются, но какое-то время они еще просуществуют.
Сегодня в мире помимо обычных государств существует столько территорий, что наши политические карты, окрашенные в четыре основных цвета, используемые для обозначения разных стран, оказываются плохим путеводителем по современной действительности. Тем не менее США находятся под гипнозом этого путеводителя и нерационально придерживаются той реальности, которая исчезает на глазах.
Возникает все больше новых реалий. Возможно, пролетариат в марксистском понимании утратил запал после появления социал-демократии и краха социализма советского и восточноевропейского образца. Но у общества есть другие линии разлома, кроме противостояния между покупателями рабочей силы и продавцами – возраст, пол, раса и национальность в широком культурологическом аспекте, включающем язык и религию. Если исходить из возраста, то нам стоит помнить о четырех основных категориях: детство, отрочество, нуждающееся в образовании, взрослый период, когда нужно работать, и время пенсии. Молодежно-студенческий мятеж начался в Латинской Америке в 1963 году. В 1968 г. он перекинулся на Европу и чуть позже – на США и Японию. Затем он пришел в страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), а также в Испанию в виде Движения М15 (движение социального протеста против мер, предпринимаемых для преодоления экономического кризиса. – Ред.). Оно будет находить себе благодатную почву везде, где существует безработица, где получение высшего образования не обеспечивается рабочими местами, где господствуют автократия и клептократия (включая, конечно, и коррупцию).
Поскольку стареющее (и, следовательно, менее плодовитое население) рассматривается как проблема, а не источник опыта и даже мудрости, нас ждет не только увеличение числа молодежных мятежей, но и мятеж пенсионеров. Одни будут требовать вернуть им пенсионные фонды, потерянные в результате спекуляций, другие будут настаивать на своем праве на общественно полезную трудовую деятельность, не подчиняясь диктатуре людей среднего возраста, говорящих пожилым «убирайтесь!».
Страны в чем-то похожи на людей; они также претерпевают процесс, аналогичный человеческому развитию. 1960-е гг. породили ряд стран-детей, ищущих собственную идентичность. Они находятся в окружении стран-подростков с негативным самоопределением, которые протестуют и оспаривают статус-кво. Существуют также страны-взрослые, реализующие множество разных проектов – в качестве примера можно привести страны БРИК. И, наконец, есть страны-пенсионеры, главная задача которых – сохранение статус-кво и выживание. Китай – бывшая страна-пенсионер, которая в настоящее время проходит путь от детства к отрочеству и взрослому состоянию.
Добавьте к этому восстание женщин – революционную, эпохальную тенденцию – американскую революцию 1970–1980-х гг. с последующей реакцией на нее. Женщины обладают огромным ресурсом в области культуры и образования, легко превосходя ленивых мужчин благодаря своему усердию и старательности. Мятеж распространяется на все страны, нанося удар по патриархальной семье (только пятая часть всех американских домохозяйств – это супружеские пары с детьми), и сегодня женщины претендуют на занятие половины всех должностей.
Это влечет за собой последнюю тенденцию – усугубление неравенства и мятежи. Несправедливость ведет к неравенству, а неравенство порождает мятежи. Другой вопрос – перерастают ли эти мятежи в революции, переворачивающие общества с ног на голову? Колоссальное неравенство – вроде того, что 1% населения Соединенных Штатов контролирует 40% богатства, – резко снижает относительную мобильность поколений и ощущается как внутри стран, так и между ними. Несколько лет тому назад рост валового мирового продукта (ВМП) составлял около 2,8%, а неравенство – соотношение покупательной способности между самыми богатыми и самыми бедными 20% населения – достигало 3,2%. Рост ВМП не смягчил участи пятой части беднейшего населения. А «дно» этого «дна» сегодня умирает со скоростью примерно 125 тыс. человек в день – 25 тыс. от голода и 100 тыс. от болезней, которые поддаются профилактике и лечению при наличии денег. Миллиарды людей уверены, что мы живем в злом и несправедливом мире.
Существует ли аналогичная пропасть в военной, культурной и политической сферах? Если говорить о силовом неравенстве, разве нет единственной сверхдержавы, объявленной самой могущественной, которая значительно превосходит по своей мощи всех остальных?
Если это так, то почему же тогда США терпят неудачу в одной войне за другой? Сначала во Вьетнаме, потом в Ираке и Афганистане, а ныне в Сомали, Йемене и Ливии – не потому ли, что они не в состоянии справиться с такими уравновешивающими их преимущество силами, как партизаны, терроризм и ненасильственные методы борьбы? Напасть на мировую сверхдержаву, такую как Соединенные Штаты, или на региональную империалистическую державу, такую как Израиль с мощным собственным вооружением, было бы глупо. Особенно если уповать на танки, как Саддам Хусейн в 1991 г. во время операции «Буря в пустыне», или на ракеты ближнего радиуса действия, которые ХАМАС использовал против Израиля. Баланс сил установить легче, чем баланс богатства. Хотя Юго-Восточная Азия указала путь к последнему, но легче и быстрее добиться баланса силы.
Что касается культурного неравенства, той пропасти между светом для народов и черными дырами во Вселенной, которые в лучшем случае поглощают свет, но не излучают его, то бывшие звезды постепенно угасают. Четыре страны «Большой восьмерки» – США, Великобритания, Италия и Япония, проповедующие свои культурные евангелия миру, – находятся в процессе разложения и инволюции. Более того, у этих «черных дыр» может быть внутренняя жизнь, черпающая энергию из богатых культурных ресурсов, включая их знание Запада – во благо и во вред себе. В действительности они могли излучать свет тысячелетиями, но вся беда в том, что он передавался на такой длине волны, которая была неразличима для глаза западных обывателей. Однако в начале прошлого века японская модель развития внезапно открывается Западу, хотя сама же Япония сделала все для того, чтобы ее сверхновая звезда погасла так же быстро, как и образовалась. На смену японской модели приходит китайская. Китай – слишком большая страна, чтобы ее можно было победить, и она также способна завладеть умами миллионов.
Когда мы говорим о политическом неравенстве, на авансцену выходит демократия, сталкивая общенародное большинство с элитными меньшинствами, если только последним не удается изменить правила игры – например, заменить принцип «один человек/один голос» на принцип «тысяча долларов/один голос». Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны НАТО из последних сил держатся за власть в ООН, сопротивляясь таким демократическим установлениям ООН, как Объединение за мир или противодействуя признанию Палестины, которое давно назрело. Словом, у ООН сегодня есть только один выбор: демократия или смерть.
В условиях саботажа демократии люди или страны находят выход с помощью новых осей взаимодействия, подобных кооперации Юг-Юг, сотрудничества по гуманитарной линии и т.д. Они будут сокращать экономическую зависимость, создавать собственные альянсы, наподобие Шанхайской организации сотрудничества, вдохновлять друг друга, не отвергая при этом лучшие идеи Запада, и принимать собственные решения. Другими словами, они будут опираться на собственные силы и возможности, отмежевываясь от антидемократических элементов или стран, многие из которых находятся на стадии «пенсионной немощи и выживания». Они идут путем Ганди, стремясь к самодостаточности, находятся в поисках собственной самобытности, безбоязненно экспериментируют и уповают на «сварадж» или самоуправление.
Какие последствия следует ждать из всего этого в ближайшие годы?
Мы не отдаем приоритет ни глобальным, ни социальным тенденциям – они дополняют и усиливают друг друга. Так, «арабская весна» в странах БВСА – это явный мятеж против вопиющего политического и экономического неравенства, инспирированный преимущественно молодежью и женщинами, которые тем самым заявили о своем оформлении в ведущие социальные силы. Однако мятеж направлен также против имперской пары США/Израиль, которые мнят себя Божьими избранниками и видят свою миссию в том, чтобы создавать местные элиты по всему миру и управлять своими империями через продажных, коррумпированных диктаторов. «Арабская весна» ослабляет эти элиты и империи, уже длительное время размываемые различными процессами, вынуждая их применять непропорциональное насилие, которое, в свою очередь, вызывает ответные мятежи.
Американская и израильская империи, возможно, падут до 2020 г., но Соединенные Штаты и Израиль останутся на плаву, если будут вести себя мудро и пойдут на компромисс. В рамках границ 1967 г. Израиль мог бы быть принят в сообщество ближневосточных наций вместе с пятью своими арабскими соседями, как это сделала Германия в рамках Римского договора, начиная с 1957 года. А США, прекратив войны и интервенции, закрыв военные базы за пределами собственной территории и отказавшись от политики диктата, могут стать полноправным членом Североамериканского сообщества вместе с Канадой и Мексикой. Нынешние американские президенты навлекут еще больше позора и бесчестия на свою страну, если будут прибегать к силе, вести себя неумно и из последних сил держаться за умирающие империи. То же касается и преемников нынешних лидеров в Израиле и Соединенных Штатах (Авигдор Либерман, Сара Пэйлин?). Но преемники преемников, возможно, начнут проводить более реалистичную политику.
Отказавшись от безнадежной и бесплодной внешней политики, Запад фактически мог бы начать социально-экономическое восстановление. Однако, пока суд да дело, усиление Китая и «остальных» может зайти слишком далеко, и вряд ли воспрянувшие западные страны смогут тогда рассчитывать на то пространство, к которому привыкли. На гигантских просторах Российской Федерации наступит процветание, которому, возможно, окажет содействие «российская весна», не слишком отличающаяся от арабской. Молодежь и женщины будут играть главную роль и, может быть, даже изобретут лучший коммунизм в 2017 году…
Вероятность подобных событий не исключена и для Китая, но многое уже сделано внутри самой КПК. Динамика страны кажется устойчивой – как в смысле роста (в среднем 26% в год в течение последних 30 лет в экономических зонах, где Дэн Сяопин начал свои эпохальные реформы в 1980 г.), породившего колоссальное неравенство по уровню богатства, власти и доступа к природным ресурсам, так и в смысле «открытости». Примерно 30 млн китайцев ежегодно выезжают за рубеж и возвращаются на родину, где свобода личности становится все более реальной.
Гораздо больше проблем в Индии, половина жителей которой по-прежнему живет в провинции, где все еще сильны кастовые предрассудки, которые тяжелым бременем ложатся на жизнь всего полуострова. Наксалиты, возможно, – лишь предвестники таких форм борьбы, как партизанская война, терроризм и ненасильственные формы сопротивления. Быть может, однажды Китай с его национальными проблемами научится у Индии лингвистическому федерализму, а Индия с ее кастово-классовыми проблемами сможет перенять у Китая своеобразный вид «капитализма-коммунизма»? Быть может, две самые густонаселенные страны мира помогут друг другу освободиться?
Африку с населением свыше миллиарда человек, возможно, потрясут сокрушительные мятежи против выращенных на Западе элит. Ливия расположена на пресноводном «море» (так называемая Великая искусственная река – крупнейшая в мире трубопроводная система общей протяженностью 4 тыс. км, которая доставляет пресную воду из резервуаров под Сахарой, скрытых на глубине 600–800 м. – Ред.), которое могло бы орошать большую часть Сахары. А к югу от Сахары имеется достаточно богатств, включая плодородные земли, чтобы она прекрасно кормила себя при условии, что за распределение благ будут отвечать женщины. Латинская Америка экспериментирует с экономикой, ориентированной на фундаментальные потребности – например, экспортирует мясо и импортирует энергоносители, а энергоносители обменивает на услуги в области здравоохранения.
Мятежи придут и на Запад. Движение М15 в Испании вызывает большой интерес. Главное, чтобы его лидеры не требовали перемен у правящих классов, стоящих на страже статус-кво, – это было бы большой ошибкой. Они могли бы создавать «низовые» компании, то есть развивать малый бизнес, о котором выше уже было сказано. Кооперативные сберегательные банки могли бы инвестировать в реальную экономику вместо того, чтобы спекулировать в финансовом секторе, учитывая высокий уровень образования и здравоохранения, а также обилие пенсионеров, которые могли бы внести свой вклад опыта и мудрости в ходе надвигающегося мятежа пожилых и пенсионеров (к 2015 году?).
* * *
Бывают события, в которых сразу сходится много нитей. Катастрофу, случившуюся в Норвегии 22 июля 2011 г., хочется списать на маньяка Брейвика. Это было бы проще всего. Но нельзя поддаваться соблазну узкой интерпретации. Расширим горизонт. С одного края – исламофоб-одиночка, связанный с какими-то группами, олицетворение европейского неофашизма. Если бы его удалось просто объявить сумасшедшим, исчез бы политический оттенок. Он превратился бы в causa sui, причину самого себя. В таком случае Норвегии было бы, чему поучиться у Америки после 11 сентября – как произносить речи об «абсолютном и немотивированном зле». С другого края – Ansar al-Jihad al-Alami, группировка, вначале якобы взявшая на себя ответственность за теракты в Норвегии, которая стала бы для обанкротившегося Вашингтона отличным поводом потребовать новые ассигнования на «войну с террором».
А в середине – реальный Брейвик, порождение своего времени, тот, для кого ливийская ситуация в какой-то момент стала прикрытием, а в то же время сам он оказался чуть ли не оружием возмездия. Сотрудничество по умолчанию?
Брейвик сознательно убивал участников молодежного лагеря социал-демократов, заявляя, что он искореняет марксизм, левые идеи… Но почему выбор именно этих жертв, ведь Рабочая партия Норвегии имеет к левым идеям и марксизму не больше отношения, чем Партия прогресса, в которой когда-то состоял убийца, к идеям правым. Обе партии голосовали за бомбардировки Ливии, обе поддержали покупку по немыслимым ценам американских F35. Идеология не причем.
Премьер-министр повел себя правильно, заявив: ничто не отвратит Норвегию от демократии. Но демократия – это не просто совокупность индивидов, запертых каждый в своей идеологической ячейке. Демократия – это диалог, вызов, столкновение с другими, а не пересчет обитателей ячеек на выборах раз в четыре года. Брейвику надо было общаться с большим количеством людей, нам всем это не помешало бы. Парламенту и гражданам следует открыто обсуждать любые проблемы.
Насилие – противоположность диалога. К середине июля НАТО совершила в Ливии 5838 боевых вылетов, 535 из них пришлись на долю Норвегии, всего сброшена 501 бомба. По военным целям, не так ли? Но если принцип альянса гласит, что нападение на одного есть нападение на всех, тогда и атака со стороны одного – это атака со стороны всех, а в основе всего лишь шаткий мандат СБ ООН с пятью воздержавшимися и в отсутствии права вето у какой-либо из мусульманских стран. Быть может, диалог дал бы больше, чем бомбы с обедненным ураном?
Норвегию потряс взрыв одной единственной бомбы. Нам не приходит в голову, что Ливию могут не устраивать 535 бомб? Норвегию ужасают убийства мирных жителей. Но почему афганцы не должны чувствовать то же самое?
Политика – это череда конфликтов, требующих творческих, конструктивных, конкретных решений. Школы и средства массовой информации обязаны обучать разрешению конфликтов, приучать к конфликтной гигиене так же, как нас с детства приучают к гигиене обычной.
Возможно, причины того, что случилось 22 июля в Осло, должен расследовать специальный орган ООН? Тот, который обладает (должен обладать) бЧльшими познаниями в истории взаимоотношений между Западом и миром ислама? Не пора ли попробовать диалог с «экстремистами», прежде чем навешивать ярлыки, не поинтересоваться ли их целями, а вдруг они не лишены законной логики? Вообще, считать нелегитимным лишь то, что далеко от собственных убеждений, и быть уверенным только в своей правоте – как можно тогда надеяться приблизиться к истине?
Йохан Гальтунг – норвежский математик и социолог, специалист в области анализа и урегулирования конфликтов, основатель и руководитель движения «Transcend – сеть за мир, развитие и окружающую среду».
Правительство Конфедерации решило увеличить финансовую помощь странам, расположенным в районе Африканского рога и пострадавших от продовольственного кризиса. Принятое решение подразумевает выделение дополнительного кредита в размере 4,5 млн. шв. франков. Данная сумма будет использована для оказания помощи беженцам в Эфиопии и Кении, а также наиболее уязвимым группам населения в Сомали.
Италия: мост между Востоком и Западом
Баутдинов Гамэр Анварович — педагог, публицист, исследователь проблем истории, культуры, религии стран Европы и Востока. Многие годы работал в Италии: был редактором-корреспондентом и заведующим римского Бюро АПН, а в качестве профессора преподавал в старейшем европейском вузе — в Болонском университете. Автор книги “Итальянцы в России”, вышедшей в Милане на итальянском языке, составитель первого издания на русском языке речей и выступлений папы Иоанна Павла II — “Мысли о земном”. Лауреат международных журналистских премий городов Каррара и Модена, член правления Российской ассоциации делового и культурного сотрудничества с Италией. В “Дружбе народов” публикуется впервые.
Эстафета влияния
Единое Итальянское государство, отмечающее в этом году свое 150-летие, — одно из самых молодых в Европе. И вместе с тем Италия ассоциируется с глубокой древностью, античными памятниками, эпохой Возрождения. А итальянский остров Сицилия стал колыбелью европейской цивилизации — именно оттуда с VIII века до н.э. на ближние и дальние земли начало распространяться греческое влияние. Это и организация политической, экономической и общественной жизни, и устройство городов-полисов, и развитие различных сфер культуры и искусства… И даже многие древнегреческие мифы и легенды оказались так или иначе связанными с Сицилией.
Затем эту цивилизационную эстафету перенял Рим, унаследовав многое от греков и от населявших Апеннинский полуостров этрусков и других народов. Постепенно набирая силу и мощь, древний Рим не ограничился скромной территорией, на которой возникла легенда о его предполагаемых основателях, братьях Ромуле и Реме. Римские легионы под командованием опытных полководцев и императоров вышли далеко за пределы Апеннин и покорили множество стран и народов: от Британии и Дакии (нынешней Румынии), Крыма и Кавказа до Египта и Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. В конце концов, даже Средиземное море стало для римлян “Маре нострум” (“Наше море”). Римская империя приобрела многонациональный характер, что потребовало от победителей разумной политики в отношении ее подданных, которые придерживались разных традиций, обычаев, верований. Но римляне, особенно на дальних окраинах своих владений, вовсе не стремились менять уклад и образ жизни местного населения. При этом они продолжали осваивать свои новые территории, развивать торговлю, строить дворцы и храмы, прокладывать дороги, а руины многих известных римских сооружений, построенных, скажем, по типу римского Колизея, или следы древнеримских дорог можно и поныне видеть в различных уголках бывшей Империи.
Ее единству способствовала не только политика метрополии, в которой сочетались сила и убеждение. Связь между разными регионами поддерживалась также при помощи такого инструмента, как язык, каковым тогда была латынь. Правда, вне метрополии им пользовался только определенный круг лиц, связанных с какими-то административными или военными функциями. В то же время коренное население на покоренных землях продолжало говорить на своих языках и диалектах, поклоняясь местным божествам. Тем не менее римляне донесли до них культ олимпийских богов, унаследованных от греков, где Зевс, например, стал именоваться Юпитером, Афродита — Венерой, Посейдон — Нептуном.
На заре новой эры зарождается христианство, оказавшееся той скрытой силой, которая, вместе с другими факторами, стала подтачивать устои Римской империи. В то же время разные геополитические и социально-экономические причины привели к тому, что из-под ее власти постепенно начали выходить сначала далекие, а потом и европейские земли. Под натиском воинственных племен, которых принято называть “варварами”, в конце концов пал сам Рим, являвшийся столицей более тысячи лет. Ее бывшие провинции стали все более обособляться, и прежний общий латинский язык начал подвергаться влиянию местных языковых особенностей, что в конечном счете привело постепенно к созданию отдельных романских языков.
Между тем восточная часть бывшей Империи, отколовшаяся от метрополии, получила затем и новое название — Византия со столицей в Константинополе, и ей суждено было просуществовать еще почти целое тысячелетие. Добившись расцвета и блеска при первых императорах, особенно при Юстиниане, Византийская империя постепенно стала терять свое влияние, и в первые века второго тысячелетия она уже была вынуждена вести борьбу за свое существование. С Византией связан и один из этапов развития итальянской истории, который показал, какое огромное значение в жизни разных народов имеют проблемы этнической и религиозной толерантности.
Итальянцы открывают Восток
Итальянские исследователи крайне осторожно подходят к использованию в историческом контексте понятий “итальянцы” и “Италия”. Ведь до недавнего времени такой страны не было, а на Апеннинах на протяжении веков существовали небольшие государства. Это, к примеру, Венецианская и Генуэзская республики, Миланское и Тосканское герцогства, Неаполитанское и Савойское королевства, позднее называемые соответственно Королевством Обеих Сицилий и Сардинским королевством. Исключением из этого правила была Папское государство с центром в Риме, которое было образовано еще в VIII веке и находилось под властью Папы. Жители этих государств назывались не “итальянцами”, а были известны как венецианцы, генуэзцы, миланцы и ломбардцы, тосканцы и флорентийцы, неаполитанцы и сицилийцы, пьемонтцы, римляне и т.д. Впрочем, нынешние итальянцы называют себя так и теперь, и лишь за пределами Италии или, скажем, на футбольном стадионе, когда болеют за сборную страны, они проявляют свою итальянскую идентичность.
Относительно небольшие размеры государств, существовавших прежде на Апеннинах, не помешали им, однако, в Средние века занять ведущее место в развитии европейской цивилизации. Достаточно вспомнить тот огромный вклад в культуру, науку и искусство эпохи Возрождения, который внесли замечательные мастера архитектуры, живописи, скульптуры. Высокого уровня достигли также литература, философия, научные исследования. Еще одна сторона деятельности уроженцев Апеннин сделала их известными в разных уголках мира. Это мореплаватели, и первым среди них обычно называют имя генуэзца Христофора Колумба (Кристофоро Коломбо), которого связывают с открытием Америки, хотя свое название она получила по имени другого путешественника, флорентийца Америго Веспуччи.
Менее известным остается имя человека, который практически открыл для европейцев Восточную часть Европы и огромные просторы далекой Азии, большая часть которых ныне входит в состав Российской Федерации. Это был францисканский монах Джованни да (ди) Пьян дель Карпине, известный в русских источниках под латинизированным именем Плано Карпини (1190—1252). Он родился в умбрийском селении, которое сейчас называется Маджоне, близ озера Тразимено, и позднее стал последователем своего земляка Франциска Ассизского, основавшего монашеский орден францисканцев. Карпини прекрасно показал себя в качестве миссионера в германских землях и в Испании, что, видимо, было учтено при решении важнейшего для Европы вопроса.
В то время продолжались завоевательные походы монголов, которые начал сам Чингисхан и продолжили его сыновья и внуки. Их армии, покорив значительную часть азиатских земель, под предводительством внука основателя Монгольской державы Батыя обрушились на восточно-европейские земли, в том числе на русские княжества. Потом они стремительно двинулись на запад, прошли Польшу, Чехию и Венгрию и вышли к берегам Адриатики в районе территорий современных Хорватии и Черногории. И лишь смерть великого хана Угэдея в монгольской столице Каракоруме заставила Батыя прекратить дальнейшее наступление.
Монгольское нашествие основательно напугало европейских государей, включая Папу. И тогда было решено направить на Восток к монголам миссию с целью выяснить, что представляют собой эти “татары”, как зачастую называли в Европе завоевателей. Надо было оценить степень их опасности для европейцев, а Папу Иннокентия IV даже “осенила” идея предложить монголам принять католичество. Для выполнения этой миссии выбор пал на Плано Карпини, францисканца, поскольку монахи именно этого ордена считались наиболее искусными в дипломатических делах и неприхотливыми в быту и в странствиях. Ведь предстояло пересечь огромные пространства при отсутствии какой-либо точной информации о маршруте пути до Каракорума.
Спутником-переводчиком Карпини стал польский монах-францисканец Бенедикт Поляк, с которым они отправились в дорогу из Лиона, где состоялся церковный собор. Их путешествие, проходившее через Киев как туда, так и обратно, продолжалось более двух с половиной лет (1245—47 годы), и за это время путники преодолели более десяти тысяч километров. Это были первые западноевропейцы, побывавшие в ставке великого монгольского хана в Каракоруме. На основе увиденного и услышанного Карпини составил подробный отчет о своем путешествии (то же сделал и Бенедикт Поляк), рассказав о том, что собой представляют монголы, каковы их нравы и обычаи, как устроены их общество и государство и, особенно, как организована непобедимая монгольская армия. Его поразил разнородный этнический состав монгольской столицы и то, как там были представлены разные религиозные воззрения и верования: тюрко-монгольское тенгрианство, манихейство, шаманизм, буддизм, ислам. Подобная веротерпимость резко контрастировала с тем, что тогда наблюдалось в Европе. Путь миссионеров проходил по русским и соседним с ними землям, вплоть до Сибири, и Карпини смог убедиться, сколь многочисленны народы, населяющие это евразийское пространство. Он упоминает о “Великой Булгарии”, “Комании” (обширных половецких степях, вошедших позднее в состав Российского государства), “Русии”. “Вышеупомянутая земля очень велика и длинна”, — заключает автор.
Миссия Карпини в дальние края была высоко оценена Папой, который возвел его в сан архиепископа, выделив ему местом пастырского служения город Антивари (нынешний Бар в Черногории). А труд Плано Карпини, известный в русском переводе как “История монгалов”, стал важнейшим источником при изучении быта народов Евразии, включая Россию.
Карпини не только открыл путь европейцам в Восточную Европу и глубины Азии, но и положил начало миссионерству католических священнослужителей на Восток, вплоть до Ханбалыка (Пекина) и Юго-Восточной Азии. Иннокентий IV учредил даже “Конгрегацию братьев-путешественников”, в которую, наряду с францисканцами, вошли и доминиканцы. По пути передвижения католические братья создавали опорные пункты (кафедры или кустодии). Одна из них находилась в Каффе (ныне Феодосия), главном городе генуэзского Крыма, которую позднее преобразовали в епархию. Другая была создана в венецианской колонии Тана/Азак (нынешний Азов в устье Дона). Католические братья добрались и до столицы Золотой Орды (Улуса Джучи) — города Сарай ал-Махруса (“Богохранимый Дворец”). Здесь также соблюдался принцип веротерпимости, и наряду с исламскими, католическими и другими религиозными центрами в золотоордынской столице с 1261 года была открыта первая епархия Русской православной церкви — Сарайская.
Однако усилия католической церкви по “евангелизации” других народов, по большому счету, не дали нужных результатов. Более того, излишнее стремление “цивилизовать дикие народы” вызывало ответную реакцию, как это случилось в Армалеке, около китайского города Кульджа, где были убиты епископ и шестеро францисканских монахов. А на Кавказе католическим братьям приходилось считаться с более успешной миссией православных монахов из Византии. Тем не менее миссионерская деятельность католиков, в основном уроженцев Апеннин, способствовала тому, что европейцы больше узнавали о Востоке, особенно если миссионеры оставляли в том или ином виде письменные свидетельства.
На путях в Тартарию
Другим способом знакомства с восточными землями была, несомненно, торговля. Еще с XII века в Черное и Азовское моря стали проникать торговые суда морских республик Венеции, Генуи, Пизы и Амальфи. Например, Плано Карпини в своем сочинении говорит о пребывании в Киеве его земляков-купцов, а в “Слове о полку Игореве” подтверждается присутствие там венецианцев. Но в восточных землях, в Причерноморье и Приазовье, сумели закрепиться только генуэзцы и венецианцы. Ведя непрерывное соперничество за местные рынки, они вывозили из русских и других соседних земель меха, икру, рыбу, воск, кожу, пеньку, а также рабов. С Апеннин сюда поставлялись ткани, одежда, посуда, вино, стекло, бумага, оружие, квасцы для дубления кож, золотые и серебряные монеты, столь нужные для торговли. Крупнейшим перевалочным пунктом была упоминавшаяся Тана, где находилось венецианское консульство. Оттуда дорога шла на Восток, через половецкие степи, Астрахань, Заволжье, Среднюю Азию. Это была северная ветвь Великого шелкового пути, проложенная монголами и их наследниками — золотоордынцами, хорошо понимавшими важность международной торговли.
Именно по этому пути прошли купцы, братья Никколо и Маффео (Маттео) Поло из Венеции, а Марко Поло, сын Никколо, до Китая добирался уже южным путем. Поэтому в его знаменитой книге об этом путешествии описание русских и соседних земель, по мнению специалистов, скорей всего дано со слов его отца и дяди, а также других очевидцев. Но все же приведем один отрывок из его книги: “Россия — большая страна на севере. Живут тут христиане греческого вероисповедания. Тут много царей и свой собственный язык; народ простодушный и очень красивый; мужчины и женщины белы и белокуры. На границе тут много проходов и крепостей. Дани они никому не платят, только немного царю Запада; а он татарин и называется Тактакай” (золотоордынский хан Тукта. — Г.Б.).
Большинство торговавших здесь купцов, как и миссионеров, были выходцами из разных уголков Апеннинского полуострова. Подтверждением этому может служить, к примеру, тот факт, что один из первых справочников-путеводителей по восточным землям, “Руководство по торговле”, был составлен флорентийцем Франческо Бальдуччи Пеголотти. В нем автор подробным образом постарался изложить то, что купцу необходимо было знать и иметь при себе во время долгой поездки от Таны до Китая. Наряду с этим нужным пособием был составлен монахами еще один справочник, уже на разговорном куманском (половецком) языке — словарь “Кодекс Куманикус”. Тогда большая часть южных степей была населена половцами — племенами тюркского происхождения, которые оказали значительное влияние на этногенез татарского народа. И это подтверждается общностью и близостью половецкого и татарского языков.
Начиная с XIV века большим подспорьем для путников явилось появление европейских географических карт, большинство из которых тоже было выполнено на Апеннинах. На них превалировала надпись “Тартария”. Так назывались огромные пространства Восточной Европы и Азии, которые прежде входили в состав Монгольской державы, а после ее распада вошли в отдельные государственные образования, включая и Золотую Орду. Столь же употребительным стало понятие “татары”, как нередко называли самих монголов.
Возможно, наиболее убедительный ответ на вопрос о подлинной трансформации “монголов” в “татар” дал современный историк Э.С.Кульпин. В книге “Золотая Орда: Судьбы поколений” он показывает процесс постепенной ассимиляции небольшой группы монгольского военного руководства, стоявшей во главе Орды, в которой преобладал тюркоязычный элемент. Уже в третьем поколении, в начале XIV века, золотоордынское общество, включая и его верхние слои, было практически тюркизировано. Ордынцы зачастую именовались “татарами”, хотя так могли называть и другие этнические группы.
Но все они говорили на общем тюркском языке, который часто назывался татарским, и в этой связи любопытные сообщения оставил венецианский купец и посол Иосафат Барбаро. В его сочинении “Путешествие в Тану” (XV) дается немало сведений о Приазовье, Кавказе, Поволжье и русских землях. И он одним из первых европейских авторов наиболее объективно описал “Тартарию” и татар. Своими знаниями в немалой степени Барбаро был обязан тому, что знал татарский язык, общался с татарами, помогал им, а они отвечали ему взаимностью, переиначив его имя на свой лад — “Юсуф”.
Большему этноконфессиональному единению Золотоордынского государства способствовало и то, что хан Мухаммад Узбек объявил государственной религией ислам, оставив в то же время все их привилегии тенгрианцам, буддистам, католикам, православным. В связи с этим можно вспомнить о том, что в золотоордынский период, в XIV—XV веках, были построены, в частности, крупнейшие православные монастыри и множество церквей.
Итальянцы в России
Совершенно очевиден тот факт, что пути первопроходцев с Апеннин на Восток, их связи с населением восточноевропейских земель начинались на юге современной России, в тесном контакте с ордынцами. И лишь позднее генуэзские и венецианские купцы добрались до Москвы или Московии, тогда небольшого удельного княжества. В Москве появились “гости-сурожане” и “сурожские ряды” (Сурож — старинное название крымского Судака). С распадом Золотой Орды на отдельные татарские ханства Москва стала набирать силу и сама начала искать связей с Апеннинами. Это было обусловлено практическим интересом великого князя Ивана III, который, благодаря посредничеству папского двора, женился на Софье Палеолог, племяннице последнего императора Византии. Московия должна была иметь достойную столицу, и для ее обустройства и возведения нового Кремля с Апеннин приглашалось множество архитекторов и иных мастеров. В основном это были представители венецианской и ломбардской школ. Первым крупным сооружением на кремлевской территории стал Успенский собор, строительство которого под руководством зодчего из Болоньи Аристотеле Фиораванти было закончено в 1479 году.
В результате 60-летней работы эти мастера оставили в Москве и других русских городах замечательные памятники архитектуры и декора. Затем наступил значительный перерыв в отношениях, вызванный, не в последнюю очередь, межконфессиональными проблемами. Свое влияние оказало и Смутное время, а польское вмешательство в русские дела, поддержанное папским Римом, привело к тому, что слово “католик” приобрело на Руси негативный оттенок.
Лишь в петровское время сюда приехала новая большая группа итальянских мастеров, чтобы обустраивать новую столицу России — Санкт-Петербург. После этого двусторонние отношения приобрели постоянный характер, дав множество ярких примеров взаимовыгодного сотрудничества в разных областях.
Говоря об истории российско-итальянских связей, нельзя не сказать и о конфессиональном вопросе, который так и остался нерешенным. Речь идет о продолжении многовекового противостояния католической и православной церквей, официальный раскол между которыми произошел в 1054 году. Спустя почти четыре столетия, в 1438—39 годах, была предпринята попытка примирения западной и восточной церквей, когда в Ферраре и Флоренции заседал собор, на который по приглашению Папы Евгения IV прибыли представители Русской православной церкви. Но в итоге стороны не пришли к принципиальному согласию, поскольку Москва не пожелала признать примат Папы. Римская церковь несколько укрепила свои позиции на западных рубежах Руси, когда в 1596 году в Бресте была принята Уния, согласно которой православные церкви Украины и Белоруссии, в то время находившиеся под властью Речи Посполитой, были объединены с католической церковью, сохранив при этом свои обряды и богослужение. В результате униатство стало еще одной проблемой во взаимоотношениях двух церквей.
Их отношения вновь обострилась в конце XVIII века, когда в результате разделов тогдашней территории Польши между Австрией, Пруссией и Россией под властью российской императрицы Екатерины II оказалась значительная часть украинских и белорусских земель. Там проживало примерно 10 миллионов католиков, что поставило перед российскими властями вопрос о необходимости обеспечить их религиозные права. Россия решила полностью взять это на себя, лишив Папу возможности назначать епископов. Эта неразрешенная ситуация длилась до тех пор, пока
в 1847 году в Рим не приехал император Николай I, заключивший с Папой Пием IX подобие конкордата, но без права открытия нунциатуры в Петербурге. Окончательно последняя проблема была решена только в наше время, когда Москва и Ватикан пришли к взаимному признанию и обменялись полномочными дипломатическими представителями.
Возвращение на Апеннины
Но вернемся к средневековой Европе, где ситуация складывалась таким образом, что итальянские государства, несмотря на расцвет культуры и искусства, все больше теряли свои экономические и политические позиции. Открытие испанцами Америки и португальцами морского пути в Индию вокруг Африки подорвали в значительной мере экономическую мощь таких морских держав, как Венецианская и Генуэзская республики. В Восточном Средиземноморье началась экспансия Османской империи. Однако даже перед лицом турецкой угрозы государства на Апеннинах не смогли, за редким исключением, преодолеть взаимные споры и разногласия, хотя их связывали общая история со времен древнего Рима и католическая религия, а также сближали диалекты формировавшегося тогда единого итальянского языка. О нем говорил Данте, а Петрарка одним из первых сформулировал понятие “Италия”. А, к примеру, неудача восстания Колы ди Риенцо в Риме в 1347 году, также ратовавшего за единую Италию, показала, что жители Апеннин еще очень далеки от осознания себя единым народом.
Прошли века, прежде чем их национальное самосознание поднялось настолько, чтобы идея объединения Италии (“Рисорджименто”) стала реально витать в воздухе. Толчком к этому были и наполеоновские войны, в ходе которых Наполеон, в частности, создал Итальянскую Республику, преобразовав ее затем в Италийское королевство. Кстати, определение “италийский” часто использовали русские поэты XIX века, включая Пушкина, которые восторженно писали также об “Авзонии”, как символе древнего названия Италии.
Некоторые исследователи идеи о необходимости создания единого Итальянского государства приписывают сподвижнику Наполеона Иоахиму Мюрату, который после поражения французов обосновался в Неаполе и предпринял неудачную попытку объединить часть Апеннинских земель.
Однако к реальному объединению Италия пришла лишь в 1860 году, когда “Тысяча” добровольцев Джузеппе Гарибальди высадилась на Сицилии. Гарибальдийцы, к которым присоединились и русские волонтеры, предприняли поход по южным областям, взяв в том числе Палермо и Неаполь, то есть по территории Королевства Обеих Сицилий. Она вошла в состав единого государства — Итальянского королевства, образование которого было провозглашено в феврале 1861 года. Королем стал Виктор-Эммануил II, глава Савойского дома из Турина. Но объединение страны не решило многих социально-экономических проблем. Богатый Север стал развиваться более быстрыми темпами, чем аграрный Юг, и эта ситуация сохраняется по сей день.
В 1870 году королевские войска заняли Рим, ставший столицей нового государства. Однако это породило другую проблему, поскольку Римский первосвященник лишился власти над Папским государством, просуществовавшим более тысячи лет. Обиженный Папа Пий IX замкнулся в Ватиканском дворце, и только в XX веке произошло примирение Итальянского государства со Святым Престолом. В 1929 году состоялось подписание Латеранских (по названию базилики Сан-Джованни-ин-Латерано) соглашений, согласно которым был образован город-государство Ватикан и последовало взаимное дипломатическое признание. Эти отношения были закреплены и расширены в двустороннем Конкордате от 1984 года.
Развитие Италии после образования единого государства протекало в основном в общем русле европейских тенденций. Зарождалась новая буржуазия, а распространение грамотности способствовало большей консолидации общества. Но Италия не хотела отставать от своих европейских соседей и в колониальных захватах. Во время первой войны в Африке она захватила часть Сомали, но понесла жестокое поражение от Эфиопии, а в 1911—12 годах оккупировала Ливию. В 1935—36 годы, при фашистском режиме, итальянские войска овладели, наконец, Эфиопией.
В период 20-летнего правления Муссолини возобладала авторитарная политика, в результате которой фашистская Италия оказалась на стороне гитлеровской Германии. Как известно, обоих диктаторов ждал бесславный конец, а итальянские патриоты-антифашисты доказали, за какую Италию они сражались. Кстати, в их рядах воевало более пяти тысяч наших соотечественников, бежавших из немецких лагерей.
Итоги победы над фашизмом в Италии нашли отражение в политических решениях первых послевоенных лет. В стране был проведен референдум, и итальянцы высказались за преобразование Королевства в Республику. Примечательно, что в разработке Конституции Итальянской Республики приняли участие все ведущие политические партии страны, от христианских демократов до социалистов и коммунистов. И это сделало итальянскую Конституцию одной из самых прогрессивных в Европе, поскольку были учтены интересы разных слоев населения.
Без различия расы, языка, вероисповедания…
В Конституции Италии нашли отражение и вопросы этноконфессионального характера. В “Основных принципах” Конституции говорится: “Все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и равны перед законом без различия пола, расы, языка, вероисповедания, политических убеждений, личного и общественного положения”. А также: “Государство и Католическая церковь независимы и суверенны в принадлежащей каждому сфере. Их отношения регулируются Латеранскими соглашениями. Все религиозные объединения равны перед законом. Вероисповедания, отличные от католицизма, имеют право создавать организации по своим уставам, если они не противоречат итальянскому правопорядку. Их отношения с Государством определяются законом на основе соглашений с соответствующими организациями”. Что касается этнических меньшинств, то им предоставлялись дополнительные права, необходимые для сохранения и развития их культуры, языка, традиций и обычаев.
Согласно итальянской Конституции 1947 года, страна в административном отношении была разделена на двадцать областей, из которых пять имеют статус автономных. Помимо островов Сицилия и Сардиния это Валле д’Аоста, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия. Все двадцать областей создавались “как автономные образования с собственной властью и функциями согласно принципам, установленным Конституцией”, а пять вышеназванных областей получили “особую форму и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами”. Эта автономность выражается, в частности, в том, что льготы получают как местные власти, так и жители. Например, они имеют льготные права при поступлении на работу, в средние и высшие учебные заведения страны, на приобретение билетов на транспорт, когда они выезжают в другие регионы Италии. Среди этих пяти автономных областей последние три имеют дополнительные права по защите их культурного и языкового своеобразия. Так, в самой маленькой итальянской области Валле д’Аоста, граничащей с Францией, итальянский и французский языки пользуются одинаковыми правами и в школах, и в государственных структурах. То же самое происходит в Трентино-Альто-Адидже, где большинство жителей одной из провинций (Южный Тироль) говорит на немецком языке. Этническое своеобразие области Фриули-Венеция-Джулия выражается в том, что многие фриулы, живущие в провинции Фриули, утверждают, что их язык не является диалектом итальянского и может рассматриваться как самостоятельный язык. А в провинциях Триест и Гориция, граничащих со Словенией, часть населения имеет словенское происхождение.
На Юге Италии тоже остались некоторые этнические общины, сохраняющие свою идентичность. Это греки, а также небольшое число хорватов и албанцев — потомков тех, кто переселился на Апеннины несколько веков назад. Вместе с греками и русскими эмигрантами последних двух веков в Италии сохраняется и православие, хотя оно занимает небольшое место в панораме католической страны, в пределах которой находится Святой Престол.
В связи с этим можно вспомнить о событиях XVI века, когда произошел раскол в лоне католицизма. Начавшаяся в Германии под влиянием учения Лютера Реформация привела к возникновению протестантизма, на что последовала ответная реакция папства — Контрреформация. Рим не допустил распространения “ереси” на Апеннинах, но одна небольшая протестантская община здесь сохранилась. Это вальденсы (“вальдези”), движение которых, основанное на принципе евангельской бедности, возникло еще в XII веке. Позднее они поддержали Реформацию, избрав своим духовным учителем Кальвина. В стране их сейчас примерно 70 тысяч, а религиозный центр находится в пьемонтском селении Торре-Пелличе.
В Италии имеются небольшие еврейские общины, и крупнейшая из них находится в Риме, где расположена главная синагога. А общее число евреев в стране достигает 36 тысяч человек, среди которых есть и далекие потомки тех, кого когда-то изгнали из Сицилии. В конце 30-х годов, при фашизме, итальянские евреи тоже не избежали репрессий и отправки в лагеря смерти.
Наконец, в Италии обосновались небольшие группы выходцев из ее бывших колоний в Африке — сомалийцы и ливийцы, исповедующие ислам. И вот на таком относительно устоявшемся этноконфессиональном фоне произошли бурные изменения, вызвавшие немалые потрясения в обществе. Это случилось не только на Апеннинах, но и в других европейских странах. С чего же все начиналось?
Великое переселение
Для восстановления разрушенной войной экономики во многих странах не хватало рабочих рук, и их правительства старались всячески стимулировать приток рабочей силы из Азии и Африки, прежде всего из бывших колоний. Особенно нуждались в ней Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, отчасти Великобритания и некоторые другие страны, пострадавшие в годы Второй мировой войны. Выходцы из стран Магриба (Северной Африки) предпочитали ехать во Францию и франкоязычную часть Бельгии, индийцы и пакистанцы — на Британские острова, индонезийцы и суринамцы — в Голландию. Были, однако, и исключения. Например, Турция. В силу исторических и политических связей с Германией и на основе двусторонних долгосрочных договоренностей сюда хлынул настолько мощный поток турецких рабочих, что их община стала одной их крупнейших в Европе. По разным оценкам, ее численность составляет от трех до пяти миллионов человек. Также примерно оценивается количество иммигрантов в Великобритании и Франции. Среди них преобладали выходцы из мусульманских стран, что конечно же требовало от правительств принимающих государств дополнительных мер, связанных с удовлетворением этноконфессиональных прав прибывавших людей.
Стоит заметить, что в число эмигрантов попали и итальянцы первого послевоенного поколения, которые в поисках работы отправлялись не только в Центральные и Северные страны Европы, но и за океан — в Латинскую Америку, Австралию, США. А в самой Италии в то время существовала внутренняя миграция, когда тысячи южан ехали на Север страны на заработки, особенно в Турин и Милан. Этому посвящена огромная литература, сняты десятки фильмов. Но постепенно положение дел в стране выправлялось, и начало 60-х годов принято называть “итальянским экономическим чудом”.
Когда последствия войны были преодолены и западноевропейская экономика, воспользовавшись в том числе и иностранной рабочей силой, окрепла, стало очевидно, что потребность в иммигрантах уменьшается. Перед угрозой безработицы надо было думать прежде всего о своих рабочих. Для иммигрантов начали вводить ограничения, и выезжавшим на родину могли уже не выдавать обратной визы. Все острее становился вопрос воссоединения семей, а накопившиеся проблемы давали повод для взаимных упреков и недопонимания.
Но это было только начало. В 80-е годы в Европу хлынул еще более мощный, уже стихийный поток иммигрантов. Это были беженцы из Азии, Африки, Латинской Америки, которые покидали родные места в силу разных причин: тяжелое наследство колониализма, голод, стихийные бедствия, межплеменные и межгосударственные отношения с соседями. А поскольку в странах Центральной и Северной Европы не было необходимости в дополнительной рабочей силе, то беженцы стали оседать на Юге континента — в Италии, Испании, Португалии, Греции, то есть в странах, где еще не было четкого законодательства в отношении граждан из стран, не входивших в состав Европейского сообщества.
Так началась история массовой иммиграции в Италию, хотя небольшие группы, в основном предпринимателей и студентов, приезжали сюда еще в 60-е годы. Ныне население страны приближается к 60 миллионам человек, абсолютное большинство которых составляют итальянцы. Однако за последние два-три десятилетия в стране значительно выросло число иностранцев. Помимо традиционных иммигрантов из стран Азии, Африки и Латинской Америки к ним добавились выходцы с Балкан, из бывшей Югославии, из Восточной Европы. Особенно заметным стало присутствие на Апеннинах китайцев, албанцев, румын, молдаван, украинцев. Последние, например, оказались наиболее многочисленной иностранной общиной в области Кампания с центром в Неаполе, где в украинских магазинах есть даже сало и горилка. В разных местах страны можно встретить и россиян, которые здесь работают, учатся, преподают.
Любопытно взглянуть на население Италии с религиозной точки зрения. Согласно одному из последних исследований, к католикам относится 53,5 миллиона человек, 4 миллиона считают себя атеистами, а самой крупной конфессиональной группой после католиков стали мусульмане. Попробуем рассмотреть этот феномен, поскольку исламский фактор ныне стал своего рода оселком для определения степени толерантности общества, причем не только на Апеннинах.
Мусульмане в Италии
По разным данным, сейчас в Италии проживает от 1,2 до 1,6 миллиона мусульман, что составляет приблизительно 2,5 процента населения страны. Расхождение в оценках объясняется тем, что часть иммигрантов, и не только мусульман, живет нелегально. Примерно треть из них составляют марокканцы, чуть более ста тысяч насчитывает тунисская община, а далее следуют египтяне, бангладешцы, сенегальцы, пакистанцы, нигерийцы, ганцы. Небольшая часть (до 67 тысяч) имеет итальянское гражданство, а примерно 10 тысяч мусульман — это итальянцы, принявшие ислам. Абсолютное большинство мусульман Италии относится к суннитскому толку, а число шиитов колеблется в пределах 15 тысяч человек.
Основная часть итальянских мусульман занята производительным трудом, и более или менее известны сферы их деятельности. Марокканцы, например, стали крупнейшими сборщиками овощей и фруктов, особенно на Юге страны, поскольку этим не очень хотят заниматься молодые итальянцы. Тунисцы тоже работают в сельском хозяйстве. А египтяне и выходцы с Индостанского полуострова тяготеют к торговле. Представители многих групп занимаются мелкими кустарными промыслами, и их изделия пользуются спросом как у итальянцев, так и у иностранных туристов.
Помимо ранее проживавших в Италии небольших групп ливийцев и сомалийцев, занимавшихся мелкой торговлей, появление новых мусульман в стране относится к 60-м годам прошлого века, когда сюда стали приезжать на учебу студенты из Иордании, Палестины, Сирии. В 1971 году была основана первая в стране мусульманская организация, созданная арабскими студентами, учившимися в известном Университете для иностранцев в Перудже. В 70-х годах в Риме был открыт “Исламский культурный центр Италии”, деятельность которого поддерживалась дипломатами исламских государств, аккредитованных при Итальянской Республике и Святом Престоле. Ведущую роль в работе этого Центра играет дипмиссия Саудовской Аравии, которая поддерживает его и материально. По инициативе Центра начались переговоры с местными властями и Ватиканом по вопросу о строительстве первой мечети в Италии. Переговоры, выработка и согласование проекта мусульманского храма в Риме, а также его строительство заняли в общей сложности более 20 лет. Эта красивая мечеть построена по проекту итальянского архитектора Паоло Портогези, знатока исламского искусства, и вмещает 2500 верующих. Она была торжественно открыта в 1995 году и стала одной из крупнейших в Западной Европе.
Наряду с Римским исламским центром в Милане при мечетях начали функционировать местный Исламский центр и Исламский институт культуры. В первом из них, созданном в 1977 году, ведущую роль играют мусульмане-итальянцы, и эту общину возглавил их “патриарх” Абдал Вахид Паллавичини, представитель одного из самых известных итальянских семейств. Исламский институт культуры, в свою очередь, объединил многочисленных иммигрантов, живущих и работающих в самом Милане и в области Ломбардия. Подобные центры возникли во многих городах Италии, как, например, в Неаполе, который хорошо известен школой арабистики при Университете им. Фридриха II, в Палермо, где под мечеть используется здание консульства Туниса, в Катании, где находится вторая по величине после Рима мечеть.
Правда, в большинстве случаев под “мечетью” подразумеваются скромные помещения, выкупленные или арендованные местной мусульманской общиной. Попытки строительства настоящих мечетей, особенно в крупных городах, зачастую встречают противодействие, в особенности со стороны правых радикалов. Так произошло недавно, например, в Болонье, а в Милане верующие по пятницам вынуждены молиться прямо на уличных тротуарах, что приводит к обострению отношений с другими гражданами. Мусульмане обращаются к властям с просьбами решить вопросы о строительстве мечетей или других молельных помещений, о выделении участков под кладбища, а также мест для заготовки и производства разрешенных для мусульман продуктов “халяль”.
Важнейшее место занимают вопросы образования. При отсутствии настоящих мечетей и соответствующих школ возникают проблемы с обучением детей основам своей религии и языка. Поэтому предлагается максимально использовать те возможности, какие дает “час религии”, введенный в итальянских школах. Этот часовой урок не является обязательным для школьников. Они сами или их родители решают, посещать ли его и какую религию изучать. Понятно, что большинство ходит на занятия, на которых преподают основы католицизма. Что же касается других конфессий, в том числе ислама, этот вопрос осложняется из-за отсутствия надлежащих преподавательских кадров и классных помещений.
Для более предметного диалога и заключения какого-либо соглашения с Итальянским государством мусульманам не хватало единого центра. Первая попытка его создания была предпринята в 2000 году, когда несколько организаций образовали “Исламский совет Италии”. Его руководителем стал Марио Шалойя, президент Всемирной мусульманской лиги и бывший итальянский посол в Саудовской Аравии. Годом позже принял ислам и другой итальянский посол в этой стране — Торкуато Кардилли. Однако работа этого Совета остановилась на стадии в основном теоретических споров.
И тогда инициативу в свои руки взяло государство, сознавая, что следует предпринять дополнительные усилия для признания положения мусульман в стране. По инициативе министра внутренних дел Италии Джузеппе Пизану в 2005 году был создан “Консультативный совет по делам итальянского ислама” (“Консульта исламика”). В его состав вошли 16 представителей от разных мусульманских духовных и светских организаций, и половину из них составили итальянцы. Однако деятельность Совета подверглась нападкам со стороны радикально настроенной части итальянского общества. Рецидивы неприязни наблюдались и в некоторых кругах католической церкви.
Действительно, у граждан Италии есть немало причин для беспокойства из-за приезжих, причем не только мусульман. Порой иммигрантам не хватает умения и желания работать, иные вовсе предпочитают жить на пособия или пожертвования со стороны различных фондов и религиозных организаций, а некоторые пополняют ряды правонарушителей, о чем свидетельствует местная хроника происшествий. И тогда нередко можно слышать голоса итальянцев, которые протестуют против “засилья пришельцев”.
Однако жизнь показывает, что без иммигрантов им тоже не обойтись. Ощущается постоянный дефицит рабочей силы, особенно на непрестижных работах. А между тем молодые итальянцы, даже с высшим образованием, не могут найти дома подходящей работы и в поисках ее нередко отправляются за рубеж. Проблема иммиграции в Италии остается серьезной, тем более что в последнее время сюда из Туниса и Ливии прибыли новые многочисленные группы беженцев.
Вместо заключения
Но как быть с иммигрантами и как решать проблемы этноконфессионального характера? Что понимать под “интеграцией в общество” и где грань, отделяющая ее от ассимиляции, когда может потеряться идентичность той или иной этнической группы? Эти вопросы возникают во многих странах.
К великому сожалению, на них нет простых ответов, тогда как старые стереотипы о “непримиримых противоречиях” между Западом и Востоком находят благодатную почву для раздоров, и не только в Италии. Здесь можно напомнить лишь о том, что лучший способ избежать взаимных разногласий и обид — это больше знать друг о друге, знакомиться с историей других народов и, по возможности, использовать взаимно позитивный опыт.
В этом смысле хорошим примером могут служить российско-итальянские отношения, давшие блестящие образцы сотрудничества в прошлом и располагающие огромным потенциалом для развития таких отношений в наше время. В полной мере это относится к этноконфессиональным проблемам, к соблюдению прав больших и малых народов. Для России, например, были бы интересны опыт Италии в развитии автономных областей, их экономики и культуры при бережном отношении к языку, традициям и обычаям населения, а также практика самоуправления итальянских областей, городов и селений и их взаимоотношения с центром. Россия, в свою очередь, могла бы поделиться богатым опытом многовекового мирного сосуществования на ее территории многих народов, имеющих разное этноконфессиональное происхождение. Ведь это богатство разнообразных культур, традиций, языков делает многонациональную Россию уникальным явлением в мире. Гамэр Баутдинов
«Дружба Народов» 2011, №8
Процесс уничтожения химического оружия дал жизнь целой индустрии, строящей соответствующие заводы и производящей специфическое оборудование для них. Обороты этого «рынка» в России оцениваются в 30 млрд рублей в год.
Полное уничтожение своего химоружия Россия должна завершить в 2015 году, и тогда, если этот план сбудется, без дела останутся семь огромных заводов, разбросанных по всей стране. Что с ними будет делать государство, – пока загадка.
Международное обсуждение вопроса о запрещении химического и биологического оружия началось еще в 1968 году. 3 сентября 1992 года Комитет по разоружению, состоявший из 18 государств, предоставил Генеральной ассамблее ООН в своем ежегодном отчете текст Конвенции о запрещении химического оружия. Главными обязательствами, налагаемыми на участников конвенции, должны были стать запрет на производство и применение химического оружия, а также уничтожение всех его запасов. Уже 13 января 1993 года документ был подписан первыми участниками – ФРГ, Россией и США. Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 года (к тому времени ее подписали уже 65 стран), начав отсчет десятилетнего срока, отведенного на выполнение ее условий.
Россия завершила процесс ратификации конвенции 6 ноября 1997 года. Запасы химического оружия нашей державы на тот момент хранились на семи объектах, расположенных в шести регионах центральной части страны. Вещества кожно-нарывного действия хранились в Горном Саратовской области и Камбарке в Удмуртии, а нервнопаралитические – в Щучьем Курганской области, Почепе на Брянщине, в Марадыковском Кировской области, Леонидовке Пензенской области и Кизнере в той же Удмуртии. Суммарный вес этих отравляющих веществ составлял около 40 тыс. тонн – это был самый большой боевой химарсенал в мире. В США хранилось и подлежало уничтожению «лишь»
32 тыс. тонн химикатов поражающего действия.
На сегодняшний день число участников конвенции достигло 188 государств, а Россия и США по-прежнему являются обладателями крупнейших запасов химического оружия массового поражения.
По данным ООН, к июлю 2011 года было уничтожено около 90% всех запасов химического оружия в мире.
Международная конвенция предполагает полное уничтожение химического оружия до 2012 года, но Россия уже продлила срок выполнения своих обязательств до 2015 года (пока уничтожено лишь 45% российских запасов химоружия). США не исключают возможности продления срока исполнения своих обязательств аж до 2021 года. Правда, по последним данным, в США уже уничтожено более 90% арсеналов отравляющих веществ массового поражения. Чем дальше одна страна откладывает сроки уничтожения опасных веществ, тем чаще о трудностях с финансированием и других проблемах с решением этой задачи рапортует другая. Политические причины такого «диалога» очевидны, к тому же на гонке по отставанию в разоружении, как оказалось, можно неплохо заработать. Изначально предполагалось, что для уничтожения всех запасов в РФ нужно будет построить всего три объекта, потом было принято решение построить семь заводов по уничтожению химического оружия. В последней редакции специальной российской госпрограммы общие затраты на этот проект оценены более чем в 180 млрд рублей ($6,4 млрд). Основная часть финансирования осуществляется из федерального бюджета РФ, а порядка 10-15% – за счет фондов других стран, подписавших конвенцию. В 2005-2011 годах (до 1 мая) из федерального бюджета уже выделено на капвложения 107,8 млрд рублей, из внебюджетных источников на эти цели за 2009-2011 годы поступило 28,5 млрд рублей.
На сегодняшний день на территории РФ уже функционирует шесть объектов – это заводы в Курганской, Пензенской, Кировской, Саратовской областях и в Республике Удмуртия. Последний, седьмой российский объект по уничтожению химического оружия также расположен в Удмуртии и должен быть введен в строй в конце этого года.
Один из крупнейших в России завод «Почеп» в Брянской области (запасы химического оружия здесь оцениваются в 7,5 тыс. тонн) начал функционировать в ноябре 2010 года. На его строительство было выделено около 15 млрд рублей, и еще 1,8 млрд ушло на создание необходимой социальной инфраструктуры. В 2005 году завод в Камбарке (Удмуртия) оценивался в 9 млрд рублей. При этом известно, что 34% вложений пришлось на долю Германии, выделившей на его строительство €154 млн. Исходя из этой цифры, завод должен был обойтись более чем в €450 млн, то есть на 35% дороже официальной оценки 2005 года. Средняя стоимость одного подобного завода варьируется около 15 млрд руб., а затраты на социальную инфраструктуру вокруг каждого составляют еще 1,5-3 млрд рублей. По оценке ведущего аналитика ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олега Душина, не менее 40-45% общих капиталовложений в такие объекты уходит на закупку оборудования. Оборот на сформировавшемся в России рынке специфического оборудования для заводов по уничтожению отравляющих веществ оценивается в 12-14 млрд рублей в год.
На шести из семи заводов подрядчик один – российское федеральное агентство «Спецстрой». Но иностранные государства, участвующие в процессе, финансируют работу только своих компаний. Поэтому этот сформировавшийся в России рынок носит международный характер. В каждом случае все зависит от стороны финансирования объекта: проектирование объекта «Горный» обслуживал российский «Гипросинтез», на нем использовано российское оборудование. А завод в Камбарке напрямую финансировала Германия, и оборудование на него поставлено немецкое.
Среди игроков этого рынка наиболее известна британская фирма Eisenmann, которая делала установки для Почепа и Камбарки общей стоимостью около €300 млн. Объектом в Щучьем управляла американская Bechtel, британцы выделили на него £80 млн. Котельное оборудование на шесть из семи заводов по уничтожению химоружия поставила фирма «Теплосервис» из Брянска.
Этому рынку суждено исчезнуть в тот момент, когда все запасы отравляющих веществ в РФ будут уничтожены. Предположительно, это должно произойти 31 декабря 2015 года. Огромные заводы останутся на балансе у государства. «То оборудование, которое использовалось для уничтожения химического оружия, будет перепрофилировано. Инфраструктура завода остается: газ, вода и т.д. Теоретически после специальной модификации оборудования эти заводы можно использовать для химических производств в коммерческих целях», – утверждает Игорь Кротович, заместитель генерального директора по науке компании «Химмаш-старт». Но на вопрос, кому из крупных игроков химического сектора могли бы быть интересны такие активы, отраслевые аналитики ответить затруднились.
Завод в Чапаевске в 90-е годы был превращен в учебнотренировочный центр. На завод в Камбарке имеются определенные виды: возможно, его удастся приспособить для гражданских нужд. К примеру, для производства автокомплектующих. Рассматривается возможность использования объекта «Леонидовка» под технопарк. Для объекта «Горный» были представлены проекты по переработке горючих сланцев, в достаточном количестве имеющихся в Саратовской области, и другие разработки ученых по производству продукции для нужд промышленности и сельского хозяйства. «Почеп» в Брянской области может быть использован для обогащения титаноциркониевых песков соседнего Унечского месторождения. Огромные запасы этого сырья и возрастающая с каждым годом потребность мировой электронной промышленности в редкоземельных металлах – весомый аргумент для развития этого направления. А объект в Щучанском районе Курганской области может перевоплотиться в мусороперерабатывающий комбинат. Ясного будущего у этих предприятий нет, и поэтому чем дальше отодвигаются сроки исполнения обязательств России в рамках международной конвенции, тем выгоднее для всех. К примеру, собираемость налогов в районный бюджет Брянской области ежегодно растет на 45-50%, немалый вклад в этот рост вносят отчисления организаций и предприятий, работающих по федеральной программе химразоружения.
Каждое подобное предприятие обеспечивает более 3 тыс. рабочих мест. По словам председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Константина Косачева, российские законодатели в целом удовлетворены тем, как обстоят дела в этой сфере. «Депутаты намерены уделять повышенное внимание работе над проектом федерального бюджета на очередной финансовый год в части увеличения финансирования мероприятий по ликвидации запасов вредных веществ», – заверяет он.
1987
Власти СССР и США приняли решение прекратить производство химического оружия.
1989
Начато строительство первого объекта по уничтожению химического оружия в городе Чапаевске Самарской области СССР. Завод не был введен в эксплуатацию.
1990
Подписано двустороннее соглашение между СССР и США об уничтожении химического оружия, по ряду причин так и не вступившее в силу.
1993
Заключена Конвенция между США, ФРГ и Россией о запрещении и уничтожении химического оружия. К 1997 году она была ратифицирована 65 участниками и в том же году вступила в силу.
1996
Федеральная программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» стоимостью 16 млрд рублей продемонстрировала несостоятельность сразу после ее принятия: ресурсное обеспечение составило считаные проценты от предусмотренных средств.
2001
Президент России Владимир Путин передал функции госзаказчика Программы по уничтожению химоружия от Министерства обороны сугубо гражданскому ведомству – Федеральному агентству по промышленности.
2005
Третья редакция программы предусматривала затраты в 160,4 млрд рублей и включала уже меньший, хотя и существенный объем ожидаемой международной помощи. Ожидания в очередной раз не оправдались.
2007
Конвенция о запрещении химоружия подписана 182 странами. Ряд из них, в том числе Израиль, ее не ратифицировали, а некоторые и не подписали. В числе последних – Ангола, Северная Корея, Египет, Ирак, Сирия, Сомали и Ливия.
2011
Россия, сославшись на финансовый кризис, продлила срок выполнения своих обязательств в рамках конвенции до 31 декабря 2015 года. США, в свою очередь, допускают продление своих обязательств до 2021 года.
Автор: ЕЛЕНА ЗОТОВА
Выступление на параде боевых кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота России
Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!Поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота. Этот праздник особо отмечается на берегах Балтики, ведь многие славные традиции нашего флота связаны именно с моряками-балтийцами. Их мужество когда-то позволило Петру I добиться успехов уже в начале Северной войны, в честь чего была выпущена специальная медаль с надписью «Небываемое бывает», а знаменитые победы при Гангуте, Эзеле, Гренгаме принесли России статус полноправной морской державы.
В Первую мировую войну моряки-балтийцы не дали противнику прорваться в Финский залив, решительно действуя не только на море, но и на суше.
И совершенно особенное место в истории флота занимают сражения на подступах к Ленинграду, его героическая оборона во время Великой Отечественной войны. Смелость и находчивость моряков в тот период стали, по сути, легендарными.
Морская служба всегда требовала самой серьёзной подготовки, выносливости, глубоких и разносторонних знаний. Недаром многие географические открытия и технические изобретения были сделаны морскими офицерами.
Нынешнее поколение моряков-балтийцев продолжает дело своих предшественников. Сегодня наши Вооружённые Силы приобретают новый облик, и именно Балтийский флот является основной учебной базой для военно-морских сил России. Здесь активно осваивают современную технику и вооружение.
Почти два с половиной столетия Балтийский флот решает стратегические задачи и за пределами региона базирования. Вы выполняете миссию по борьбе с пиратством у берегов Сомали, регулярно участвуете в международных учениях и манёврах.
Военно-морское присутствие России в Мировом океане укрепило авторитет нашей страны как великой морской державы и подтвердило высокую боевую готовность её Военно-Морского Флота.
И то, что сегодня главная база Балтийского флота находится в самом западном городе страны, ещё раз подчёркивает его роль в обеспечении глобальной стабильности.
Уважаемые товарищи!
Военно-Морской Флот – это неотъемлемая и надёжная составляющая нашей национальной обороны. Уверен, что ваша готовность обеспечить безопасность страны позволит России и впредь последовательно двигаться вперёд, успешно развиваться.
Ещё раз поздравляю ветеранов и весь личный состав с праздником – с Днём Военно-Морского Флота!
Правительство Великобритании рассматривает возможность размещения вооруженной охраны на борту для защиты судов от пиратских нападений вблизи побережья Сомали и в Индийском океане, сообщает "Морской Бюллетень Совфрахт".В Министерстве внутренних дел и Министерстве транспорта прошли консультации относительно внесения изменений в законодательство, позволяющие использовать вооруженную охрану на борту судна для отражения атак пиратов.
В настоящее время международные военно-морские силы ведут патрулирование вод Аденского залива и Индийского океана, однако из-за обширной территории действия морских разбойников нельзя гарантировать безопасность судов в данном регионе. К тому же, в мировой практике еще ни одно судно с вооруженной охраной в данном регионе не попадало в плен.
Министерству транспорта следует поменять свою официальную позицию касательно применения вооруженной охраны от "негативной" до "нейтральной", отмечает министриностранных дел Великобритании Генри Беллингэма (Henry Bellingham).
В целом, правительство Великобритании не должно ни препятствовать, ни поддерживать инициативу использования вооруженной охраны на борту. Это должно оставаться на усмотрении судоходной компании.
Как сообщает Беллингэм, приоритетным является использование специального отделения военных Vessel Protection Detachment для защиты судов от нападений. По словам главы Оборонного центра управления кризисными ситуациями капитана Дэвида Рейндорпа (Captain David Reindorp), численность морской пехоты должна в среднем составлять 1.500 человек.
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала доставлять гуманитарную помощь в пострадавшую от сильнейшей засухи Сомали, сообщает сайт телеканала "Аль-Джазира".
Самолет с 10 тоннами арахисовой пасты прибыл в среду в столицу страны Могадишо из Кении. По оценкам специалистов организации, этого количества высококалорийного продукта, произведенного на основе арахисового масла, хватит примерно на месяц и оно позволит накормить 3,5 тысячи голодающих детей.
Это первый из десяти авиарейсов, которые запланировала ВПП в рамках операции по оказанию помощи странам Африканского Рога (Сомали, Джибути, Судан, Эфиопия).
Организаторы гуманитарной акции отмечают, что в одной лишь Сомали в продовольственной помощи нуждаются миллионы людей. При этом более 2 миллионов из них проживают в южных районах, контролируемых боевиками-исламистами, закрывшими международным гуманитарным организациям доступ в эту часть страны.
Всего же, по оценкам ООН, на востоке Африки нехватку продовольствия из-за засухи испытывают более 11 миллионов человек.
Вооруженные столкновения начались в четверг в столице Сомали Могадишо на следующий день после того, как в город были по воздуху доставлены первые гуманитарные грузы Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), призванные спасти регион от продовольственного кризиса, передает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си.
Продовольствие доставляется в Могадишо по воздуху, так как морской путь его доставки в настоящее время, как правило, небезопасен и отнимает гораздо больше времени.
Представитель WFP Чалисс Макдонах сообщила, что в среду в Могадишо было доставлено 10 тонн Plumpy'nut - продукта на основе арахисового масла, богатого протеином. Она отметила, что этого груза достаточно для того, чтобы кормить 3,5 тысячи истощенных детей в течение месяца.
Несколько лет назад боевики движения "Аш-Шабаб", которое тесно связано с "Аль-Каидой", изгнали из подконтрольных им районов Сомали WFP и ряд других гуманитарных организаций, оказывающих помощь местному населению.
Ранее ООН распространило заявление, в котором предупредило мировое сообщество о гуманитарной катастрофе и угрозе голодной смерти для более чем семи миллионов сомалийцев на юге страны, если им немедленно не окажут продовольственную помощь.
Корреспонденты Би-би-си передают, что бои начались в четверг на рассвете, когда правительственные войска и миротворцы Афросоюза начали планомерное наступление на опорные укрепления "Аш-Шабаб", расположенные в семи километрах севернее международного аэропорта Могадишо.
По данным Би-би-си, в четверг во время ожесточенных стычек между правительственными войсками Сомали, поддержанными миротворцами Афросоюза, погибли не менее четырех человек. Подполковник Пэдди Анкунда (Paddy Ankunda) из Афросоюза заявил, что в плен были взяты более 40 боевиков.
Корреспондент телеканала в Могадишо Мохаммед Дхоре (Mohamed Dhore) сообщает, что основные бои происходят на севере города вдали от пунктов раздачи гуманитарной помощи, на каждом из которых собрались тысячи горожан.
Представители сомалийского правительства заявили, что им удалось отбросить боевиков, и теперь войска стараются выбить их с городского стадиона, который "Аш-Шабаб" использует как импровизированную крепость.
По мнению экспертов, сомалийское правительство старается как можно быстрее очистить Могадишо и его окрестности от боевиков "Аш-Шабаба" в преддверии священного месяца Рамадан, в течение которого экстремисты часто устраивают теракты, в том числе с использованием смертников.
Само исламистское движение "Аш-Шабаб" считает предупреждение ООН об угрозе голодной смерти для миллионов сомалийцев политически ангажированным и не соответствующим действительности.
Сомали перестала существовать как единое государство с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее лишь отдельные кварталы Могадишо и часть окраинных районов распавшегося государства.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе исламистская группировка "Аш-Шабаб", имеющая связи с группировкой "Аль-Каида".
Совет Евросоюза принял в четверг решение продлить на один год, с 9 августа, военную миссию сообщества в Сомали (EUTM Somalia), в задачу которой входит обучение кадров для национальных сил безопасности, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Работа европейских военных инструкторов в предстоящий период будет сфокусирована на развитии командно-контрольной структуры сомалийской армии.
Обучение будет по-прежнему вестись главным образом в соседней Уганде, а также частично в Найроби (Кения) и Брюсселе.
Сомали перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее лишь отдельные кварталы Могадишо и ряд отдельных районов страны. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанные с "Аль-Каидой". Территории на севере и северо-западе Сомали контролирует непризнанная Республика Сомалиленд.
Сейчас в Сомали дислоцируется миротворческий контингент Афросоюза численностью 3,5 тысячи военнослужащих, который действует по мандату СБ ООН и состоит в основном из военных из Уганды и Бурунди. Александр Шишло
Парламент Сомали подавляющим большинством голосов утвердил новое правительство, сформированное премьер-министром Абдель Вали Мухаммадом, передает в понедельник арабский телеканал "Аль-Джазира".
В своей речи перед парламентом в столице Сомали Могадишо премьер заявил, что в первую очередь правительство будет решать задачи восстановления стабильности в стране, а также укреплять службы безопасности и поддерживать операции, которые проводит сомалийская армия.
Он подчеркнул, что его правительство будет уделять приоритетное внимание оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в результате засухи гражданам республики, а также постарается перекрыть каналы снабжения террористических движений, действующих в Сомали.
Глава правительства также заявил, что будет работать над достижением всеобщего и всеобъемлющего примирения на территории страны.
"Я готов к переговорам с любой стороной, поддерживающей диалог, чтобы найти пути выхода из политического кризиса. Мы должны добиться стабильности и безопасности в стране любыми имеющимися средствами", - резюмировал премьер.
Ранее сообщалось, что Абдель Вали Мухаммад объявил о формировании нового правительства спустя год после роспуска предыдущего кабинета министров.
Премьер-министр Сомали Абдель Вали Мухаммад объявил о формировании нового правительства - спустя год после роспуска кабинета министов, передает в четверг телеканал "Аль-Джазира".
"В правительстве - 18 министров, которые ранее не занимали никаких постов в структуре исполнительной власти", - цитирует телеканал слова премьера.
Ожидается, что в ближайшее время состав нового кабинета будет представлен на утверждение парламенту страны.
Формирование нового правительства произошло через год после заключения так называемого "Кампальского соглашения". Президент Сомали Шариф шейх Ахмад и спикер парламента Шариф Хасан 9 июня 2010 года заключили в Кампале (Уганда) соглашение, которое предусматривало отставку временного федерального правительства во главе с Мухаммадом Фармаджо и продление еще на один год переходного периода в Сомали.
Политические силы Сомали несколько раз откладывали формирование кабинета министров из-за разногласий между президентом и спикером парламента по поводу распределения министерских портфелей. По мнению источников, приближенных к правительству, эти разногласия удалось преодолеть.
Россия дополнительно выделит 2 миллиона долларов Фонду всемирной продовольственной программы ООН для срочной гуманитарной помощи Сомали, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
Из-за засухи в срочной гуманитарной помощи в этом регионе нуждаются более 11 миллионов человек.
"Россия не могла не отреагировать на бедственное положение населения Сомали и других стран Африканского рога. Мы рассматриваем возможность оказания Сомали срочной продовольственной помощи путем внесения дополнительного целевого взноса в размере 2 миллионов долларов США в Фонд всемирной продовольственной программы ООН", - сообщил Лукашевич.
Он напомнил, что в прошлом году в Сомали была направлена партия медикаментов на 1 миллион долларов.
Организация Объединенных Наций намерена официально объявить о голоде в ряде районов Сомали. Это связано с сильнейшей засухой, подобная которой регистрировалась в этой стране пятьдесят лет назад.
Ситуация в стране резко ухудшилась, даже несмотря на поступающую сюда помощь. В то же время деятельность благотворительных организаций, которые работают в Сомали, осложняют местные вооруженные группировки. В частности, еще в 2009 году местная группировка «Аль-Шабаб», тесно связанная с «Аль-Каидой», запретила на подконтрольных ей территориях в центре и на юге страны деятельность благотворительных организаций. Однако в связи с засухой боевики разрешили ограниченный доступ в Сомали гуманитарных грузов.
Всего же от сильнейшей засухи в Восточной Африке страдает около 10 млн. человек. Поток беженцев из Сомали направляется в соседнюю Эфиопию и Кению.
ООН намерена официально объявить о голоде как минимум в двух центральных регионах Сомали, где постоянные военные конфликты и нищета основной массы населения только усилили последствия природного бедствия. Здесь свыше 30% детей страдают от недоедания, а от голода ежедневно умирают четыре ребенка из 10 тысяч.
По мнению сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) на тех территориях, где они не могут осуществлять свою деятельность из-за опасности для жизни, проживает почти миллион человек, которые сегодня страдают от голода.
Благодаря уникальному открытию британских ученых в самое ближайшее время люди превратятся в нацию суперменов.
Бесконечная африканская саванна - трава, одиноко стоящие деревья, стада пасущихся антилоп и охотящиеся на них прайды львов. Картинка, хорошо всем известная из телевизионных передач. Но не этот идиллический пейзаж вот уже много лет приковывает к этим краям внимание ученых, а тихая и незаметная жизнь, протекающая глубоко под землей. Именно в этих засушливых саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали обитают совершенно уникальные существа - голые землекопы, вторых таких нет на Земле.
Вид этих мелких грызунов (8-14 см в длину, весом 30-80 г) пугающий: абсолютно голая кожа желтовато-розового цвета, покрытая длинными вибриссами, маленькие глазки, громадные острые зубы, одна половина тела явно больше другой... Красавцами их при всем желании не назовешь. Но именно на эти порождения ночных кошмаров вот уже 20 лет возлагают самые большие надежды фармацевты и врачи всего мира.
Дело в том, что голые землекопы, единственные из всех млекопитающих, не болеют онкологическими заболеваниями. Никогда! Ни при каких обстоятельствах!
Этим, впрочем, их уникальные свойства не ограничиваются. Начать с того, что голые землекопы не ощущают боли, благодаря чему они совершенно не чувствительны к порезам, ожогам, воздействию кислоты и капсаицина (именно это вещество делает перец жгучим), как, впрочем, и к другим раздражителям. И если бы только это! Голые землекопы устойчивы к высоким концентрациям углекислого газа и способны пережить получасовое кислородное голодание, которое у других млекопитающих неизбежно приведет к смерти головного мозга. Нейроны же голых землекопов просто... восстанавливаются и продолжают работать в прежнем режиме. Их метаболизм вообще доведен до совершенства. Достаточно сказать, что они никогда не пьют воду, получая всю необходимую влагу из клубней растений. При всем при том голые землекопы - единственные из всех млекопитающих не способны поддерживать постоянную температуру тела. Они, как ни парадоксально это звучит, холоднокровные. Единственный способ не замерзнуть в холодные зимние ночи для них - собраться большой группой и тесно прижаться друг к другу.
Может быть, именно эта жесткая необходимость и определила уникальное социальное устройство голых землекопов, больше всего напоминающее то, что существует у муравьев, пчел и других общественных насекомых. В их колонии, в которой проживает от 70 до 300 особей, размножается только одна самка, королева, спаривающаяся с несколькими особо приближенными самцами, все же остальные особи выполняют роли рабочих и солдат.
На первый взгляд может показаться, что низкая температура тела и замедленный обмен веществ - какая-то ошибка природы, но именно ими ученые склонны объяснять самое удивительное свойство голых землекопов - необычайно долгую жизнь. Биологи отмечают, что голые землекопы живут в среднем 26-30 лет, в то время как другие грызуны - максимум 4 года. Если бы подобное было доступно людям, то средний срок человеческой жизни удлинился бы с 70 до 500 лет.
Разумеется, ученым хотелось разобраться с тем, что лежит в основе всех этих землекопьих чудес, и попытаться применить полученные данные к человеку. Первые исследования, проведенные еще в 80-е годы ХХ века, показали, что причину надо искать в генах. Именно поэтому такое большое значение придавалось полной расшифровке генома голого землекопа. И наконец это произошло!
В начале июля 2011 года группа ученых под руководством Жоао Магальяэса из Ливерпульского университета (Великобритания) заявила, что им удалось расшифровать геном голого землекопа. Учитывая большую актуальность данной работы для всего человечества, британские ученые пошли на беспрецедентный шаг - выложили полученные результаты в открытый доступ, чтобы все желающие могли подключиться к исследованиям, обещающим самый большой прорыв в фармацевтике и медицине за последние 50 лет.
Результаты не заставили себя ждать. Так, онкологам удалось понять, что невосприимчивость голых землекопов к раку объясняется «уникальным двойным механизмом, контролирующим деление и рост клеток». Устойчивость голых землекопов к боли обусловлена отсутствием в их коже нейротрасмиттера «вещества P», отвечающего за передачу болевых импульсов в центральную нервную систему. Долгий срок жизни, скорее всего, связан с уникальным механизмом починки поврежденной ДНК. Впрочем, самые интересные открытия у ученых еще впереди.
Если их эксперименты увенчаются успехом, человечество получит в свое распоряжение лекарство против рака, эликсир молодости, а также вакцину, превращающую любого среднестатистического клерка в супермена, нечувствительного к боли, способного дышать под водой и совершать другие чудеса. Елена Журавлева.
Республика Маврикий, расположенная в юго-западной части Индийского океана, получит от Евросоюза три миллиона евро для создания законодательной и материальной базы, позволяющей в судебном порядке преследовать и осуждать сомалийских пиратов, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на Алессандро Мариани - представителя Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) на островном государстве.
В настоящее время военно-морские силы многих стран, борющихся с сомалийскими пиратами, предпочитают не брать морских разбойников в плен - как по причине отсутствия законов, позволяющих отдать пиратов под суд, так и на фоне опасений, что захваченные сомалийцы попросят убежища в одной из благополучных стран ЕС.
В результате после кратковременного задержания пираты зачастую возвращаются на свои "базы" на побережье Сомали и вновь продолжают незаконный промысел.
"Маврикий должен принять законы о пиратстве и начать претворять их в жизнь с помощью UNODC", - заявил агентству Мариани.
Как отметил чиновник ООН, миссия UNODC ожидает, что власти Маврикия не позднее конца сентября выстроят соответствующую судебную и пенитенциарную инфраструктуру для процессов над пиратами и заключения их в исправительные заведения в случае вынесения обвинительного приговора.
Сомали не может справиться с проблемой пиратства, так как перестало существовать как единое государство еще в 1991 году после падения диктаторского режима Мохаммеда Сиада Барре, правившего с конца 1960-х годов. Сейчас в качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство Сомали, однако последнее контролирует лишь часть столицы - города Могадишо и ряд небольших районов распавшегося государства.
Борьба с пиратами у побережья страны ведется в рамках проводимой с 2008 года военно-морской миссии Евросоюза "Аталанта" и начатой в 2009 году операции НАТО Ocean Shield. В ходе операции Ocean Shield, помимо первоочередной задачи борьбы с пиратством, предполагается также помочь странам региона запустить собственные меры противодействия пиратам. В операциях по защите судоходства участвуют и российские корабли
Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь ряду развивающихся стран Африки. Как заявляют представители Пентагона, всего на цели борьбы с терроризмом планируется выделить 145,5 миллионов долларов.
Почти половину из этой суммы планируется потратить на граничащие с Сомали Кению и Джибути, а также Бурунди и Уганду. Финансовая помощь этим странам, по мнению США, будет способствовать победе над «Аль-Каидой» в Африке. Борцам с терроризмом США намерены поставлять авиатранспорт, системы связи и приборы ночного видения, а также спецсредства для ведения разведки, в частности малые БПЛА «Ворон», оснащенные видеокамерами, которые передают изображение местности в режиме реального времени.
США волнует активизация на территории Сомали экстремистских исламистских организаций, в частности Аш-Шебаб, именно поэтому они расширяют свое военное сотрудничество с сопредельными с Сомали африканскими странами. Однако существует опасность, что такие действия Штатов в свою очередь могут поставить под удар сомалийских исламистов эти восточноафриканские государства.
США направляют властям Уганды и Бурунди вооружение и военное снаряжение на сумму около 45 миллионов долларов для противостояния усилившейся террористической угрозе из Сомали, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные документы.
В частности, африканские страны получат четыре небольших беспилотных летательных аппарата.
Этот пакет военной помощи является частью планируемых поставок на сумму 145,4 миллиона долларов.
В четверг представители сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" сообщили, что ее автоколонна подверглась удару самолета неизвестной принадлежности, некоторое количество боевиков из других стран погибли.
Власти США ранее предупреждали, что угроза со стороны "Аш-Шабаб" возрастает.
В июле 2010 года в столице Уганды Кампале произошли два мощных взрыва, которые унесли жизни 74 человек. Жертвами терактов стали люди, собравшиеся 11 июля посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Нидерландами в клубе регби и в эфиопском ресторане. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".
Сомали перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее Могадишо и ряд окрестных районов.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанные с "Аль-Каидой". Территории на севере и северо-западе Сомали контролирует непризнанная Республика Сомалиленд.
Сомали, Чад и Судан возглавили рейтинг самых нестабильных государств по версии Фонда мира (Fund for Peace). Именно эти страны набрали максимальные баллы по следующим показателям: перемещение беженцев, уровень нищеты, коррупции, беззакония и преступности и другим. Сомали занимает верхнюю строчку рейтинга четвертый год подряд.
Рейтинг составляется с 2005 года в сотрудничестве с журналом Foreign Policy. По сравнению с прошлым годом лидер списка не изменился. Это объясняется тем, что на территории Сомали, которая обычно указана в политических картах, фактически нет государства. Оно раздроблено на несколько автономных территорий. Власть признанного ООН правительства распространяется на небольшую часть территории.
Позиция России укрепилась - она опустилась на две строчки до 82-го места. Белоруссия в списке следует сразу же за Россией, а Украина оказалась на 110-м месте.
Наибольшее укрепление позиций продемонстрировала Грузия - она опустилась с 37-го места в прошлом году на 47-е в этом. Прошлогодняя революция в Киргизии навредила рейтингу этой страны - у нее зафиксировано самое большое антиповышение - до 31-ой позиции.
Самыми стабильными признаны Финляндия, Норвегия (в прошлом году имела лидерство), Швейция, Швейцария и Дания. США расположились на 158-м месте, на одну строчку обогнав Великобританию.
Премьер-министр Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед в воскресенье ушел в отставку в связи с решением о продлении сроков полномочий администрации президента и парламента, сообщает агентство Рейтер.
"Действуя в интересах жителей Сомали и (учитывая) нынешнюю ситуацию в стране, я решил покинуть пост",- заявил Мохамед.
В рамках достигнутой 9 июня договоренности между президентом Шейхом Шарифом Шейхом Ахмедом и спикером парламента Шарифом Хасаном Шейком Аденом, премьер Мохамед покидает свой пост, а мандат президента и парламента продлевается на один год.
По данным агентства, во время переговоров, спикер парламента потребовал ухода премьер-министра в обмен на скрепление договоренности своей подписью.
После публичного объявления о предстоящем уходе Мухамеда по стране прокатилась волна протестов, устроенная жителями, которые доверяли работе премьера.
"Я благодарю кабинет министров, который сделал многое для улучшения безопасности и стандартов управления в Сомали", - сказал Мухамед.
Мохаммед учился в США и работал дипломатом, но вернулся в Сомали, чтобы возглавить правительство, раздираемое внутренней борьбой чиновников и коррупцией. По его словам, он не покинет Могадишо и намерен помочь работе нового правительства.
Отныне функции главы правительства возьмет на себя заместитель уходящего премьера Абди Уэли, заявил президент Сомали после заявления об отставке премьера.
Сомали перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее Могадишо и ряд окрестных районов.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанные с "Аль-Каидой". Территории на севере и северо-западе Сомали контролирует непризнанная Республика Сомалиленд.
Официальные власти Сомали не контролируют ситуацию в стране. Пятитысячный миротворческий контингент Афросоюза также не способен взять ситуацию с безопасностью под контроль и охраняет лишь несколько ключевых стратегических объектов в Могадишо.
В июне в Могадишо был убит глава МВД страны. Ответственность за преступление на себя взяла радикальная группировка исламистов "Аль-Шабаб", которая не раз разворачивала крупномасштабные боевые действия против правительственных войск в Сомали.
В результате насилия и отсутствия власти в Сомали с 2007 года уже погибли, по данным ООН, более 20 тысяч человек, около 1,5 миллиона считаются беженцами.
В Йемене противостояние власти и оппозиции пришло к закономерному итогу – гражданской войне. В вооруженную борьбу втянуты племенные формирования, исламисты из «Аль-Каиды» и сепаратисты Южного Йемена. В минувший вторник третий по счету самолет МЧС РФ доставил из Адена в Москву очередную партию граждан России и СНГ. Поступающая из страны информация отрывочна и противоречива. Известно лишь, что бои с применением танков, артиллерии и авиации происходят едва ли не по всему Йемену.
ПОЙТИ НА МИТИНГ И УМЕРЕТЬ
Протесты в Йемене начались 27 января 2011 года. Считается, что после бегства президента Туниса йеменцы поняли, что тоже смогут избавиться от своего опостылевшего диктатора и вышли на улицы с требованием его отставки. Президент Али Абдулла Салех с 1978 года стоял во главе Северного Йемена (Йеменская Арабская Республика). После объединения севера и юга страны он возглавил единую Республику Йемен. И с тех пор твердой рукой правит ею.
Все эти годы в стране периодически происходят вспышки гражданской войны и массового неповиновения. Прошлым летом в Адене протесты населения президент задавил силой оружия. С трудом удалось прекратить столкновения с настроенными на отделение племенами юга. Даже пришлось звать на помощь войска Саудовской Аравии. Минувшей осенью в Адене происходили так называемые «ночные бунты», спровоцированные постоянным отключением электричества. В роли бунтовщиков выступила молодежь, большей частью школьники-подростки.
В нынешние протесты оказались вовлечены люди всех возрастов, хотя главной силой выступила молодежь. Просто потому, что большинство населения – дети и молодые люди до 30 лет. В ряде мест появились настоящие подростковые банды, которые без всякой идеологии просто крушат все на своем пути, в первую очередь – нелюбимые школы. Они же забрасывают камнями полицейских, подражая палестинским подросткам, но в отличие от израильтян йеменские полицейские отвечают автоматными пулями.
Причиной протестов стали нищета, безработица (76% трудоспособного населения, а в Тунисе – 14%), рост цен, полицейский произвол, постоянные отключения электричества и прочие бытовые проблемы. Плюс тотальная коррупция. Нередко директора государственных учреждений присваивают половину зарплаты подчиненных, и управу найти на них невозможно. Сотни тысяч йеменцев подвизаются по всему арабскому миру в роли гастарбайтеров. Но мировой кризис значительную их часть вынудил вернуться домой, где у них нет средств к существованию.
Страна раскололась. Далеко не все хотят смены режима. У президента достаточно сторонников, которые вполне довольны жизнью. Они яростно обличают «бездельников, грабителей, вандалов» из стана оппозиции и даже присоединяются к полиции, стреляя с крыш своих домов по демонстрантам. Пропрезидентские демонстрации собирают массы народа. Правда, в Интернете полно видеороликов, на которых зафиксирована раздача денег и еды участникам митингов в поддержку Салеха. Оппозиционеры же раздают лишь флаги.
Власти терпели больше месяца. А в начале марта начались нападения на демонстрантов. Люди в гражданском с электрошокерами, палками и ножами увечили протестующих. 9 марта в Таизе армия и полиция жестоко разогнала демонстрацию. В Интернете появились первые фото убитых. 12 марта силовики снесли палаточный городок оппозиции в Сане, открыв огонь по людям, – 50 раненых, некоторые тяжело. После этого расстрелы недовольных стали обычной практикой. В настоящее время число убитых безоружных демонстрантов перевалило за тысячу.
Йеменские племена на всю Аравию славились неистовой воинственностью. Только жесткая политика властей отучила йеменцев расхаживать с автоматом Калашникова, считавшимся фактически элементом национального костюма. В любом деревенском доме и во многих городских на стене висит автомат или винтовка. Но оппозиция твердо встала на путь безоружного протеста. Видимо, менталитет йеменцев, приобщившихся к мировой культуре, массово переселившихся в города, серьезно изменился. На протяжении нескольких месяцев люди шли на улицы, готовые к мученической смерти, но не желавшие доводить свою родину до гражданской войны. Их поливали бензином и кипятком, душили газами, снайперы расстреливали с крыш, убивали десятками. А они снова выходили, требуя отставки президента Салеха.
Поэтому можно прекратить нелепые измышления, что протесты в Йемене, как и в других арабских странах, спровоцировали якобы США, Израиль, Иран, Россия и проч. На смерть люди идут, когда им уже нечего терять, а не потому, что их пригласили по Интернету или дали денег.
С января по июнь президент Салех трижды обещал подписать соглашение об уходе с поста президента. И трижды не подписывал, мотивируя это массовыми протестами своих сторонников, не согласных с «требованиями уличных бандитов». При этом убеждал мировое сообщество, что с его уходом Йемен превратится во второе Сомали, где править будет «Аль-Каида». Проправительственные СМИ постоянно сообщали о вылазках активизировавшихся экстремистов и террористов. Широкий резонанс получило сообщение, что 300 боевиков «Аль-Каиды» захватили город Зинджибар в провинции Абьян. Позднее выяснилось, что это было местное племенное формирование. Но власти упорно пугают мировое сообщество «Аль-Каидой», убеждая, что только Салех и его люди защитят мир от последователей Усамы бен Ладена.
ОТВЕТНЫЕ ЗАЛПЫ
Салех обещал 22 мая принять примирительную инициативу, разработанную арабскими странами Персидского залива, предусматривающую отставку президента и урегулирование политического кризиса. И опять отказался. На следующий день, 23 мая, в Йемене вспыхнули вооруженные столкновения. Но за оружие взялись не оппозиционеры, несколько месяцев мученически погибавшие на улицах городов, а племенное ополчение. Вождь конфедерации племен хашед шейх Садек аль-Ахмар, еще недавно считавшийся надежным союзником президента, начал против него войну.
Причиной стала попытка сил безопасности ворваться в дом аль-Ахмара, когда его посетили лидеры оппозиции. Атака была отбита вооруженными телохранителями. После этого хашедиты взяли под контроль значительную часть столицы. Тысячи представителей местных кланов, выступивших в поддержку аль-Ахмара, с боями двинулись к Сане. Сторонники вождя заявили, что с их стороны погибли 24 и ранены 150 человек. Погибли также некоторые шейхи, выступавшие посредниками между восставшими и правительством.
Официальные власти обвинили, наоборот, боевиков аль-Ахмара в нападении на министерство промышленности и обстреле здания Йеменских авиалиний напротив дома шейха. По их словам, хашедиты взяли штурмом здание высшего института и школу для девочек, где забаррикадировались.
Почти в это же время правительственные войска обстреляли базу Первой механизированной бригады. Считалось, что она еще в марте перешла на сторону оппозиции, но долгое время фактически сохраняла нейтралитет. Естественно, солдаты нейтралитет сразу отбросили и открыли ответный огонь, присоединившись к конфедерации племен. Их танки и пушки ответили огнем армейским батареям, с окрестных высот обстреливавшим город. Мятежники завязали бои в районе столичного аэропорта, парализовав его работу. Они заняли ряд правительственных зданий и штаб-квартиру сил безопасности в одном из районов Саны.
Бои в Сане стали катализатором гражданской войны по всей стране. 5 июня в городе Таиз на юге Йемена, втором по величине после столицы, несколько десятков боевиков атаковали президентскую резиденцию. В комплекс зданий они прорваться не смогли, но убили четырех военнослужащих, потеряв одного своего бойца. Утверждается, что эта вооруженная группировка сформирована из местных жителей, жаждущих отомстить за убийства мирных демонстрантов.
ВЗРЫВ В ДВОРЦОВОЙ МЕЧЕТИ
3 июня во время пятничной молитвы в районе мечети на территории президентского комплекса в Сане произошло несколько разрывов то ли ракет, то ли артиллерийских снарядов. Пришло сообщение, что Али Абдулла Салех получил несколько царапин. Но затем выяснилось, что он вывезен в Саудовскую Аравию, где ему сделали две операции.
Саудовские власти сообщили, что Али Абдулла Салех получил тяжелые ранения. У него ожоги 40% тела, включая лицо и грудь. Осколочное ранение в области сердца – тремя дюймами ниже. А также компрессионный ателектаз легкого, что означает, что легкие и бронхи подверглись сильному сжатию. Такая травма характерна для воздействия ударной волны от близкого взрыва. Лечение может занять несколько месяцев. На это время власть передана вице-президенту генерал-майору Абд Раббу Мансуру Хади.
Вместе с президентом пострадали и его ближайшие соратники – исполняющий обязанности премьер-министра Али Мухаммед Муджавар, вице-премьер, председатель парламента Абдулазиз Абдулгани и еще несколько политиков. Позже появилась информация о гибели 11 человек и ранении 124.
Американские эксперты, изучив снимки с места покушения, пришли к выводу, что целью было убийство Салеха. Они полностью исключили случайное попадание ракеты. В то же время ряд деталей указывал, что могло быть использовано самодельное взрывное устройство. Это значит, что в ближнем кругу диктатора созрел заговор.
Сам президент Салех обвинил в покушении шейха Садека аль-Ахмара. На что тот предъявил контробвинение. Дескать, президент сам удстроил взрывы, чтобы оправдать свою жестокость по отношению к населению. В то же время пресс-секретарь главы государства Ахмед аль-Суфи, как сообщил телеканал Al Jazeera, заявил, что нападение на президента Али Абдуллу Салеха было организовано США. Американцы уже давно уговаривали лидера Йемена мирно оставить свой пост, но тот не соглашался. Вот и решили избавиться от него.
Однако это не в стиле США – бить по толпе. Американцы уже несколько лет по договоренности с Салехом истребляют в Йемене активистов «Аль-Каиды» при помощи ударных дронов. И всегда наносят точечные удары, избегая лишних жертв. Кстати, через некоторое время власти Саны обвинили в покушении именно «Аль-Каиду». Сделав вид, что неуступчивый Салех пострадал в борьбе с международным терроризмом, а не с собственным народом.
Однако 12 июня власти сообщили, что арестованы пять человек по подозрению в причастности к взрыву 3 июня. Еще около пятидесяти находятся под подозрением. Стало понятно, что был взрыв бомбы с целью ликвидации президента. И осуществили его люди, имеющие доступ во дворец. Можно говорить о неудачной попытке дворцового переворота.
Оппозиция попробовала договориться с вице-президентом Хади о передаче власти. Но ставленник Салеха отказался от переговоров. Не исключено, что нынешняя война с диктаторской группировкой превратится в войну всех против всех. Может, поэтому лидеры оппозиции не призывают своих сторонников к оружию. Хотя и оказались между молотом и наковальней: с одной стороны – войска, с другой – племена и мятежная бригада. А тут еще сепаратисты и местные кланы захватывают один город за другим. Самое плохое для Йемена еще впереди. Но у Салеха с каждым днем все меньше шансов вернуться. Виктор Мясников.
Остров Россия
Можно ли снова стать сверхдержавой и нужно ли это?
Резюме: Без решительного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен. Нужна нацеленность на реальное, а не риторическое, позиционирование страны как самостоятельного центра силы, обладающей ею не для экспансионистского проецирования, а для гарантии лучшей жизни своего народа.
Когда следишь за отечественными дискуссиями вокруг программы модернизации или прислушиваешься к риторике, сопровождающей очередной российско-американский саммит, складывается странное впечатление. Как будто мы чего-то недоговариваем. Зачем Россия хочет модернизироваться? Какие цели преследует на мировой арене? Да и более широко – как мы видим себя в мире? Ради чего начинаем программу перевооружения армии и флота?
Ответ напрашивается сам собой. Разумом мы, конечно, понимаем, что Россия – не Советский Союз. У нас другие ресурсы, несопоставимый потенциал и, как следствие, иные возможности воздействовать на судьбы мира. Но в то же время по сумме признаков мы по-прежнему воспринимаем себя как сверхдержаву. Или, если точнее, как вторую по силе и по влиянию державу мира. Первую роль мы признаем за Соединенными Штатами. Хотя нет более приятной забавы для российского интеллектуала, чем порассуждать о закате Америки.
Проблема заключается в том, что россияне не видят для своей страны другой достойной судьбы в XXI веке, кроме как роль сверхдержавы. Государства, реализующего себя прежде всего через влияние на мировые процессы. Причем, что характерно, такие настроения свойственны не только элите, но и достаточно широким слоям населения. Как моему поколению нынешних 45–50-летних, которые хорошо помнят Советский Союз, так и молодежи, которая толком-то и не видела ту сверхдержаву, что, по сути, самоликвидировалась в конце 1980-х годов. Альтернативного видения России – страны для себя, для своих граждан – почему-то не просматривается.
В этой связи уместно попытаться разобраться – а что такое сверхдержавность? Насколько свойственен России такой статус? Есть ли шансы в обозримой перспективе снова обрести его? И, если нет, то какова альтернатива?
Что такое сверхдержава
Понятие сверхдержавы утвердилось в годы холодной войны, когда мир был поделен на два лагеря с США и СССР во главе. Две конкретные страны обладали такой совокупной силой, прежде всего военной, которая на порядок отличала их от других государств, выводила за круг традиционных международных отношений. По существу, хотя и весьма упрощенно, можно сказать, что вся мировая политика сводилась тогда к взаимодействию этих двух держав. Причем дело было не только в том, что между ними, с одной стороны, и остальным миром – с другой, существовал качественный разрыв, но и в том, что обе они активнейшим образом боролись за мировое господство. Сверхдержава сама по себе и сама для себя, живущая в изоляции от остального мира, скажем, как империя инков, едва ли имеет смысл.
Пойдем дальше. Были ли прецеденты сверхдержавности в истории? Очевидно, да. Если не идти вглубь веков и не пытаться примерить соответствующие атрибуты к Древнему Египту и к империи Александра Македонского с учетом краткости ее бытия, то самый яркий пример, который напрашивается, это, конечно, Римская империя I–II вв. н. э. По своему потенциалу она возвышалась над остальным миром, по сути, представлявшим собой в ту пору расширенное Средиземноморье, и видела себя именно сверхдержавой, даже в отсутствие этого определения. Рим руководствовался сверхдержавной миссией – цивилизовать окружающие народы по своему образу и подобию. Уточним: как и в случае с Соединенными Штатами и Советским Союзом, пока последний не стал ускоренно загнивать, существовала ситуация колоссального отрыва Рима от остальных стран не по двум-трем критериям, а практически по всему набору показателей, характеризующих национальную мощь. А именно:
протяженность территории,численность населения,ВВП (насколько его можно было вычислить в те отдаленные времена),ВВП на душу населения,производительность труда,торговый оборот с окружающим миром,золотовалютные резервы,численность вооруженных сил,современные средства войны.
Абсолютные параметры Рима впечатляют даже сегодня.
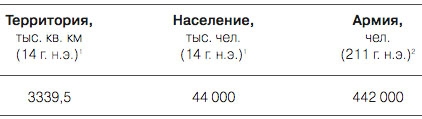
1 Angus Maddison,”Contours of the World Economy I-2030 AD”; Oxford University Press; (2007), р.35
2 MacMullen, R. How Big was the Roman imperial Army?; KLIO; (1980), р.454
На протяжении последующих 1700 лет истории не раз возникали державы, на порядок отрывавшиеся от других по своей мощи. Это империя Карла Великого и Арабский халифат при первых халифах, империи Чингисхана и Тимура, империя Карла V, Турция Мехмеда Завоевателя и Сулеймана Великолепного. Однако, строго говоря, ни одна из них не обладала необходимым набором признаков сверхдержавы. Всегда чего-то не хватало. Или речь шла исключительно о военно-завоевательном порыве. Или недоставало экономической базы. Или отсутствовала артикулированная идеология. Не была отстроена государственная машина, без которой настоящая сверхдержава невозможна. Мощь и ярость порыва держались исключительно на личности завоевателя. Мировая миссия сводилась к разрушению, не неся в себе никакого созидания.
Брать же для целей настоящей статьи примеры Китая при Маньчжурской династии или Индии при Великих Моголах бессмысленно, хотя по целому ряду показателей, таких как территория, численность населения, промышленное и сельскохозяйственное производство, они существенно опережали крупнейшие государства тогдашней Европы. Несмотря на все великие географические открытия и борьбу за колонии, вплоть до второй половины XIX века мировая политика варилась по существу в «кастрюле» расширенного Средиземноморья.
Была ли Византия сверхдержавой? Пожалуй, нет. Никогда. Даже при Юстиниане и Велизарии. На протяжении нескольких веков она обладала целым рядом признаков сверхдержавности. Однако отсутствовало главное – агрессивная установка на установление мировой гегемонии. Не было позитивной ориентированности в будущее – все свои 1100 лет, разве что, как ни странно, за исключением последнего кризисного столетия, Византия жила, скорее, в прошлом. Да и силенок недоставало, чтобы воспринимать себя как сверхдержаву. Все блистательные победы Византии, а их было немало, достигались очень небольшими силами – либо благодаря предельной слабости оппонентов (например, когда Велизарий восстанавливал контроль над Апеннинским полуостровом), либо за счет гениального дипломатического маневрирования и комбинирования, либо просто в результате исторической удачи – как на этапе столкновения с Арабским халифатом.
Отдельно разберемся с Францией при Наполеоне. Вроде бы, чем не сверхдержава? Хоть и на очень коротком отрезке времени. Но тоже не получается. Да, Наполеон за считанные годы сумел отстроить государственную и правовую систему значительно более современную и эффективную, чем что-либо существовавшее на тот момент в других странах Европы. Сумел покорить практически всю Европу. И гегемонистский запал, несомненно, был. Но реальных сил не хватало. Единого государства, пусть даже конфедеративного, на гибких шарнирах, создано не было. Франция оставалась Францией, а остальная Европа – завоеванными и частично завоеванными территориями в состоянии полубунта-полусаботажа. Так и случилось, что Англия в одиночку победила Францию на море, а Россия тоже в одиночку – на суше. Если бы Наполеон смог прорвать континентальную блокаду и консолидировать свои территориальные приращения в более или менее разумных пределах, если бы не поспешил вторгаться в Россию, возможно, все было бы иначе. Но это уже сослагательное наклонение.
Самостоятельный сюжет, на котором стоит остановиться, это потрясающие успехи относительно маленьких европейских стран в строительстве громадных колониальных империй. Испания: Кортес, опираясь на пятьсот головорезов с аркебузами, опрокидывает империю ацтеков с населением 15 млн человек. Португалия площадью 90 тысяч кв. км колонизирует Бразилию с территорией 8,5 млн кв. километров. Голландия, где на территории 40 тысяч кв. км проживает 2 млн, подчиняет 13-миллионную Индонезию (1,9 млн кв. км).
Имеем ли мы здесь дело с проявлениями сверхдержавности? Думаю, что нет, это другой феномен. На земном шаре существовало несколько миров. Сильно огрубляя, можно сказать, что их было три. Во-первых, Европа. Во-вторых, то, во что превратились бывшие великие цивилизации на севере Африки, Ближнем и Среднем Востоке, в Индии и Китае. В-третьих, все остальные территории. Эти три мира жили в различных временах, при различных уровнях развития производительных сил и общественной организации, соответственно, средств и методов ведения войны.
Когда эти миры сталкивались, мушкет, естественно, оказывался сто-, тысячекратно смертоноснее копья, пулемет стократно эффективнее кремниевого ружья, а броненосец с паровой машиной превосходил фелуку. Вот почему лорд Китчинер, потеряв 48 человек из 8 тысяч, мог спокойно разгромить в Судане 50-тысячную «Армию Махди», уничтожив пятую ее часть. Подобное произошло бы, приземлись завтра на Землю, не дай Бог, НЛО с планетной системы Тау Кита, и из него высадились бы 15 таукитян с каким-нибудь гравитационным оружием, против которого наши и американские СС-18 и «Минитмены» оказались бы столь же бессильны, как копья против пулеметов.
Безусловно, эффект цивилизационного и технического разрыва при подобных столкновениях срабатывает с потрясающей эффективностью. Однако как только эти миры объединяются, причем неважно, как это происходит – методом завоевания, слияния, поглощения, – эффект перестает действовать. Почему Алжир смог победить Францию, а Вьетнам – Америку? И почему сомалийские пираты (кстати, Сомали – одна из самых отсталых стран мира, не имеющая не только никакой промышленности, но даже собственной государственности) терроризируют весь цивилизованный мир вместе взятый? Потому что, помимо всего прочего, Северный Вьетнам и Вьетконг воевали советским оружием, по эффективности в принципе не уступавшим американскому. А сомалийские пираты плавают на современных катерах со сверхмощными моторами и стреляют из тех же АК-47 и РПГ-7.
Технологическое превосходство по-прежнему имеет значение. На определенных этапах роль этого фактора может даже возрастать, как показали первая и вторая иракские войны. Но в принципе в эпоху глобализации карта мира постепенно выравнивается с точки зрения распределения по ней силы. Не в том смысле, что сила «размазана» теперь по земному шару равномерно, как манная каша по плоской тарелке, а в том, что зависимость силы от ее первичных источников – численности населения и размеров территории – становится более жесткой и прямолинейной. Сегодня маленькая Голландия уже не смогла бы завоевать половину Азии.
Когда Россия была сверхдержавой?
Поговорим теперь о России. Была ли она когда-нибудь до советского периода сверхдержавой? Нет. Двести с лишним лет мы жили на положении протектората при Золотой Орде. В XVI веке безуспешно боролись за выход к морю и за вхождение в первую лигу европейских держав. В начале XVII столетия докатились до распада государственности. Затем с колоссальным трудом восстановились, кстати, попутно решив судьбоносный исторический спор с Польшей относительно того, вокруг какой оси, варшавской или московской, пойдет консолидация восточных славян.
Однако, несмотря на мощный национальный подъем 1613 г., большая часть XVII века прошла под знаком нараставшего тотального государственного и общественного застоя. Единственное светлое пятно – воссоединение с Украиной. Затем петровская модернизация, альтернативы которой не было, поскольку иначе Россия быстро превратилась бы в полузависимое, полуколониальное государство на обочине европейской цивилизации.
При Екатерине II Россия стала настоящей империей, прочно утвердившись в тройке-пятерке крупнейших и сильнейших европейских держав. Империей – но не сверхдержавой. Потому что по всем значимым показателям, составляющим понятие «национальной силы», Россия была одной из первых, но не первой. В чем-то опережая соперников, а в чем-то уступая им.
1812 год. Высшая точка российского национального подъема за всю историю. Даже 1945 г., наверное, не нес такого светлого положительного заряда, поскольку для многих победителей и освобожденных дорога с фронта и из немецкого рабства пролегала в сталинские лагеря. При Александре I после Парижского мира и создания под патронатом русского царя Священного союза Россия по военной силе – на континенте, а не на море – оказалась самой мощной державой Европы и оставалась таковой вплоть до поражения в Крымской войне в 1856 году. Самой мощной – но без отрыва на порядок. Не настолько, чтобы быть сильнее всех остальных вместе взятых, как было в случае с СССР и США. К тому же английский флот господствовал на море, а сама Англия все более утверждала себя «фабрикой мира». Из кубиков, старательно заготовленных Ост-Индской компанией, складывалась великая Британская империя, самая протяженная из когда-либо существовавших империй. А Россия снова столкнулась с феноменом застоя, на этот раз на почве дикого анахронизма в виде крепостного права. Собственно, поражение в Крымской войне и продемонстрировало эту системную слабость страны.
Отмена крепостного права в 1861 г. – одна из самых славных вех в российской истории. И царь Александр II – не гений, но мужественный, достойный человек, политик-модернизатор, со своим видением и реформаторской повесткой дня. Это была эпоха национального возрождения страны, роста здорового позитивного национализма. Россия побеждает Турцию в войне 1877–1878 гг., освобождает Болгарию, по-крупному ставит вопрос о принадлежности Черноморских проливов. Вступает в схватку за контроль над Центральной Азией и добивается серьезных успехов. Создает современную армию и военно-морской флот. Не боится на равных говорить с Англией, Францией и объединенной Германией. Россия – снова держава первого класса. Одна из крупнейших и сильнейших в мире. Но опять-таки не крупнейшая (только по численности населения среди европейских государств) и не сильнейшая. Тем более не сверхдержава.
Дальше неудачное царствование Николая II. Прогрессирующее загнивание режима. Настоящая война против российского государства, развязанная агрессивно-деструктивным меньшинством при симпатизирующем попустительстве общества и, по сути дела, предательстве и самоустранении царского режима. Знаковое деморализующее поражение в войне с Японией и вступление плохо подготовленными в войну с Германией. Несмотря на первоначальный националистический всплеск, эта война очень быстро до предела обострила страдания и возмущение народа. Большевикам оставалось только поднести спичку к этой пороховой бочке.
Дальше все по школьным учебникам.
Поскольку 1920–1930-е гг. СССР практически прожил на осадном положении, во враждебном окружении, выходит, что статусом сверхдержавы мы наслаждались с 1945 по 1990 гг., то есть ровно 45 лет. 45 лет из 1100 лет российской истории, если вести отсчет от полумифического факта прибивания Олегом щита к вратам Царьграда. То есть никакой многовековой традиции сверхдержавности нет. Есть привычка, и есть память двух послевоенных поколений, передавших ее своим детям, внукам, а ныне и правнукам.
Следовательно, речь идет не о том, чтобы следовать традиции, а о том, чтобы переломить ее, если мы хотим, чтобы Россия стала сверхдержавой. Оставим за скобками вопрос, почему столь многим, похоже, действительно искренне хочется этого. Сосредоточимся на другом вопросе – возможно ли сверхдержавие? При этом не забудем про правило, которое зафиксировали, анализируя маленькую Голландию и ацтеков. А именно – что на протяжении длительных исторических периодов совокупная сила государства и его способность позиционироваться в мире находятся в достаточно спрямленной зависимости от размеров территории и численности его населения. Подчеркнем еще раз и то, что в эпоху глобализации эта зависимость спрямляется еще больше.
Итак, есть ли у России шанс, соблюдая законы исторического жанра, стать сверхдержавой в XXI веке?
Сохранятся ли сверхдержавы?
А сохранятся ли вообще сверхдержавы в XXI веке? Вопрос не праздный. Россия выдвигает в качестве одного из постулатов своей внешнеполитической доктрины принцип многополярности, что по определению предполагает непризнание сверхдержавного статуса ни за одним из государств. Повсюду звучат рассуждения об аналогиях с XIX веком, с его «концертом держав», а то и о возврате в эпоху «сражающихся царств».
Разумеется, все относительно. Если придерживаться строгой трактовки понятия «сверхдержавы» как феномена, характерного исключительно для периода холодной войны, тогда, конечно, в XXI столетии сверхдержав нет и быть не может. Но эта трактовка ничего не решает. Немногое изменится и от того, что какие-то страны мы будем называть не «сверхдержавами», а, скажем, «великими державами первой категории», если они будут обладать признаками, качественно, системно отличающими их от других участников международного общения.
Если же брать проблему по существу, приходится констатировать, что в обозримом будущем две страны (если не произойдет чего-нибудь крайне маловероятного – типа фундаментальной внутренней дестабилизации в одной из них) будут именно в таком положении.
Это – Соединенные Штаты уже сегодня и Китай в перспективе полутора-двух десятилетий. Приводимая ниже таблица иллюстрирует масштабы разрыва между этими двумя государствами и остальным миром в проекции 2050 года.
Автор не разделяет теорию постепенного увядания США. Может быть, они и увядают, только очень медленно. Поэтому даже когда Китай обгонит Америку по ВВП, она, скорее всего, еще надолго останется сверхдержавой номер один – и не только благодаря военной силе. Просто по совокупности параметров силы, нравится нам это или нет, Соединенные Штаты системно лидируют в сфере финансов, коммуникаций, технологических инноваций, науки, образования, спорта, массовой культуры и т.д. Америка – страна, дающая значительной части мира модель того, как строить жизнь, причем не только на государственном, но и на бытовом уровне – как одеваться, питаться, заниматься спортом, дружить, любить и т.п. А в этом тоже проявляется сверхдержавность.
И при всем увлечении китайской культурой и едой огромные конкурентные преимущества, накопленные Америкой, например, по таким показателям, как количество иностранных студентов или нобелевских лауреатов, число регистрируемых патентов, аудитория выпускаемых фильмов, компакт-дисков и книг, в реалистичных сценариях нивелируются очень нескоро. Хотя в перспективе это, несомненно, произойдет. Как, впрочем, остановится и каток китайского роста. И тогда, может быть, и вправду мы снова окажемся в мире без сверхдержав.
Попробуем суммировать в виде таблицы основные прогнозные оценки относительно того, как ведущие державы мира будут выстраиваться, например в 2050 г., по основным параметрам национальной силы.

1) U.S. Census Bureau, International Data Base
2) PricewaterhouseCoopers, “The World in 2050”, January 2011, p. 9
Разумеется, есть еще собственно военная сила. И теоретически можно допустить, что военно-силовой элемент мог бы компенсировать нашу относительную демографическую и экономическую слабость в середине века. Этот фактор имеет место, но здесь также есть свои лимиты.
Возьмем данные по доле военных расходов в ВВП по трем странам: Россия, США, Китай – этого достаточно.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database
Поскольку никакой серьезный прогноз не дает даже примерных прикидок по численности вооруженных сил и уровню военных расходов в мире в 2050 г., спроецируем эти проценты. Разрыв по военным потенциалам останется примерно таким же, как по демографии и ВВП. Такое соотношение можно «взломать», резко увеличив долю военных расходов в ВВП, но в таком случае мы говорим о другой модели политической и социально-экономической системы. То есть при сохранении превалирующих ныне тенденций Россия к середине XXI века к статусу сверхдержавы не придет. Объективно.
А может ли Россия переломить эти тенденции? Поскольку мы имеем огромную территорию и богатые природные ресурсы, в принципе это возможно. Но потребуются прежде всего три вещи. И все три на форсаже: массированная иммиграция, жесткое стимулирование рождаемости и форсированная модернизация. Для обеспечения этих трех условий мягкого авторитаризма будет недостаточно, потребуется настоящий полноценный тоталитаризм. Только нужен ли статус сверхдержавы такой ценой?
Варианты для России
Теперь можно, наконец, подойти к главному вопросу. Раз не ломая, не насилуя себя мы не можем рассчитывать на статус сверхдержавы, что тогда делать? Переберем варианты, включая самые абсурдные.
Самоликвидироваться – такая опция тоже существует. См. пример СССР.
Смириться, но при этом медленно угасать в исторической ностальгии.
Стать сателлитом США.
Стать сателлитом Китая.
Вступить в Евросоюз, приняв все сопутствующие драконовские правила, то есть по существу превратиться в большую Польшу.
Пойти своим путем.
Очевидно, для целей серьезной практической политики актуален только последний вариант, причем здесь речь идет, по сути, о том, чтобы буквально по Оруэллу превратить минус в плюс, а слабость в силу. Еще раз напомню, что главная причина, почему мы не можем стать сверхдержавой – нехватка населения. Аналогично: в чем главная причина, почему, если бы каким-то чудом удалось быстро решить демографическую проблему, Россия могла бы стать сверхдержавой – в размерах территории и богатстве природных ресурсов. Очень сильно огрубляя, положение России в сегодняшнем мире определяют прежде всего следующие характеристики: огромная территория и богатые природные ресурсы при малочисленном, но пока достаточно качественном населении и по-прежнему достаточно сильных вооруженных силах.
Это значит, что сравнительно небольшое население может очень хорошо жить. Только надо задать себе реалистичную установку. Ориентироваться на создание сильной, современной страны, способной защитить себя, свою территорию и природные ресурсы (иначе реальные сверхдержавы попробуют пооткусывать куски), но не загоняющей себя в исторический тупик, поскольку в погоне за сверхдержавным статусом нас ждал бы крах пострашнее 1991 года. Сильные вооруженные силы – нужны. Сильное государство – тоже, чтобы обеспечивать порядок и продвигать модернизацию. Но главное, на чем должны быть сфокусированы усилия нации – создание современной высокоэффективной экономики, без которой достижение устойчиво высокого качества жизни, несмотря на любые природные ресурсы, невозможно.
Пора перестать нагнетать негатив по поводу XXI века. Но это – непростой век, алгоритм которого в решающей степени задают крутые перемены, порой трудно предсказуемые.
Какое выбрать решение?
Остров Россия. Остров, уверенно и комфортно ощущающий себя между континентами Америки, Европы, Китая и Индии. Не впадающий ни в сверхдержавную гордыню, ни в фальшивое смирение общества, отрекшегося от своего прошлого.
Предлагая этот образ, автор отдает себе отчет в его потенциальной коварности. Того и гляди из шкафа извлекут жупел изоляционизма. Вспоминается «Остров Крым» Аксенова. Повод для подобных аллюзий такое сравнение дает. Однако здесь важнее представление об «острове» как о мощной монолитной структуре в бурном океане перемен. Открытой этим переменам, но и защищенной от их издержек и эксцессов. Потому что от международного терроризма, нелегальной иммиграции, диковинных болезней и даже от природных катаклизмов, включая цунами, можно и нужно защищаться.
У всех у нас на памяти успешный пример реализации именно такой концепции островного государства – Великобритания (можно было бы сослаться и на Венецию – но слишком давно это было). Со времени Великих географических открытий и до начала XX века – почти 500 лет – Англия оставалась самым динамичным государством планеты во многом благодаря зависимости от морской торговли, в свою очередь связанной с ее островным характером. Только сказав это, надо сказать и другое – английский эксперимент не состоялся бы в чистом виде, если бы островное положение не защищало Англию от волн завоеваний, регулярно прокатывавшихся по континентальной Европе. По крайней мере трижды Ла-Манш и британский флот спасли Англию – от Филиппа II, Наполеона и Гитлера.
Повторимся: подобная защита через совокупность компенсирующих мер – Россия, увы, все-таки не остров – была бы для нас не лишней в XXI веке, особенно с учетом того, что в обозримой перспективе два наших ближних соседа будут значительно сильнее нас.
России не нужно стремиться к вступлению в Евросоюз или к союзу с США или Китаем. Нужно уяснить, что мы, несмотря на наши 140 миллионов населения, хотя и не можем стать сверхдержавой, вполне способны быть достаточно сильным государством, чтобы жить сами по себе. И жить лучше очень многих – хотя и не всех – здесь тоже надо быть реалистами. Так что давайте поблагодарим Ермака Тимофеевича с Ерофеем Хабаровым за наши территориальные просторы, а Америка с Китаем пусть завидуют.
Создание «Острова Россия» – острова благополучия и качественной жизни в современном стремительно меняющемся и непредсказуемом мире – могло бы стать основой нашей национальной идеи и модернизационной платформы.
Особый случай
Вернемся еще раз к изначальному вопросу – может ли Россия вновь обрести статус сверхдержавы и, если это возможно, стоит ли ей вступать на этот путь. Проведенный анализ, как мне кажется, при всей своей поверхностности показывает: эта установка была бы сегодня или бесперспективной, или саморазрушительной.
Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что пока отечественная элита не предложит альтернативы сверхдержавным устремлениям, и пока общество не примет эту альтернативу, игра вокруг сверхдержавности все равно будет продолжаться. При этом, по сути, мы по подобному пути не идем – это потребовало бы от общества совершенно других жертв и самодисциплины, к чему сегодня никто особенно не готов. Однако эта ностальгия по сверхдержавности – практически исключительно на идеологическом, политическом, психологическом и особенно атрибутивно-пропагандистском уровне – затрудняет поиски реальной национальной идеи и формирование настоящей, работающей национальной стратегии. А сверхвысокие цены на энергоносители – которые, к сожалению, похоже, сохранятся еще долго – создают видимость того, что у страны есть средства для превращения в сверхдержаву.
Не хочется повторять банальности, но Россия – особый случай в мировой истории. Многонациональная поликонфессиональная страна, сформировавшаяся вокруг русского этноса и православия, усвоившая крайне болезненное восприятие Запада, поскольку оттуда исходили как смертельные покушения на нашу независимость и само существование – «псы-рыцари», поляки, шведы, Наполеон, интервенция, Гитлер, так и все модернизационные импульсы. Отсюда наши хронические колебания между заискивающе-подражательным восхищением Западом (последний такой всплеск мы наблюдали в начале 1990-х гг.) и агрессивно-заносчивым пренебрежением по отношению к нему. Сейчас аналогичное раздвоение укореняется и в нашем отношении к Китаю.
Понятно, что с таким психологическим багажом обещание благоустроенной комфортной жизни на своем «острове» не заменит национальную идею. Если бы ее было так просто сформулировать, это давно было бы сделано. Тем не менее, хотел бы акцентировать несколько ключевых мыслей.
Во-первых, без решительного и бесповоротного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен.
Во-вторых, национальная идея и национальная стратегия России должны в обязательном порядке учитывать и национальную историческую традицию, критически развивая ее, и особенности того мира, который сейчас складывается на наших глазах.
В-третьих, сила еще, видимо, надолго останется базовым фактором, определяющим положение того или иного государства в мире, но содержание этого понятия кардинально меняется. И классическая формула, заданная известным вопросом Сталина: «А сколько дивизий у Ватикана?», в нынешнем веке будет еще менее актуальной, чем в предыдущем.
В-четвертых, у нас есть основания надеяться, что XXI век станет лучше, светлее, комфортнее, благополучнее и милосерднее века ХХ. Хотя бы по той причине, что более жестокого и мрачного столетия, чем прошлое, не было. Но все равно это не будет означать всеобщей любви и братства. И предстоящие десятилетия точно не будут временем для слабых и вялых.
Мы должны быть нацелены на реальное, а не риторическое, позиционирование России как самостоятельного центра силы. Не сверхдержавы, но великой страны, способной постоять за себя (и не только перед Грузией) и обладающей силой не для ее экспансионистского проецирования в мире, а для гарантии лучшей материальной и духовной жизни своего народа. Такая установка концептуально продуктивна для формирования национальной стратегии и платформы модернизации. В этом единственный смысл образа «острова России» – острова безопасности и устойчивого развития в стремительно меняющемся непредсказуемом мире.
Н.Н. Спасский – доктор политических наук, чрезвычайный и полномочный посол.
Афганистан, Пакистан, Ирак, Сомали - в этом списке общепризнанных центров мировой нестабильности появилось еще одно название - Республика Йемен.
Йемен - это страна, которая вырвалась из средневековья только при жизни нынешнего поколения. Вот как будущий первый заместитель руководителя Службы Внешней Разведки России Вадим Кирпиченко описывал свой визит в северный Йемен в 1958 году: "На более чем примитивном аэродроме был выстроен босоногий почетный караул с винтовками времен первой мировой войны. Рядом размещался оркестр, тоже сплошь босой. В стране не было своей печати, радио, элементарных дорог, банков. Бумажных денег тоже не было. В качестве валюты ходил серебряный талер времен австрийской императрицы Марии-Терезии. Категорически были запрещены такие заведения, как кино и театр. По пятницам на центральной площади столицы время от времени рубили головы приговоренным к казни преступникам. Других массовых зрелищ не было".
В 1962 году в северном Йемене свергли монархию и отменили рабство. А в 1967 южный Йемен перестал быть британской колонией. В двух странах, которые в 1990 году объединились в единое государство, начали потихоньку появляться атрибуты современности.
Но политические нравы в Йемене остались средневековыми. Давайте, например, кратко пробежимся по списку президентов северного Йемена в 70-ые годы. Президента Ириани свергли в результате военного переворота. Его сменщика президента Хамди убили вместе с братом.
Следующий президент Гашми погиб и при вовсе ошарашивающих обстоятельствах. В июне 1978 года он принимал специального посланника президента Южного Йемена Рубаи. Беседа шла очень даже успешно. Но, как выяснилось, начальники посла вмонтировали в его чемоданчик-дипломат бомбу с часовым механизмом. Бомба взорвалась, убив и посла и президента.
Но хитроумный лидер Южного Йемена Рубаи недолго наслаждался своим триумфом. Через три дня его свергли и тут же расстреляли собственные оппозиционеры.
С 1978 года лидером сначала северного, а потом и всего Йемена был президент Салех. Сразу после своего прихода к власти этот человек с незаконченным средним образованием казнил 30 офицеров. По логике йеменской политики его тоже вскоре должны были отправить в мир иной. Но присвоивший себе ранг фельдмаршала Салех оказался очень умелым политическим манипулятором. Действуя по принципу "разделяй и властвуй" он долгие годы успешно играл на противоречиях различных йеменских племен и иностранных держав.
Но сколько веревочке не виться, конец все равно будет. К лету 2011 года всем смертельно надоевший президент Салех потерял контроль над ситуацией в стране. И в полном соответствии с йеменскими политическими традициями фельдмаршала ранили в мечети собственного дворца. Сейчас его лечат в Саудовской Аравии. А все эксперты с ужасом ждут: что же в Йемене будет дальше?
Почему я употребил слово "ужас"? Причин множество. Вот одна из самых важных. Йемен находится рядом со страной, в которой сконцентрированы жизненно важные интересы западного мира.
Вадим Кирпиченко рассказал еще вот какой эпизод о своем путешествии в северный Йемен в 1958 году. Одновременно с советским послом, которого сопровождал Кирпиченко, в стране находился посланец короля Саудовской Аравии. Король северного Йемена шейх Ахмад за что-то обиделся на саудовцев. В результате несчастному дипломату отказывали и в королевской аудиенции, и в праве покинуть страну.
Так вот, сейчас в положении потенциального йеменского заложника оказалась уже вся Саудовская Аравия, а вместе с ней и каналы снабжения нефтью стран Запада. Вам кажется, что я сгущаю краски? Тогда судите сами. Йемен - исключительно бедная страна с населением в 23 с лишним миллиона человек. Живут здесь исключительно воинственные племена, которые обожают брать кого-нибудь в заложники. И без того традиционно слабый авторитет центральной власти сейчас лежит в руинах. Зато влияние местной ячейки Аль-Каиды растет как на дрожжах.
И вот рядом с таким государством находится богатенькая Саудовская Аравия - мировой экспортер нефти номер один. Населения здесь чуть больше, чем в Йемене - 27 с лишним миллиона человек. Да и королевский режим здесь еще очень даже прочен. Но в стране усиливаются позиции религиозных экстремистов, жаждущих свергнуть монархию. А король и все его наследники первой очереди - люди, которым в районе 80. Если Йемен превратится в провалившееся государство, в котором хозяйничает Аль-Каида, саудовцам придется очень не сладко. А значит, не сладко придется и западникам с их зависимостью от саудовской нефти.
У вас не появилось желание отправиться с Йемен с туристической поездкой? И правильно. В дополнение к политическим заморочкам в Йемене еще и очень экстремальный природный климат. В стране круглый год царит удушающая жара. В годы повышенной солнечной активности уровень содержания кислорода в воздухе в столице Йемена Сане составляет лишь 25% от привычного для европейца уровня. В некоторых районах страны дождя не видят по пять лет.
Но чтобы почувствовать себя опаленными жарким йеменским солнцем, западным политикам и чиновникам необязательно прилетать в Сану. Их трясет от одного слова Йемен. Михаил Ростовский
Переходное федеральное правительство Сомали и представители переходного сомалийского парламента пришли к соглашению перенести президентские и парламентские выборы в стране на август 2012 года, сообщило в четверг агентство Рейтер.
"Мы согласны перенести выборы президента и спикера, и его заместителей на 12 месяцев, (начиная) с августа (этого года)", - говорится в соглашении, подписанном действующим президентом Сомали и спикером переходного парламента в Уганде.
"Выборы президента и спикера парламента должны состояться до 20 августа 2012 года," - цитирует текст документа агентство.
Парламент и правительство Сомали, сформированные в 2004 году, согласно международным договоренностям, носят временный характер и должны закончить свою работу в августе.
В начале февраля законодательный орган Сомали, состоящий из 500 депутатов, каждый из которых получает от структур ООН 300 долларов в месяц, почти единогласно проголосовал за продление своих полномочий, истекающих в августе, на три года. Однако решение было отвергнуто переходным федеральным правительством, которое, со своей стороны, предложило продлить переходный период на год.
Признанное международным сообществом правительство Сомали контролирует лишь центральную часть столицы страны - города Могадишо. Расположенные там правительственные здания часто становятся мишенью для боевиков, которые наряду со стрелковым оружием применяют артиллерию.
Образовавшееся в 1960 году из британской и итальянской колоний, Сомали перестала существовать как единое государство в 1991 году. С падением диктаторского режима Сиада Барре, правившего страной с конца 1960-х годов, Сомали погрузилась в анархию и быстро распалась на ряд квазигосударственных образований, наиболее стабильным из которых является непризнанная Республика Сомалиленд.
В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает Федеральное правительство Сомали во главе с Шейхом Ахмедом, однако тот контролирует лишь небольшую часть Могадишо.
По прогнозам Иммиграционной службы страны, к концу текущего года количество заявлений на получение гражданства Швеции вырастет на 13% по сравнению с прошлым и достигнет 37 000.
В 2010 году служба получила 32 891 заявление. В этом году число заявлений уже составило почти 15 000, пишет The Local.
Наиболее часто за получением гражданства Швеции обращались иммигранты из таких стран, как Босния-Герцеговина, Иран, Россия, Сербия, Ирак, Турция, Польша, США, Сирия и Сомали.
В 2012 году, по прогнозам, число желающих стать гражданами Швеции достигнет 40 000 человек.
В качестве одного из объяснений увеличения числа заявлений на получение шведского гражданства специалисты Иммиграционной службы называют введение в апреле 2010 года онлайновой анкеты, упростившей жизнь соискателям.
За период с июня 2010-го по май 2011 года местные власти одобрили 20 864 заявления на получение гражданства Швеции. Больше всего новых граждан появилось в Стокгольме.
Великий пост Салеха
Свержение йеменского президента даст «Аль-Каиде» второе дыхание
Исламистские боевики захватили контроль над третьим по величине городом Йемена Зинджибар. В стране возникла реальная опасность перехода власти от президента страны Али Абдаллы Салеха к ортодоксальным исламским и экстремистским силам, имеющим широкие связи с местной ячейкой «Аль-Каиды».
В воскресенье в Зинджибар, где проживает более 19 тыс. человек, вошло несколько сотен боевиков, вытесняя боевые части президента страны. Вчера завершились бои в пригородах. Таким образом, завершилось четырехдневное наступление боевиков из йеменских племен, вступивших в союз с экстремистами, на лояльные президенту силы. В руках повстанцев оказался третий по величине город страны.
Одновременно ВВС Йемена начали бомбить Зинджибар, пытаясь вытеснить оттуда повстанцев. По последним данным, в результате бомбардировок погибли четыре боевика.
Йеменцы требуют свержения президента Салеха с февраля — с того времени, когда Ближний Восток захлестнула волна демократических революций. Однако волнуются в Йемене прежде всего местные племена, для которых строительство демократии стоит далеко не на первом месте.
«Арабская весна», на мой взгляд, не имеет большого отношения к событиям в Йемене, — заявил «МН» бывший российский посол в Алжире Александр Аксененок, который работал в посольстве СССР в Йеменской Арабской Республике в 70-х годах. — Эта страна со времени своего создания разделена, причем не только по племенному, но и по региональному признаку, по линии север-юг». По мнению эксперта, революционные выступления в Тунисе и Египте против местных диктатур помогли йеменцам преодолеть барьер страха и выступить против Салеха, который в 1990 году объединил страну, а в 1994-м силой оружия подавил сепаратистские настроения южан.
Несмотря на неоднократные призывы со стороны вооруженной оппозиции, президент Салех отказывается уходить с поста и продолжает жестоко подавлять народные выступления в городах, где у него достаточно власти. Салех объясняет свое упорство тем, что, если он покинет пост, в Йемене не найдется другой фигуры, которая сможет сохранить единство страны.
По словам Аксененка, Салех сегодня находится в опасном положении: он больше не может балансировать между интересами йеменских племен, сохраняя стабильность страны. Более того, Салех добился раскола в своем собственном племени хашид, крупнейшем и влиятельнейшем в стране, считает собеседник «МН». «Нынешний глава хашида Садик аль-Ахмар выступил против Салеха и поддержал оппозицию, — объяснил Аксененок. — Салех пошел на открытую конфронтацию, окончательно испортив отношения с племенем. В такой ситуации ему вряд ли удастся удержать власть».
На данный момент Салеха поддерживают Республиканская гвардия, которую возглавляет сын президента, часть армии и несколько северных племен.
На прошлой неделе главы йеменских племен обвинили президента в том, что тот пытался убить их, и начали вооруженное противостояние. Боевики, лояльные аль-Ахмару, штурмовали здания нескольких министерств, а солдаты, лояльные Салеху, захватили здание телеканала, принадлежащего главе племени хашид. В результате столкновений в Сане погибли не менее 127 человек. Однако гражданской войны удалось избежать, когда вечером 29 мая политики договорились о перемирии.
Штурм Зинджибара боевиками-экстремистами может разрушить только что достигнутое соглашение. Оппозиция считает, что Салех сознательно приказал своим войскам уступить город боевикам, чтобы международное сообщество наглядно убедилось в опасности гражданской войны и увеличило помощь нынешнему президентскому режиму. Президент в свою очередь утверждает, что во всем виноваты исламисты, в частности «Аль-Каида» Аравийского полуострова (АКАП) — региональное отделение международной террористической организации.
Впрочем, по данным агентства The Associated Press, Зинджибар был захвачен не бойцами АКАП, а связанной с ней «Аденской армией» — экстремистской исламской организацией, воевавшей в 1980-х годах против советских войск в Афганистане и вступившей в союз с Салехом в 1994 году, с тем чтобы подавить сепаратистские настроения южных племен Йемена.
Два Йемена
Раздел Йемена начался с того, как в середине XIX века Британия захватила юг страны, турки повторно завоевали север. В 1919 году Северный Йемен получил независимость, в 1962 году военные свергли монархию и образовали Йеменскую Арабскую Республику (ЙАР) со столицей в городе Сана.
ЙАР пользовалась поддержкой СССР. Но куда большую помощь, в том числе военную, Москва оказывала основанной на территории Южного Йемена в 1967 году в результате длительной партизанской борьбы и долгих переговоров с британцами Народной Демократической Республике Йемен (НДРЙ) со столицей в городе Аден. В последующие два десятилетия отношения двух йеменских государств оставались напряженными.
Современная Йеменская Республика возникла в 1990 году. Советская помощь югу сократилась, НДРЙ объединилась с ЙАР, президентом которой с 1978 года был Али Абдалла Салех. В сентябре 1999 года на первых в истории страны прямых президентских выборах на альтернативной основе Салех победил с 93% голосов.
Александр Самохоткин
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что на нынешнем этапе исламистские организации занимают выжидательную позицию, наблюдая за раскладом сил в межплеменной борьбе. «В Йемене племена всегда были сильнее террористических группировок, — заявил эксперт в интервью «МН». — Поэтому исламисты будут ждать свержения режима Салеха и начала смуты, чтобы после этого сосредоточиться на усилении своего влияния в ряде районов страны».
Наиболее важным районом для АКАП и ее союзников является юг страны, чья морская граница прилегает к Сомали. По мнению Клода Монике, генерального директора Европейского центра стратегической разведки и безопасности, если АКАП укрепится в южных районах, это даст ей возможность непосредственно сотрудничать с сомалийской исламистской организацией «Аль-Шабааб». «Это позволит террористам создать многочисленные тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в Сомали и в принципе расширить инфраструктуру в Аденском заливе», — считает собеседник «МН».
В целом, по мнению Монике, успехи АКАП в Йемене могут не только существенно усилить авторитет этой организации, но и поставить ее лидеров на один уровень с нынешним руководством «Аль-Каиды», базирующимся на афганско-пакистанской границе.
«Йемен прежде всего страна, откуда ведет свою историю семья Бен Ладена. Кроме того, Йемен видится исламистами как важная ступень перед экспансией в Саудовскую Аравию, главную арабскую суннитскую страну мира, — заявил Клод Монике «МН». — И если АКАП получит контроль над йеменской территорией, это поставит ее лидеров, прежде всего Анвара аль-Авлаки, в один ряд с Айманом аль-Завахири, который занял место Бен Ладена после его смерти». Игорь Крючков

Индийские военные моряки в 2011 году потопили вблизи своих берегов четыре пиратских судна, арестовали 120 пиратов, освободили 73 члена экипажей захваченных кораблей. Все эти меры отпугнули пиратов от побережья Индии. Но о том, почему этого мало, в интервью корреспонденту РИА Новости Евгению Безеке рассказал генеральный директор управления судоходства Индии Сатиш Агнихотри.
- Десятки моряков из Индии и других стран томятся в плену у сомалийских пиратов. Как Индия предлагает искоренить исходящую из Сомали пиратскую угрозу?
- Некоторые полагают, что первопричина пиратства в Сомали - это бедность, но я думаю, что причина - в беззаконии. Мы ожидаем, что под единым командованием ООН будут созданы антипиратские силы, которые расчистят побережье Сомали. Ведь базы все равно там. Эти силы будут проверять суда. Если кто-то пытается выйти в открытое море с гранатометом - его не пропустят. Если люди идут ловить рыбу - нет проблем.
Некоторые возражают, что это слишком дорого. Но уже сегодня в Аденском заливе действуют корабли из 30 стран, и они тратят на это деньги. Если "голубые береты" ООН были эффективны в ходе наземных операций, то я не понимаю, почему они не могут действовать эффективно в море.
- Как быть с посредниками, которые финансируют пиратский бизнес?
- Вместо того чтобы гоняться за двумя тысячами сомалийских пиратов, которые являются всего лишь рядовыми боевиками, надо заняться финансистами, стоящими за всей этой игрой.
Мы предлагаем обмениваться разведывательной информацией, сообща выяснять личности финансистов и наказывать их. Усилия должны быть международными. Выявлением и поиском этих преступников мог бы заняться, например, Интерпол.
Если принять вышеперечисленные меры (патрулирование побережья Сомали и выявление финансистов - прим. ред.), то никаких наземный действий в Сомали не потребуется.
- C кем вы уже обсуждали этот вопрос?
- Этот вопрос поднимался на заседании рабочей группы ООН. Индийские спецслужбы также занимаются этой проблемой.
- Как вы относитесь к вооруженной охране на судах, которые ходят в опасной зоне?
- Во-первых, сразу подчеркну, что эта мера временно неизбежна.
Во-вторых, мы бы предпочли, чтобы защитой занимались представители ВМС или бывшие военные моряки, которые будут служить на судах под соответствующими флагами.
Прибегать к услугам частных охранных фирм следует лишь в самых крайних случаях, потому что потенциальные доходы могут спутать все карты. Суда, которые идут в составе конвоев, никто не похищает, и им охранники на борту не нужны. Нет в них необходимости, если судно скоростное или у него высокие борта.
- Индийские военно-морские силы в начале этого года пресекли несколько попыток атаковать суда западнее побережья Индии, арестованы 120 пиратов. Такая жесткость оправдана?
- Они прекрасно справились со своей работой, очистили воды от пиратов, которые были практически у нашего порога. Во всех случаях военные моряки открывали огонь в ответ на стрельбу со стороны пиратов по кораблю. Если те стреляют, когда их просят остановиться, то нам надо отвечать. Первым открывать огонь военным ни к чему. Они, действительно, действовали решительно, и эти действия были признаны правомочными большей частью стран.
- Своими решительными действиями ВМС Индии распугали пиратов вблизи своего побережья, но страховщики все равно подняли тарифы, расширив опасную для судоходства зону до 78-го меридиана восточной долготы. Насколько это справедливо?
- Число нападений пиратов в этом районе не просто сократилось - их почти не стало, несмотря на рост потока судов. Поэтому мы ожидаем от них, что эта "зона военных рисков" будет уменьшена.
Мы даже не просим, чтобы они вернули ее назад, к 65-му меридиану. Наши военно-морские силы наглядно показали, что между 70 и 78 меридианами нападений практически нет, и они должны это учитывать. Пока нам отвечают, что необходимо подождать шесть месяцев. Ну что же, мы подождем.
- Но деньги за страховку все это время будут поступать в карман страховщиков?
- Деньги идут к страховщикам, но, в конце концов, есть и другая возможность - существуют страховщики, которые не будут страховать по завышенным тарифам. Но мы, конечно, хотим, чтобы тарифы были понижены, по крайней мере, при прохождении тех районов, где нападений нет.
- Насколько это решение группы страховщиков вообще легитимно?
- Группа (в рамках ООН) занимается этими вопросами какое-то время, и страховщики прислушиваются к их рекомендациям. Но у них должны быть четкие критерии. Если уменьшается число происшествий, то и страховые премии должны снижаться. Им следовало бы прислушаться к нашему мнению. Нас не слишком радует рост тарифов после снижения числа нападений.
- Как решение международной группы страховщиков о повышении тарифов отразилось на индийских судоходных компаниях?
- Оно отразилось на внешней торговле - недавно был повышен тариф, рассчитываемый для каждого контейнера, и это отразится на цене товаров, потому что с ростом страховой премии растет стоимость товаров для конечного потребителя.
Почти 89% внешней торговли осуществляется на судах, которые ходят под иностранными флагами, но те, что ходят под индийскими, пока могут не платить по повышенным тарифам. Остальные переложат бремя возросших расходов на конечного потребителя.
Как сообщила на днях международная консалтинговая организация «Джеополисити» урон, который терпит международная торговля от процветающего у берегов Сомали пиратства, составляет 8,3 млрд. $ в год.
К 2015 году сумма такого ущерба может составить 13-15 млрд. $. Эта же организация привела данные о том, что доход одного сомалийского пирата составляет около 80 тысяч $ в год.
Также в докладе «Джеополисити» отмечается, что на услуги пиратов существует спрос, так что их деятельность имеет все шансы для расширения.
Сегодня по сведениям антипиратских сил ВМС Евросоюза сомалийские флибустьеры удерживают в плену 530заложников и 23 судна. Как предсказывает «Джеополисити», основным направлением деятельности которой является экономическая разведка, ожидается увеличение пиратов в Сомали на 200-400 человек ежегодно. В прошлом году доход от противозаконной пиратской деятельности суммарно составил 230 млн. $, а само пиратство стало выгодным криминальным бизнесом не только для Сомали, но и для других стран Африки, Ближнего Востока и тихоокеанского бассейна.
За 2010 год в мире погибли 102 журналиста, из них двое – в России.
В России День прессы празднуется 13 января, но многие журналисты так и не отделались от привычки отмечать его 5 мая. Сказывается многолетняя традиция, а также то, что на 3 мая приходится Международный день свободной прессы. Именно к этому дню публикуется ежегодный доклад Международного института прессы. В нем сообщается, что за 2010 год в мире при исполнении своих обязанностей погибли 102 журналиста. Эта профессия в мирное время считается одной из самых опасных. Из общего числа погибших журналистов 40 были убиты в странах Азии, 32 – в Южной и Северной Америке, 15 – в странах Африки к югу от Сахары, 8 – в Северной Африке и на Ближнем Востоке и 7 – в Европе. Это и понятно, там, где не ценится жизнь человека, жизнь журналиста не намного ценнее. Самой опасной страной для представителей СМИ в 2010 году оказался Пакистан, где были убиты 16 журналистов. За ним Мексика и Гондурас, где погибли 12 и 10 человек соответственно.
К этому следует добавить, что в мире за 2010 год были отмечены 535 арестов, 51 случай похищения, 1374 нападения на журналистов; еще 127 репортеров вынуждены были покинуть свою страну (30 человек покинули Сомали и Эритрею). Журналистика уходит в Интернет, но и там небезопасно. За минувший год были арестованы 152 блогера, еще 52 пишущих в Интернете активиста подверглись нападениям, при том, что 62 государства открыто цензурируют Интернет.
Возникает вопрос: насколько людям нужна информация и насколько профессионально журналисты выполняют свой долг – информировать общество?
В России, по данным Международного института прессы, в 2010 году погибли два журналиста, а за десять лет – 31 репортер. Спроси сейчас россиян, мало кто назовет их имена. В прошлом году скорбный список пополнил Магомедвагиф Султанмагомедов, возглавлявший телеканал «Махачкала-ТВ» и писавший в газету «Нуруд иршад». Его автомобиль был расстрелян неизвестными в центре дагестанской столицы 11 августа. А в Калининграде был убит известный в городе журналист и блогер Максим Зуев. Ему было 35 лет. В эту статистику мог бы попасть Олег Кашин, да бог миловал. Но Кашин далеко не единственный, кто мог поплатиться жизнью за свою публичную позицию. Вопреки расхожему мнению, далеко не все избиения и нападения на журналистов становятся достоянием гласности.
После нападения на Олега Кашина много было призывов обеспечить безопасность журналистов. Говорили даже о том, чтобы приравнять нападение на них к нападению на представителя власти. Призывали даже выдать журналистам, занимающимся острой проблематикой, оружие. Но дискуссия утихла, а нападения продолжились. 16 января 2011 года в Москве недалеко от телецентра «Останкино» убит редактор программы «Ред Медиа» телевизионно-технического центра ФГУП «Останкино» Роман Никифоров. В январе же пропала без вести совсем еще юная журналистка, студентка журфака МГУ Екатерина Силина.
Вся страна увидела на экранах избитую журналистку Первого канала Наталью Сейбиль. На глазах у многочисленных свидетелей на нее напал начальник уголовного розыска городского отдела милиции «Московский» при УВД по Ленинскому району Подмосковья майор Алексей Климов. Только придание этому делу гласности позволило восстановить справедливость и в итоге наказать распоясавшегося полицейского.
В Москве 23 марта у своего дома на Котельнической набережной был избит известный журналист Сергей Тополь.
Буквально пару дней тому назад хулиганы избили журналиста популярной радиостанции, который пытался защитить свою машину. И обо всех этих случаях пресса поставила в известность общество, и это единственное оружие, которым журналисты могут защищаться. А вот о зверском избиении журналистки Елены Калядиной пресса пока не писала. Как и о многих подобных случаях.
Не во всех этих эпизодах журналисты находились, что называется, «при исполнении». Однако сама профессия предполагает, как раньше выражались, активную жизненную позицию. Настоящий журналист нередко проявляет ее там, где другие бы смолчали и прошли мимо. Это во многих случаях и становится причиной бытовых конфликтов. Только вот за «бытовухой» нередко стоит нечто большее.
В России отношение к журналистам неоднозначное. Опросы показывают, что общество не вполне доверяет журналистам, считая, что они не всегда профессиональны. И тем не менее свободная пресса и свободное общество нужны друг другу. И понимание этого и должно обеспечить защиту журналистов. Михаил МОРОЗОВ.
Сплоченность в меняющемся мире. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности о значении 9 мая для Европы
9 мая — День Европы, символическая дата для Европейского союза. В этот день 61 год назад министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выдвинул идею объединенной Европы, которая могла бы принести прочный мир и процветание на наш континент. Шуман хотел, чтобы единая Европа была построена не благодаря какому-то одномоментному решению, а последовательно, шаг за шагом, путем делегирования части суверенитета и через реализацию конкретных общих проектов, что способствовало бы формированию сплоченности. Именно так и случилось.
Семья европейских демократических государств разрослась и расширилась с шести до нынешних двадцати семи стран, что подтвердило справедливость предвидения Шумана и других отцов единой Европы. Принципы демократии, верховенства закона и защиты прав человека стали общими сегодня для более чем 500 млн граждан Европы. То, что начиналось как Европейское объединение угля и стали и переросло затем в широкий экономический клуб, превратилось с тех пор в союз. Лицо этого союза обращено к остальному миру, он действует во благо региона и мирового сообщества, а роль, которую он играет в международных делах, все больше возрастает.
Давнее стремление сформировать эффективную внешнюю политику ЕС получило новый импульс 1 января этого года с созданием Европейской службы внешних связей. Это ведомство станет единой платформой для продвижения европейских ценностей и интересов, и оно поможет нам контактировать с нашими партнерами во всем мире.
В рамках Европейской службы внешних связей мы впервые сможем объединить весь потенциал Европейского союза: дипломатию, политическое взаимодействие, помощь в целях развития, гуманитарную помощь, экономическое сотрудничество и опыт управления гражданскими и военными кризисами. Мы уже и сегодня используем этот потенциал при решении задач, которые возникают в контексте событий в Северной Африке.
Целью всего этого является формирование более эффективной и более согласованной общей внешней политики Европейского союза. Выработка единой европейской позиции по сложным международным проблемам, которая позволила бы нам работать с нашими партнерами во всем мире, — это то, в чем давно были заинтересованы страны единой Европы. И наконец у нас есть возможность обеспечить решение этой задачи.
Европа ясно говорит своим партнерам во всем мире: мы хотим совместно работать и совместно реагировать на самые серьезные вызовы, которые стоят перед нами. С созданием Европейской службы внешних связей мы станем лучшим, более эффективным партнером.
Мы остаемся крупнейшим донором и торговым блоком в мире, но теперь мы занимаемся гораздо более широкой деятельностью и мы делаем это вместе. Мы боремся с пиратством у побережья Сомали и помогаем восстановить Гаити после разрушительного землетрясения. Мы выступаем в качестве посредника между Сербией и Косово для установления прочного мира в странах Западных Балкан и возглавляем переговоры с Ираном по ядерной программе. Наши 130 представительств ЕС по всему миру являются для принимающих государств надежными партнерами по всем аспектам политики Европейского союза: от внешней политики и политики безопасности до энергетики и изменения климата.
День Европы — это возможность для ЕС не только вспомнить свои истоки, но прежде всего взглянуть на уже пройденный путь. Европейская служба внешних связей представляет единый и сильный континент и предназначена для обеспечения безопасности и стабильности европейских граждан и поддержания безопасности и стабильности во всем мире. Кэтрин Эштон
В отношениях со странами североафриканского региона Швейцария намерена сделать ставку на экономическое сотрудничество, на возвращение награбленных бывшими диктаторами капиталов и на регулирование миграции. Таковы три пункта, обозначенные на конференции швейцарских послов в государствах этого региона.
Основываясь на основополагающей стратегии, принятой 11 марта этого года Федеральным советом, швейцарские послы в странах Северной Африки на своей конференции в Тунисе выработали программу из трех пунктов.
«Если коротко, то в эти пункты входят такие темы, как экономическое сотрудничество, возвращение награбленных бывшими диктаторами капиталов и на регулирование миграции», - заявил пресс-секретарь швейцарского МИД Ларс Кнухель (Lars Knuchel) в Тунисе перед журналистами.
По его словам, революционные преобразования в странах региона сделали необходимой выработку новой внешнеполитической стратегии на этом направлении. «Эта стратегия относится ко всему североафриканскому региону, а не только к странам, в которых произошли революции», - указал Марсель Штутц (Marcel Stutz), руководитель 2-го политического отдела МИД Швейцарии (Politische Abteilung II beim EDA) в интервью порталу swissinfo.
«И, тем не менее, очень важным представляется следующий аспект: у каждой страны своя история и свои сложности. В каждом случае нужно выбирать иную стратегию и действовать дифференцированно». Что касается Швейцарии, то свою помощь она предоставляет только «on demand», то есть по требованию.
Швейцария не имеет права делать что-либо в странах, которые сами не вышли на официальный Берн с просьбой о помощи. «Именно поэтому сейчас центр тяжести наших усилий находится в Тунисе, мы прекрасно контактируем с переходным правительством этой страны».
Экономическое сотрудничество
Не секрет, что первыми от безработицы в странах Северной Африки страдают молодежь и молодые мужчины, - указывает М. Штутц. У них зачастую нет образования, и они не интегрированы в трудовые отношения. «Совместно со швейцарскими предприятиями и фирмами мы пытаемся в соответствующих странах встроить этих людей в систему занятости. Уже сейчас есть возможность, выдав некоторым из них стажерскую визы, организовывать им в Швейцарии профессиональную практику. Такая виза позволяет молодым людям работать в Швейцарии в течение 18-ти месяцев».
«В настоящее время разрабатывается концепция, которая предусматривает облегченный порядок получения стажерских виз на два-три месяца, но пока никаких решений еще не принято», - говорит Эдуард Гнееза (Eduard Gnesa), посол по особым поручениям в области миграции в Дирекции по сотрудничеству и развитию (Deza).
Возвращение награбленных капиталов
По вопросу возвращения из Швейцарии накопленных бывшими диктаторами капиталов Валентин Целльвегер (Valentin Zellweger), руководитель Дирекции международного права швейцарского МИД (EDA), указывает, что еще в январе этого года Федеральный совет, правительство Швейцарии, заблокировал активы так называемого клана Бен-Али.
«Теперь дело за правительством Туниса начать процесс против отдельных личностей. Швейцария вернет деньги на основании только решений суда», - указывает В. Целльвегер.
Накануне президент Швейцарии Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey) обнародовала данные на предмет того, каковы активы бывших североафриканских диктаторов, «запаркованные» в Швейцарии: около 60 миллионов франков приходятся на имя клана Бен-Али, около 400 миллионов – средства клана Мубарака и около 360 миллионов – капиталы семейства Каддафи.
Миграция
Что касается миграции, то здесь Швейцария хотела бы внести свой вклад в кардинальное улучшение ситуации в этой области с тем, чтобы люди не имели причин покидать свою родину. По данным Э. Гнезы с начала гражданской войны в Ливии эту страну уже покинули около 600 тыс. человек. «Из них только 30 тыс. добрались до южной Европы. И около 20 тыс. человек – которые работали в Ливии и теперь потеряли источники дохода», - уточняет он.
Эти люди готовы вернуться в Ливию при условии, что там они снова могут получить работу. Однако среди тех, кто сумел попасть в Европу, есть и настоящие политические беженцы, например, из Сомали. Швейцария намерена предпринять все усилия для того, чтобы облегчить реинтеграцию вернувшихся из Ливии домой граждан Туниса, - указывает Э. Гнеза.
По итогам конференции швейцарских послов в Тунисе Швейцария подчеркивает, что намерена придерживаться правил Шенгенского/Дублинского клуба, членом которого она является. С одной стороны, эти соглашения четко определяют, где проходит внешняя граница ЕС, с другой они же говорят о том, что беженцы могут быть высланы обратно в страну первого прибытия.
«Система Шенген/Дублин функционирует неплохо», - говорит Э. Гнеза. Только в марте месяце 2011 года Швейцария выслала обратно в страны первого прибытия около 5 тыс. беженцев, приняв сама около 780 человек. «Однако имеет место и обратная миграция из Европы в Тунис и Египет», - утверждает он. - «В настоящее время таких людей еще немного, но их число со временем может увеличиться».
Визит министра
Напомним, что федеральный президент Швейцарии и мининдел страны Мишлин Кальми-Ре совершила рабочий визит в Тунис. Там она озвучила перед журналистами основные положения политики Швейцарии по отношению к странам региона Северной Африки. В центре пресс-конференции находились вопросы капиталов Бен-Али и тунисской эмиграции в Европу.
«Сколько, как Вы считаете, должно пройти времени, прежде, чем тунисское государство получит обратно из Швейцарии средства, накопленные диктатором Бен-Али и его приближенными». Такой вопрос задала тунисская журналистка Мишлин Кальми-Ре на пресс-конференции в отеле «Mövenpick», расположенном в предместьях столицы Туниса.
Швейцарская президент ответила, что она не может дать на этот вопрос точного ответа. Все зависит, по ее словам, от того, насколько беспроблемно пойдет процесс в целом. «Мы будем придерживаться законов нашего правового государства», - заявила министр на пресс-конференции по итогам конференции послов Швейцарии в странах Северной Африки и Ближнего Востока.
Не так просто, как кажется
Всего в настоящий момент в Швейцарии блокированы 90 миллионов тунисских динаров (60 миллионов швейцарских франков), принадлежавших бывшему диктатору Туниса Бен-Али и его приближенным. Швейцарская сторона дает понять, что Тунис должен оперативно помочь ей выяснить, идет ли в данном случае речь действительно о деньгах, заработанных преступным путем. Сделать этот вывод, однако, может только суд.
«Это не так просто, как кажется. Нет на свете банковских счетов, заведенных на имя госпожи или господина Бен-Али. Деньги спрятаны внутри сложных финансовых схем». По словам М. Кальми-Ре, самый короткий процесс возврата длился четыре года. Кроме того, добавила она, 60 миллионов – это гораздо меньше, чем ожидалось многими. По сравнению с капиталами Каддафи (360 миллионов) или Мубарака (около 400 миллионов франков), суммы, запаркованные в Швейцарии кланом Бен-Али выглядят довольно скромно.
«Во-первых, Швейцария располагает очень строгим законодательством, что касается борьбы с отмыванием преступных финансовых средств, а во-вторых, как вы знаете, наши отношения с кланом Бен-Али не отличаются теплотой», - заявила швейцарская президент. В этой связи она припомнила, как в 2005 году тогдашний президент Швейцарии Самуэль Шмид (Samuel Schmid) «разозлил» тунисское правительство своими требованиями обеспечить в этой стране свободу слова.
Офис в Тунисе
На пресс-конференции так же обсуждался вопрос беженцев из стран Северной Африки. «Это не беженцы в собственном смысле этого слова», - заявила швейцарская министр, - «Это люди, которые ищут у нас работу». Швейцария является членом Шенгенского соглашения, и она намерена придерживаться правил, установленных в этом клубе. В рамках оказания гуманитарной помощи Швейцария уже поддержала тех, кто уже находится в Европе.
С этими целями Швейцария предоставила международным организациям денежные средства. Однако: «Наша позиция здесь такова, что для нас на первом месте находится помощь странам, откуда эти беженцы прибывают на континент». Поэтому, - проинформировала М. Кальми-Ре, - Швейцария намерена открыть в сотрудничестве с правительством Туниса специальное представительство в этой стране. Конфедерация намерена поддержать переход как этой страны, так и Египта, к демократической системе правления, и готова предоставить соответствующих экспертов.
Речь идет, по ее словам, о создании демократических структур, о противодействии коррупции и об укреплении экономики Туниса. «Швейцарские предприятия создали и поддерживают в настоящее время в стране 14 тыс. рабочих мест», - подчеркнула швейцарская президент. Во второй половине этого года, - проинформировала она далее, - швейцарский министр экономики Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) совершит рабочую поездку в Тунис с тем, чтобы разведать имеющиеся возможности дальнейшего сотрудничества.
Кроме того, - заявила М. Кальми-Ре, - министр внутренних дел Туниса обратился к ней с просьбой поспособствовать возвращению в страну туристов из Швейцарии. До революционных событий страну с туристическими целями посещало в год до 100 тыс. швейцарских граждан.
Участвовать в демократии
М. Кальми-Ре на стала уточнять, о каких конкретно стратегиях помощи Северной Африке в её переходе к демократии шла речь на конференции швейцарских послов в Тунисе. «Мы располагаем весьма ограниченными средствами и на конференции мы обсуждаем вопрос приоритетов», - указала вместо этого министр.
Выборы покажут, каким образом будет складываться сотрудничество новых властей Туниса и Египта с оппозиционными исламистскими течениями в этих странах, - заявила М. Кальми-Ре. Она признала затем, что для Европы эти течения представляют определенную опасность. «Ведь не исламисты же вышли на улицу, это были другие люди. Они требовали дать им возможность участвовать в демократии, а не введения шариата».
19 января 2011 года, за неделю до падения режима Бен-Али в Тунисе, Швейцария заморозила все находящиеся на ее территории активы, которые могли принадлежать или принадлежали Бен-Али лично и его окружению.
Швейцарские власти подозревают, что представители тунисского режима могли «запарковать» в Швейцарии в общей сложности 620 миллионов долларов (555 миллионов франков)
В феврале этого года Швейцария заблокировала активы бывшего египетского президента и его соратников.
Сколь велико состояние Х. Мубарака – неизвестно. Однако слухи о том, что он и его сыновья накопили за рубежом в общей сложности 70 миллиардов долларов, привели к демонстрациям и к его отставке.
В обоих случаях деньги будут оставаться замороженными минимум три года. Если в течение этого срока будет доказано, что данные средства приобретены незаконным путем, то тогда Тунис и Египет должны будут разработать вместе со Швейцарией схему возвращения данных активов.
Если же их незаконность доказать не удастся, то тогда они должны будут быть разблокированы. В этом случае Федеральный совет мог бы применить вошедший в феврале этого года Закон о возвращении незаконно приобретенных активов (Gesetz über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte - RuVG).
Российский профсоюз требует от судовладельцев закрепить за моряками право безусловного отказа от работы в зоне повышенной опасности. По мнению представителей РПСМ, это единственный способ спасти жизни моряков и не допустить новых трагедий.
По данным РПСМ, к такому выводу их подтолкнула встреча с военными, участвующими в операции EUNAVFOR-Somalia "Аталанта", в Джибути. На прямой вопрос, является ли обеспечение безопасности гражданских судов приоритетной задачей для европейской коалиции, военные четко ответили: нет. "Мы действуем в рамках мандата ООН, - подчеркнул адмирал испанского фрегата "Canarias" адмирал Хуан Родригес. - У нас две главные задачи - сопровождение гуманитарных грузов и обеспечение международного транзитного коридора безопасности".
В активе EUNAVFOR-Somalia 7 кораблей и 4 вертолета. Это ресурсы стран ЕС - Италии, Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, которые охватывают территорию в 800 000 морских миль. Однако пиратство уже распространилось далеко вглубь Индийского океана - на 2 600 000 морских миль. В то же время говорить об усилении присутствия ВМС в регионе пока рано.
Любую возможность военного вмешательства на берегу командование EUNAVFOR отрицает: позиция ООН основывается на установлении мира в Сомали. "Только так можно положить конец пиратству", - уверен испанский адмирал.
Военные рекомендовали внедрять на судах Best Management Practice (Лучшие руководства по защите), в том числе оборудовать на судах цитадели. Однако ситуация с громким захватом сухогруза "Beluga Nomination" и теми 48-ми часах, которые моряки провели в ожидании так и не пришедшей помощи, ставят этот метод под сомнение. По словам военных, случай с "Beluga Nomination" уникален, но не исключено, что такой сценарий может повториться.
Есть еще один способ - размещение вооруженной охраны на переход через зону повышенной опасности. Официально Европейский Союз не рекомендует нанимать охранников, ведь присутствие оружия на борту гражданского судна, рядом с гражданскими моряками, может угрожать жизни и здоровью людей. Однако сами военные в неофициальной беседе с представителями РПСМ отметили, что эта мера является сегодня одной из самых действенных. В то же время далеко не все судовладельцы готовы тратить тысячи евро на размещение вооруженной охраны, а полагаться "на авось" в условиях катастрофического распространения пиратства во все стороны Индийского океана больше нельзя.
В этой связи Российский профсоюз моряков обращается к судовладельцам и требует уравнять условия работы в зонах военного риска и зонах повышенной опасности, предоставив морякам право безусловного отказа от перехода через опасные районы и возможность вернуться домой за счет компании.
Председатель Правительства России В.В.Путин и Премьер-министр Дании Л.Лекке Расмуссен провели по итогам переговоров совместную пресс-конференцию
Стенограмма пресс-конференции:
Л.Лекке Расмуссен (как переведено): Для меня большая радость выступать в качестве принимающей господина Путина стороны во время его первого официального визита в Данию. Датское правительство придаёт этому визиту очень большое значение. С датской стороны мы хотим расширить и укрепить сотрудничество с Россией. Россия для нас является весьма важным партнёром. Данию с Россией объединяют многочисленные общие интересы как в экономической сфере, так и в политической сфере.
Премьер-министр Путин и я сегодня обсуждали вопросы о том, что мы можем делать для укрепления партнёрства в области модернизации как в экономической, так и в политической сферах.
В политической сфере бросаются в глаза общие интересы. Обе стороны хотят укрепить инвестиции, торговлю на благо российской и датской экономик. И в качестве конкретного выражения этого мы с господином Путиным сегодня наблюдали подписание ряда договоров как между датскими и российскими государственными структурами, так и между датскими и российскими предприятиями. Российский рынок огромный, он растёт. И Россия гораздо ближе к Дании, чем многие думают: лететь из Дании в западную Россию – меньше двух часов. И Балтийское море – очень эффективный путь для транспорта.
С датской стороны мы очень заинтересованы в дальнейшей интеграции российской экономики с экономикой Европейского союза. Российское членство во Всемирной торговой организации является здесь весьма важным условием. Я бы хотел подчеркнуть: я надеюсь, что 2011 год будет годом, когда Россия вступит в ВТО.
В политическом отношении нас однозначно объединяют общие интересы, нас объединяет заинтересованность в устойчивом развитии Арктики и в Балтийском море. Нас объединяет заинтересованность в стабильности в Афганистане, чтобы нестабильность в Афганистане не распространялась в соседние регионы.
Я бы хотел подчеркнуть, насколько мы довольны постоянным диалогом с Россией. Мы с господином Путиным четвёртый раз за последние полтора года встречаемся. Диалог очень позитивный и конструктивный, в том числе в тех областях, в которых мы не совсем согласны.
Наша встреча сегодня, официальный визит Президента Медведева в прошлом году – всё это ведет к расширению наших отношений. И официальный визит её Величества Королевы Дании в сентябре текущего года будет очередной точкой отсчёта в развитии датско-российских отношений.
Спасибо большое!
В.В.Путин: Спасибо большое. Мы сегодня действительно, уважаемые дамы и господа, провели очень содержательные переговоры. Я даже и не припомню, по каким вопросам мы не совсем согласны. По-моему, мы согласны по всем вопросам, во всяком случае, в той части, которой мы с Вами сегодня занимались. Мы занимались в основном торгово-экономическими связями, и я должен отметить, что мы удовлетворены тем, как они развиваются. Я хотел бы подчеркнуть, что отношения России и Дании успешно развиваются на всех уровнях, укрепляются контакты по линии парламентов, межведомственной и межрегиональной связей. Я уверен, дальнейшему продвижению российско-датского сотрудничества послужат и подписанные сегодня документы – целый пакет документов, представители прессы были свидетелями подписания этих документов. Речь идёт о развитии нашего сотрудничества в сфере транспорта, сельского хозяйства, энергетики, технологического сотрудничества в ряде областей. Преодолевая последствия глобального кризиса, мы активно восстанавливаем экономики, и в 2010 году товарооборот вырос более чем на 4%, а за первые два месяца этого года скакнул даже на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Будем работать над созданием благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества. В 25 регионах Российской Федерации работает более 200 датских компаний. Российские и датские специалисты ведут совместные разработки уникального инновационного препарата для лечения онкологических заболеваний. Есть и другие примеры взаимодействия не только в фармацевтике, но и в других высокотехнологичных областях. Мы заинтересованы в укреплении самого тесного сотрудничества со всеми нашими партнёрами. В области транспорта, например, одним из лидеров, безусловно, является «Мёллер-Мэрск» – датская компания, которая уже открыла две линии: одну – на севере Африки, другую – в Латинской Америке, связывающие эти регионы мира с Санкт-Петербургом.
Мы готовы расширять сотрудничество не только по развитию транспортного сообщения, но и по производству необходимого оборудования, развитию транспортной и портовой инфраструктуры в России. Мы сегодня говорили очень подробно на этот счёт с господином Премьер-министром. Действительно, объём работы может быть очень большим. На вечер намечена ещё встреча с ведущими представителями датского бизнеса, в ходе которой мы подробно обсудим и вопросы развития деловых связей, наметим новые направления взаимодействия.
Особое место в отношениях России и Дании занимает сотрудничество в сфере энергоэффективности. Сегодня тоже были подписаны соответствующие документы на этот счёт, и здесь Дания являет собой очень хороший пример развития экономики при сокращении энергопотребления. Мы намерены активно использовать этот опыт, привлекать датских партнёров к совместной работе в этой очень важной сфере.
Я ещё раз выразил слова признательности господину Премьер-министру за решение Дании, в результате которого России было предоставлено право проложить «Северный поток» – трубопроводную систему по дну Балтийского моря в исключительной экономической зоне Дании, проинформировал наших коллег о том, что эта работа завершается в июле.
Собственно говоря, морская часть будет закончена 15 мая, и никаких проблем, слава Богу, не возникло: ни с точки зрения затопленных когда-то на дне Балтийского моря боеприпасов, ни с экологической точки зрения – всё в полном порядке. В июле пройдёт заполнение трубы технологическим газом, а в октябре–ноябре начнётся поставка нашим потребителям в Европе. Впервые начнётся поставка российского газа и на датский рынок в объёме до 2 млрд куб. м газа с возможностью увеличить эти поставки в будущем.
Строительные датские компании работают на многих объектах в России, в том числе и по возведению объектов Олимпиады 2014 года в Сочи.
Особое место на переговорах было уделено сотрудничеству в Арктике. Россия и Дания как государства, имеющие выход к Северному Ледовитому океану, несут особую ответственность. Мы удовлетворены качеством нашего взаимодействия в арктическом регионе, единого мнения, что все возникающие вопросы должны быть урегулированы самими арктическими государствами на базе существующих международных норм, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года – это один из главных постулатов пятёрки прибрежных арктических государств. Мы информировали наших коллег о том, что увеличивается поток судов, которые передвигаются по Северному морскому пути, и, по нашему мнению, по мнению наших экспертов, в ближайшие годы в 10 раз может увеличиться грузопоток по Северному морскому пути, поскольку это гораздо выгоднее, чем проходить судам через Суэцкий канал, – это сокращает транспортные расходы, уменьшает стоимость товара, перевозимого в Азиатско-Тихоокеанский регион. Символично, что первым иностранным судном, которое прошло по Северному морскому пути, было именно датское судно.
Кстати говоря, мы приняли решение, я об этом ещё господину Расмуссену не говорил… Мы сейчас продолжаем строительство флота для использования в этих широтах и приняли решение одному из ледоколов, который будет одним из самых современных в мире, присвоить имя Витуса Беринга. Имею в виду, что он, во-первых, датчанин, а во-вторых, выдающийся российский исследователь. Причём он работал как раз в этих широтах, на Дальнем Востоке. Думаю, что этот ледокол, о котором я говорю, в конце 2012 года мы уже спустим на воду в Санкт-Петербурге. Он будет работать именно там, где в своё время проводил исследования Витус Беринг.
Пользуясь случаем, приглашаю датских специалистов принять участие в ставшем уже ежегодным форуме «Арктика – территория диалога», который организует Русское географическое общество. Форум на этот раз пройдёт в Архангельске осенью этого года и будет посвящён как раз освоению Северного морского пути.
И в заключение ещё раз благодарю датских партнёров за содержательные переговоры, за искреннее стремление к дальнейшему развитию сотрудничества с Российской Федерацией. Благодарю.
Вопрос (как переведено): Телестанция «ТВ 2», Дания. У меня к Вам вопрос, господин Путин. Вы знамениты тем, что не всегда оглашаете свои амбиции в плане будущей карьеры. Я читал статью в британской газете Financial Times, где говорили, призывали Вас к тому, чтобы Вы не выдвигали свою кандидатуру на президентских выборах, чтобы Вы вместо этого поддерживали того, кто пришёл вместо Вас, чтобы он продолжил свой процесс реформирования российского общества. Какие у Вас взгляды на эту тему?
В.В.Путин: Будущие кандидаты в Президенты Российской Федерации не нуждаются в поддержке из-за рубежа. Будущим кандидатам в Президенты России нужна поддержка российского народа.
Вопрос: Дмитрий Витов, «Первый канал». Владимир Владимирович, в своё время Вы приняли активное участие в решении проблем в Пикалёве Ленинградской области по пикалёвским комбинатам. Сегодня подписано соглашение о модернизации всего производственного комплекса. Как Вы думаете, это снимет проблему с пикалёвцев, с самих жителей? И насколько глубоко эта модернизация предусматривается?
В.В.Путин: Да, если иметь в виду, что в Пикалёве три основных производства, то реализация сегодняшних соглашений с датскими партнёрами может затронуть два направления деятельности комбината: производство цемента и производство необходимых продуктов для алюминиевой промышленности. И то, и другое направление очень востребованно. Я думаю, что есть все шансы реализовать эти планы и, безусловно, в случае их реализации экономическое состояние комбината принципиально улучшится, стабилизируется. Будут созданы новые и неплохо оплачиваемые рабочие места, произойдёт технологическое перевооружение. Комбинат будет выпускать продукты, востребованные не только на российском, но и на международном рынке.
Вопрос (как переведено): Вопрос к Премьер-министру Путину. Вы назвали миссию в Ливии крестовым походом. Можете уточнить, что Вы имели в виду?
В.В.Путин: Датская пресса не интересуется результатами переговоров – это странно, потому что я уже говорил, что 200 датских компаний работают в России. От наших заказов в значительной степени зависит их экономическое состояние. Это большой объём сотрудничества, которое поддерживает большое количество рабочих мест в Дании.
Но если вас интересует моё отношение к событиям в Ливии, могу сказать: посмотрите на карту этого региона мира. Там кругом монархия. Там что, демократия, что ли, кругом по датскому образцу? Нет. Кругом монархические государства. Это в целом отвечает менталитету населения и практике, которая там сложилась. Господин Каддафи изобрел новую монархию, так же как когда-то Наполеон после того, как пришёл на волне революции к власти и объявил себя императором. Сравнение, может быть, не совсем корректное, но в целом параллель уместна. Ну да, это монархия по сути своей. Кривая, косая, какая угодно, ненормальная, но такая. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооружённый конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооружённый конфликт? А что, разве мало у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренние конфликты? Да в самой Африке, посмотрите, в Сомали, что там происходит много лет! Почему бы там не навести порядок? А в других странах мира? Мы везде будем бомбить и наносить ракетные удары? Надо дать людям самим разобраться. Говорили о закрытии неба... Ну, хорошо. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Наверняка при этих ударах гибнут люди… Каддафи нет, он уже давно смылся и сидит где-то в убежище, а мирные граждане гибнут. Говорили: «Не хотим убить Каддафи», теперь некоторые официальные лица уже говорят: «Да, стремимся уничтожить Каддафи». А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право – казнить человека, какой бы он ни был? И все молчат. А в резолюции чего написано? Почитайте. Там призыв ко всем идти и предпринимать в отношении Ливии всё, что захотят.
Повторяю ещё раз, первоначально говорили о закрытии неба: уничтожается вся инфраструктура страны и, по сути, под прикрытием авиации одна из воюющих сторон наступает. Но это длится и будет длиться не переставая. Мне кажется, что мы должны действовать в рамках международного права с осознанием своей ответственности, заботой о мирных гражданах. А когда всё так называемое цивилизованное сообщество всей своей мощью наваливается на небольшую страну, уничтожает инфраструктуру, создаваемую поколениями… Ну, не знаю, хорошо это или нет, - мне это не нравится.
Вопрос: Как раз касаясь итогов переговоров о сотрудничестве с Данией. Говорилось о перспективах энергодиалога. Вот, в частности, хотелось бы такое уточнение: Дания имеет аукцион на увеличение поставок газа до 3 млрд куб. м в год. Намерены ли Вы воспользоваться этим опционом и нет ли разногласий по ценообразованию, в данном случае по формуле ценообразования?
И второй - касается сотрудничества в рамках Арктического совета в Арктике. Есть ли понимание по итогам переговоров? Будет ли Дания партнёром России? Будем ли мы сотрудничать в этом регионе, который многие считают золотой жилой будущего, либо мы будем соперничать в нём? И обсуждались ли перспективы расширения Арктического совета в данных переговорах? Спасибо.
Л.Лекке Расмуссен: Спасибо за вопрос. Что касается сотрудничества в области энергетики, датская компания DONG уже покупает российский газ, и перспектива, которую мы видим в завершение работы над «Северным потоком», – это перспектива укрепления поставок в Данию газа из России, который мы принимаем наряду с поставками из других стран. В этом есть перспектива.
Есть перспектива и в том, чтобы не тратить весь этот газ, и мы довольно активно над этим работаем в Дании – над энергосбережением. Датский опыт в области энергосбережения и энергоэффективности я отметил господину Премьер-министру Путину – за весьма амбициозные задачи, которые поставили перед собой российские власти, а именно 40% снижения употребления энергетики.
Что касается Арктического совета. У нас очень успешное сотрудничество. Мы отмечаем важность встречи, которая состоится в Нууке, в Гренландии, 12 мая. Мы работаем тесно, в том числе, в научной сфере, и Дания с удовольствием принимает участие в этом процессе. Мы с датской стороны очень надеемся, что в Нууке 12 мая мы сможем завершить те дебаты, которые были вокруг возможного приглашения некоторых стран в качестве наблюдателей в Арктический совет.
Наша датская позиция такая, что непосредственными участниками Арктического совета должны быть страны, у которых есть береговая линия в Арктике. Однако мы, с датской стороны, считаем естественным, чтобы Арктический совет открылся для ограниченной роли наблюдателей из других государств.
В.В.Путин: Мы раньше не поставляли газ в Данию. Но подписаны контракты, а если контракты подписаны, значит, все вопросы, в том числе и по ценам, согласованы. Повторяю ещё раз: после строительства первой нитки это 1 млрд куб. м. После строительства второй нитки – ещё 1 млрд куб. м газа с возможным увеличением поставок до 2 млрд. Эти контракты ещё не подписаны, но такая возможность обговаривается.
Вообще, я считаю, что мы очень своевременно реализуем эти проекты, имею в виду непростую ситуацию, которая складывается в мировой энергетике и после катастрофы в Японии. Понятно, что как минимум атомная генерация в Японии увеличиваться не будет, я скажу так, очень аккуратно, а значит, будет увеличиваться потребность в углеводородах и прежде всего в газовом сырье. Имею в виду, что это с экологической точки зрения самое чистое углеводородное топливо, чище нет. Это действительно так с точки зрения выбросов в атмосферу. И в Европе, теперь мы знаем, идёт сокращение атомной генерации.
Теперь события в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Они тоже не улучшают ситуацию в мировой энергетике. Кстати говоря, коллега спрашивал по поводу Ливии. Ливия, между прочим, занимает 1-е место в Африке по запасам нефти, а по запасам газа – 4-е место в Африке. Сразу же, конечно, напрашивается вопрос: не это ли является основным предметом интереса тех, кто там сегодня орудует?
Но мы с полной ответственностью относимся к той ситуации, которая складывается в мировой энергетике, готовы увеличивать поставки и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в Европу. Мы сегодня не прорабатывали, не обсуждали эти вопросы. Но в целом мы со многими европейскими партнёрами говорим, вы знаете, об этом – о строительстве «Южного потока», может быть, о расширении возможностей «Северного потока», во всяком случае будем работать.
Мы привлекаем, уже договариваемся с датскими компаниями работать и на севере Европы, в том числе в Арктическом регионе. Это касается освоения месторождений. Что имеется в виду? Использование датских компаний при строительстве соответствующих сооружений, портовых сооружений, приёмки товара, при перемещении из мест добычи до берега, до трубопроводных систем. Это очень большой объём работы. Мы считаем возможным привлечь датские компании к реконструкции портовых сооружений в Калининграде, на Чёрном море, на Дальнем Востоке. Что касается Северного совета, я считаю, что прежде всего это дело арктических стран. Но мы открыты для диалога со всеми, кто проявляет интерес к совместной работе в Арктике.
Почти полжизни провел Тони Фриш на дипломатической службе, занимаясь оказанием помощи другим странам во время бедствий и катастроф. Нет такого кризисного региона, в котором он не побывал, нет такой проблемы, которую бы он не проанализировал и не предложил решения. Скоро он выходит на пенсию…
«Еще мальчишкой я мечтал о дальних странах и пытался представить себе, что происходит с людьми, которые из-за войны или природных катастроф вынуждены оставить свой дом, что они берут с собой, куда они идут…», - говорит 65-летний Тони Фриш в интервью порталу swissinfo. Пресса любит снабжать его броскими ярлыками, такими, как «кризисный менеджер», или «человек катастроф».
Важна близость к пострадавшим
Тони Фриш родом из региона бернских озер вокруг двуязычного франко-немецкого города Биль. За свою жизнь ему пришлось повидать немало горя и страданий. Однако он никогда не терял внутренней стойкости. «Если бы то, что я вижу на месте катастрофы, вывело меня из равновесия, я бы никогда не смог, уже будучи дома, правильно оценить ситуацию».
С годами, признает он, не исключено, что свежесть восприятия несколько притупилась, что он стал опытнее и приобрел способность действовать стандартно в стандартных ситуациях. Однако окончательно загрубеть он себе не дал. «Это было бы ужасно». По его словам, «если человек видит смысл в своей работе, то тогда он способен годами черпать из этого энергию», - говорит Фриш. И ему хочется верить!
До пенсии осталось ему всего ничего, но… Покой ему только снится. «У нас сейчас происходят параллельно сразу три кризиса: Кот д`Ивуар, Ливия, Япония». А это означает, что работы у кадрового швейцарского дипломата не убавляется. Приходится много общаться и с журналистами. Как, например, несколько недель назад, когда домой из Японии вернулась швейцарская поисковая команда, - которой так и не удалось вытащить кого-нибудь живым из-под развалин.
Несмотря на это, - считает Т. Фриш, - участие швейцарских специалистов в поисках жертв цунами, имевшее место по просьбе японского правительства, завершилось вполне успешно.
«Мы и не рассчитывали найти выживших, иначе мы бы послали не поисковиков, а полноценную спасательную команду», - говорит он, - «Однако наше присутствие на месте катастрофы принесло нам симпатии японцев. Особенную роль сыграли наши эксперты в области лучевой защиты – они внесли огромный вклад в успокоение населения и в предотвращении всеобщей паники. Это была яркая демонстрация нашей солидарности с Японией. Близость к жертвам нельзя изменить, однако она – неотъемлемая часть успеха».
Вспомнить о забытых войнах
Т. Фриш сожалеет, что СМИ, как правило, бросаются на самые «актуальные истории», при этом многое из того, что делают спасатели и те, кто оказывает гуманитарную помощь, остается для общественности неизвестным. Например, мало где можно узнать о мерах по предупреждению природных катастроф, о том, как протекают долгосрочные гуманитарные операции, например, в Дарфуре. «Я недоволен этим, но приходится с этом жить».
Он критикует так же, например, то обстоятельство, что после прошлогоднего землетрясения на Гаити в страну слетелось огромное количество гуманитарных организаций, которые просто мешали друг другу. Поэтому он предложил недавно ввести порядок, по которому все организации, желающие заниматься международной гуманитарной помощью, должны сначала проходить процедуру сертификации. Есть информация, что в ООН на эту идею обратили самое пристальное внимание.
«Не все организации действовали в Гаити профессионально. Если в страну прибывают гуманитарные товары, которые никому не нужны, то это настоящее оскорбление жертв. То же самое касается гор медикаментов с истекшим сроком годности». Каждый учитель, любой парикмахер должен иметь сертификат профессионального мастерства. Но ведь, - указывает Т. Фриш, - свои стандарты есть и в сфере оказания гуманитарной помощи при катастрофах. «И эти стандарты нужно уважать. Гуманизм и чувство сострадания, разумеется, необходимы, но эти чувства должен иметь и парикмахер».
Катастрофа – это всегда хаос
По мнению опытного кризисного менеджера, каким и в самом деле является Тони Фриш, в центре любой гуманитарной операции должны стоять потребности жертв, вне зависимости от политических условий. Его не интересуют в этой связи ни «швейцарский престиж», но «конкурентная борьба государств». Однако в конечном итоге, с удовлетворением отмечает он, международная кооперация всегда протекает успешнее, чем это может показаться на первый взгляд.
«В период крупных катастроф все летит кувырком. Катастрофа – это по определению полный хаос. Представим себе только, что в Швейцарии происходит беда, повлекшая за собой появление десятков тысяч человек, оставшихся без крыши над головой», - говорит Т. Фриш. Я бы хотел, - говорит он, - чтобы с критикой люди обращались более вдумчиво. «Нужно себе только представить, что такое 20 миллионов людей, пострадавших от наводнения, как недавно в Пакистане, и что такое два миллиона человек, потерявших свои дома».
Выход есть всегда
Себя самого он характеризует в качестве «натуры скорее счастливой, приземленной, выносливой, гибкой, открытой для всего нового». Проблемы он воспринимает как «вызовы». Он одновременно и реалист, и оптимист. И уж точно – прагматик, на все сто процентов.
Он всегда критически подходит к реальности и у него всегда есть решение проблемы: «У меня всегда под рукой даже несколько вариантов (решения проблемы), иначе я чувствую себя стесненным…». Лозунгом своей жизни он сделал житейскую мудрость своей бабушки: всегда рассчитывать на худшее и надеяться на лучшее. Этот лозунг сопровождал его всегда на протяжение всей его почти сорокалетней дипломатической деятельности.
Т. Фриш в рамках своей долгой гуманитарной карьеры объездил почти 80 стран мира, но он всегда старается, по собственным словам, сохранять обостренное чувство новизны и способности вживаться в местные особенности, не драматизируя их, но и не преуменьшая. В поисках решений он налаживает тесные контакты с теми, кто уже прибыл на место событий – с ООН, с НПО, с Красным Крестом, с представителями правительств и с жертвами. «Я налаживаю контакты со всеми – от министра до последнего безграмотного крестьянина».
Но пусть даже ему почти без труда удается вживаться в чужие культуры – о своих швейцарских корнях он не забывает никогда.
Немножко гордости…
В этом году он путешествовал по свету относительно немного. Он побывал в Анголе, Кении, на границе Сомали, в Нью Йорке в ООН, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. Путешествия для него не проблема. «Я могу спать в любом положении и всегда пребываю на место свежим и отдохнувшим. Если я кому-то нужен – то я тут же прибываю на место».
И вот теперь, когда его карьера в роли руководителя федеральной швейцарской структуры по оказанию гуманитарной помощи подходит к концу, он признается, что испытывает определенное чувство гордости. «Я горд, прежде всего, тем, что смог добиться большего, чем ожидал».
Но прежде всего он благодарен тому обстоятельству, что за всю свою более чем сорокалетнюю историю работы на Швейцарскую гуманитарную помощь и помощь при катастрофах (Schweizer Humanitäre- und Katastrophenhilfe) ему удалось не потерять ни одного сотрудника. «Нам не пришлось переживать серьезных несчастных случаев, и у нас было всего лишь одно похищение. Нам очень повезло».
ТОНИ ФРИШ (TONI FRISCH)
Родился в 1946 году в городе Biel-Bözingen. Живет в пригороде Берна Köniz. По образованию инженер в области водоснабжения. Был членом SVP, сегодня – член BDP. Воинское звание – полковник.
В швейцарском МИД (EDA) с 1980 года. С 2001 года руководит подчиненной федеральному правительству структурой по оказанию гуманитарной помощи и помощи при катастрофах. С 2008 года – имеет ранг посла и замдиректора Deza (Дирекция по сотрудничеству и развитию). Руководитель международной группы «Search and Rescue Advisory Group» и группой советников ООН по вопросам борьбы с последствиями природных катастроф.
Швейцарская гуманитарная помощь и помощь при катастрофах (Schweizer Humanitäre- und Katastrophenhilfe) является структурным подразделением Deza (Дирекция по сотрудничеству и развитию), которая, в свою очередь, является структурным департаментом швейцарского МИД. Непосредственно оказанием помощи занимается Швейцарский корпус гуманитарной помощи (Das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe - SKH) в составе около 700 специалистов. Бюджет SKH – примерно 312 миллионов франков в год.

Когда «сбываются» мечты
Израиль на другом «новом Ближнем Востоке»
Резюме: Многолетние грезы о демократизации в арабском мире в силу, как казалось, их заведомой недостижимости позволяли Западу рассчитывать на вечное моральное превосходство и возможность смотреть на окружающий мир сверху вниз. Однако мечтания иногда становятся явью – но к этому, как оказалось, не готов никто.
В 1990-е гг. Шимон Перес, а в 2000-е – Джордж Буш-младший рисовали радужные картины будущего «нового Ближнего Востока». Тогдашний министр иностранных дел, а ныне – президент Израиля делал упор на взаимовыгодной экономической кооперации. Его книга так и называлась: «От экономики, работающей на нужды войны, к экономике мира». Джордж Буш верил, что цементирующим фактором «нового Ближнего Востока» будут процессы демократизации. Едва ли не любимой книгой Буша и его помощницы по национальной безопасности, а затем госсекретаря Кондолизы Райс стало сочинение израильского политика Натана Щаранского «В защиту демократии» с жизнеутверждающим подзаголовком «Свобода победит тиранию и террор». Речь самого Джорджа Буша о путях урегулирования палестинской проблемы, произнесенная 24 июня 2002 г., объявлялась в этом произведении образцом «ясности моральных критериев» и «нового смелого политического курса».
«Если цветок свободы распустится на каменистой почве Западного берега и Газы, это вдохновит миллионы мужчин и женщин на земле, которые также устали от нищеты и угнетения, которые также имеют право на демократическое правительство», – упоенно цитировал Щаранский бесконечно пафосные слова тогдашнего американского президента.
«Величайшей ошибкой арабов в XX веке – ошибкой, которая до сих пор так и не исправлена, – явилась их приверженность тоталитарным военным или президентским режимам», – писал, в свою очередь, Шимон Перес. Он убеждал читателей в том, что «только подлинная демократизация, и ничто иное, принесет настоящую пользу арабскому миру и не в последнюю очередь – палестинскому народу». В 1993 г. нынешний президент Израиля полагал, что «наиболее эффективное оружие палестинских организаций против ХАМАСа – демократические выборы: они должны привести к созданию властной структуры законно избранного большинства, которая поставит заслон вооруженному и фанатичному меньшинству».
Сегодня это звучит как издевка, ибо многопартийные демократические выборы в Палестинской администрации, прошедшие в январе 2006 г., ХАМАС как раз уверенно выиграл. А вот проверить тезис о желательности падения «тоталитарных военных или президентских режимов», вероятно, удастся теперь. Впервые в истории региона конец нескольким авторитарным правлениям был положен путем мирного протеста, в котором приняли участие широкие слои населения. Оказалось, однако, что выглядит «новый Ближний Восток» совсем не так, как его принято было рисовать. Израильтянам, нравится им происходящее или нет, совершенно необходимо понять, что же представляет собой «новый Ближний Восток», появившийся вокруг них.
В израильской прессе отмечалось, что «израильское политическое и военное руководство… вяло отреагировало на политическое цунами. Израильские лидеры не удостоили нас серьезным анализом происходящего». Известный политический обозреватель Ярон Декель выделяет несколько важных вопросов: как Израиль готовится к существованию в новой ближневосточной реальности? Предпринимают ли руководители какие-либо действия в связи с происходящим в арабских странах? Имеется ли опасность разрыва дипломатических отношений с Египтом и Иорданией, с которыми Израиль подписал мирные договоры? Стоит ли, несмотря на происходящие события, попытаться добиться мирного урегулирования с палестинцами и Сирией? Однако «молчание наших руководителей вызывает подозрение, что они просто-напросто не знают, что делать, – отмечает Декель. – У них нет ни малейшего представления о том, как Израиль должен готовиться к новой реальности».
Забудьте об Израиле и Палестине
Еще полгода назад никто не предвидел падения режимов Зина аль-Абидина Бен Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте, не обсуждалась даже теоретическая возможность массовых демонстраций протеста по всему арабскому миру. А те, кто предсказывал всплеск напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, почти единодушно связывали его с вероятным обострением палестино-израильского конфликта.
События в регионе кардинально меняют привычную систему понятий: то, на чем десятилетиями заостряли внимание едва ли не все, кто писал о Ближнем Востоке, в настоящее время точно не является наиболее важным. В течение долгого времени три принципиально разных понятия – «ближневосточный конфликт», «палестино-израильский конфликт» и «арабо-израильский конфликт» – практически приравнивались друг к другу и воспринимались как синонимы.
Очевидно, что арабо-израильский конфликт не исчерпывается его палестинским измерением. Он включает в себя также проблемы отношений с Сирией и Ливаном – странами, с которыми мирных договоров нет до сих пор, а также многими другими арабскими государствами – от Алжира до Саудовской Аравии – до сих пор не признавшими право еврейского государства на существование в каких бы то ни было границах. Очевидно и то, что наиболее сложными на сегодняшний день являются отношения Израиля с Ираном – страной мусульманской, но не арабской. Используя словосочетание «ближневосточный конфликт» для описания исключительно проблем отношений Израиля с кем бы то ни было, мы лишаемся адекватной терминологии для понимания того, что в настоящее время происходит на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ведь к Израилю (как и к палестинцам и даже к Ирану) все это не имеет практически никакого отношения. Как справедливо отметила в этой связи профессор кафедры востоковедения МГИМО Марина Сапронова, «взрыв Ближнего Востока и всего арабского мира прогнозировался уже давно, но источник опасности видели в тупиковой ситуации ближневосточного урегулирования, расколе Палестины и подъеме исламского движения. Классический народный бунт, тем более в самой развитой и европеизированной арабской стране, стал неожиданностью».
Волна беспорядков, причины и механизм которых, если говорить начистоту, по-прежнему не вполне прояснены, прокатилась по большинству стран Северной Африки и Ближнего Востока. Нечто подобное происходит впервые, и это требует серьезного переосмысления реальности. Центральная и непререкаемая аксиома на протяжении многих лет состояла в том, что для урегулирования ближневосточных проблем необходимо прежде всего решить именно палестинскую проблему. Действительно, даже те арабские страны, которые не имеют ни территориальных, ни водных, ни иных претензий к Израилю, как, например, Алжир или Саудовская Аравия, из чувства солидарности с палестинцами не идут на примирение, однако факт состоит в том, что нынешний кризис никак не связан с этими вопросами. С 1973 г., когда крайне тяжелый для развитых стран Запада нефтяной кризис был спровоцирован именно арабо-израильской войной, ситуация изменилась кардинальным образом.
Сейчас совершенно ясно, что проблемы Ближнего Востока отнюдь не сводятся к палестино-израильскому конфликту и его разрешение не приведет к успокоению региона. Как не без иронии отмечалось в редакционной статье газеты «Ха’арец», «кого сейчас интересует мирный процесс, демонтаж поселений, разметка границ между Израилем и Палестиной или урегулирование вопросов безопасности [между ними]? Палестинская администрация также оказалась в новой для себя ситуации. Неожиданно для палестинцев их конфликт с Израилем был вытеснен на периферию общественного внимания».
В мире много проблем, и палестино-израильская – никак не ключевой фактор международной напряженности. Более того: на самих палестинских территориях никаких волнений нет, в настоящее время это удивительно спокойное место. Для снижения напряженности в регионе «большого Ближнего Востока» мировой дипломатии нужно заниматься другими вопросами.
В то же время нельзя не обратить внимание на «фестиваль признаний» несуществующей палестинской государственности, открытый 3 декабря 2010 г. завершавшим свою каденцию президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой и продолженный в последующие два месяца еще шестью странами Южной Америки, вследствие чего количество государств, признавших независимость Палестины, перевалило за 110. Все это ни на йоту не изменило реальную ситуацию: с одной стороны, все границы территорий Палестинской администрации (ПНА) контролируются Израилем, с другой – сами власти ПНА ни в малейшей степени не контролируют сектор Газа. На Западном берегу у палестинцев одно правительство во главе с Саламом Файедом, в котором нет представителей ХАМАСа. В Газе – другое, во главе с Исмаилом Ханийей (который на самом деле подотчетен находящему в Дамаске Халеду Машалю), в котором нет никого, кроме активистов ХАМАСа, и между ними нет никакого взаимодействия.
Учитывая, что четырехлетний срок полномочий Махмуда Аббаса на посту главы ПНА истек еще в январе 2009 г., а пятилетний срок полномочий Законодательного совета ПНА закончился в январе 2011 г. (при этом никакие новые выборы не назначены), речь идет о распавшемся надвое несостоявшемся государстве, не имеющем легитимных органов власти и управления. Ситуация вернулась к «до-ословским» временам, когда реальные руководители палестинцев находятся за пределами Палестины. Перед нами – второе Сомали, государство также де-факто давно распавшееся, но в Палестине еще и все границы контролируются внешней силой – Израилем. Признание в этих условиях государственного суверенитета Палестины наглядно демонстрирует, насколько далека от реальности политико-правовая риторика на Ближнем Востоке.
Крах международно-правовых механизмов региональной безопасности
После каждой из двух мировых войн были предприняты попытки сформировать международные структуры, которые ставили целью переход от «права кулака» к «праву мира». Лига Наций, ООН, ее Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, Международный суд – все эти и многие другие организации были созданы, чтобы решать межгосударственные споры не силой, а путем достижения коллективного согласия.
На Ближнем Востоке эти структуры, прямо скажем, никогда не работали идеально. Примеров тому много, ограничимся двумя наиболее наглядными. Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. о разделе территории бывшего британского мандата, согласно которому создавались палестинское и еврейское государства, а Иерусалим объявлялся международным городом, выполнено было лишь в части создания Израиля. Другой пример – вопреки консультативному заключению Международного суда, принятому в июле 2004 г. четырнадцатью голосами против одного, Израиль продолжил строительство стены безопасности.
Нынешний кризис вновь показал ограниченность международно-правовых механизмов. Как справедливо отметила Марина Сапронова, Лига арабских государств практически бездействует, и это лишний раз доказывает ее слабость, демонстрируя силу дезинтеграционных процессов в арабском мире, вследствие которых правящая элита каждой страны исходит из своих собственных интересов. Совбез ООН начал 22 февраля обсуждение ситуации в Ливии, но многочисленные жертвы среди мирного населения при разгоне демонстраций в Египте, Сирии, Йемене и других странах региона не удостоились никакого внимания. Показательно в этой связи удивительное равнодушие всех стран мира, кроме Ирана, к судьбе участников выступлений протеста шиитов (составляющих три четверти населения страны, но лишенных доступа к власти) в Бахрейне и вводу туда объединенных войск Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). События не обсуждалось ни на Генассамблее, ни в СБ ООН.
Иным оказался расклад применительно к ситуации в Ливии, где между войсками, верными Муаммару Каддафи, и силами оппозиции началась гражданская война. Хотя Каддафи в Совете Безопасности не поддержал никто, крупнейшая страна Европы – Германия, а также все страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – при голосовании воздержались. Это превратило операцию против Ливии едва ли не в личный проект президента Франции Николя Саркози, поддержанный новым правительством Великобритании, к которому с оговорками и, что называется, «на расстоянии» присоединилась администрация Барака Обамы. О готовности поддержать операцию по установлению зоны, запретной для полетов военной авиации, объявили Норвегия, Дания, Канада, Польша, Катар, ОАЭ, а позднее и Швеция – для демонстрации мирового единства этого, конечно, мало.
Раскол в международном сообществе очевиден, как очевидно и то, что в существующей сегодня вокруг Ливии ситуации торжествует «право кулака». Международно-правовая система обеспечения безопасности потерпела полный крах: Ливию, по инициативе президента Франции, бомбит авиация НАТО, в Бахрейн введены войска Саудовской Аравии и других стран – членов ССАГПЗ, в Египте власть захватило местное военное командование… Для Израиля, не имеющего мирных договоров с подавляющим большинством стран региона, все это – плохие новости. В Израиле хорошо помнят события мая 1967 г., когда Гамаль Абдель Насер закрыл для израильского судоходства Тиранский пролив, блокировав порт Эйлат на Красном море, и никакая международная организация не встала на защиту интересов еврейского государства – что в итоге привело к Шестидневной войне, перекроившей контуры ближневосточной политической географии. Как оказалось, с тех пор мир изменился меньше, чем многие предполагали и надеялись.
Без сверхдержав: Ближний Восток в эпоху бесполярного мира
Ближний Восток перешел к новому геополитическому состоянию: никакая внешняя сила не сможет реально влиять на происходящее в регионе.
И Соединенные Штаты, и Европейский союз, и Россия были застигнуты врасплох событиями в арабских странах. При этом и в Египте, и в Тунисе с политической арены ушли светские и лояльные Западу режимы, и пока неясно, какие силы придут им на смену. Способность американского руководства воздействовать на происходящие процессы минимальна. Администрация вначале поддерживала Хосни Мубарака, а затем, видя, что маятник качнулся в противоположную сторону, «сдала» его, при этом 11 февраля президент Барак Обама заявил, что руководству Египта следует «четко и недвусмысленно встать на путь демократии». Верховный совет вооруженных сил Египта, получивший власть в стране после отставки Мубарака, это пожелание фактически проигнорировал. В конце марта, спустя полтора месяца после ухода президента, объявлено, что парламентские выборы пройдут только в сентябре 2011 г., а президентские пока не назначены вовсе. Предполагается, что они состоятся лишь летом 2012 г., т.е. более чем через год!
Равнодушно отнеслись к американским призывам не только в 80-миллионном Египте, но и в Бахрейне, население которого в сто раз меньше и на территории которого находится база Пятого флота ВМС США, которая позволяет контролировать нефтяной экспорт из Персидского залива. 15 марта король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца. Действия преданных королю сил, разгромивших при поддержке войск Саудовской Аравии и ОАЭ палаточный лагерь оппозиции, вызвали резкую реакцию Вашингтона, представители которого призвали к политическому диалогу с оппозицией. Однако монархии региона проигнорировали пожелание Белого дома. Барак Обама в телефонном разговоре с королем Бахрейна выразил «глубокую озабоченность» методами подавления протестных выступлений и потребовал от властей «максимальной сдержанности». Резкой критике действия официальной Манамы подвергла и Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй. Но никакого эффекта это не возымело.
Кроме того, определились границы американского силового участия. Объясняя 28 марта в телевизионном обращении к согражданам позицию правительства относительно военной операции в Ливии, Барак Обама публично пообещал, что американские самолеты там не задержатся. О наземной операции, как не устают повторять в Белом доме, речь и вовсе не идет. Итак, стало очевидно: ближневосточные походы Соединенных Штатов закончились в Афганистане и Ираке. Период, когда США пытались играть роль «мирового полицейского», завершился. Двадцать лет назад на смену эпохе противостояния двух сверхдержав, Соединенных Штатов и Советского Союза, пришла эпоха фактически однополярного мира, однако на наших глазах завершается и она. Страны и народы Ближнего Востока, и в том числе Израиль, где многое «завязано» на партнерстве с США, должны адаптироваться к жизни в «бесполярном» мире.
На сегодняшний день никто не знает, какими будут новые режимы Ближнего Востока. 75-летний Мохаммед Хуссейн Тантауи, возглавивший Египет после ухода Хосни Мубарака, едва ли может рассматриваться в качестве долгосрочного президента. Ключевыми фигурами в диалоге между политическими элитами Египта и Израиля со стороны Каира на протяжении многих лет были Осама эль-Баз, ближайший советник Мубарака, и глава Службы общей разведки в 1993–2011 гг. Омар Сулейман. В конце января он был назначен вице-президентом, но уже в день отставки Мубарака 11 февраля 2011 г., о которой он же и объявил, потерял этот пост и с тех пор не появлялся на публике. Все эти люди – очень пожилые: Осаме эль-Базу исполняется 80 лет, Омару Сулейману – 75. Ровесник Сулеймана – еще один многолетний член «команды Мубарака» Амр Муса, на протяжении последних десяти лет – генеральный секретарь ЛАГ, а до этого десять лет возглавлял египетский МИД. 70-летний премьер-министр маршал авиации Ахмед Шафик, фактически последний назначенец Хосни Мубарака (утвержден на высший пост в правительстве 29 января 2011 г.), 3 марта отправлен в отставку. На его место назначен 59-летний инженер Эссам Абдель-Азиз Шараф, который до этого лишь однажды на протяжении полутора лет работал в правительстве в должности министра транспорта, а с декабря 2005 г. не входил в руководство страны. Наработанных контактов с ним ни у кого на Западе (равно как и в Израиле) нет, непонятно, сколько он продержится на посту, каков будет круг его полномочий и есть ли у него президентские амбиции и перспективы.
На данный момент невозможно спрогнозировать и кто именно придет к власти в Тунисе. И.о. президента Фуад Мебаза и премьер-министр Каид Эс-Себси в силу возраста вряд ли могут на это претендовать (первому – 78 лет, второму – 85). Как отмечает бывший посол РФ в Тунисе Алексей Подцероб, вернувшийся из эмиграции руководитель Конгресса за республику Монсеф Марзуки широкой известностью в стране не пользуется. Легальные оппозиционные организации – Партия народного единства, Прогрессивная демократическая партия, «Ат-Тадждид», Демократический форум за труд и свободы и другие массовой поддержки не имеют. И в Египте, и в Тунисе весьма вероятно существенное увеличение представительства исламистов в высших органах власти.
Неизбежность исламизации
Идея всемирной демократизации как способа решения существующих, в том числе на Ближнем Востоке, проблем потерпела крах. Представляется, что такие активные сторонники этой идеи, как Кондолиза Райс и Натан Щаранский, фатально путали понятия «политическая культура» и «форма правления», причем второе в их понимании вытесняло первое. Демократические режимы там, где они реально существуют, являются следствием самостоятельного социально-политического развития этих стран и народов. Пожалуй, лишь в Японии «работающая» либеральная демократия оказалась привнесенной извне.
Политическая культура куда важнее формы правления. Культура толерантности и уважения прав национальных, конфессиональных, сексуальных и иных меньшинств значительно важнее демократической формы правления и связанных с нею процедур, например, свободных многопартийных выборов. Однако подобной либеральной политической культуры в арабо-мусульманском мире нет – и введение новой, формально демократической, формы правления не приведет к торжеству либеральных ценностей и отказу от насилия как средства разрешения внешних и внутренних конфликтов.
Наиболее свободные выборы в странах Ближнего Востока – в Турции, Иране, Ливане и Палестинской администрации – привели к власти значительно более фундаменталистские силы, чем те, что находились у руля правления до этого. Даже в Израиле от выборов к выборам усиливаются позиции традиционалистов и религиозных фундаменталистов, хотя в целом страна остается единственным примером либеральной демократии в регионе.
В этой связи важно трезво оценивать перспективы проведения многопартийных демократических выборов в Египте. Эти выборы, даже если не приведут к победе «Братьев-мусульман», усилят их позиции. Движение «Братья-мусульмане», основанное в 1928 г., с 1954 г. находилось в Египте под запретом. Это осложняло их деятельность, одновременно окружая ее ореолом мученичества, по традиции весьма позитивно воспринимаемого широкими слоями общества. По существу, в ходе демонстраций января-февраля 2011 г. «Братья-мусульмане» впервые за много лет по-настоящему вышли из подполья, открыто участвуя в публичных массовых акциях. Кстати, нынешний глава Египта министр обороны Мохаммед Хуссейн Тантауи, выступая на площади Ат-Тахрир, во всеуслышание заявил, что «Братья-мусульмане» достойны хотя бы одного портфеля в будущем правительстве. В комитете, названном «Коалиция за перемены» и насчитывавшем пятьдесят членов, «Братья-мусульмане» представлены четырьмя делегатами. 15 февраля лидеры движения объявили о планах по созданию политической партии.
Сразу после обнародования этих намерений 67-летней руководитель «Братьев-мусульман» Мохаммед Бади, отсидевший девять лет в тюрьме за общественно-политическую деятельность, дал интервью, в котором призвал арабские и исламские страны к кооперации «для осуществления проектов против колониализма, вестернизации и сионистской гегемонии». Вот что, в частности, сказал Бади: «Мы обращаемся к нации с просьбой объединиться перед лицом сионистского образования [так Бади, как и многие другие в арабо-мусульманском мире, именует Израиль. – Авт.] и западного проекта». 11 февраля 2011 г. Сами Абу-Зухри от имени ХАМАСа поздравил «Братьев-мусульман» с «победой над режимом Мубарака» и выразил надежду, что новые египетские власти помогут снять израильскую осаду сектора Газа.
Интенсификация контактов «Братьев-мусульман» с ХАМАСом в непосредственной близости от границ с Израилем может привести (а, возможно, уже и привело) к разработке совместных планов действий против еврейского государства, что способно спровоцировать локальное или масштабное вооруженное противостояние. Совершенно очевидно, что в случае прихода исламистов к власти в Египте существует реальная вероятность возникновения угрозы Израилю. Как справедливо отмечает Григорий Косач, для египетского общества мир с Израилем «всегда оставался “холодным”, а сохранение этого мира всегда определялось авторитарным характером египетской власти (да и власти в любой другой стране арабского мира), которая едва ли не полностью игнорировала общественные настроения, проводя свой внешнеполитический курс».
На Ближнем Востоке мы оказываемся перед замкнутым кругом, когда исламисты в любом случае усиливаются если не в краткосрочной, то в средне- и долгосрочной перспективе. С одной стороны, Марина Сапронова права, утверждая, что сегодня на Ближнем Востоке «исламизация … равнозначна демократизации». С другой стороны, противодействие демократизации тоже не способно изменить общий вектор. Как указывает Рупрехт Поленц, эксперт по Ближнему Востоку и глава комитета Бундестага по внешней политике, «чем дольше авторитарное правительство находится у власти, тем выше вероятность того, что исламистские движения становятся сильнее». Авторитарные правительства не допускают свободу слова, печати, однако они не в силах запретить религию, поэтому общественные дискуссии, невозможные в СМИ, перемещаются под своды мечетей. Там ислам обретает высокий градус политизированности. Либеральным странам поддерживать на Ближнем Востоке некого: и военная хунта, и исламисты не соответствуют западной политической культуре, а приверженцы западного пути развития постепенно оказываются в арабо-мусульманском мире просто нерелевантными.
В прошлом, когда речь заходила о том, что военные являются заслоном перед исламистами, в пример всегда ставились Алжир и Турция. Однако очевидно, что нельзя говорить о «демократичности» режима, который держится исключительно на военных; «гарнизонное государство» – не синоним, а антоним демократии. В любом случае, для западного мира и для Израиля оба сценария – и длительное правление в Египте военной хунты, и резкое усиление исламистов – означает существенное ухудшение ситуации.
Вероятно, прав директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, который полагает: даже если предположить, что «Братья-мусульмане» станут влиятельной легальной силой, они не будут требовать денонсации мирного договора с Израилем и примут этот договор как политическую реальность. Пример Турции, где исламисты пришли к власти, но не прервали дипломатические отношения с Израилем, свидетельствует в пользу такого вывода. Однако правительство Реджепа Тайипа Эрдогана направило в Газу флотилию солидарности, следствием чего стали трагические события, в которых погибли девять человек, а израильско-турецкие отношения оказались на грани разрыва. Если подобным же курсом будет следовать и новое египетское руководство, то это уже точно будет совсем другой Ближний Восток, у Израиля не останется ни одного стратегического союзника во всем регионе.
В Израиле с особым вниманием следят за тем, что происходит в соседней Иордании, где опасность прихода к власти исламистов давно считается высокой (в 1970-е – 1980-е гг. в Израиле так же считали весьма вероятным падение Хашимитской династии, однако под натиском ООП). Критическое значение имеет для Израиля сохранение Иордании в качестве независимого государства, не рассматривающего свою территорию как плацдарм для нападения на еврейского соседа. На протяжении многих десятилетий сохранение в Иордании статус-кво считается судьбоносным для Израиля.
Как отмечал политический обозреватель израильской газеты «Маарив» Шалом Иерушалми еще в середине февраля, «Биньямин Нетаньяху наблюдает за происходящим в Египте и видит перед собой два сценария: Турция-1 и Турция-2. Первый сценарий – Турция Ататюрка и продолжателей начатой им секулярной революции, которая превратила страну в модернизированное и относительно либеральное общество, где ислам перестал играть центральную роль. Второй вариант – Турция Эрдогана и правящей исламской партии. Турция-1 всегда поддерживала прочные связи с Израилем. Турция-2 вступила с Израилем в конфликтные отношения, однако не стала окончательно разрывать связь с Иерусалимом». Иерушалми считает, что и такая модель устроила бы Израиль, однако существует опасность развития событий в Египте по иранскому сценарию. «То, что в Тегеране 1979 г. началось как революция интеллектуалов, молодежи и представителей среднего класса, выступавших против шаха Резы Пехлеви, очень быстро переродилось в радикальный исламский режим, который наводит ужас на весь ближневосточный регион. В последние дни Нетаньяху часто упоминает имя Шахпура Бахтияра, первого иранского премьер-министра периода антишахских волнений, правившего в Тегеране до тех пор, пока аятолла Хомейни и его соратники окончательно не взяли власть в свои руки. Подобный сценарий, опасаются в Израиле, может иметь место и в Египте, если “Братья-мусульмане” будут принимать участие во властных структурах или просто-напросто захватят власть силой».
Традиционно пользующийся большим влиянием в израильских интеллектуальных кругах аналитик Ари Шавит опасается, что под прикрытием лозунгов о демократизации значительная часть арабских стран Персидского залива перейдет под фактический контроль Ирана. «Под лозунгами освобождения от гнета диктаторов радикальный ислам возьмет под контроль значительную часть арабских стран. Мир между Израилем и палестинцами, между Израилем и Сирией станет невозможным. Мирные соглашения с Иорданией и Египтом постепенно сойдут на нет. Исламистские, неонасеристские и неоосманские силы будут формировать облик Ближнего Востока. С арабской революцией 2011 г. может произойти то, что произошло с революцией 1789 г. в Европе: ее узурпирует какой-нибудь арабский Наполеон, использует революционные чаяния и превратит революцию в серию кровавых войн», – предполагает Шавит.
Дилемма, возникающая в связи с тем, что демократизация неизбежно приводит к исламизации, оказывается для автора – и отнюдь не для него одного – неразрешимой. С одной стороны, Шавит пишет, что «американцы правы, становясь на сторону народных масс, требующих прав и свободы, это верный подход, с исторической точки зрения». Однако прямо за этим он утверждает, что «американцы ошибаются, способствуя развалу тех режимов, которые были их союзниками на Ближнем Востоке, собственными руками прокладывая путь к победе “Братьям-мусульманам” и Ирану». Как и почему правота вдруг превращается в ошибку, Ари Шавит не объясняет, и это в полной мере отражает смятение умов, которое царит в Израиле и в западном мире относительно происходящих на «большом Ближнем Востоке» событий. Многолетние мечты о демократизации в арабском мире в силу, как казалось, их заведомой недостижимости позволяли рассчитывать на вечное моральное превосходство и возможность смотреть на окружающий мир сверху вниз. Однако мечты иногда сбываются – но к этому, как оказалось, не готов никто.
Алек Эпштейн – доктор философских наук, преподаватель Открытого университета Израиля, Еврейского университета в Иерусалиме и Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт московского Института Ближнего Востока.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























