Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Евросоюз пока не намерен проводить «реконфигурацию» (сокращение миротворческих сил вплоть до их вывода) собственных миротворческих сил в Боснии и Герцеговине (EUFOR), сообщил верховный представитель ЕС по общей политике и безопасности Хавьер Солана. По его словам, данный вопрос будет вновь рассмотрен «в середине будущего года в зависимости от развития ситуации» в БиГ.В 2004г. ЕС направил для поддержания мира в БиГ семь тысяч солдат, сменивших контингент НАТО. Если еще в янв. этого года в БиГ оставалось 4,2 тыс. европейских миротворцев, то сейчас их число сократилось до 2,1 тыс.
Председательствующая в ЕС Франция ранее высказалась за завершение европейской миротворческой миссии в этой стране, мотивировав этом тем, что поставленные перед миротворцами цели были выполнены. «Французское председательство высказалось за прогрессивный вывод миссии и ее трансформацию», – сказал французский министр обороны Эрве Морен в Довилле, где проходит неформальная встреча глав оборонных ведомств 27 стран-членов ЕС.
Миротворческая операция ЕС в БИГ, носящая имя древнегреческой богини исцеления – Althea, является крупнейшей военной миссией этой региональной организации.
Сербия обращается в Международный суд в Гааге, обвиняя Хорватию в этнических чистках и военных преступлениях, совершенных на территории страны во время операции «Буря» в 1995г., заявил в среду министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.Инициатива связана с озвученным во вторник решением Международного суда ООН принять к рассмотрению обращение Хорватии, в котором она обвиняет существовавшую в то время Союзную Республику Югославию (СРЮ) в геноциде хорватов в ходе вооруженного конфликта на югославской территории в 1990гг. После того как Черногория вышла из состава СРЮ, суд ООН постановил, что единственным ответчиком по данному делу теперь является Сербия. Международный суд отверг предварительные возражения Белграда.
«Хорватия неадекватным способом ответила на протянутую Сербией с целью примирения руку, которую Сербия неоднократно предлагала Хорватии, желая оставить прошлое позади и повернуться к совместному европейскому будущему. С целью определения истины сейчас будет выдвинуто обвинение против Хорватии», – заявил Еремич в эфире государственного телеканала RTS.
Он напомнил, что Хорватия не признает факт этнической чистки на своей территории, в результате которой страну покинули 250 тысяч сербов.
«Мы сделаем все, чтобы наш случай был адекватно представлен перед судом. Мы примем во внимание все события двадцатого века, за время Второй мировой войны и за время существования Независимого Государства Хорватия. Мы обратимся к истории, чтобы установить правду ради совместного будущего», – отметил глава МИД Сербии.
События, которые станут предметом иска сербов, относятся к авг. 1995г. и проведенной в этом время операции «Буря». Ее осуществила хорватская армия и полиция при политической и военной поддержке США в отношении граждан самопровозглашенной Республики Сербская Краина, занимавшей почти треть территории Хорватии.
В результате этой операции 4 авг. 1995г. 250 тысяч сербов были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в Сербию и в сербскую часть Боснии. Более двух третей их домов впоследствии были разграблены и сожжены.
Операции «Буря» считается одной из самых жестоких этнических чисток на территории бывшей Югославии. Точных данных о людских жертвах операции до сих пор не существует. По некоторым сведениям, во время «Бури» погибло порядка двух тысяч человек.
Глобальный финансовый кризис начал расползаться по Балканам, однако рынок недвижимости Македонии, судя по всему, чаша сия пока минует. Цены на жилье в столице страны, Скопье, держатся на стабильном уровне, главным образом – благодаря низкому объему предложения и бесчисленным скандалам, которые сотрясают рынок девелопмента города, сообщает агентство Makfax. Однако профессионалы рынка утверждают, что цены могут упасть в случае ужесточения условий выдачи жилищных кредитов банками.Стоимость объектов недвижимости, особенно квартир, снизилась в среднем на 20% в Загребе, Хорватия, Банье Лука, Босния и Герцеговина, и Любляне, Словения. По данным Национального статистического ведомства Хорватии, в 2008г. число выданных разрешений на строительство жилья в стране сократилось на 15% к пред.г., до 7 тыс. разрешений. Белградское ежедневное издание Politika пишет, что новостройки в Черногории продаются со скидками в 50% по сравнению с докризисным периодом.
Цены на квартиры в самом Белграде, между тем, упали на 5-10%. Однако, по мнению Томислава Секулича, президента Сербской ассоциации брокеров недвижимости, стоимость жилья в столице страны опустится ниже только в случае отсутствия пяти потенциальных покупателей на одну квартиру.
Четыре новых альтернативных учебника по истории юго-восточных европейских стран были одобрены образовательными комитетами обеих общин в качестве вспомогательного учебного материала в средних школах. Учебники подготовлены в рамках «Объединенного исторического проекта» Центром за демократию и восстановление мирных отношений в Юго-Восточной Европе и были представлены на прошлой неделе в Никосии. Книги носят названия: «Оттоманская империя», «Нации и государства в юго-восточной Европе», «Балканские войны» и «Вторая мировая война».Данные учебники уже используются в школах пяти столиц – Белграде, Загребе, Тиране, Сараево, Скопье – и теперь были переведены на греческий и турецкий языки. Спустя два дня после презентации книг Центр организовал для кипрских учителей семинары о том, как лучше использовать новый учебный материал.
Сотрудники Центра подчеркивают, что новые книги не призваны заменить существующие учебники по истории, используемые в греко-кипрских и турко-кипрских школах, но должны стать альтернативным и дополнительным источником знаний, которые помогут школьникам рассматривать исторические вопросы аналитически и критически.
Коста Каррас, член правления Центра, сказал, что появление книг стало возможным благодаря работе 60 специалистов из 11 стран Юго-Восточной Европы, которые занимались проектом в течение 10 лет. Профессор Христина Кулури, редактор серии книг, подчеркнула, что четыре учебника не были составлены на замену существующим книгам. Учебники – исключительно дополнительный материал, который учителя могут использовать, когда захотят и если захотят. Кулури считает, однако, что новые книги, «трезвые и сбалансированные», помогут узнать лучше, «кто мы такие и кто наши соседи».

Смена парадигмы
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2008
А.Г. Аксенёнок – к. ю. н., Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, опытный дипломат, работавший среди прочего на Ближнем Востоке и на Балканах.
Резюме Переход от политкорректного выяснения отношений к действиям конфронтационного характера назревал давно. Признав Абхазию и Южную Осетию, Россия показала Западу, что навязываемая ей модель партнерства, построенная на лицемерии и двусмысленностях, не может дальше работать.
События августа 2008 года, связанные с нападением Грузии на Южную Осетию, по своему значению вышли далеко за рамки регионального конфликта. Нынешний переход от политкорректного выяснения отношений между Москвой и западными столицами к действиям конфронтационного характера назревал давно. Признав Абхазию и Южную Осетию, Россия показала Западу, что навязываемая ей модель партнерства, построенная на лицемерии и двусмысленностях, дальше работать не может.
Августовские события стали катализатором серьезных сдвигов в расстановке сил и приоритетов на евро-атлантическом пространстве, последствия которых в полной мере проявятся не сразу. Грузинскую авантюру и твердый ответ России следует рассматривать не изолированно, а в глобальном контексте и попытаться осмыслить своеобразие момента в свете происходившего на мировой арене последние два десятилетия.
ПУТЬ К ВОЙНЕ
Война на Кавказе вряд ли стала неожиданностью. Нерешенная проблема «непризнанных государств» Южной Осетии и Абхазии (как и ряда других) – тяжелое наследие распада Советского Союза – все эти годы оставалась взрывоопасным фактором. Градус напряженности то снижался, то повышался, постоянно отравляя межгосударственные отношения в региональном масштабе. Однако на протяжении десяти лет острых конфликтов удавалось избегать.
Ситуация резко изменилась после того, как в Грузии к власти с розами в руках пришел Михаил Саакашвили – представитель нового поколения, получившего западное образование. С тех пор восстановление страны в границах, в которых Грузинская ССР существовала в составе Советского Союза, было поставлено в центр усилий Тбилиси, всей его внешнеполитической и военной стратегии.
Вначале акцент делался на политико-дипломатических методах по двум магистральным направлениям.
Первое – это попытки очаровать Россию, получив от нее негласное «добро» на мирную интеграцию абхазов и южных осетин в состав Грузии.
Второе – связать Запад, в первую очередь США, проявлениями безграничной преданности идеалам демократии и готовности войти в евро-атлантические структуры любой ценой невзирая на законные озабоченности соседей, в том числе и населения Южной Осетии и Абхазии.
Когда стало очевидно, что эти два направления в реальной политике несочетаемы, линия президента Грузии приобрела однозначный характер. Ставка в игре стала повышаться, а ее масштабы – выходить за рамки Кавказского региона. По мере выполнения задач на втором направлении новая Грузия взяла курс на беспрецедентную в межгосударственных отношениях демонизацию России. Разрыв вековых братских уз между российским и грузинским народами сопровождался фальсификацией исторических фактов в шовинистическом ключе.
Главным препятствием на пути осуществления «идеи фикс» грузинского лидера было присутствие международнопризнанных, в том числе самой Грузией по соглашениям 1992 года, российских миротворческих сил. Заменить действующий легитимный механизм урегулирования по Южной Осетии на новый международный формат мирным путем оказалось невозможно. Другая сторона, югоосетинская, выступала категорически против, выдвигая собственные аргументы.
В этих условиях грузинское руководство – сейчас это стало особенно очевидным – приняло решение о проведении силовой операции, которая в случае военного вмешательства Москвы делала бы российских миротворцев стороной в конфликте. Участились нарушения действующих соглашений и режима безопасности в зоне контроля миротворческих сил, ускоренно наращивались военный потенциал и вооруженное грузинское присутствие в анклавах Южной Осетии, российские военные все чаще становились мишенью грубых провокаций и подвергались унижениям.
Уверенности в своей безнаказанности грузинской стороне придавали еще и ограниченные рамки миротворческого мандата, не допускавшего применение военной силы. В отличие от жесткой миротворческой операции в Боснии и Герцеговине, где, согласно Дейтонским соглашениям многонациональные силы НАТО имели право открывать огонь в заранее прописанных случаях (rules of engagement), роль российских военных сводилась главным образом к разъединению сил, поддержанию режима безопасности и невозобновления огня. Существовавший четырехсторонний механизм политического урегулирования грузино-югоосетинского конфликта в форме Смешанной контрольной комиссии (СКК) не был по соглашениям 1992 года подкреплен достаточной военной составляющей.
Позже, в ходе операций по принуждению к миру, проводившихся на Балканах Организацией Объединенных Наций под руководством Североатлантического альянса, первостепенное значение придавалось как раз наличию сильного (robust) и дееспособного военного компонента.
В начале 1990-х Россия не располагала должным миротворческим опытом в новых постконфронтационных условиях (приобретенным позднее на Балканах). Да и кто тогда, исходя даже из самых худших сценариев, мог предположить, что конфликт между грузинами и осетинами на территории бывшей советской республики выльется в войну между Грузией и Россией? Как бы то ни было, но эта «слабина» в миротворческом мандате позволила грузинской стороне рассчитывать на блицкриг и изменение ситуации де-факто, сделав вмешательство России военным путем политически проигрышным.
После того как военная авантюра президента Грузии потерпела провал и обернулась гуманитарной катастрофой для братских народов, не столь важно, получил ли он «добро» Вашингтона, или поступавшие оттуда сигналы были в Тбилиси неверно интерпретированы. Скоротечное развитие событий перед вторжением в Цхинвали не оставляет сомнений в том, что координация политико-дипломатических шагов по вытеснению российского военного присутствия имела место и продолжается уже на послевоенном этапе.
Мало что изменит теперь и установление истинных мотивов, которые побудили Тбилиси пойти на такой шаг именно сейчас. Возможно, это было связано с приближением выборов в США и вероятностью внесения корректировок во внешнеполитическое наследие Джорджа Буша, или с расчетами продавить таким путем подключение Грузии к Плану действий по членству в НАТО, или с предположением, что Россия не вмешается из-за высоких рисков.
Важнее другое. В ходе предпринимаемых усилий по ликвидации последствий грузинской агрессии против малого народа не должен затеряться поиск ответов на глобальные вызовы современности. Ведь Михаил Саакашвили, при всей его импульсивности, никогда не решился бы на силовую акцию, если бы мир со всеми его хроническими и вновь приобретенными болезнями не переживал период неопределенности и потери ориентиров. Победные реляции, равно как пропагандистские залпы и демонстрации праведного гнева по поводу попыток «агрессивной России» расправиться с «маленькой Грузией» только усиливают ощущение абсурдности происходящего в мировой политике.
ОТ НАДЕЖД К РАЗОЧАРОВАНИЮ
Возникает масса недоуменных вопросов, и теперь уже, как заметно по реакции в мире, не только в Москве. Почему большинство западных политиков заняли априори столь несбалансированную, попросту говоря, враждебную России позицию? Неужели действительно есть основания представлять ее действия в свете противостояния «добра» и «зла», «свободного демократического мира» и «агрессивной автократии»? Разве этот локальный конфликт, столь явно спровоцированный Грузией, угрожает национальным интересам Соединенных Штатов либо их экономическому благополучию?
Однозначных ответов на эти болезненные вопросы не существует, хотя ясно, что их следует искать не в Грузии и даже не в России. Логику, толкнувшую Тбилиси на подобный риск, определяла международная обстановка, которая складывалась в мире и вокруг России на протяжении последних восьми – десяти лет.
За исторически короткий период двух десятилетий конца прошлого – начала нынешнего века мир пережил бурные перемены по всем направлениям – в экономике, политике, праве, информационных технологиях, культурном и гуманитарном общении. Ускорились глобализационные процессы и сопровождающий их рост взаимозависимости государств, расширилось поле многосторонней дипломатии, трансграничного движения людей и капиталов.
Если рассматривать постконфронтационный период под углом зрения взаимоотношений России и Запада, то можно проследить зигзагообразное движение, ведущее от надежд на стратегическое партнерство к возвращению риторики времен холодной войны.
В 1990-х годах обновлявшаяся Россия с готовностью встала на путь внутренних реформ, интеграции в мировую экономику, установила партнерские отношения с НАТО и Европейским союзом, пойдя на значительные самоограничения в обычных вооружениях и численности Вооруженных сил. Еще свежо в памяти сотрудничество с НАТО в рамках «многонациональных сил» по восстановлению мира на Балканах. Расширение Североатлантического блока на страны Центральной и Восточной Европы и Балтии прошло относительно спокойно, хотя Москва и зафиксировала свое принципиальное неприятие такой политики Запада в условиях отсутствия военной угрозы с Востока. Параллельно с расширением сформировались и неплохо заработали механизмы взаимодействия Россия – НАТО, рассчитанные на партнерство в широком стратегическом масштабе.
Уже в начальный период президентства Владимира Путина Москва без колебаний подставила плечо Соединенным Штатам после того, как Америка подверглась атаке международного терроризма. Тогда речь шла отнюдь не о поддержке на словах, а о конкретных шагах, частично затрагивающих национальную безопасность самой Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе.
Это было время, когда и в России, и на Западе появились иллюзорные надежды на бесконфликтное урегулирование разногласий на базе общности интересов в противодействии новым вызовам глобального развития. Отечественный политический истеблишмент проявил готовность к далеко идущим компромиссам при условии взаимности и стремления должным образом оценить трудности демократической трансформации, переживаемые Россией.
Однако консервативные представители евро-атлантизма на Западе восприняли это как согласие ослабленной России на роль «младшего партнера» и «золотой шанс» вестернизировать мировое развитие под эгидой международных структур безопасности и сотрудничества, находившихся под сильным влиянием Соединенных Штатов. В этом смысле программу широких реформ, получившую в 1980-х годах название «вашингтонский консенсус», можно рассматривать как заявку на американоцентризм не только в экономике и финансах, но и в принятии глобальных политических решений, в их монопольном информационном обеспечении.
Переход от идиллической фазы постконфронтационного периода к политкорректному выяснению отношений происходил не одномоментно. Какое-то время обе стороны сохраняли видимость делового сотрудничества при подспудно копившихся различиях в подходах к решению целого ряда крупных вопросов мирового развития. Джордж Буш не раз заверял, что США не считают Россию врагом, а в Москве уверенно говорили о невозможности возвращения к конфронтации, о том, что история не повторится.
Между тем сползание если не к конфронтации, то к взаимному охлаждению отношений и подозрительности ускорялось. В период холодной войны страх ядерного взаимоуничтожения способствовал принятию негласных правил игры и прочерчивал «красные линии». А в цивилизованном XXI веке мир становился все более многообразным и все менее управляемым.
Односторонние действия Вашингтона и навязывание своим союзникам решений, выдаваемых за коллективную волю, поставили мир перед фактом «гуманитарной интервенции» в бывшей Югославии и привели к бомбардировкам этого и других суверенных государств (Ирак со стороны Израиля, Судан со стороны США).
Разрушение основ послевоенной международной архитектуры происходило нарастающими темпами после прихода к власти в Вашингтоне команды неоконсерваторов (2001), хотя, справедливости ради, надо сказать, что они просто развили тенденции, заложенные их предшественниками, и на первый взгляд идейными оппонентами из администрации Билла Клинтона.
Соединенные Штаты присвоили себе право записывать одни государства в «изгои» (термин появился еще в 1990-х), другие – в светочи демократии (это стало фирменным знаком уже 2000-х годов). Вторжение США в Ирак, повергшее в шок даже европейских союзников, стало первым в послеконфронтационный период актом свержения режима суверенного государства вооруженным путем. Как выяснилось впоследствии, без каких бы то ни было на то оснований. Затем последовали неуклюжие попытки переустроить Большой Ближний Восток по стандартам западной демократии, вылившиеся в триумф радикального исламистского движения ХАМАС (оно убедительно выиграло выборы в Палестине зимой 2006-го) и легитимное врастание родственной ему по духу партии «Хезболла» в государственную структуру Ливана, превратившее ее в наиболее влиятельную политическую силу страны. Все это наряду с усилением террористической деятельности «Аль-Каиды» обострило ситуацию на Ближнем Востоке и заранее обрекло на неудачу запоздалые посреднические усилия уходящей администрации Буша в палестино-израильском урегулировании.
Обстановка на европейском континенте также складывалась отнюдь не лучшим образом. Свои односторонние действия на мировой арене администрация Джорджа Буша начала с выхода из Договора по ПРО, что нанесло урон глобальной стратегической стабильности. Курс на подрыв сложившегося баланса в этой сфере получил логическое продолжение. К концу президентского мандата США под предлогом иранской угрозы пошли на размещение в Польше и Чехии позиционного района для средств ПРО, проигнорировав обоснованные российские озабоченности.
Европейцам навязывалось искаженное восприятие России, ее намерений. Атмосфера общеевропейского сотрудничества находилась под прессом косовской проблемы, решение которой в рамках международного права найти не удалось. Под предлогом «уникальности» случая с Косово Вашингтон сумел продавить отторжение этой территории от Сербии вопреки ее суверенной воле, чем завершился процесс расчленения Югославии. Примечательно, что разбираться с дальнейшей судьбой Косово американцы предоставили Европе, которая в принципе совсем не стремилась к появлению в регионе новой страны.
Немалую лепту в копилку раздражителей внесли «новички» НАТО и Евросоюза, такие, как Польша и страны Балтии, которые в угоду своему мелкому эгоизму создавали препятствия налаживанию делового партнерства Москвы с евро-атлантическими структурами. Подобная линия поведения русофобски настроенных руководителей указанных государств, как и в случае с Грузией, пользовалась поддержкой со стороны США, что не могло не отражаться на российско-американском диалоге.
С началом расширения НАТО на бывшие советские республики и приданием этому процессу идеологической окраски наступила новая фаза, которую можно характеризовать как соперничество в борьбе за влияние на постсоветском пространстве неконфронтационными средствами. «Демократические революции» в Грузии и Украине, внедренные в общественное сознание на Западе посредством противопоставления «автократическим тенденциям» в России, перенесли эту борьбу в поле острой международной полемики о моделях общественного развития, технологиях выборов и роли в них неправительственных организаций.
Анализ практики выборов в Словакии, Сербии и особенно в Украине дал Москве весомые основания для вывода о том, что Соединенные Штаты и их натовские союзники используют демократизаторскую риторику как прикрытие. Тем самым созданные и финансируемые ими механизмы смены неугодных режимов формально обретают политическую легитимацию. Многие эксперты даже заговорили об опасности формирования у западных и южных границ России своего рода «санитарного кордона», включающего в себя недружественные ей соседние государства – от Эстонии до Грузии.
Далее массированное наступление на Россию перешло в экономическую сферу. Предпринимая в соответствии с рыночными принципами шаги по выравниванию цен на поставки энергоносителей бывшим советским республикам, Москва рассчитывала встретить понимание Запада. Вместо этого она вновь оказалась объектом обвинений в «неоимперских амбициях», в стремлении использовать нефть и газ в качестве инструмента давления на соседей. Одновременно была вброшена тема энергетической безопасности Европы, не возникавшая с такой остротой даже в годы холодной войны.
Испытывая на себе все нарастающее давление, причем зачастую под надуманными предлогами, Россия вовсе не стремилась сохранить миропорядок, сложившийся в итоге Второй мировой войны. Беспокойство и не только в России вызвало то, каким образом происходит его демонтаж. Если основы устаревшей системы создавались коллективно, как бы с «чистого листа», то их разрушение велось явочным путем, односторонне и безальтернативно. Партнерские отношения и деловое сотрудничество подменялись созданием видимости партнерства, двойными стандартами в политике, морализаторством и поучениями.
Эрозии подвергались фундаментальные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН и многосторонних договорах: национальный суверенитет, территориальная целостность, равная безопасность, невмешательство во внутренние дела.
В этих условиях влияние международных организаций, в первую очередь Организации Объединенных Наций, неуклонно ослабевало. Это давало повод для суждений о неэффективности ООН как универсального института, подвергалась сомнению ее реформируемость. И действительно, в случаях, когда позиции постоянных членов Совета Безопасности ООН расходились, этот орган все чаще оказывался не в состоянии принять действенные решения. В парализованном состоянии он пребывал и с началом нападения Грузии на Южную Осетию.
Совместные усилия по формированию новой международной архитектуры и приданию ей естественного упорядоченного характера подменялись неформальными обсуждениями всевозможных псевдопроблем. Вроде принадлежащей американскому сенатору Джону Маккейну идеи создания так называемой Лиги демократий, объединенных общими ценностями. Такая постановка вопроса, учитывая сложившийся международный фон, не оставляла сомнений в ее антироссийской направленности.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
К реакции Москвы на военную авантюру Тбилиси не следует подходить со старыми мерками, непригодными для оценки нового, хаотично складывающегося миропорядка. В обстановке, когда развитие событий в мире шло в русле игры без правил, а нормы международного права подменялись политической целесообразностью, Грузия сознательно сыграла роль поджигателя в расчете на безнаказанность, а Россия, находясь в положении обороняющейся стороны, не имела другого выбора.
Создается впечатление, что ведущие политические «игроки» на Западе не поняли либо не захотели понять, что стремительный рост в последние годы количества раздражителей приобрел новое качество. Для России, как для любого другого государства, это новое качество выразилось в категориях национальной безопасности, экономических интересов, морали и нравственности. В понимании российских политических верхов демонизация России по любому случаю, искусственные попытки слепить из нее «образ врага», грубые нарушения правил свободной конкуренции на мировых рынках – все это имело конечной целью не допустить ее возрождение в качестве одного из «центров силы» в быстро меняющемся мире.
Превращение России из партнера Запада в «агрессора» и «нарушителя норм международного права» выглядит тем более абсурдно, что Москва шаг за шагом терпеливо и честно предупреждала: игнорировать естественные государственные интересы России недопустимо, существуют «красные линии», переступать которые нельзя.
Ни одно из этих предупреждений всерьез воспринято не было, да и вообще аргументы Москвы давно уже наталкиваются на стену более или менее вежливого равнодушия. В связи с этим создается впечатление, что Россия готова прекратить попытки объяснять свои действия и начать исходить прежде всего из собственного понимания, а не возможной внешней реакции.
Необходимо, как не так давно призывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, взять паузу, спокойно все осмыслить и подготовить серьезный диалог, нацеленный на то, чтобы коллективно выработать такую международную архитектуру безопасности и сотрудничества, которая бы соответствовала новым мировым реалиям. Впрочем, на деле похоже, что развитие событий, наоборот, ускорилось и принимать решения о новых контурах мироустройства придется на ходу. Причем делать выбор, как показали и события в Грузии, надо будет, во-первых, быстро и, во-вторых, не между хорошими и плохими, а между плохими и очень плохими вариантами.
Заявления о нежелании начала новой холодной войны обнадеживают. Она, вообще-то, и невозможна: уж слишком изменился мир со времени идеологического противостояния 1940 – 1980-х годов. В условиях глобальной взаимозависимости любой конфликт приобретает совершенно иные, неведомые доселе формы, и предсказать развитие событий, моделируя его на материале «первой» холодной войны, просто невозможно.
Важно избежать эскалации напряженности до точки «невозврата», преодолеть соблазн «битвы престижей», которая имеет свою разрушительную логику, и выйти на согласование конкретных форматов для продолжения прагматичного, идеологически немотивированного диалога. Собственно, именно к этому призывал в июне сего года президент России Дмитрий Медведев, выступая в Берлине с идеей дискуссии о новой евро-атлантической системе безопасности. Сейчас этот призыв обрел еще большую актуальность. Правда, пока готовность к такому диалогу выглядит, к сожалению, крайне незначительной.
По итогам встречи министров иностранных дел Албании, Македонии и Хорватии с госсекретарем США Кондолизой Райс было принято решение о приглашении в альянс еще двух балканских стран.Как сообщает государственный департамент США, приглашения о присоединении к Адриатической хартии – группе балканских стран, которые стремятся вступить в НАТО – получили Босния и Герцеговина и Черногория.
По словам пресс-секретаря госдепа США Шона Маккормака, «данное решение было принято благодаря твердой уверенности в том, что расширение состава хартии еще больше укрепит взаимное сотрудничество и продолжит евроатлантическую интеграцию», сообщает BalkanInsight.com.
Адриатическая хартия с США была подписана в мае 2003г. для ускорения вступления в НАТО Албании и бывших республик Югославии – Македонии и Хорватии.
Безвизовый режим между Россией и Черногорией не будет способствовать увеличению потока туристов, поскольку Черногория не является для России туристическим донором, а россияне и прежде ездили в Черногорию без виз, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.Черногория – государство в юго-восточной Европе, на адриатическом побережье Балканского полуострова. Название происходит от топонима Черная гора.
Омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной на северо-западе, Сербией на востоке и Албанией на юго-востоке.
До июня 2006г. была частью конфедеративного государственного союза Сербии и Черногории, занимая 13,5% его совокупной территории. Независимость Черногории провозглашена 3 июня 2006г., официально признана Россией 12 июня 2006г.
Территорию страны можно условно разделить на три части: побережье Адриатического моря, относительно равнинная центральная часть страны, на которой расположены два ее крупнейших города Подгорица и Никшич, и горные системы востока страны.
Континентальная береговая линия Черногории имеет протяженность 300 км. Черногория имеет в своем составе 14 морских островов, совокупная протяженность береговой линии которых составляет 15,6 км. На северо-западе страны находится крупный залив Бока Которска.
В северной Черногории – умеренно-континентальный, на Адриатическом побережье – средиземноморский. В приморской области лето обычно продолжительное, жаркое (+23-25 °С) и достаточно сухое, зима – короткая и прохладная (+3-7 °С). В горных районах умеренно теплое лето (+19-25 °С) и относительно холодная зима (от +5 до -10 °С), осадки выпадают в основном в виде снега.
Туристический сезон в Черногории длится пять месяцев – с мая до окт. В Черногории проживает 690 тыс.чел. С1 янв. 2002г. официальной валютой Черногории является евро.
По числу исторических, культурных и природных достопримечательностей Черногория не уступает наиболее интересным и живописным местам мира. Здесь на относительно небольшой территории сконцентрировано множество культурно-исторических памятников архитектуры, градостроения, изобразительного искусства, скульптуры, народного творчества. В Черногории расположено 50 крупных архитектурных комплексов, большое количество объектов религиозного характера, ряд мемориальных памятников освободительных войн.
Среди православных святынь особо стоит выделить монастырь Острог, основанный в XVII веке. Здесь хранятся мощи создателя монастыря – святого Василия Острожского. Монастырь Острог и сегодня выполняет свою основную функцию. Кроме христианских храмов хорошо сохранились мечети, дворцы и средневековые замки.
Культурная столица Черногории – Цетине. Город является музеем под открытым небом, т.к. здесь сосредоточено наибольшее количество архитектурных памятников Черногории, среди которых особе место занимает Цетиньский монастырь.
Кроме исторических и культурных ценностей Черногория может похвастаться еще и природными богатствами, которые охраняются государством. В Черногории существует четыре Национальных парка: Дурмитор, Биоградска гора, Ловчен и Скадарское озеро.
Излюбленными местами отдыха среди туристов в Черногории являются прибрежные г.г.Будва, Бар и Тиват. В последнее время все больше популярностью пользуется Котор. Те, кому интересен не только пляжный отдых, но и осмотр достопримечательностей, посещают Подгорицу, Даниловград и Цетине.
Протяженность пляжей Черногории составляет 73 км. Многие пляжи удостоены Голубого флага ЮНЕСКО за экологическую чистоту.
В Черногории имеются пляжи все типов – от песчаных, которых здесь наибольшее количество, до галечных. Причем размер гальки может варьироваться от самого мелкого до крупных камней. Песчаных пляжей больше всего на юге страны (Бечичи), а вот известные курорты Будва и Сутомор славятся своими галечными прибрежными территориями.
Черногория знаменита также крупнейшим в Европе нудистским пляжем Ада Бояна.
По сообщению министерства туризма Черногории, на 1 авг. 2008г. доходы страны от туристической деятельности превысили 227 млн. евро. Это на 7% больше, чем за такой же период пред.г. Представители министерства прогнозируют, что до конца 2008г. страну посетит 1,3 млн. иностранных гостей. Если этот прогноз оправдается, то прирост составит 13% к результатам пред.г.: в 2007г. Черногорию посетило 1,1 млн.чел. В 2006г. количество иностранных гостей составило 600 тысяч человек.
По данным Ростуризма, в 2007г. Черногория приняла 66,5 тысяч туристов из России. Причем, по оценкам туроператоров, рост на этом направлении составил более 100%.
Интервью председателя правительства Российской Федерации В.В.Путина Первому каналу телевидения Германии «АРД». Сочи, 29 августа 2008г.Т.РОТ. Уважаемый г-н премьер-министр!
После эскалации ситуации в Грузии в общественном мнении на Западе, имеется в виду не только политические круги, но и пресса, другие люди, возникает мнение, что вы силой создали ситуацию: Россия против всего остального мира.
В.В. ПУТИН. Как Вы считаете, кто начал войну?
Т.РОТ. Последним побудительным мотивом стало нападение Грузии на Цхинвали.
В.В. ПУТИН. Спасибо Вам за этот ответ. Это правда. Так оно и есть. Мы на эту тему поговорим еще чуть подробнее. Я хочу только отметить, что не мы создали эту ситуацию.
А теперь по поводу авторитета России. Я убежден в том, что авторитет любой страны, которая способна защитить жизнь и достоинство своих граждан, страны, которая способна проводить независимую внешнюю политику, авторитет такой страны в долгосрочной, среднесрочной перспективе в мире будет только расти.
И наоборот, авторитет тех стран, которые взяли за правило обслуживать внешнеполитические интересы других государств, пренебрегая своими национальными интересами, вне зависимости от того, как они это объясняют, будет снижаться.
Т.РОТ. Вы все-таки не ответили на Вопрос. почему вы пошли на риск изоляции вашей страны?
В.В. ПУТИН. Мне казалось, что я ответил. Но если это требует дополнительных разъяснений, я это сделаю. Я считаю, что страна, в данном случае Россия, которая может отстаивать честь и достоинство своих граждан, защитить их жизнь, исполнить свои международно-правовые обязательства в рамках миротворческого мандата, такая страна не будет в изоляции, чего бы ни говорили в рамках блокового мышления наши партнеры в Европе или в Соединенных Штатах. На Европе и Соединенных Штатах мир еще не заканчивается.
И наоборот, хочу это подчеркнуть еще раз, если какие-то государства считают, что они могут пренебрегать личными национальными интересами, обслуживая интересы других государств, внешнеполитические интересы, авторитет таких государств, чем бы они ни объясняли свою позицию, в мире будет постепенно снижаться.
В этой связи, если европейские государства хотят обслуживать внешнеполитические интересы США, то они от этого, на мой взгляд, ничего не выиграют.
Теперь возьмем наши международно-правовые обязательства. По международным соглашениям, российские миротворцы взяли на себя обязанность защитить мирное население Южной Осетии.
А теперь вспомним 1995 год, Боснию. И как мы хорошо с вами знаем, европейский миротворческий контингент, представленный голландскими военнослужащими, не стал связываться с одной из нападавших сторон, и позволил этой стороне уничтожить целый населенный пункт. Были убиты, пострадали сотни людей. Проблема и трагедия в Сребренице хорошо известна Европе.
Вы что, хотели, чтобы мы тоже так же поступили? Ушли и дали возможность грузинским вооруженным подразделениям уничтожить проживающих в Цхинвали людей?
Т.РОТ. Ваши критики говорят, что целью России собственно была не защита мирного населения Цхинвали, а попытка лишь сместить президента Саакашвили, привести к дальнейшей дестабилизации Грузии, и тем самым воспрепятствовать ее вступлению в НАТО. Это так?
В.В. ПУТИН. Это не так. Это просто подтасовка фактов. Это ложь. Если бы это было нашей целью, мы бы, наверное, и начали этот конфликт. Но, как Вы сами сказали, начала этот конфликт грузинская сторона.
Теперь я позволю вспомнить факты недавней истории. После неправового решения о признании Косово все ожидали, что Россия пойдет на признание независимости и суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Ведь правда, ведь так было, все ждали этого решения России. И у нас было на это моральное право, но мы этого не сделали. Мы повели себя более чем сдержанно, я даже не буду комментировать, мы это «проглотили», на самом деле.
И что мы получили? Эскалацию конфликта, нападение на наших миротворцев, нападение и уничтожение мирного населения Южной Осетии. Вы же знаете факты, которые там были и которые уже озвучены. Министр иностранных дел Франции побывал в Северной Осетии и встречался с беженцами. И очевидцы рассказывают, что грузинские военные подразделения танками давили женщин и детей, загоняли людей в дома и заживо сжигали. А грузинские солдаты, когда ворвались в Цхинвали, так, между прочим, проходя мимо домов, мимо подвалов, где прятались женщины и дети, бросали туда гранаты. Что это такое, если это не геноцид?
Теперь по поводу руководства Грузии. Люди, которые привели к катастрофе свою страну – а своими действиями руководство Грузии способствовало подрыву территориальной целостности и государственности Грузии – конечно, такие люди, на мой взгляд, не должны управлять государствами маленькими, либо большими. Если бы они были приличными людьми, они немедленно должны были сами подать в отставку.
Т.РОТ. Это не ваше решение, а грузинское решение.
В.В. ПУТИН. Конечно. Но мы знаем прецеденты и другого характера.
Вспомним, как американские войска вошли в Ирак и как они поступили с Саддамом Хусейном за то, что он уничтожил несколько шиитских деревень. А здесь в первые часы боевых действий было полностью уничтожено, стерто с лица земли 10 осетинских деревень на территории Южной Осетии.
Т.РОТ. Господин премьер-министр, считаете ли Вы себя в результате этого вправе вторгаться на территорию суверенного государства, то есть не оставаться в зоне конфликта, а осуществлять ее бомбардировки. Я сам сегодня сижу рядом с Вами только благодаря случайности, потому что в 100 метрах от меня, в жилом квартале Гори, взорвался снаряд, бомба, сброшенная с вашего самолета. Не является ли это нарушением норм международного права, а именно то, что вы де-факто оккупируете маленькую страну. Откуда у вас это право?
В.В. ПУТИН. Конечно, мы имеем на это право...
Т.РОТ. Еще раз уточняю – бомба была сброшена на жилой дом.
В.В. ПУТИН. Конечно, мы действовали в рамках международного права.
Нападения на наши миротворческие посты, убийства наших миротворцев и наших граждан – все это, безусловно, мы восприняли как нападение на Россию.
В первые часы боевых действий своими ударами грузинские вооруженные силы убили у нас сразу несколько десятков миротворцев. Окружили наш «Южный» городок (там были «Южный» и «Северный» городки миротворцев) танками и начали расстреливать его прямой наводкой.
Когда наши солдаты-миротворцы попытались вывести технику из гаражей, был нанесен удар системами «Град». 10 человек, которые зашли в ангар, погибли на месте, сгорели заживо.
Я еще не ответил. Затем авиация Грузии нанесла удары по различным точкам на территории Южной Осетии, не в Цхинвале, а в центре самой Южной Осетии. Мы вынуждены были начать подавление пунктов управления огнем, которые находились за зоной боевых действий и за зоной безопасности. Но это были такие точки, откуда управлялись вооруженные силы, и откуда по российским войскам и миротворцам наносились удары.
Т.РОТ. Но я же говорил, что осуществлялись бомбардировки жилых кварталов. Может быть, Вы не в курсе всей информации?
В.В. ПУТИН. Я, может быть, не в курсе всей информации. Здесь возможны и ошибки в ходе боевых действий. Вот сейчас только в Афганистане американская авиация нанесла удар якобы по талибам и одним ударом уничтожила почти сто мирных жителей. Это первая из возможностей.
Но вторая, она более вероятна. Дело в том, что пункты управления огнем, пункты управления авиацией и радиолокационные станции грузинская сторона подчас размещала именно в жилых районах, с тем, чтобы ограничить возможности применения нами авиации, используя гражданское население и вас в качестве заложников.
Т.РОТ. Министр иностранных дел Франции, председательствующей в ЕС, господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь, как база российского Военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России?
В.В. ПУТИН. Вы сказали, следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому, считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое.
Т.РОТ. Вы это исключаете?
В.В. ПУТИН. Если Вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены.
Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией.
И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела.
Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом.
Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины.
У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этим соглашением.
Т.РОТ. Другой министр иностранных дел, на этот раз Великобритании, г-н Миллибэнд в последнее время высказал некоторые опасения о том, что начинается новая «холодная война», начинается новая гонка вооружений. Как бы Вы оценили эту ситуацию? Стоим ли мы сейчас на пороге нового «ледникового периода», новой «холодной войны», начала новой гонки вооружений? Как с Вашей точки зрения?
В.В. ПУТИН. Вы знаете, есть такая шутка: «Кто первым кричит: держи вора? – Тот, кто украл».
Т.РОТ. Министр иностранных дел Великобритании.
В.В. ПУТИН. Это Вы так сказали. Замечательно. Как мне приятно с Вами разговаривать. Но это Вы сказали. Но если говорить серьезно, то Россия не стремится ни к каким обострениям, ни к какому напряжению с кем бы то ни было. Мы хотим добрых, добрососедских, партнерских отношений со всеми.
Если Вы позволите, я скажу, что я думаю по этому поводу. Был Советский Союз и Варшавский договор. И были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзнических войск. Эти оккупационные силы ушли. Советский Союз распался, Варшавского договора нет. Угрозы со стороны Советского Союза нет. А НАТО, американские войска в Европе остались. Зачем?
Для того, чтобы навести порядок в собственном стане, с собственными союзниками, для того, чтобы удержать их в рамках блоковой дисциплины нужна внешняя угроза. Иран не очень подходит на эту роль. Очень хочется возродить образ врага в виде России. Но в Европе уже никому не страшно.
Т.РОТ. В понедельник состоится заседание Совета ЕС в Брюсселе. Там будут говорить о России, о санкциях в отношении России, по крайней мере, будут обсуждаться эти вопросы.
Как Вы все это воспринимаете? Вам все равно? Вы все равно считаете, что Европейский Союз говорит очень многими языками?
В.В. ПУТИН. Если бы я сказал, что нам наплевать, нам безразлично, я бы соврал. Конечно, нам небезразлично. Конечно, мы будем внимательно смотреть за тем, что там происходит. Мы просто надеемся, что здравый смысл возобладает. Мы надеемся, что будет дана все-таки не политизированная, а объективная оценка событий, которые произошли в Южной Осетии и в Абхазии.
Мы надеемся, что действия российских миротворцев будут поддержаны, а действие грузинской стороны, которая провела эту преступную акцию, найдет осуждение.
Т.РОТ. В этой связи я хотел бы Вас спросить. Как Вы собираетесь решать следующую дилемму? С одной стороны, Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Европейским Союзом. Она и не может поступать иначе в виду экономических задач, которые ставит перед собой. С другой стороны, Россия хочет играть по своим собственным, российским правилам. То есть, с одной стороны, приверженность общеевропейским ценностям, а с другой – решимость играть по своим российским правилам. Но обе стороны невозможно сразу удовлетворить.
В.В. ПУТИН. Вы знаете, мы не собираемся играть по каким-то особым своим правилам. Мы хотим, чтобы все работали по одним и тем же правилам, которые и называются – международное право. Но мы не хотим, чтобы этими понятиями кто-то манипулировал.
В одном регионе мира будем играть по одним правилам, в другом – по другим. Только чтобы это соответствовало нашим интересам. Мы хотим, чтобы были единые правила, которые учитывали бы интересы всех участников международного общения.
Т.РОТ. Таким образом, Вы хотите сказать, что Европейский Союз играет по различным правилам в различных регионах мира, которые не соответствуют международному праву.
В.В. ПУТИН. А как же! Косово как признали? Забыли про территориальную целостность государства. Забыли про резолюцию 1244, которую сами принимали и поддерживали. Там можно было сделать, а в Абхазии и в Южной Осетии нельзя! Почему?
Т.РОТ. То есть Россия – единственный арбитр международного права. Всеми остальными манипулируют. Они это не осознают. У них иные интересы или им все равно. Я так Вас понял?
В.В. ПУТИН. Вы меня поняли неправильно. Вы согласились с независимостью Косово? Да или нет?
Т.РОТ. Я лично... Я журналист.
В.В. ПУТИН. Нет, западные страны.
Т.РОТ. Да.
В.В. ПУТИН. В основном все признали.
Но если признали там, признайте тогда независимость Абхазии и Южной Осетии. Никакой разницы. Никакой разницы в этих позициях нет. Это придуманная разница. Там был этнический конфликт – и здесь этнический конфликт. Там были преступления практически с двух сторон – и здесь, наверное, их можно найти.
Если покопаться, наверное, можно найти. Наверное. Там было принято решение, что эти народы не могут жить вместе в одном государстве – и здесь они не хотят жить вместе в одном государстве.
Да никакой разницы нет, и все это прекрасно понимают. Все это болтовня. Чтобы прикрыть неправовые решения. Это право силы, называется. Кулачное право. И вот с этим Россия не может согласиться.
Господин Рот, Вы живете в России уже долго. Вы прекрасно говорите на русском языке, почти без акцента. То, что Вы меня поняли, не удивительно. Мне очень приятно.
Но мне очень хотелось, чтобы меня поняли и наши, мои европейские коллеги, которые будут собираться 1-го числа и думать над этим конфликтом.
Резолюция 1244 была принята? Была. Там записано и подчеркнуто: территориальная целостность Сербии. Выбросили на помойку эту Резолюцию, забыли про нее. Пытались извернуть. Ее невозможно было извернуть никак. Забыли напрочь. Почему? В Белом доме приказали, и все исполнили.
Если европейские страны так и дальше будут вести свою политику, то разговаривать о европейских делах нам придется с Вашингтоном.
Т.РОТ. Понимаю, что Вы сказали. Можно без переводчика?
В.В. ПУТИН. Можно.
Т.РОТ. Спасибо. Мне хотелось бы задать вопрос, касающийся развития российско-германских отношений вне зависимости от того, какие здесь имеются оценки и предположения. Но, касаясь особого отношения между нашими странами, может ли Германия в этой ситуации играть какую-то определенную посредническую роль?
В.В. ПУТИН. У нас с Германией очень хорошие отношения, очень доверительные – и в области политики, и в сфере экономики.
Когда мы разговаривали с г-ном Саркози во время его приезда в Москву, мы прямо ему сказали, что мы не собираемся аннексировать никакие грузинские земли и мы, конечно, уйдем с тех пунктов, где мы сейчас находимся. Но уйдем в зону безопасности, которая была обговорена в прежних международных соглашениях. Но мы и там не собираемся оставаться вечно. Мы считаем, что это грузинская территория. Наша цель заключается только в том, чтобы обеспечить безопасность в этом регионе, не позволить опять сосредоточить тайно, как это было сделано в этом случае, вооружение, технику, воспрепятствовать созданию предпосылок для нового вооруженного конфликта.
И в этой связи могу сказать, что участие там международных наблюдателей, наблюдателей ОБСЕ, Евросоюза, в том числе из Германии, мы будем только приветствовать. Нужно только договориться о принципах совместной работы.
Т.РОТ. Это должно означать, что вы в любом случае отведете свои войска?
В.В. ПУТИН. Конечно. Нам главное – обеспечить безопасность в этой зоне. На следующем этапе – помочь Южной Осетии обезопасить свои границы. И нет у нас оснований больше там находиться, в этой зоне безопасности. В ходе этой работы мы будем приветствовать сотрудничество с европейскими структурами и с ОБСЕ тоже.
Т.РОТ. В условиях того кризиса в отношениях, которые, несомненно, сейчас имеются (отношения с США, с Европой), какой вклад Вы можете внести в дело того, чтобы этот кризис сошел на нет?
В.В. ПУТИН. Во-первых, я об этом вчера говорил вашим коллегам из «Си-Эн-Эн». Мне кажется, что в значительной степени кризис был спровоцирован, в том числе нашими американскими друзьями в ходе предвыборной борьбы. Это, конечно, использование административного ресурса в самом плачевном его исполнении для того, чтобы обеспечить преимущество одного из кандидатов, в данном случае правящей партии.
Т.РОТ. У Вас есть факты?
В.В. ПУТИН. У нас есть анализ ситуации. Мы знаем, что там было много американских советников. Это очень плохо вооружать одну из сторон этнического конфликта и потом толкать ее на решение этих этнических проблем вооруженным путем. Это гораздо, казалось бы, проще, на первый взгляд, чем вести многолетние переговоры и искать компромиссы, но это очень опасный путь. Развитие событий это показало.
Но инструкторы, «учителя», в широком смысле – персонал, обучающий работать на поставленной военной технике – где он должен находиться – на полигонах и в учебных центрах, а они где находились? В зоне боевых действий. Это уже наталкивает на мысль о том, что руководство США знало о готовящейся акции и, более того, скорее всего, принимало участие, потому что без команды высшего руководства американские граждане в зоне конфликта не имели право находиться. В зоне безопасности могли находиться только местные граждане, могли находиться наблюдатели ОБСЕ и миротворческие силы. А мы там обнаружили следы граждан США, которые не входили ни в первую, ни во вторую, ни в третью категорию. Это уже вопрос. Почему высшее руководство США разрешило присутствие там своих граждан, которые не имели право находиться в этой зоне безопасности? А если они разрешили это, то тогда у меня возникает подозрение в том, что это было сделано специально для того, чтобы организовать маленькую победоносную войну. А если она не получилась – создать из России образ врага, и уже на этой почве объединять электорат вокруг одного из кандидатов в президенты. Конечно, кандидата от правящей партии, потому что таким ресурсом может обладать только правящая партия.
Вот мои рассуждения и предположения. Это ваше дело – согласиться с этим или нет. Но они имеют право на существование, поскольку мы обнаружили следы американских граждан в зоне боевых действий.
Т.РОТ. И последний вопрос, который я хотел Вам задать, он меня очень интересует. Не считаете ли Вы, что Вы сами лично находитесь в западне авторитарного государства? В созданной ныне системе Вы получаете информацию от Ваших спецслужб, Вы получаете информацию из различных источников, в том числе из высшей экономической среды. Но даже средства массовой информации порой боятся сказать что-то иное, что противоречит тому, что Вы хотите услышать.
Не получилось ли так, что созданная Вами система, сама теперь закрывает Вам широкий взгляд, возможность действительно видеть те процессы, которые сейчас происходят в Европе, в других странах?
В.В. ПУТИН. Уважаемый господин Рот, Вы охарактеризовали наше политическое устройство как авторитарную систему.
Вы упомянули в ходе нашей сегодняшней дискуссии несколько раз об общих ценностях. Где набор этих ценностей?
Есть основополагающие принципы. Ну, скажем, право человека на жизнь. Вот в США, допустим, есть смертная казнь, а у нас, в России, нет и у вас, в Европе, нет. Значит ли это, что вы собираетесь выйти, скажем, из блока НАТО, потому что нет полного совпадения ценностей у европейцев и у американцев?
Теперь возьмем этот конфликт, который мы сейчас с вами обсуждаем. Разве вам не известно, что происходило в Грузии в последние годы? Загадочная смерть премьер-министра Жвания. Расправа с оппозицией. Физический разгон митингов протеста оппозиционных сил. Проведение общенациональных выборов фактически в условиях чрезвычайного положения. Затем эта преступная акция в Осетии со многими человеческими жертвами. И это, конечно, демократическая страна, с которой нужно вести диалог и которую нужно принять в НАТО, а может быть и в Евросоюз.
А если другая страна защищает свои интересы, просто право своих граждан на жизнь, граждан, на которых осуществлено нападение – у нас 80 человек убили сразу. 2000 мирных граждан там в итоге убиты. И мы что, не можем защитить жизни своих граждан там? А если мы защищаем свои жизни, то у нас отберут колбасу? У нас выбор какой – между колбасой и жизнью? Мы выбираем жизнь, г-н Рот.
Теперь по поводу другой ценности – свободы прессы. Посмотрите, как освещаются эти события в прессе Соединенных Штатов, которая считается светочем демократии. Да и в европейской тоже.
Я был в Пекине, когда начались эти события. Начался массовый обстрел Цхинвали, начались уже наземные операции грузинских войск, уже были многочисленные жертвы, – никто слова не сказал. Ваша компания молчала, и все американские компании молчали, как будто ничего не происходит, – тишина. Как только агрессору дали по роже, зубы ему выбили, как он только бросил все американское оружие и побежал без оглядки – сразу все вспомнили и про международное право, и про злобную Россию. Сразу все заголосили.
Теперь по поводу колбасы, экономики. Мы хотим нормальных экономических связей со всеми нашими партнерами. Мы очень надежный партнер. Мы никогда никого не подводили.
Когда мы строили трубопроводную систему в Федеративную Республику Германии в начале 60-х годов, там наши партнеры из-за океана тоже советовали немцам не соглашаться с этим проектом. Вы должны об этом знать. Но тогда руководство Германии приняло правильное решение, и вместе с Советским Союзом эта система была построена. Сегодня это один из надежных источников обеспечения углеводородами немецкой экономики. 40 миллиардов кубических метров Германия получает ежегодно. В прошлом году и в этом, и получит, гарантируем это.
Теперь давайте посмотрим более глобально. Какова структура нашего экспорта в европейские страны, да и в Северную Америку? На 80 с лишним процентов – это товары сырьевой группы: нефть, газ, нефтехимия, лес, разные металлы, химические удобрения. Это все, в чем крайне нуждается мировая и европейская экономика. Это очень востребованные товары на мировых рынках.
У нас есть возможности и в высокотехнологичных областях, но они пока очень ограничены. И, более того, даже имея договоренности с Евросоюзом, скажем, в области поставок ядерного топлива, нас неправомерно не пускают на европейский рынок. Кстати говоря, из-за позиции наших французских друзей. Но они об этом знают, мы с ними долго дискутировали.
Но если кто-то хочет нарушить эти связи, мы не сможем ничего с этим поделать. Мы этого не хотим.
Мы очень надеемся на то, что наши партнеры будут так же исполнять свои обязательства, как мы исполняли и намерены исполнять свои обязательства в будущем.
Это то, что касается нашего экспорта. А что касается вашего экспорта, то есть для нас импорта, в России очень надежный и большой рынок. Я сейчас не помню цифры, но поставки, скажем, немецкой машиностроительной промышленности на российский рынок растут из года в год. Они просто очень большие сегодня. Кто-то хочет перестать нам поставлять? Мы будем покупать в других местах. Кому это надо, я не понимаю?
Мы призываем к объективному анализу сложившейся ситуации. Мы надеемся на то, что здравый смысл и справедливость восторжествуют.
Мы – жертва агрессии. Мы надеемся на поддержку наших европейских партнеров.
Министр торговли Ирана Сейед Масуд Мирказеми заявил, что нынешним 9 иранским правительством подготовлены к подписанию соглашения о преференциальной торговле с такими странами, как Сирия, Турция, Индонезия, Узбекистан, Кыргызстан, Куба, Сербия, Босния и Герцеговина, Польша, Таджикистан. Подготовлены соглашения о свободной торговле с Арменией и Венесуэлой.По словам министра, правительством в области внешней торговли предприняты такие шаги, как подписание соглашений о преференциальной торговле с Тунисом, Пакистаном, Шри-Ланкой, Южной Кореей и Кубой, подготовка и разработка меморандумов о сотрудничестве в области торговли и торговых соглашений с Иорданией, Ливией, Болгарией, Туркменистаном, Кубой и Венесуэлой, подписание меморандумов о сотрудничестве в области торговли и торговых соглашений с Кенией, Ливией, Тунисом, Сирией, Ираком, Катаром, Эфиопией, Берегом Слоновой Кости, Суданом, Нигерией, Бахрейном, Южной Африкой, Зимбабве, Россией, Венесуэлой, Туркменистаном, Азербайджаном, Украиной, Узбекистаном, Кыргызстаном, Беларусью и Арменией.
С целью достижения сбалансированности во внешней торговле правительством регулярно проводятся заседания совместных межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с Катаром, Южной Африкой, Сирией, Кенией, Эфиопией, Зимбабве, Ливией, Ираком, Бахрейном, Саудовской Аравией, Берегом Слоновой Кости, Тунисом, Пакистаном, Южной Кореей, Шри-Ланкой, Малайзией, Турцией, Китаем, Беларусью, Узбекистаном, Кыргызстаном, Афганистаном, Индонезией, Казахстаном, Туркменистаном, Болгарией, Венесуэлой, Кубой и Россией.
Проведены конференции по вопросам возможностей для расширения торговли между Ираном и такими странами, как Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Малайзия, и странами латиноамериканского региона. На повестке дня стоит организация визитов торговых делегация в составе представителей частного сектора.
В Организации развития торговли страны получено согласие на обмен торговыми делегациями с 12 зарубежными странами и в организациях развития торговли провинций – с 18 зарубежными странами. Иран принимает активное участие в работе таких международных и региональных организаций, как Организация Исламская конференция (ОИК), Организация экономического сотрудничества (ЭКО), Группа восьми исламских развивающихся государств (D8), Ассоциация регионального сотрудничества со странами Индийского океана (IOR-ARC), Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Система торговых преференций в отношениях между развивающимися странами (GSTP) и в других международных организациях. Все это также способствует достижению сбалансированности во внешней торговле.
Правительством дано согласие на проведение более 290 выставок в Иране и за рубежом. Создано торговое представительство в Пакистане (в Карачи), предприняты шаги с целью создания представительств в Грузии, Ираке (Мосул и Басра) и Омане. Открыт иранский торговый центр в Дубайе.
В такие страны, как Кувейт, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Россия, Саудовская Аравия, Пакистан, ОАЭ, Индия, Алжир, Афганистан, Турция и Австрия, направлены торговые советники. Предпринимаются шаги по созданию иранских торговых центров в Армении, Таджикистан и России. Ведется подготовка к отправке в 38 зарубежных стран торговых советников. Данные шаги также предпринимаются с целью достижения сбалансированности во внешней торговле.
Как подчеркнул министр, проблеме сбалансированности во внешней торговле уделяется самое серьезное внимание, и усилия в этом направлении будут продолжены.
Боснийские компании призывают власти Сараево и международное сообщество воспрепятствовать продаже Белградом их недвижимости – общей стоимостью 2 млрд. евро – в Сербии.Боснии, Хорватии, Македонии, Словении, Сербии и Черногории потребовался не один год на то, чтобы прийти к соглашению относительно раздела объектов недвижимости бывшей Югославии, а также выработать механизмы и процедуры, которые помогли бы компаниям и организациям из одной страны получить свою собственность в другой.
Однако предыдущее правительство Сербии 19 июня изменило закон о передаче объектов недвижимости, что позволило Управлению приватизации Сербии начать распродажу принадлежащих 15 боснийским компаниям объектов с аукциона, который состоялся 25 июля.
По данным бизнесменов Боснии, более 150 компаний страны имеют офисы или другую собственность в Сербии, стоимость которой составляет 2 млрд. евро. Но, судя по результатам аукциона, продается она за «сущие гроши», утверждают бизнесмены.
Министерство иностранных дел Боснии уже отправило соответствующую ноту правительству Сербии с требованием остановить продажу боснийской недвижимости. К настоящему моменту ответа получено не было, сообщает портал BalkanInsight.com.
Палата представителей конгресса США в среду утвердила резолюцию, в которой выражена поддержка дальнейшему расширению НАТО и говорится о том, что «ни одно государство за пределами НАТО» не имеет права голоса в решении о том, кто может быть членом альянса.«Любое решение в отношении членства в НАТО будет приниматься членами НАТО посредством консенсуса, и ни одно государство за пределами НАТО не имеет права голоса или вето в отношении таких решений», – говорится в резолюции, в котором американские законодатели поздравили Албанию и Хорватию с получением ими приглашения вступить в альянс.
В документе заявлено также, что конгресс США «поддерживает расширение НАТО и считает, что продолжающееся взаимодействие со всеми странами, которые стремятся в НАТО, укрепит безопасность для всех государств евроатлантического региона».
«Конгресс США полностью поддерживает приглашение начать интенсивный диалог НАТО c Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией», – говорится в резолюции. В ней отмечается также, что на апрельском саммите «НАТО согласилась с тем, что Украина и Грузия внесли ценный вклад в операции НАТО, выразила ясную поддержку присоединению Украины и Грузии к плану действий по членству НАТО в качестве следующего этапа для полного членства, а также заявила, что НАТО начнет период интенсивного взаимодействия с Украиной и Грузией для оценки их заявок на встрече, которая состоится в дек. 2008г.».
Против вступления Украины и Грузии в НАТО выступает Россия.
Профсоюзы и общественные организации Боснии и Герцеговины открыто выражают свое возмущение решением местных парламентариев об увеличении своей заработной платы в два раза.Как заявил президент Ассоциации демобилизованных солдат Мехмед Шишич, «пришло время для восстания граждан Боснии и Герцеговины, поскольку другого способа «достучаться» до чиновников, судя по всему, не существует». Ему вторит президент Ассоциации ветеранов Республики Сербской Пантелия Кургуз: «Видимо, они (депутаты) забыли, что избраны народом и что наше терпение лучше не испытывать. Высокие зарплаты для чиновников – это ненормально».
В минувший понедельник Объединенная комиссия обеих палат парламента Боснии и Герцеговины решила, что зарплаты депутатов будут увеличены на 100%. Таким образом, уже с текущего июля парламентарии будут ежемесячно получать в среднем 6 тыс. конвертируемых марок (3 тыс. евро). Для сравнения: средняя зарплата в стране составляет 370 евро.
Масла в огонь недовольства общественности подливает еще и информация, собранная и проанализированная несколькими некоммерческими организациями страны. По этим данным, местные парламентарии принимают всего 40 законов в год. Такими темпами стране потребуется 50 лет на принятие более чем 1,2 тыс. новых законов и норм, необходимых для ее вступления в ЕС, пишет портал BalkanInsight.com.

Зачем уходить из ОБСЕ?
Андрей Загорский, Марк Энтин
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2008
А.В. Загорский – к. и. н., ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем войны и мира Научно-координационного совета по междкнародным исследованиям МГИМО (У) МИД России. М.Л. Энтин – д. ю. н., профессор, директор Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД России.
Резюме Для восстановления баланса и исправления перекосов в деятельности ОБСЕ достаточно активизировать мероприятия по приоритетным для России темам, в особенности таким, как противодействие новым вызовам и угрозам европейской безопасности.
В 1986 году некоторые представители американского политического истеблишмента ставили вопрос о выходе Соединенных Штатов из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – предшественника нынешней Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Их аргументы звучали просто и привлекательно для многих. Баланс хельсинкского процесса был нарушен. В 1975-м при подписании Заключительного акта совещания СССР добился признания нерушимости границ, а обещанная Москвой либерализация политического режима оказалась поверх-ностной и временной. Десять с лишним лет спустя многим уже казалось, что движение повернуло вспять.
На этом основании в Конгрессе США раздавались призывы к американскому президенту выйти из хельсинкского процесса. Прорабатывая данный вопрос, юристы Госдепартамента и Библиотеки Конгресса пришли к выводу, что технически это сделать несложно. Достаточно отозвать подпись президента под Заключительным актом, уведомив об этом все государства – участники совещания. Однако Комиссия (Конгресса и правительства) Соединенных Штатов по СБСЕ сочла подобный шаг опрометчивым и рекомендовала воздержаться от него. Среди доводов против выхода фигурировали, в частности, следующие.
Во-первых, покинув СБСЕ, США не аннулируют Заключительный акт и не остановят хельсинкский процесс, но добровольно откажутся от возможности влиять на его развитие и позволят Советскому Союзу занять в нем доминирующие позиции. Это обстоятельство вряд ли расстроило бы Москву, с самого начала стремившуюся к налаживанию общеевропейского процесса без участия Америки.
Во-вторых, отказ от участия в СБСЕ дал бы негативный сигнал союзникам Соединенных Штатов в Европе, а также нейтральным и неприсоединившимся странам, которые, скорее всего, интерпретировали бы данный шаг как ослабление интереса и внимания Вашингтона к европейским делам.
Наконец, в-третьих, выход США из хельсинкского процесса мог привести к тому, что вопрос о правах человека в СССР и Восточной Европе переместился бы на периферию отношений между Востоком и Западом. Но ведь именно этого американские критики СБСЕ и хотели избежать.
Комиссия предложила терпеливо и еще более энергично добиваться реализации целей Соединенных Штатов в рамках хельсинкского процесса. Официальный Вашингтон в конечном итоге последовал этим рекомендациям. Заметим, что уже к 1989-му в обсуждении правозащитной проблематики и политического плюрализма наметился принципиальный прорыв. В решениях Венской встречи представителей государств – участников СБСЕ (1989) практически полностью были сняты вопросы гуманитарного сотрудничества, споры по которым не затихали с момента подписания Заключительного акта.
Двадцать лет спустя Москва, похоже, поменялась ролями с Вашингтоном. Сегодня российские политики сетуют на дисбалансы в деятельности ОБСЕ: географический (работа организации сосредоточена в основном «к востоку от Вены» – в странах бывшей Югославии и бывшего СССР) и тематический (с точки зрения России, сложился неоправданный перекос в сторону защиты прав человека в ущерб другим направлениям – в сферах безопасности, экономики и экологии).
Москва недовольна автономностью ряда институтов ОБСЕ, и прежде всего Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), осуществляющего мониторинг выборов. Российское руководство открыто обвиняет независимые институты ОБСЕ в предвзятости, в применении двойных стандартов и, по существу, говорит о том, что они «приватизированы» государствами Запада, в первую очередь Соединенными Штатами. Теперь уже в России заявляют, что такая ОБСЕ нам не нужна, все громче звучат призывы выйти из этой организации.
Ситуация, конечно, не совсем зеркально отражает период 1980-х годов. Да и ОБСЕ сегодня существенно отличается от прежней организации. Теперь это уже не просто серия совещаний и встреч экспертов, а система постоянно действующих структур и институтов.
Впрочем, не вполне ясно, чего добивается Москва. Хочет ли она, чтобы ОБСЕ активизировала свою деятельность «к западу от Вены» или чтобы сократила ее масштабы на востоке континента? Чтобы организация больше занималась вопросами безопасности в Европе или сокращала работу в области прав человека? Можно предположить, что Россия желала бы, чтобы ОБСЕ меньше занималась правами человека и больше – вопросами безопасности, вызывающими озабоченность Кремля.
Однако, хотя ситуация 1986-го не повторяется буквально, выбор, перед которым стоит ныне Москва, во многом аналогичен тому, который более двадцати лет назад должен был сделать Вашингтон: уходить из ОБСЕ либо более настойчиво добиваться того, чтобы в ее деятельности принимались во внимание интересующие Россию проблемы. При этом важно учитывать не только те аспекты, которые в последние годы стали объектом острой критики со стороны Москвы, но и более широкие тенденции в развитии организации, которые часто остаются за рамками публичной дискуссии в России.
Речь идет, в частности, о постепенном сокращении масштабов деятельности ОБСЕ, а также о все более заметном прямом взаимодействии США и Европейского союза с расположенными «к востоку от Вены» государствами – участниками организации. На этом фоне вопрос о целесообразности выхода России из ОБСЕ выглядит не столь просто, как кажется на первый взгляд.
МАСШТАБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ СОКРАЩАЮТСЯ
Тезис о том, что работа ОБСЕ (главным образом в виде миссий и различных центров и бюро) сосредоточена исключительно на востоке континента, в целом справедлив, но он нуждается в существенном уточнении. Главным регионом «полевой» работы всегда была Юго-Восточная Европа – страны бывшей Югославии и Албания. Постсоветское пространство практически никогда не было зоной сколько-нибудь масштабного присутствия организации. На балканские миссии в нынешнем десятилетии уходила добрая половина бюджета ОБСЕ. На проекты в странах бывшего СССР – около 20 % (см. рис. 1). Аналогичное распределение характерно и с точки зрения численного состава миссий. В страны Юго-Восточной Европы направлялось от 79 до 81 % всего международного персонала, работавшего на местах.
При этом пик активности полевых миссий пришелся на конец прошлого и начало текущего десятилетий. Сейчас же можно констатировать абсолютное и относительное сокращение финансирования миссий ОБСЕ на местах: со 184 млн евро в 2000 году до 118 млн в 2007-м и с 87 % до 70 % от сводного бюджета ОБСЕ за тот же период. Соответственно снижается и численность международного персонала. Причем как всплеск, так и нынешнее уменьшение размаха «полевой» деятельности совпадали главным образом с развитием ситуации на Балканах. Масштабы присутствия в странах бывшего СССР менялись мало. Правда, в последнее время они тоже сокращаются.
Так, самая крупная миссия ОБСЕ была развернута в 1999 году в Косово. В 2000-м в нее входили 649 международных сотрудников. В 2007 году их насчитывалось уже только 283. Миссия в Хорватии достигла максимальной численности в 1998-м, когда в ней работали 280 человек. В 2007 году, накануне закрытия, их было всего 30. В Скопье в 2002-м в миссии ОБСЕ по предотвращению распространения конфликта было 300 сотрудников. В 2007 году их осталось 82.
Тенденция к сокращению масштабов деятельности на местах в последние годы усиливается и набирает темпы – прежде всего за счет свертывания присутствия на Балканах. С 2008-го закрылась миссия ОБСЕ в Хорватии. Вместо нее в Загребе создано небольшое бюро. Под вопросом остается продолжение работы самых крупных на сегодняшний день миссий – в Косово, а также в Боснии и Герцеговине. В обозримой перспективе их функции в значительной мере либо полностью планирует взять на себя Европейский союз. Сходит на нет активность ОБСЕ в Македонии.
С учетом этой тенденции можно уверенно прогнозировать дальнейшее сокращение масштабов деятельности ОБСЕ в государствах-участниках. Закрытие или даже просто сокращение числа сотрудников миссий в Косово, в Боснии и Герцеговине равнозначно уменьшению бюджета «полевой» деятельности ОБСЕ почти вдвое, а международного персонала – более чем в два раза. При этом сворачивание работы организации на Балканах не компенсируется сколько-нибудь существенным наращиванием присутствия в странах бывшего СССР (см. рис. 2).
Самая крупная миссия ОБСЕ на постсоветском пространстве располагается в Грузии. На нее приходится примерно треть всех расходов этой организации в странах бывшего СССР. Однако после прекращения мониторинга российско-грузинской границы именно данная миссия подверглась наиболее существенным сокращениям. За последние пять лет ее бюджет уменьшился вдвое, численность персонала снизилась – со 148 до 64 человек (включая лиц, прикомандированных отдельными государствами-участниками).
Объем деятельности ОБСЕ в других постсоветских республиках – в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии – весьма скромен. Самые крупные по бюджетам и численности персонала – центры ОБСЕ в Киргизии и Таджикистане. Но их совокупный бюджет сопоставим с бюджетом относительно небольшой миссии в Сербии. Численность же международного персонала ОБСЕ в Сербии в полтора раза больше, чем в Киргизии и Таджикистане, вместе взятых.
Тенденция постепенного снижения активности «к востоку от Вены» подкрепляется и заметным – особенно с 2007 года – уменьшением внебюджетных (либо сверхбюджетных) средств, выделяемых государствами-участниками для реализации различными миссиями тех или иных целевых проектов. Больше всех внебюджетных средств на нужды ОБСЕ урезали США – в два с лишним раза в 2007-м. Сделали они это не столько из-за разочарования в эффективности организации, сколько из-за необходимости изыскать дополнительные средства для реализации иных проектов в других частях света.
Приведенные данные необходимы не для того, чтобы дать оценку деятельности ОБСЕ. Вопрос не в том, нужно ли было в условиях хаоса, практически с нуля проводить регистрацию и составлять списки избирателей в Албании и готовить местный персонал для самостоятельного ведения этой работы. Не в том, эффективно ли финансировались проекты по сбору легкого и стрелкового оружия в Таджикистане, или насколько полезным оказались программы повышения квалификации киргизской полиции. И даже не в том, следует ли ОБСЕ оказать содействие в составлении списков избирателей, скажем, во Франции.
Не так уж важно, будем ли мы позитивно либо негативно оценивать работу ОБСЕ «к востоку от Вены». Главное – пик ее активности позади. Масштаб деятельности организации, прежде всего на Балканах, неуклонно снижается. Каким-либо оживлением работы в странах бывшего СССР указанное снижение не компенсируется. Кстати, после закрытия миссии ОБСЕ по содействию в Чечне и отказа от мониторинга российских выборов в 2007-м эта организация не осуществляет практически никакой деятельности в Российской Федерации. Так что и здесь жаловаться на дискриминацию не приходится.
Если российская критика преследовала цель добиться сворачивания активности ОБСЕ «к востоку от Вены», то сегодня это происходит само собой. Если же задача состояла в том, чтобы расширить деятельность на Западе, то решается она иными способами.
НЕТ ОБСЕ – НЕТ ПРОБЛЕМЫ?
Неизменное присутствие в повестке дня ОБСЕ таких вопросов, как верховенство закона, формирование и развитие демократических институтов, соблюдение прав человека, проведение свободных и честных выборов (в Белоруссии, Узбекистане и ряде других стран), часто воспринимается как попытка проникнуть «в чужой монастырь со своим уставом». Это вызывает раздражение политического класса, рассчитывающего жить по своему уставу и впредь. Вплоть до порой нескрываемого желания выйти из организации, если она не предлагает взамен каких-либо ощутимых выгод. Неудивительно, что такие мысли посещают и российских политиков.
Опять-таки вопрос заключается не в том, насколько рационально это желание, а в том, является ли выход из ОБСЕ решением проблемы и сделает ли он жизнь российской политической элиты более комфортной.
Выход Москвы вряд ли приведет к развалу этой организации, в которой так или иначе заинтересованы практически все соседи России. Казахстан должен председательствовать в ней в 2010 году, и он интенсивно готовится к выполнению этой миссии. Даже для Белоруссии и Узбекистана, оказавшихся в политической изоляции на Западе, присутствие в ОБСЕ, несмотря на все издержки, остается важным символом вовлеченности в общеевропейский процесс. Впрочем, издержки не столь уж велики и в любом случае контролируемы, поскольку уровень, масштаб и качество взаимодействия с организацией и ее институтами (характер миссий, их численность, характер осуществляемых проектов и т. д.) определяются прежде всего самими государствами-участниками.
Отношение к ОБСЕ может измениться разве что со стороны Тбилиси, где она сегодня воспринимается не иначе как инструмент российской политики. Если Россия, выйдя из этой организации, перестанет влиять на принятие решений о деятельности миссии ОБСЕ в Грузии, официальный Тбилиси будет только приветствовать такое развитие событий.
Так что даже в случае выхода России из ОБСЕ та никуда не денется и будет продолжать свою традиционную деятельность, хотя, возможно, в более скромных масштабах, чем в настоящее время. При этом Москва уже не будет участвовать в определении политики этой организации и окончательно утратит рычаги влияния на взаимодействие ОБСЕ с соседними странами. Не способствуя существенному сокращению диапазона деятельности «к востоку от Вены», в том числе в гуманитарной сфере, Россия вряд ли добьется активизации ОБСЕ на западном направлении (если мы этого, конечно, хотим). Москва утратит даже возможность выступать с критикой в адрес организации и требовать проведения ее более глубокой реформы, тогда как ОБСЕ сохранится и, наверно, еще в большей степени, чем сейчас, станет инструментом продвижения политического и иного ноу-хау по линии Запад – Восток.
Принцип «нет ОБСЕ – нет проблемы» на практике не работает. Гуманитарная тематика является сегодня составной частью повестки дня многих международных организаций, в том числе в их сотрудничестве с Россией и странами, образовавшимися на постсоветском пространстве. В случае же ослабления ОБСЕ и существенного сворачивания ее деятельности в постсоветских республиках, скорее всего, просто ускорится формирование других механизмов западного политического влияния в рамках прямого сотрудничества ЕС и США с новыми независимыми государствами. Ныне эти механизмы находятся в рудиментарном состоянии, но их становление скажется на отношениях соответствующих стран с Россией.
Все государства – участники ОБСЕ, за исключением центральноазиатских, являются членами Совета Европы, в центре деятельности которого находятся именно вопросы укрепления демократических институтов и защиты прав человека. Стандарты Совета Европы в этой сфере не ниже, а в чем-то и выше требований ОБСЕ. Совет Европы, без сомнения, будет готов взять на себя и функции по наблюдению за выборами, которые в настоящее время осуществляются главным образом ОБСЕ. Совет Европы, очевидно, примет стандарты и технологию не любимого Москвой БДИПЧ, а возможно, и просто возьмет эту организацию под свое крыло.
В последние годы активизируется и приобретает более определенные контуры политика Европейского союза в отношении соседей России. Страны Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия, Украина) и Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) являются сегодня объектами «Европейской политики соседства», в рамках которой они сами выбирают темпы и направления более тесной интеграции с Евросоюзом, не получая перспективы присоединения к нему. В 2007-м ЕС принял стратегию и в отношении государств Центральной Азии, предлагая им выстраивать механизмы прямого политического взаимодействия. Все страны региона, включая Узбекистан, не преминули воспользоваться такой возможностью.
Вопросы верховенства закона, демократических институтов, свободных выборов и прав человека – одно из приоритетных направлений политического диалога Европейского союза с восточными соседями и со странами Центральной Азии. В повестке дня сотрудничества Брюсселя с государствами Центральной Азии значатся и такие традиционные для ОБСЕ вопросы, как реформирование и переподготовка сотрудников правоохранительных органов, современные методы и технологии пограничного контроля, противодействие наркоторговле, организованным преступным группировкам, коррупции, террористической и экстремистской деятельности.
Иными словами, Евросоюз уже сейчас постепенно вступает на поле ОБСЕ во взаимодействии со всеми постсоветскими странами, не исключая России. В отношениях с Москвой Брюссель стремится также институционализировать диалог и сотрудничество по проблемам прав человека и верховенства закона. Соответствующая запись включена в мандат Европейской комиссии на заключение нового широкоформатного соглашения с Россией и рискует стать одной из непростых тем на только что начавшихся переговорах.
Конечно, справедливо замечание о том, что эта деятельность ЕС пока плохо оформлена и малоэффективна. До сих пор Брюссель, финансируя около 70 % расходов на работу ОБСЕ в постсоветских государствах, предпочитал действовать не самостоятельно, а через эту организацию. Но и в Европейском союзе все громче звучат голоса тех, кто считает, что пора взять на себя решение задач, с которыми, судя по всему, ОБСЕ не справляется. Подкрепление же предлагаемого Евросоюзом стандарта «надлежащего управления» выгодами экономического сотрудничества (ЕС – главный торговый партнер практически для всех стран СНГ) и финансирования проектов в самых разных областях способно сделать Европейский союз вполне влиятельным фактором развития в регионе. Ведь ОБСЕ все последние годы не хватало именно самостоятельного экономического веса для того, чтобы стимулировать заинтересованность государств-участников в сотрудничестве.
Эту картину следует дополнить и тем, что вопросы реформы сектора безопасности и обеспечения демократического контроля над ним являются одним из элементов и условий взаимодействия НАТО с новыми независимыми государствами. Значение этого аспекта сотрудничества не стоит преувеличивать, поскольку интенсивность участия постсоветских государств в натовской программе «Партнерство ради мира» очень разная. Но данная тема неизбежно выходит на первый план для стран, которые ищут сближения с альянсом и тем более стремятся в него вступить.
Поэтому уход России и даже развал ОБСЕ, по сути, не снимает ни одну из проблем, от которых хотелось бы избавиться Москве. Он не снимает их ни в том, что касается деятельности ОБСЕ и других европейских и евро-атлантических структур на постсоветском пространстве, ни в отношениях самой России с этими организациями. Трансфер западного политического ноу-хау на постсоветский Восток продолжится. Масштабы же и характер такой деятельности в отношениях между западными странами и соседями России в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии будут определяться в данном случае без участия Москвы. При этом уменьшатся возможности России добиваться того, чтобы организации, принимающие участие в этом процессе, проявляли бЧльшую активность «к западу от Вены».
Результат такого решения может быть только один: выйдя из ОБСЕ, Россия самоустранится из названных процессов и утратит последние возможности влиять на них.
КАК СФОКУСИРОВАТЬ ОБСЕ НА РОССИЙСКОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ?
Во время визита в Германию 5 июня этого года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил провести общеевропейскую встречу на высшем уровне и подготовить новый «пакт о европейской безопасности». Идея поиска нового консенсуса участников общеевропейского процесса витала в воздухе на протяжении по-следнего года. Ее продвижение, безусловно, важно, но оно не должно отодвинуть на задний план решение ряда практических вопросов, от которых зависит дальнейшее функционирование ОБСЕ.
Программа глубокого реформирования этой организации, с которой до последнего времени выступала Россия, была сосредоточена на проведении ряда институциональных, юридических и процедурных преобразований.
Российская Федерация настаивала на нижеследующем.
Во-первых, на осуществлении институциональной реформы ОБСЕ, в результате которой ее главные структуры, действующие автономно на основе собственных мандатов (БДИПЧ, Представитель по свободе СМИ, а также достаточно самостоятельные в своей работе полевые миссии) были бы поставлены под более жесткий контроль со стороны работающего в Вене Постоянного совета ОБСЕ. Решения в нем принимаются на основе консенсуса, и все государства-участники обладают правом вето.
Такое нововведение предполагало бы необходимость единогласного утверждения основных решений, сегодня самостоятельно принимаемых отдельными институтами организации. Речь идет, в частности, и о фактическом запрете миссиям ОБСЕ по наблюдению за выборами обнародовать какие-либо оценки до обсуждения в Постоянном совете.
Во-вторых, на усилении политического руководства и контроля со стороны Постоянного совета над деятельностью миссий, имея в виду в том числе проверку выделения им внебюджетных средств на реализацию конкретных проектов и расходования этих средств (включая практику прикомандирования сотрудников миссий государствами-участниками). Речь идет о постепенном отказе от развертывания миссий в отдельных странах в пользу создания «тематических» миссий, действующих во всех государствах-участниках. Активность «тематических» миссий сосредоточивалась бы на совместном противодействии новым вызовам безопасности (террористическая деятельность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми и пр.).
В-третьих, на упорядочении деятельности и внутренних процедур управления организацией, зачастую формировавшихся спонтанно на основе решений Совета министров иностранных дел и Постоянного совета. С этой целью предлагается, в частности, наделить ОБСЕ правосубъектностью, принять Устав организации (проект документа распространен Российской Федерацией летом 2007 года), унифицировать стандартные процедуры управления различными операциями ОБСЕ и ее институтами. Соответствующие функции должны быть сосредоточены в Секретариате ОБСЕ в Вене. С этой целью необходимо провести реорганизацию Секретариата, укрепить его, как и полномочия генерального секретаря, одновременно сохранив их подотчетность Постоянному совету. Предлагается также изменить кадровую политику и увеличить представительство стран, расположенных «к востоку от Вены», в центральных структурах, основных институтах и миссиях. Следовало бы пересмотреть шкалу взносов в бюджет ОБСЕ и привести ее в соответствие с основными показателями платежеспособности государств-участников, что предполагало бы, в частности, сокращение взноса России.
За последние годы в организации сформировалась широкая коалиция сторонников ее реструктуризации и совершенствования управления в интересах повышения эффективности деятельности ОБСЕ. Обсуждение этих вопросов принесло плоды в виде существенных, хотя и недостаточных перемен.
Однако для многих государств неприемлемы требования Москвы, которая фактически предлагает надеть на автономные институты ОБСЕ жесткий «корсет» политического консенсуса, что поставит ее дееспособность в зависимость от успеха или неуспеха политического торга между Россией и ее партнерами по ОБСЕ. Это отбросило бы организацию в не самый успешный период ее развития – в 80-е годы прошлого века.
Такое направление реформирования ОБСЕ представляется нам и малоперспективным, и непродуктивным одновременно. Более разумно было бы обратить внимание на то, каким образом имеющиеся, по нашему мнению, на сегодняшний день недостатки могут быть обращены в преимущества.
Повседневная деятельность миссий и институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, осуществляемая независимо от хода политических переговоров, открывает немало возможностей для реализации проектов, представляющих интерес для Российской Федерации. Для восстановления баланса и исправления перекосов в деятельности организации достаточно активизировать проведение мероприятий по приоритетным для России темам, в частности и в особенности таким, как противодействие новым вызовам и угрозам европейской безопасности. Подобным мероприятиям необходимо придать систематический характер и ориентировать их на подготовку конкретных практических выводов и рекомендаций, которые затем могут быть положены в основу решений Постоянного совета и Совета министров ОБСЕ.
Для организации такой работы с привлечением всех заинтересованных государств-участников сегодня не требуется (во всяком случае, не всегда) достижение предварительного консенсуса. Опора на Секретариат и его подразделения позволит осуществлять эту работу на основе внебюджетного финансирования. Если в России сформировалось понимание необходимости усилить те или иные аспекты деятельности ОБСЕ, то для этого достаточно выделить необходимые ресурсы и прикомандировать своих сотрудников. При этом можно быть достаточно уверенным в том, что инициативы Москвы встретят позитивный отклик, а также вызовут готовность присоединиться к финансированию у многих государств-участников.
Выправить либо изменить баланс деятельности ОБСЕ можно, не особенно настаивая на свертывании того или иного направления ее работы: она сокращается в последнее время сама собой. Этой цели следует добиваться, инициируя такую деятельность ОБСЕ, которая, с точки зрения Кремля, больше отвечает его интересам и в большей степени отражает его представления о целях организации.
Собственно говоря, по подобному пути год назад пошел Казахстан, отстаивая свое право на председательство в этой организации. Астана предложила программы, направленные на содействие развитию других государств Центральной Азии, а также выдвинула инициативу взять под эгиду ОБСЕ проекты оказания содействия Афганистану в борьбе с наркотрафиком.
Москва сможет подправить баланс в деятельности ОБСЕ ровно настолько, насколько она готова финансировать необходимую для этого работу. Но нужна политическая воля. Если же не очень хочется, то, как говорится, не очень и получится.
Рис. 1. Расходы на деятельность в Юго-Восточной Европе и бывшем СССР, % от сводного бюджета ОБСЕ
Рис. 2. Бюджет миссий ОБСЕ в Юго-Восточной Европе и бывшем СССР, млн евро
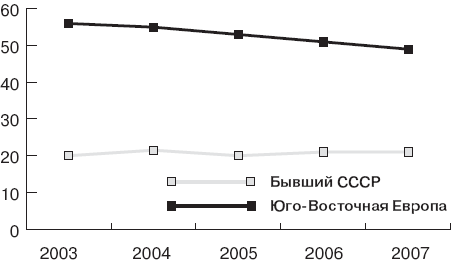
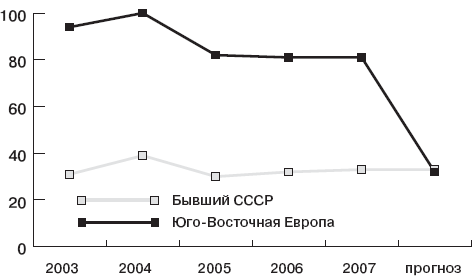
Международная неправительственная организация по противодействию коррупции «Трансперенси Интернешнл» (ТИ) вынуждена приостановить свою деятельность в Боснии и Герцеговине и вывезти из страны своих сотрудников из-за угрозы их безопасности, сообщили в субботу боснийские СМИ.«С подобным приходилось сталкиваться несколько раз, но впервые в истории организации один из филиалов «Трансперенси Интернешнл» был запуган настолько, чтобы приостановить свои операции. Мы очень обеспокоены и опечалены, и выражаем солидарность своим коллегам из Боснии и Герцеговины», – цитирует пресса слова исполнительного директора организации Кобус де Свардта (Cobus de Swardt).
Проблемы у ТИ в Боснии и Герцеговине начались несколько недель назад. В местные СМИ просочилась информация, что несколько сотрудников этой организации занимались шантажом лиц, попавших в так называемый международный «черный список» заподозренных в коррупции и теневых операциях людей.
Якобы в обмен на деньги работники «Трансперенси Интернешнл» обещали некоторым бизнесменам исключение из этого реестра. Одним из тех, кто заявил, что подвергался шантажу, оказался бывший директор крупнейшего боснийского оператора связи Telekom Srpske Милош Лазович. Не последнюю роль в подогреве негативных настроений общественности в отношении борцов с коррупцией сыграли и местные масс-медиа.
На сторону «Трансперенси Интернешнл» стал заместитель высокого представителя международного сообщества в БиГ, американский дипломат Рафи Грегориан, который некоторое время назад еще до появления этого конфликта передал в прокуратуру страны информацию о «плане сатанизации» борцов с коррупцией.
«Публичные обвинения против ведущей неправительственной организации по борьбе с коррупцией дают точную картину сегодняшней Боснии и Герцеговины – это очень опасное место для критики, призывающей структуры власти к ответственности и открытости», – говорится в сообщении закрывающегося представительства.
В отсутствии «Трансперенси Интернешнл» наблюдение за развитием конфликтной ситуации возьмет на себя Европейская полицейская миссия в Боснии и Герцеговине (EUPM).
Посольство ИРИ в Боснии сообщило ИРНА, что 25 июня т.г. в Сараево по приглашению местной строительной компании «Шипад Коммертс» прибыла представительная делегация иранских инженерно-строительных компаний «Парси» и «Ахеб». Предполагается, что иранские специалисты ознакомятся с опытом боснийских компаний в области производства строительных материалов, сборных бетонных домов и панельного домостроения и проведут переговоры по условиям сотрудничества в области строительства на территории Боснии и Герцеговины, Ирана и других государств.В сообщении отмечается, что эти иранские компании широко известны за пределами Ирана как крупные инвесторы в области городского и промышленного строительства. Основными объектами строительства этих компаний являются туристические центры, шоссейные дороги, плотины и другие крупные гидротехнические сооружения. Компания «Шипад Коммертс» также хорошо известна за пределами своей страны и принимала участие в строительных проектах в Дубае, Эр-Рияде, Хартуме и Алжире.
Предполагается, что в ходе переговоров стороны обсудят условия участия боснийской компании в строительных проектах на территории Ирана. Речь идет об участии в строительстве 1 тыс. квартир в район Демавенд (пригород Тегерана), городского микрорайона (с торговым центром и 4 тыс. квартир), а также 4 гидроэлектростанций.
По сообщению агентства ИРИБ, заместитель директора АГ «Иран ходроу» по экспорту и внешним связям Кейван Ходжасте сказал, что в 1387г. (20.03.08-20.03.09) на экспорт будет отправлено 80 тыс. легковых автомобилей. Часть из них будет поставляться в комплектации SKD, а часть – в комплектации CBU. Экспортными моделями иранского производства являются автомобили «Саманд», «Пежо-206», «Пежо-405», «Пежо-Парс», «Сорен» и «Пежо-Роа», которые поставляются на рынки через дилерские сети АГ «Иран ходроу» и концерна «Пежо».Экспорт является одним из важнейших направлений деятельности любой компании. Ведение экспортных операций свидетельствует о том, что руководство предприятия ставит перед собой задачи выхода на мировые рынки и повышения конкурентоспособности собственной продукции. Благодаря своевременной ориентации административного и рабочего коллектива компании на решение экспортных задач, с середины 1383г. (21.03.04-20.03.05) экспортный показатель деятельности «Иран ходроу» начал заметно расти.
Заместитель директора АГ «Иран ходроу» отметил, что в 1384г. (21.03.05-20.03.06) на экспорт было отправлено 5400 легковых автомобилей, однако быстрый рост производства и появление благоприятных условий для выхода «Иран ходроу» на международную торговую арену способствовали тому, что в различные страны экспортировано уже 75 тыс. автомобилей. Свыше 45 тыс. автомобилей из названного количества было экспортировано в 1386г. (21.03.07-19.03.08), что свидетельствует о 100% увеличении объема экспорта в год.
Отмечая растущую популярность в мире торговой марки и дилерской сети компании «Иран ходроу», Кейван Ходжасте сказал, что в будущем году экспортная деятельность компании будет сосредоточена на автомобилях «Саманд» и «Сурен». Главным образом экспортируются «Пежо-206SD» и «Саманд», а на остальную продукцию приходится 10% экспорта.
Говоря о сотрудничестве компании «Иран ходроу» в области экспорта с зарубежными партнерами, Кейван Ходжасте отметил, что экспортом автомобилей «Пежо-206SD» занимается сама компания «Пежо». Совместно с этой компанией подготовлен проект по изменению внешнего вида автомобилей «Пежо-206» с типом кузова «хэчбек» и «Пежо-206SD». Эти модели уже находятся на стадии производства. Новые автомобили поступят на рынок в середине 2009г.
Заместитель директора АГ «Иран ходроу» сказал, что более 90% иранского автомобильного экспорта приходятся на страны Ближнего Востока и Северной Африки, такие как Сирия, Ирак, Алжир и Египет, а также на Азербайджан, Россию, Украину, Белоруссию, Турцию, Туркмению, Грузию и Казахстан. Кроме этого, иранские автомобили экспортируются в Восточную Европу (в Болгарию). Подписаны соответствующие контракты с Боснией, ведутся переговоры с Сербией.
Охарактеризовав экспорт как залог долгосрочной рентабельности и основу экономического роста, Кейван Ходжасте отметил, что сейчас ведущие мировые автомобилестроители больше 70% своей продукции отправляют на экспорт. Даже автомобилестроители второго поколения, китайские производители, также предпринимают активные шаги по увеличению своего экспорта.
По словам Кейвана Ходжасте, экспортные поставки и получение определенной доли рынков в других странах ведут во всех компаниях к увеличению объема продаж и повышению эффективности производства всех видов основной продукции, а увеличение объема продаж на мировом рынке и успешная конкуренция с другими автомобилестроителями при прочих равных условиях ведут к укреплению доверия собственных акционеров, росту конкурентоспособности производимой продукции и получению продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Балканизация» Европы vs «европеизация» Балкан
Павел Кандель
Резюме Сделав допуск в свои ряды инструментом балканского умиротворения, Евросоюз вынужден смягчать критерии для не вполне созревших кандидатов. Соответственно возрастает и цена расхождения между формальным «возвращением в Европу» стран Балканского региона и их подлинной «европеизацией». А для Европейского союза адаптация «вернувшихся» создаст проблемы, выходящие далеко за рамки региональных.
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2008
П.Е. Кандель – к. и. н., ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
За перелистыванием американских и европейских статей последнего времени о Юго-Восточной Европе вспомнилась игра из раннего детства. Какой-нибудь карапуз, забравшись на ближайший пригорок, провозглашал себя «царем горы», а остальные бросались его спихивать, чтобы занять «престол». Воспоминание всплыло отнюдь не случайно – во всех текстах лейтмотивом звучит одна мысль: если Европейский союз не будет проводить наступательную политику, то Россия «вернется на Балканы».
Некоторые считают это свершившимся фактом. Новейший предлог для подобных рассуждений – упорная российская поддержка Белграда в вопросе о судьбе Косово (для западных политиков она почему-то стала неожиданностью) и удачное продвижение «Газпромом» проекта «Южный поток» в Болгарии, Греции, Венгрии и Сербии.
ЧЕГО ХОЧЕТ РОССИЯ?
Все это вызывает удивление по многим причинам. Странным кажется уже неверие европейцев в свои силы. Ведь все государства региона (за исключением особого случая – Сербии) с начала 1990-х годов рвутся в Европейский союз и НАТО, и только от самих этих организаций зависит скорость интеграции. Болгария и Румыния уже стали членами данных евро-атлантических структур. Македония и Хорватия имеют статус кандидатов на вступление в ЕС. С Албанией, Черногорией и Сербией подписаны, а с Боснией и Герцеговиной (БиГ) парафировано соглашение о стабилизации и ассоциации с Евросоюзом. Он является основным экономическим партнером большинства Балканских стран. Членами НАТО вот-вот станут Албания и Хорватия.
Нет оснований считать, что Россия может либо хочет заменить Европейский союз в качестве донора наименее развитой в социально-экономическом отношении части европейского континента. Товарооборот со странами региона составляет 2–3 % российской внешней торговли. Никто в Москве не полагает, что можно помешать расширению ЕС, да таких попыток и не предпринималось. Не только в официальных инстанциях, но и даже в политических кругах, склонных к размышлениям в духе православно-славянской солидарности, отсутствует концепция, предполагающая создание на Балканах альтернативной организации или блока под эгидой России. Подобного рода мечтания остаются уделом маргиналов.
Западные поборники распространения Евросоюза и НАТО на Юго-Восточную Европу, рассматривая его в логике конфронтации и геополитического соперничества с Москвой, невольно выдают свои подспудные мотивы и недостаточный интерес к самому региону. Но для России Балканы ценны не сами по себе, а именно как зона начавшегося расширения ЕС, где еще есть возможность заблаговременно закрепиться. И можно не сомневаться в предпочтениях большинства российских компаний, если бы их попытки проникновения на рынки Западной либо Центральной и Восточной Европы не блокировались по политическим мотивам на правительственном уровне или даже по недвусмысленным сигналам из Брюсселя.
Таким образом, в России регион воспринимается скорее как поле экономической конкуренции, где она имеет некоторые сравнительные преимущества и видит незанятые ниши, причем главным достоинством считается европейское будущее Балкан. Поэтому экономическое наступление России в Юго-Восточной Европе вовсе не направлено против расширения Европейского союза. Интересы Москвы и Брюсселя в регионе вполне можно гармонизировать, будь на то добрая воля и желание считаться с Россией.
Однако концепция «энергетической безопасности», которая фактически трактуется Евросоюзом как безопасность от России, придала экспансии российских энергетических компаний на Балканы черты геоэкономического противоборства. Европейцам, естественно, обидно, что в последнее время Москва зачастую переигрывает их на этом поле. Но это лишь свидетельствует о сомнительной экономической обоснованности европейских предложений, в основе которых лежит прежде всего политическая логика: ослабить влияние Москвы на Кавказе и в Центральной Азии, получить рычаги давления на нее. Странно ожидать, что Россия будет пассивно наблюдать за попытками ее окружить и обесценить наиболее значимые экономические и политические активы.
Можно успокоить европейцев: играть в «царя горы» на Балканах Россия не собирается. В этой забаве европейцы столкнутся со своими заокеанскими союзниками. Те беспокоятся об «энергетической безопасности» Европы от России, похоже, больше самих европейцев, не считая при этом нужным согласовывать вопросы размещения своих баз и объектов ПРО не только с ЕС, но и с НАТО. Юго-Восточная Европа, несомненно, станет частью единой Европы, как только та сама будет к этому готова. В конечном счете там окажутся даже БиГ, Косово и Сербия, поскольку все они вряд ли рискнут остаться в стороне от общего движения. Только от Брюсселя зависит, когда это произойдет.
«СЕРБСКИЙ ВОПРОС»
Европейский союз сам постоянно усложняет себе задачу ошибочными политическими решениями. Так и нынешний «косовский кризис» европейцы создали собственными руками с американской подачи. Ведь если бы проблема статуса края решалась в момент приема в Евросоюз Сербии и Косово, обе стороны оказались бы гораздо более уступчивы и способны на компромисс. Но Брюсселю трудно разыгрывать роль благодетеля Белграда, проводя последовательно антисербскую политику и ослабляя позиции проевропейских сил в этой стране.
Победу Бориса Тадича в недавнем соперничестве за пост президента Сербии с минимальным преимуществом в 107 тыс. голосов на Западе поспешили представить как торжество европейского выбора. И что за охота обманывать себя? Ведь, по последним опросам, на предположительном референдуме о присоединении к Европейскому союзу сторонники интеграции вполне могли рассчитывать примерно на 64 % голосов. Между тем Брюссель навязал сербам другой, более тяжелый вопрос: какова цена присоединения к Европе? И на это социологи дают ясный ответ: более 70 % против того, чтобы быстрее вступить в ЕС в обмен на признание независимости Косово. Эта доля мало менялась с октября 2007-го по апрель 2008 года.
В результате президентских выборов страна разделилась почти пополам, затем раскол произошел в правительстве и правящей демократической коалиции. Их и без того хрупкое единство не выдержало испытание на прочность после провозглашения независимости Косово и ее признания европейскими государствами. У некоторых излишне самонадеянных европейцев в Белграде и Брюсселе возникло желание избавиться от мешающего им премьера Воислава Коштуницы с его «косовским синдромом».
Популярность стоящего за ним «народнического блока» (Демократическая партия Сербии и Новая Сербия) сейчас невысока. Между тем сербский премьер, при всей ограниченности его политических ресурсов, обладал незаменимыми качествами: он лишал националистов монополии на патриотизм, обеспечивая демократам алиби от обвинений в предательстве и лояльность влиятельной Сербской православной церкви. Когда на фоне событий вокруг Косово размежевание «демократов» и «националистов» сменилось фронтальным столкновением «европеистов» и «патриотов», вероятность прихода к власти националистической Сербской радикальной партии значительно возросла.
Она, правда, не смогла добиться предсказывавшейся всеми победы на внеочередных парламентских выборах 11 мая, уступив лидерство проевропейской коалиции Бориса Тадича. Но поспешное провозглашение очередного подтверждения европейского выбора Сербии оказалось с горьким привкусом. Обладателями «золотой акции» стали социалисты – партия покойного Слободана Милошевича. Для них союз с радикалами и блоком Воислава Коштуницы куда органичнее посулов «европеистов», вдруг забывших о былой брезгливости.
Весьма примечательна позиция российского руководства в связи с сербскими выборами, ясно обозначившая приоритеты Кремля. Если бы Россия была одержима соблазном геополитического соперничества с ЕС за Сербию, ей следовало бы отдать предпочтение Томиславу Николичу с его пророссийской риторикой. Однако приема на высшем уровне в январе удостоился не он, а его проевропейски настроенный соперник, которому пришлось заплатить за «российскую карту» в кармане договором с «Газпромом». Но в Москве решили не класть все яйца в одну корзину, и Николич добился встречи с наследником Владимира Путина. Российские власти недвусмысленно дали понять, что не только проповедуют прагматизм, но и действуют в соответствии с этими принципами.
Не менее существенно, что Москва воздержалась от попыток дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине. Этого естественно было ожидать, задайся Кремль целью создать больше проблем западным партнерам в регионе. 26–27 февраля 2008 года в Брюсселе прошло малозаметное, но важное заседание Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения в БиГ, куда входят не только западные, но и российские представители. Единогласно было принято заявление, в котором подчеркивалось, что ни одно из составляющих это государство образований (следовательно, и Республика Сербская) не имеет права на отделение. Одновременно были продлены полномочия Верховного представителя Мирослава Лайчака – высшей власти в этом международном протекторате, хотя его деятельность в последнее время вызывала недовольство боснийских сербов.
Запланированный в Вашингтоне и в Брюсселе сценарий «бархатной» ампутации Косово, возможно, и удастся реализовать. Сербские митинги протеста или уличные беспорядки в Белграде и на административной границе с Косово сами по себе не помеха для осуществления этого плана. Позиция сербских властей на деле оказалась очень осторожной. Они удержались от наиболее резких действий вроде экономического эмбарго, энергетической блокады либо активного подтверждения своей власти в населенной сербами северной части края. Похоже, в Белграде хотели бы ограничить противостояние по косовской проблеме политико-дипломатическим полем. Но как долго сербские лидеры смогут оставаться «непротивленцами», зависит не от них, а от степени народного возмущения. Чем бы ни закончились переговоры о формировании правительства, один результат известен заранее: раскол в стране и в парламенте сохранится. В этих условиях даже Тадич и его проевропейские сторонники вне зависимости от их желания еще долго не смогут пойти на признание косовской независимости.
Явно противореча собственной прежней риторике, умеренно повели себя и руководители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. 21 февраля ее парламент принял резолюцию, в которой осуждается и не признаётся односторонне провозглашенная независимость Косово. Однако отделения Республики Сербской по примеру Косово, которым ее лидеры ранее шантажировали Вашингтон и Брюссель, не последовало. В принятом документе лишь сказано, что на такой шаг Республика Сербская пойдет при попытках изменить ее статус и полномочия против ее воли или же если власти БиГ вознамерятся признать независимость Косово. Поэтому не исключено, что собственно переходный период пройдет относительно спокойно. Но это не означает, что «сербский вопрос» решен.
Без согласия Сербии и России Косово не удастся добиться приема в ООН либо в ОБСЕ. Без решения ООН и миссия Европейского союза не будет легитимной. Договоренность с Сербией и Россией остается условием выхода из тупика. Возникшее смешение юрисдикций ООН, Евросоюза, властей Приштины и Белграда превращает территорию края в зону беззакония. Это будет порождать повседневные конфликты в таких жизненно важных вопросах, как границы, гражданство и имущественные права. Когда они вызовут массовые волнения сербов, антисербские погромы и окончательный исход сербов из края, остается только гадать.
Нынешняя линия Сербии, требующей восстановления ее «бумажного» суверенитета над Косово, безусловно, нереалистична. Вряд ли кто-то в Белграде либо в Москве всерьез рассчитывает на то, что США и ЕС захотят вернуть ситуацию назад. Между тем правящей сербской элите и в Белграде, и в Баня-Луке необходимо не просто спасать репутацию – она вынуждена бороться за самосохранение. Поэтому у Сербии осталась только одна запросная позиция, с которой возможен разговор об условиях и цене признания новой действительности. Раздел Косово, сначала фактический, а затем и юридический, видится единственно возможным компромиссом. Правда, из Вашингтона постоянно раздаются окрики о «недопустимости нарушения территориальной целостности Косово».
Столь откровенный цинизм свидетельствует лишь о том, что Соединенные Штаты менее всего хотели бы разрешения косовского кризиса. Европейский союз также волен и далее следовать нынешним курсом. Но рассчитывать на долговременную стабильность в регионе, превращая Сербию в подобие веймарской Германии, по меньшей мере, неосмотрительно.
У России нет оснований ни торопить своих сербских партнеров, ни идти навстречу партнерам западным, пока с их стороны не наблюдается встречного движения. Она уже заработала немалые дивиденды на созданном чужими руками кризисе и может заниматься этим впредь. Кремлю стоило бы выразить глубокую признательность Вашингтону и Брюсселю за их неоценимый вклад в укрепление позиций России на Балканах. Как отмечают не потерявшие здравомыслие западные наблюдатели, Москва останется в выигрыше при любом исходе косовского кризиса.
НЕЗАВИСИМОЕ КОСОВО И «АЛБАНСКИЙ ВОПРОС»
Тяжелым испытанием для европеизации Балкан окажется «албанский вопрос», который независимость Косово не закроет, а, напротив, обострит. Предоставление краю «зависимой» независимости не решает ни одной из серьезных проблем этой территории. Все они, начиная с демографических и социальных и заканчивая экономическими и политическими, тесно взаимосвязаны, образуя порочный круг. И ничто не позволяет предположить, что в обозримом будущем возникнет состоявшееся, экономически самодостаточное да еще и демократическое государство. В этом легко удостовериться, хотя бы ознакомившись со свежими докладами международной правозащитной организации Human Rights Watch или Европейской комиссии о ситуации в Косово, с отчетом ЦРУ об экономическом положении и уровне преступности в соседней Албании. При этом можно говорить о типологически общих проблемах двух названных территорий.
На европейские нормы поведения нелепо рассчитывать уже из-за «африканского» уровня рождаемости (коэффициент детности – 7,8; более половины населения моложе 25 лет; ежегодный прилив рабочей силы на рынок труда – 30 тыс. человек при населении около 2 млн человек). Большинство западноевропейских государств уже ощутили остроту этой проблемы в своих африканских и мусульманских пригородах, а Косово представляет собой одно такое большое «предместье». В отсутствие сколько-нибудь достоверной статистики оценки уровня безработицы варьируются от 45 до более 60 %, причем основная доля работающих занята в обслуживании международных миссий и в новоиспеченных государственных институтах.
Край, стабильно дотационный еще в социалистической Югославии, таковым и остался. Слабо развитая промышленность практически стоит. Экспорт равняется 3 % от импорта, а таможенные пошлины составляют 70 % доходов бюджета. 60 % населения проживает в деревне, но сельскохозяйственное производство, несмотря на плодородные земли и благоприятный климат, является в основном натуральным. Лишь 10 % хозяйств можно отнести к категории товарных производителей, да еще 15–20 % могут квалифицироваться как полукоммерческие. Косово аграрно перенаселено и трудоизбыточно. 47 % населения живет в бедности, а еще 13 % – в крайней нужде. Не случайно, по последним опросам, около 50 % молодых жителей хотели бы эмигрировать, хотя уже сейчас 17 % косоваров покинули родину.
Надежды на приток внешних инвестиций в новое государство явно преувеличены. Вряд ли возможна эффективная защита прав собственности в полукриминальном государстве, где, по данным Косовского имущественного агентства, с 1999 года накопилось более 30 тыс. требований о возврате незаконно захваченной недвижимости. За годы протектората ООН Косово приобрело репутацию европейского центра транзита наркотиков, контрабанды и торговли «живым товаром». По оценкам экспертов Евросоюза, ежегодный объем теневых операций составляет около 1 млрд евро и примерно равняется годовому бюджету. При очень низком уровне образования и квалификации рабочей силы, а также исключительной неразвитости инфраструктуры охотников вкладывать средства в экономику края найдется немного. Но даже если таковые обнаружатся, наиболее острых социально-экономических проблем это не решает. Потенциально перспективные инвестиционные объекты находятся в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых – отраслях капиталоемких, но не предполагающих большого числа рабочих мест.
Независимое Косово надолго останется генератором региональной нестабильности. Социальное давление на власти новоиспеченного государства будет нарастать, а такого громоотвода, как борьба за суверенитет, уже не будет. Недолго роль объекта вымещения социально-политического недовольства суждено исполнять и национальным меньшинствам. 60 % косовских сербов, судя по опросам, хотели бы остаться в крае, но вся история сербо-албанского немирного сосуществования подсказывает, что окончательное выдавливание сербского населения – вопрос ближайшего времени.
Иллюзий на сей счет не строят и западные эксперты. Поэтому пытаться снижать внутреннюю напряженность руководство Косово будет на испытанных путях внешней экспансии. Европейцы, уступив угрозе насилия (главный и фактически не скрываемый ими мотив ускоренного предоставления краю независимости), сами провоцируют своих подопечных на продолжение столь высокорентабельной политики. И сами же станут ее объектом.
Даже если косовских лидеров и удастся удержать от подобных внешнеполитических шагов на государственном уровне, процесс неуправляемой внешней миграции, сопровождающийся албанизацией сопредельных территорий Македонии и Черногории, будет развиваться самопроизвольно. Однако интеграции албанцев при этом не происходит. Среди них практически нет смешанных браков. Их партии имеют строго этнический характер. В районах расселения албанцев за короткое время не останется представителей других национальностей, которые фактически вытесняются с этих земель. Так происходило и происходит и в Косово, и в Македонии, и в Черногории. Исходная причина – сохранившаяся у албанцев архаичная социальная самоорганизация (большая патриархальная семья, клан, непререкаемая лояльность этим институтам и традиционным нормам «обычного права», а не закону, не вполне изжитый институт кровной мести). Это и очень удобное средство этнической мобилизации, и идеальная матрица для любого криминального сообщества.
Такая внутренне сплоченная и герметично замкнутая по отношению к «чужакам» структура обеспечивает повышенную степень защиты и взаимопомощи, сводя к нулю шансы других противостоять ей в повседневной жизни. Для ставших нежелательными «инородных» соседей посредством постоянного и безнаказанного силового давления создаются невыносимые условия существования, что побуждает их покинуть враждебную среду. Одновременно им могут делаться коммерчески выгодные предложения, поскольку семейная и клановая солидарность, а также теневые доходы обеспечивают повышенные возможности привлечения финансовых ресурсов.
Все это свидетельствует о том, что албанцы живут в ином историческом времени, нежели другие народы региона, чем и объясняется неразрешимая сложность их совместного существования. Следовательно, после кратковременного затишья «албанский вопрос» вновь встанет со всей остротой в сопредельных государствах. Будет ли он поднят сознательно или стихийно, «сверху» или «снизу» – значения не имеет. В Сербии и России многие склонны считать независимое Косово потенциально «талибским» государством. Такие опасения не лишены оснований, учитывая налаженные на поприще наркоторговли «деловые отношения» с Афганистаном. Да и социально-экономические условия благоприятствуют тому, чтобы общественный протест у албанцев-мусульман принял радикально-исламистский характер. Правда, среди них есть и католики, и православные. Поэтому аналогии с Сицилией более уместны. Но вряд ли кому-то будет в этом случае легче.
Формальное сохранение сербского суверенитета над Косово, конечно, не решало проблем края, но и не мешало его развитию. Сербские власти не претендовали на многое. Их последнее компромиссное предложение – статус по образцу Гонконга – вполне позволяло ЕС взять на себя активную роль в «европеизации» Косово, отложив до лучших времен наиболее болезненный, но сугубо символический вопрос о независимости. Изменив логичную очередность решения проблем, занявшись государственным строительством вместо модернизации последнего островка архаики на континенте, Европа ничего не выиграла. Она лишь существенно повысила издержки своего «косовского проекта», превратив локальную задачу в серьезную международную проблему с долговременными негативными последствиями.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ» БЕЗ «ЕВРОПЕИЗАЦИИ»
Даже после того как Западные Балканы станут частью Европейского союза, условная линия, отделяющая их от «старой» Европы, сохранится надолго. Брюсселю придется иметь дело еще с одной «новой» или, вернее, теперь уже «новейшей» Европой. Внешнеполитически она будет ориентирована на США и в большей мере, чем государства Центральной и Восточной Европы, служить орудием Вашингтона для разрыхления европейского единства и обуздания Евросоюза как самостоятельной политической и военной силы. В этом смысле независимое Косово, как источник управляемого «замороженного конфликта» и «стабильный дестабилизатор» ситуации в регионе, является для Соединенных Штатов отличным инструментом сохранения своего влияния на стратегически важном перекрестке между Средиземноморьем и Черноморьем, между Европой и Ближним Востоком.
Сколько времени потребуется странам Юго-Восточной Европы для преодоления социально-экономического отставания, можно только гадать. Даже Греция, давно состоящая в ЕС и не имевшая тяжелого наследия тоталитаризма (правление «черных полковников» было непродолжительным), пока не смогла повторить успех не только Ирландии, но и даже Испании.
Не менее сложным будет и процесс внутриполитической «европеизации». Утверждение в странах региона основ политической демократии уже можно считать немалым достижением. Но от европейского образца эти государства еще очень далеки. Повсеместная коррупция не просто серьезный порок государственного механизма, а социальная болезнь, являющаяся проявлением господствующих в обществе патрон-клиентских отношений. Проблематична независимость судебной власти и ее эффективность. Свобода прессы постоянно является предметом политических и общественных баталий.
И неразвитость внутрипартийной демократии, и «вождистский» характер многих партий, и предельно низкий уровень доверия к ним в обществе показывают, что консолидация несовершенной партийной системы достаточно условна. Политическая жизнь развивается в унаследованных от прошлого координатах, когда определяющим фактором остается раскол на посткоммунистов и их противников. Местной спецификой является «двух с половиной партийная» система. Роль условной «половины», не раз предрешавшей расстановку сил, судьбу кабинетов, а иной раз (как в Черногории) и государства, выполняют этнические партии национальных меньшинств (в этом смысле характерен правительственный кризис в Македонии, случившийся вскоре после провозглашения независимости Косово и вызванный позицией албанской партии). Настораживают крайне невысокий авторитет всех государственных и общественных институтов, кроме церкви и армии, и рост влияния национал-популистских течений антисистемной оппозиции.
Внешние факторы – европейский пример и прямое воздействие Брюсселя, компенсирующие недостаточность внутренних ресурсов демократии, – являются эффективными, пока перспектива приема в Европейский союз считается главным орудием влияния. Однако Евросоюз, сделав допуск в свои ряды инструментом политики умиротворения, вынужден смягчать критерии для не вполне созревших кандидатов и ускорять интеграцию. Поэтому расширение ЕС на Балканы становится еще более политически мотивированным и еще менее социально-экономически оправданным, чем в случае принятия в свои ряды стран Центральной и Восточной Европы. Соответственно возрастает и цена этого расхождения между формальным «возвращением в Европу» стран региона и их подлинной «европеизацией». А Европейскому союзу предстоит очень тяжелая работа по адаптации «вернувшихся», чреватая проблемами для всего сообщества.
В пятницу словенская компания Merkur открыла в Сараево один из крупнейших в регионе торговых центров. По словам представителей органов государственной власти, проект обошелся в 25 млн. евро.Площадь торгового центра в Сараево составляет 14 тыс.кв.м. Центр разбит на две части: Меркурдом будет торговать товарами для дома, сада и хобби; в Меркурпрофи будут продаваться товары для ремесленников, предпринимателей и рабочих.
Вслед за этим проектом компания Merkur и ее местный партнер Intermerkur планируют возвести подобные торговые центры в боснийских г.г. Баня-Лука, Мостар и Тузла. Будут созданы рабочие места для 500 чел. К 2012г. объем продаж в торговых центрах, по прогнозам, должен будет достичь 155 млн. евро.
Компании Merkur и Intermerkur – крупнейшие в Боснии предприятия оптовой торговли металлической продукцией, сообщает портал Вalkaninsight.com.
Премьер-министр Боснии и Герцеговины Никола Шпирич и его словацкий коллега Роберт Фико в понедельник подписали в Сараево соглашение об увеличении экономического сотрудничества между государствами. Кроме того, Шпирич и Фико подписали договор об улучшении и защите инвестиций между Боснией и Словакией.Премьер Словакии также выразил поддержку стремлениям по Евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины и обещал делиться с этим государством как позитивным, так и негативным опытом вступления своей страны в ЕС, сообщает агентство dpa.
Россия ведет переговоры с Хорватией и Боснией об участии этих стран в реализации газопровода «Южный поток», сообщил сегодня менеджер проекта, вице-президент «Эни Энергия» Карло Меригги. По его словам, в I пол. 2008г. Россия успешно провела переговоры с Болгарией, Венгрией, Сербией, Словакией и Грецией об участии в реализации проекта. «Сейчас идут переговоры с Хорватией и Боснией на предмет потенциальной возможности включения этих стран в маршрут «Южного потока», – сказал Меригги.Сейчас рассматривается несколько вариантов маршрутов этого газопровода, который реализует совместно российский «Газпром» и итальянская Eni.
По данным Республиканского статистического комитета Сербии, объем товарооборота России с Сербией в янв.-марте 2008г. составил 1,0973 млрд.долл., что на 50,8% больше, чем в янв.-марте 2007г. При этом российский экспорт составил 950,1млн.долл.(рост на 45,6%), а импорт из Сербии – 147,2 млн.долл. (рост на 95,9%). Россия по объему товарооборота с Сербией в янв.-марте 2008г. уверенно занимает 1 место среди зарубежных торговых партнеров Сербии с удельным весом 13,8% в ее совокупном внешнеторговом обороте. По объему экспорта в Сербию Россия также занимает 1 место с удельным весом 17,5% в совокупном экспорте зарубежных стран в Сербию. На долю Германии приходится 11,6% – 631 млн.долл., Италии 9,2% – 501,5 млн.долл., Китая 7,2% – 388,3 млн.долл. Несырьевой экспорт России в Сербию в янв.-марте 2008г. составил 205,9 млн.долл., что на 65,5% больше, чем в янв.-марте 2007г. Объем сербского экспорта в Россию занимает 5 место с удельным весом 5,9% в совокупном экспорте Сербии. Объем экспорта Сербии в Италию составил 305,9 млн.долл. (12,2%), Германию – 273 млн.долл. (10,9%), Боснию и Герцеговину – 282,2 млн.долл. (11,3%), Черногорию – 262,6 млн.долл. (10,5%), Словению – 126,3 млн.долл. (5%) и Македонию – 116,2 млн.долл. (4,6%). Сальдо баланса торговли России с Сербией в янв.-марте 2008г. составило 802,8 млн.долл. в пользу России (рост на 39%). Степень покрытия российского экспорта импортом из Сербии – 15,5% (в янв.-марте 2007г. – 11,5%).
Граждане России и Боснии и Герцеговины получили возможность совершать взаимные поездки без получения виз, имея при себе приглашение или туристическую путевку, сообщил департамент информации и печати МИД РФ. В четверг, 1 мая вступает в силу межправительственное соглашение между Россией и Боснией и Герцеговиной об условиях взаимных поездок.«В соглашении предусматривается возможность безвизовых поездок для граждан, выезжающих с целью осуществления деловых контактов, профессиональной, научно-технической, образовательной, культурной и спортивной деятельности, краткосрочного обучения, лечения, а также с частными целями сроком до 90 дней», – говорится в документе.
Как поясняет пресс-служба МИД, без визы обладатели загранпаспортов смогут ездить в эти страны на срок до 30 дней, имея при себе оригиналы приглашений, оформленных в соответствии с законом, или соответствующий туристический документ.
Для обладателей дипломатических и служебных паспортов, указывается в сообщении, предусмотрен безвизовый порядок въезда на период до 90 дней, а для сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и представительств при международных организациях и проживающих вместе с ними членов их семей – в течение всего срока их аккредитации.
Иным категориям граждан, отмечается в документе, в т.ч. «въезжающим с целью трудоустройства, требуется наличие визы».
Чешский автомобильный гигант «Шкода Ауто» объявил о своих долгосрочных планах довести к 2018г. суммарный объем выпуска своих автомобилей в Чехии и за границей до 1,5 млн. шт. в год. Компания имеет свои сборочные заводы в Индии, Китае, России, Казахстане, Боснии и Герцеговине, Украине. В 2007г. объем выпуска автомашин «Шкода» составил 630 тыс.шт., а в текущем году компания планирует увеличить объем выпуска до 760 тыс. автомобилей.
«Интер РАО» инвестирует в энергетику Сербии 2 млрд. евро, расширяя свое присутствие в энергетике за рубежом. Накануне глава «Интер РАО» Евгений Дод и руководитель сербской «Электропривреда Сербии» (EPS) Владимир Джорджевич подписали протокол о намерениях по строительству новых гидро- и тепловых электростанций, с был подписан протокол о сотрудничестве в строительстве тепловых и гидроэлектростанций.Гендиректор «Интер РАО» Евгений Дод считает, что в энергетику страны его компания может инвестировать 2 млрд. евро. Всего же Сербия намерена привлечь в отрасль от внешних партнеров 9 млрд. евро до 2015г.
Сербская экономика получит нового российского партнера, а российский партнер – новые перспективы выхода на перспективный европейский рынок, пишет RBCdaily. «У нас достаточно компетенции и возможностей, чтобы удовлетворить ряд потребностей этой страны. Если мы договоримся о взаимоинтересных проектах, то в Сербию можно инвестировать 2 млрд. евро», – цитирует ИТАР-ТАСС г-на Дода. По его словам, речь идет в первую очередь о строительстве каскадных ГЭС, а также о ТЭС, работающих на местном угле.
По словам г-на Джорджевича, всего Сербия планирует привлечь 9 млрд. евро от сторонних инвесторов до 2015г. Он отметил, что аналогичный протокол компания подписала с одной из норвежских фирм и также есть интерес со стороны венгерских энергетиков.
«Интер РАО» не раскрывает список проектов. Как заявил Евгений Дод, у его компании есть 90 дней на их проработку. Протокол предусматривает, что в течение 30 дней сербская компания составит и передаст российской стороне перечень проектов в сфере строительства ТЭС и ГЭС для реализации в сотрудничестве с «Интер РАО».
Подписанный документ не носит обязывающего для сторон характера и не дает российским партнерам преимуществ при проведении международных тендеров, которые может организовать правительство республики, в т.ч. по модернизации местных ТЭС «Колубара-Б» и «Никола Тесла». Местные СМИ ранее сообщали, что в список проектов могут войти, кроме указанных станций, ТЭС ТЕНТ-Б, ГЭС на реке Дрине, на границе между Сербией и Боснийской Сербской Республикой. В «Интер РАО» эту информацию не комментируют.
По словам главы «Интер РАО», сферы интересов компании распространяются также на Кавказ, Ближний Восток, Центральную Азию и Китай, а стратегия предусматривает ежегодный ввод 1 тыс. мвт. энергетических мощностей за рубежом. «Интер РАО» будет готово рассмотреть предложения о сотрудничестве и со стороны Боснийской Сербской Республики, если они поступят», — отметил топ-менеджер.
Стороны не комментируют, какой будет форма сотрудничества по выбранным проектам. Аналитики считают, что наиболее вероятный вариант — создание СП. Василий Конузин из ИФК «Алемар» полагает, что сербская сторона внесет в него активы (возможно, акции госкомпании), а «Интер РАО» — денежные средства, на которые впоследствии будет осуществлять строительство. Он не исключает, что «Интер РАО» сможет претендовать на долю в проектах, в которых оно будет участвовать.
По данным Хозяйственной палаты Сербии, в стране ежедневно продается 1 тыс. компьютеров. В 2007г. было продано 368 тыс., из них – 77 тыс. ноутбуков. В информационные технологии каждый гражданин Сербии инвестировал 62 евро, что в пять раз меньше, чем в Словении (320 евро), в 3,5 раза меньше, чем в Венгрии или Греции. Сербия серьезно отстает по данному показателю от стран Западной Европы (800 евро на одного жителя). Сербские компании, занимающиеся информационными технологиями, имеют возможности выхода на рынки Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии и Албании, где ситуация в этой области еще сложнее. В 2007г. стоимость сербского информационного рынка достигла 460 млн. евро (рост на 37% по сравнению с 2006г.). Только на приобретение оборудования было израсходовано 317 млн. евро, а стоимость услуг составила 93 млн. евро.
Иностранная с/х служба при минсельхозе США (FAS USDA) опубликовала прогноз баланса производства и потребления пшеницы в Сербии в следующем сезоне.По оценкам FAS USDA, площадь сева пшеницы в Сербии под урожай-2008 составит 463 тыс.га, что ниже показателя прошло года на 17%, меньше запланированного уровня на 29% и является самым низким значением с 1919г. В автономном крае Воеводина, в котором выращивается основная часть сербской пшеницы, засеяно 236 тыс.га.
70% посевов пшеницы были размещены на полях позже оптимального срока. Неблагоприятные погодные условия во время сева и в период появления всходов могут понизить будущую урожайность. В зимние месяцы погода, в основном, благоприятствовала озимым. Температура была выше нормы. Недостаток снега и теплая погода в янв.-фев. способствовали росту посевов, но понизили количество влаги в почве.
Валовой сбор пшеницы в следующем сезоне может снизится до 1,65 млн.т., что на 17% меньше, чем в текущем сезоне. Если пессимистичные прогнозы экспертов FAS USDA оправдаются, Сербия в сезоне 2008/9 едва сможет обеспечить собственные потребности в пшенице.
Урожайность пшеницы в Воеводине ожидается на уровне 41 ц/га, в остальной части Сербии – 32 ц/га. Будущий валовой сбор пшеницы будет в значительной степени зависеть от погодных условий в ближайшие месяцы.
Ежегодно для семенных целей расходуется 200-250 тыс.т. пшеницы. 130-140 тыс.т. семян пшеницы производится в двух сербских институтах. 35% используемых семян – товарная пшеница, которую сеют мелкие фермеры, ограниченные в средствах. Из-за роста цен на удобрения в текущем сезоне сербские фермеры сократили объем их внесения.
МСХ Сербии предприняло ряд мер, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, в т.ч. предоставление льготных кредитов, субсидирование выращивания сельхозкультур (субсидии на закупку удобрений, семян и топлива).
Объем внутреннего использования пшеницы составляет 1,7 млн.т. в год, в т.ч. для продовольственных целей – 1,3 млн.т. Потребление пшеницы на душу населения равно 180 кг./год, что значительно выше, чем в других европейских странах.
Сейчас в Сербии действует 340 зерновых хранилищ различной емкости, принадлежащих мукомольным предприятиям, трейдерам и фермерским кооперативам. Суммарная емкость хранилищ равна 3,8 млн.т. Мелкие фермеры обычно продают пшеницу мукомолам сразу после уборки урожая, поскольку не имеют собственных хранилищ. Благодаря поддержке правительства, фермерские кооперативы строят собственные элеваторы, на которых зерно может храниться несколько месяцев в ожидании более благоприятной ценовой ситуации.
Сербские мукомольные предприятия способны переработать 2,5 млн.т. пшеницы в год. Фактически используется 60% имеющихся мощностей. Объем переработки пшеницы для фуражных целей составляет 150-200 тыс.т. в зависимости от качества собранного урожая.
Качество собранной в 2007г. пшеницы хорошее. 45% от валового сбора относится к первому классу, 35% – ко второму, 18% – к третьему и лишь 2% – к внеклассной. Среднее содержание протеина равно 12%, натура – 800г./л, содержание клейковины – 29%, влажность – не выше 12%.
С янв. по дек. 2007г. Сербия поставила на внешний рынок 591 354 т. пшеницы и пшеничной муки. Покупателями сербской пшеницы стали Босния и Герцеговина, Черногория, Македония и страны ЕС. Импорт пшеницы в 2007г. был незначителен – 2 306 т., пшеничной муки в зерновом эквиваленте – 206 т.
29 фев. тек.г. правительство Сербии в очередной раз продлило запрет на экспорт пшеницы до 15 июня, чтобы предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке. квота на экспорт пшеничной муки была увеличена на 20 тыс.т. до 100 тыс.т.
14 марта 2008г. Правительство одобрило беспошлинный импорт 200 тыс.т. пшеницы до 30 апреля. Импорт пшеницы произойдет, если количество пшеницы на внутреннем рынке будет недостаточным для покрытия внутреннего спроса. Аналитики не ожидают, что фактический импорт достигнет 200 тыс.т.
Наиболее активный импорт пшеницы за последние десять лет наблюдался в засушливом 2003/4 МГ – 127 тыс.т., в т.ч. из США – 67 тыс.т. Пшеница, поставляемая в Сербию, прибывает в порт Констанца, а затем транспортируется на баржах по Дунаю.
На протяжении текущего сезона цены на мукомольную пшеницу в Сербии стабильно росли из-за ее недостаточного внутреннего производства и высоких мировых цен. С марта 2007г. по дек. 2007г. стоимость пшеницы выросла на 71%: с 11,25 динаров за кг. (184 долл. за 1 т.) до 19,3 динаров за кг. (354 долл. за 1 т.). Самого высокого уровня в текущем сезоне цены на пшеницу достигли в марте 2008г. – 22,7 динаров за кг. (424 долл. за 1 т.).
Ожидается, что 2008/9 МГ внутренние цены на сербскую пшеницу будут на 20 динаров за кг. выше мирового уровня из-за скудного урожая.
Консульский отдел посольства США в Белграде, работа которого была приостановлена после погромов 21 фев. в сербской столице, будет вновь открыт во вторник, работы по восстановлению здания завершены, говорится распространенном в понедельник заявлении американского дипломатического представительства. «С 1 апр. 2008г. желающим получить визы гражданам Сербии и Черногории не нужно оговаривать время встречи в посольствах США в Загребе или других странах региона», – отмечается в сообщении.Госдеп также заявил о возвращении в Сербию членов семей американских дипломатов, эвакуированных отсюда вскоре после произошедших беспорядков, а также о возвращении на рабочие места сотрудников консульства из числа местного населения.
В результате погромов 21 фев. в Белграде, начавшихся с многотысячной демонстрации жителей Сербии против одностороннего провозглашения независимости краем Косово, один человек погиб и 130 пострадали, в т.ч. 52 сотрудника правоохранительных органов.
Манифестанты взяли штурмом посольство США и устроили там пожар, пострадали также дипломатические представительства Хорватии, Германии, Великобритании, Боснии и Герцеговины и некоторых других стран. Агрессивные действия сербов в адрес американцев со стороны участников поначалу мирного митинга были вызваны тем, что США оказала мощную поддержку Косово на пути к статусу независимого государства. Эта страна была в числе первых, признавших новый статус южной сербской провинции. Сербия, как и Россия, выступает категорически против отделения края от своей территории, т.к. этот шаг ведет к грубейшему нарушению норм международного права.
Спустя несколько дней после беспорядков Вашингтон принял решение вывезти из Белграда 90 своих сотрудников и их родных и близких, т.к. посчитал их дальнейшее пребывание в Сербии небезопасным. После беспорядков американское посольство не работало в течение недели. В неполном объеме представительство начало функционировать только 27 фев.
Консульский отдел, располагавшийся в крыле здания наиболее пострадавшем в ходе беспорядков, не работал до сих пор. Желающим получить визы сербам рекомендовалось обращаться в посольства США в соседних странах.
Инициатива венгерской MOL по созданию единой газотранспортной компании в Центральной и Восточной Европе нашла живой отклик у региональных участников рынка. На днях в Бухаресте руководители семи крупнейших газотранспортных холдингов приняли решение приступить к реализации этого проекта. Представители Transgaz (Румыния), BH-Gas (Босния и Герцеговина), Geoplin Plinovodi (Словения), MOL Natural Gas Transmission (Венгрия), OMV GAS (Австрия), Plinacro (Хорватия) и Srbijagaz (Сербия) договорились о создании совместных рабочих групп для подготовки технико-экономического обоснования проекта.Рабочее название будущего газотранспортного гиганта – New Europe Transmission System (NETS). Согласно первоначальной идее MOL, объединенная компания будет создаваться и управляться на паритетных началах. Активы NETS будут сформированы за счет газотранспортной инфраструктуры участников проекта (она будет передана в качестве вклада в уставный капитал объединенной компании). Протяженность сети NETS может составить 27 тыс.км., что уступает лишь газовым сетям Франции и Италии. А количество потребителей объединенной компании может превысить 68 млн.
Список компаний-участниц не является закрытым. В венгерском холдинге отмечают, что помимо уже озвученных партнеров в проект приглашены и другие участники рынка в регионе. Не охваченными новым проектом остались Албания, Македония, Словакия и Болгария. Кстати, последняя первоначально значилась в проекте MOL в качестве участницы. Болгарская Bulgargaz фигурировала в черновых вариантах докладов венгерского холдинга, однако на встречу в Бухарест представители компании так и не приехали.
По всей видимости, София решила сохранить верность Москве. Ведь на создании NETS может споткнуться реализация газпромовского проекта South Stream (из России через Турцию на Балканы и затем в Австрию и Италию): в случае объединения газотранспортных сетей Центральной и Восточной Европы российской монополии придется обсуждать прокладку своей трубы не с каждой страной в отдельности, а с единым Балканским консорциумом.
В MOL идею объединения объясняют стремлением к повышению капитализации, эффективности управления и, главное, безопасности поставок. «Создание NETS могло бы позволить отдельным странам ускорить развитие газотранспортных систем между несколькими странами по сравнению с ситуацией зависимости исключительно от государственных запасов с известными региональными ограничениями», – говорится в сообщении венгерского холдинга. Еще одним плюсом объединения, считают в MOL, является возможность привлечения средств на международных рынках капитала на более выгодных условиях, в т.ч. для реализации таких проектов общеевропейского масштаба, как газопровод Nabucco.
Эстонская компания Krimelte, которая специализируется на производстве монтажных пен и герметиков, в ходе расширения производства собирается построить в Таллинне новое производственное здание, сообщает «Евразийский химический рынок».Здание, которое планируется построить в Таллинне, будет готово к лету 2008г. Как сообщает Krimelte, в новое здание будет перенесено производство герметиков, а на уже имеющемся заводе расширится производство монтажных пен. Общая площадь пристройки составит 7100 кв.м., из которых площадь производственных помещений составит 6000 кв.м.
По заявлению председателя правления Krimelte Яана Пуусаага, расширение производства поможет удовлетворить растущий спрос на монтажные пены и герметики уже имеющихся клиентов, а также постоянно прибавляющихся новых экспортных рынков. Krimelte развивается очень быстрыми темпами, и оборот продаж предприятия ежегодно возрастает на 30%. Расширение производства в Таллинне будет способствовать стремительному развитию предприятия», – сообщил Пуусааг.
Продукция Krimelte продается более чем в 30 странах, ведутся переговоры и с новыми экспортными рынками. В 2007г. предприятие Krimelte вышло со своей продукцией на новые рынки экспорта – в Норвегию, Испанию, Боснию и Герцеговину, а также в Сербию. Ведутся переговоры о продаже продукции Krimelte в Грузии и Азербайджане.
Компания Krimelte специализируется на производстве герметиков и монтажных пен и реализует 95% своей продукции в виде экспорта. Штаб-квартира предприятия находится в Таллинне. Продукция Krimelte продается в России, на Украине, в Казахстане, в странах Балтии, Скандинавских странах, в Румынии, Хорватии, Великобритании, Японии и других странах. Изделия Krimelte отвечает требованиям системы управления окружающей средой ISO 14001:2004 и системы управления качеством ISO 9001:2000.
На следующий день после беспорядков, которыми завершился массовый митинг против отделения Косово от Сербии, в Белграде подсчитывают материальный и политический урон, в европейских столицах призывают к спокойствию и обеспечению надежной защиты дипмиссий, а в США некоторые политики ищут «российский след» белградских инцидентов.После митинга, в котором, по данным МВД, участвовало около полумиллиона человек, несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей направились в ту часть Белграда, где расположены иностранные посольства. Манифестанты взяли штурмом посольство США и устроили там пожар, пострадали также дипломатические представительства Хорватии, Германии и некоторых других стран. Для разгона участников беспорядков полицейскому спецназу пришлось использовать слезоточивый газ.
Согласно данным, обнародованным в пятницу МВД Сербии, по итогам беспорядков в Белграде один человек погиб, 130 пострадали, в т.ч. 52 сотрудника правоохранительных органов.
Тело погибшего было обнаружено после тушения пожара на первом этаже американского посольства. Обгоревшие останки отправлены в Институт судебной медицины для экспертизы и опознания личности погибшего.
В общей сложности повреждено восемь зданий посольств, 90 магазинов, ресторанов «Макдоналдс» и несколько автомобилей. За причастность к беспорядкам задержано 192 чел.
В отличие от материального, политический ущерб пока не поддается исчислению, хотя может оказаться весьма существенным. Во всяком случае, премьер-министр Сербии Воислав Коштуница в обращении к нации заявил в пятницу, что насилие и погромы наносят прямой вред борьбе Сербии за сохранение государственных и национальных интересов.
«Все, кто поддерживают лже-государство Косово, радуются, когда видят проявления насилия в Белграде. Еще раз обращаюсь ко всем гражданам, чтобы в интересах Сербии не дошло даже до самого малого инцидента в стране», – сказал Коштуница.
Премьер призвал сделать все возможное, чтобы «наше сопротивление силе было в интересах Сербии и в интересах нашего южного края».
По его мнению, накануне народ в ходе «величественного митинга и молебна сказал, что он думает о Косово и Метохии и что думает о насилии, которое осуществляется над Сербией».
В Вашингтоне оперативно отреагировали на разгром американского посольства в Белграде и призвали сербов к порядку и соблюдению международных правовых норм в части защиты дипломатических представительств. В похожем духе высказались Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, представители министерств иностранных дел Великобритании и Франции.
Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис заявил, что «потрясен и опечален фактами насилия, которые последовали в виде протеста против провозглашения независимости Косово».
По мнению Дэвиса, «в трудный для Сербии момент люди имеют право выражать свои чувства, но делать это надо мирно».
Генсек СЕ выразил убежденность в том, что «подавляющее большинство сербов против насилия, но они находятся в заложниках у меньшинства бандитов и вандалов, чьи действия наносят значительный ущерб репутации сербского народа».
При этом ни в одном из заявлений западных лидеров не было сказано, что митинг в Белграде и последовавшие за ним беспорядки стали реакцией на те нарушения международного права, которые были допущены странами, поспешившими признать провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово.
Более того, в США быстро отыскались желающие увидеть в белградских событиях «российский след». Бывший постоянный представитель США при ООН Ричард Холбрук, который ныне является главным внешнеполитическим советником в предвыборном штабе кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, публично заявил, что за беспорядками в столице Сербии «стоят русские».
Администрация президента Буша, правда, поспешила откреститься от этого мнения, заявив, что не видит никакого «русского следа». Но слово было произнесено и вызвало резкую реакцию в Москве. Официальный представитель МИД РФ Михаил Камынин назвал высказывания Холбрука «совершенно неуместными» и охарактеризовал их как попытку «перекладывать с больной головы на здоровую».
«Люди, которые ратовали за провозглашение односторонней независимости Косово, должны были просчитать последствия такого шага», – заявил Камынин, отметив, что Холбруку, который в свое время немало поучаствовал в балканских делах, следовало бы знать это особенно хорошо.
В таком же духе высказался и постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин, назвавший слова Холбрука «ложью«.
«Можно, конечно, на нас списать и ураганы в американских штатах или падение американского спутника на Польшу. Но сразу хочу предупредить, что лучше этого не делать. Те, кто будет этим заниматься, потеряют всякую репутацию», – заявил Рогозин.
Полностью несостоятельными утверждения отставного американского дипломата назвали президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов и глава Института стратегических оценок Александр Коновалов. По их мнению, события в Белграде явились стихийной – и предсказуемой – реакцией части сербского общества на унижение, испытанное в результате фактического отторжения части сербской территории. Оба эксперта предполагают, что акции протеста в Сербии могут продолжиться и набрать еще большие обороты.
Опасаясь инцидентов, власти Косово поспешили усилить охрану границы с Сербией.
«Начиная с 6.00 часов сегодняшнего дня (8.00 мск) все лица (граждане Сербии), автомашины и автобусы, которые прибывают из Сербии, будут выборочно получать право на въезд в Косово, т.к. все они подозреваются в намерении участвовать в манифестациях», – с таким заявлением выступила косовская полиция.
В документе указывается, что данные меры предприняты «в целях охраны общественного порядка на территории Косово после событий в Белграде».
Тем временем «косовский вирус» понемногу распространяется. В Загребе, столице соседней Хорватии, 44 чел. были задержаны полицией за то, что принялись сжигать сербские флаги в ответ на беспорядки в Белграде.
А в Боснии и Герцеговине парламент Республики Сербской принял документ, согласно которому в ближайшее время может быть проведен референдум об отделении и провозглашении независимости по примеру Косово.

Инофирма
Из многообразия организационно-правовых форм предприятий, разрешенных к регистрации в Румынии, отметим лишь наиболее эффективный для иностранного инвестора корпоративный инструмент, а именно общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Минимальный уставный капитал ООО – ROL 2 млн. (1 евро равен ROL 36 000), а минимальная оплачиваемая каждым участником доля – ROL100 000. Капитал оплачивается в твердой валюте, которая конвертируется по официальному курсу Национального банка Румынии на дату составления Устава предприятия.
Минимальное число учредителей ООО (физических или юридических лиц любой резидентности) – 1, однако ООО с единственным акционером – юридическим лицом может быть учреждено только при условии, что такой учредитель не является компанией, которая, в свою очередь, основана только одним участником. Физическое лицо, являющееся единственным акционером в другой компании, также не вправе выступать в качестве единственного учредителя румынского ООО.
Директорами ООО могут быть любые физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Румынии.
Организационные формальности, связанные с регистрацией ООО:
• проверка названия предприятия в Торговом реестре Румынии. В названии должно быть хотя бы одно румынское слово. Для использования таких слов, как «Румыния», «национальный», «институт», «университет», «научно-академический» или иных аналогичных им, потребуется предварительное одобрение секретариата правительства Румынии или управления префектуры. Длительность этой процедуры 10 дней;
• подготовка договора на аренду офиса. В качестве юридического разрешено использовать временный адрес, который изменят на постоянный после регистрации. С практической точки зрения не рекомендуется часто менять адрес во избежание бюрократических процедур, связанных с внесением изменений в свидетельство о регистрации, в лицензию или в уже полученные разрешения;
• подготовка учредительного договора, где в соответствии с законодательством каждая компания должна раскрыть конкретные виды будущей деятельности в соответствии с румынской классификацией кодов деятельности (CAEN коды);
• открытие счета в Румынии для внесения уставного капитала;
• подготовка заявления о законности предполагаемой деятельности;
• подача заявления в торговый реестр с просьбой о регистрации.
Для должного прохождения указанных формальностей иностранному учредителю необходимо предъявить следующие документы:
• уставные документы учредителей – юридических лиц или копии удостоверений личности – физических лиц;
• свидетельство о надлежащем правовом статусе учредителя и подтверждение отсутствия у него долгов и обязательств в своей стране и в Румынии;
• протокол решения об учреждении ООО в Румынии с указанием названия, видов деятельности и размера уставного капитала;
• рекомендательные письма из банков в адрес местного Торгового реестра, подтверждающие, что учредители – клиенты с хорошей репутацией;
• доверенность учредителей румынскому адвокату на регистрацию предприятия;
• копии удостоверений личности или паспортов каждого управляющего будущим ООО, а также заверенные образцы их подписей;
• заявления учредителей и управляющих, декларирующие, что они будут действовать в полном соответствии со всеми требованиями закона о компаниях Румынии, а также соблюдать все экологические, санитарные, ветеринарные, противопожарные нормы и нормы безопасности труда.
Все документы должны быть нотариально заверены, легализованы и официально переведены на румынский язык. Т.к. ООО обязано сдавать бухгалтерскую отчетность немедленно после регистрации, то к этому моменту рекомендуется нанять бухгалтера.
Румынское предприятие платит налог на прибыль по ставке, равной 16%, но при определенных условиях ООО вправе квалифицироваться как малое предприятие (Microenterprise) с льготным налогообложением по ставке в 3%. Для такой квалификации доход ООО не должен превышать 100 000 евро в год, а число служащих – не более 9.
Согласно Налоговому кодексу Румынии льготное налогообложение применяют только к компаниям, предмет деятельности которых – производство товаров, предоставление услуг или торговля, т.е. льготная ставка налога не распространяется на банковские услуги, страхование.
Румыния подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с такими странами, как: Австралия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Молдавия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Польша, Португалия, Россия, КНДР, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Сербия, Черногория, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Инофирма
Находясь в самом сердце Европе, Бельгия обладает мощной инфраструктурой и является центром пересечения культур. Бельгия не только служит резиденцией основным межгосударственным союзам, в частности, Евросоюзу и НАТО, но также предоставляет большой спектр возможностей для компаний, желающих выгодно расположить в Европе свою дистрибуторскую деятельность или штаб квартиру.
В течение последних лет, бельгийское правительство предприняло значительные усилия, направленные на повышение конкурентоспособности страны на динамично развивающемся европейском рынке. С этими, в том числе, налоговыми, мерами и их позитивным воздействием на налогообложение иностранных компаний были ознакомлены уже многие страны.
Одной из самых примечательных черт Бельгии всегда являлась ее давняя традиция привлекать иностранные инвестиции. В результате усилий, направленных на привлечение на свою территорию штаб-квартир иностранных транснациональных компаний, Бельгия разработала и предоставляет режим благоприятного налогообложения иностранным высококвалифицированным работникам, так называемых, «экспатам», специализированным подразделениям международных компаний, так называемым, «координационным центрам», и холдинговым компаниям.
Иностранцы вправе быть учредителями бельгийских предприятий шести видов, но на практике только две организационно-правовые формы могут представлять интерес для инвестора:
• Naamloze Vennootschap – NV (SA) – акционерное общество;
• Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – BVBA (SPRL) – закрытая компания с ограниченной ответственностью.
Naamloze Vennootschap (акционерное общество) учреждается минимум двумя акционерами, физическими или юридическими лицами; характеризуется оно следующим образом:
• минимальный и полностью оплаченный капитал – 61 500 евро;
• разрешен выпуск как именных акций, так и на предъявителя;
• если в компании только 2 акционера, то достаточно назначить двух директоров;
• если число акционеров более 2, то компания должна иметь как минимум три директора;
• директора могут быть физические или юридические лицами, резиденты Бельгии или иностранцы.
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (закрытая компания с ограниченной ответственностью) учреждается минимум одним физическим или юридическим лицом (резидентом или нерезидентом Бельгии), она проще по структуре и характеризуется так:
• минимальный уставный капитал компании -18 550 евро, из которых 12 400 евро должны быть оплачены, если в компании только один акционер, и 6200 евро – если в компании больше одного акционера;
• разрешен выпуск только именных акций;
• в компании может быть один директор – физическое или юридическое лицо, резидент Бельгии или иностранец.
Чтобы работать директорами в бельгийской компании, иностранцы должны получить соответствующее разрешение на работу (arbeidskaart/carte professionelle). Разрешение (профессиональная карта) и вид на жительство в Бельгии – два различных документа. Они оба нужны для того, чтобы постоянно здесь жить и работать. Заявления о получении таких разрешений надо подавать одновременно. Однако если директор компании успел получить хотя бы одно разрешение к моменту регистрации компании, то он имеет право начинать работу в бельгийской компании.
Общая корпоративная ставка налога в Бельгии составляет 33,99%.
Для компаний обоих видов возможна пониженная прогрессирующая ставка корпоративного налога, которую применяют в том случае, если компания одновременно выполняет 5 следующих условий:
• физические лица (одно или несколько) не являются держателями более 50% акций компании;
• компания платит как минимум одному директору (физическому лицу) годовую заработанную плату в 27 000 евро;
• компания не выплачивает дивиденды, составляющие более 13% от оплаченного уставного капитала;
• компания не принадлежит к группе компаний с единым координационным центром принятия решения и контроля;
• компания не имеет акционеров, общая доля владения которых в сумме превышает 50% от суммы оплаченного уставного капитала плюс сумма налогооблагаемых резервов, которые формируются из нераспределенных (доходов) компании своим акционерам после получения дохода.
Если компания получила доход, то после уплаты налогов она может ту или иную часть чистой прибыли выплатить в виде дивидендов акционерам, а остаток сохранить как резерв на развитие компании.
Т.к. резервы могут образовываться из прибыли компании, то обычно они подлежат налогообложению в Бельгии до включения их в калькуляцию по исчислению ставки пониженного налога и называются taxed reserves. Однако законодательство предусматривает, что часть дохода может не подлежать налогообложению для направления в инвестиции. Такие резервы отражаются в бухучете бельгийской компании как non-taxed reserves.
Пример 1. Стоимость акций компании равна 60. Оплаченный капитал равен 10 и нераспределенные резервы – 40. Таким образом, 60 больше, чем (10+40)/2 =25. Следовательно, такая компания не сможет воспользоваться преимуществами пониженной налоговой ставки.
Пример 2. Стоимость акций компании равна 60. Оплаченный капитал равен 10 и нераспределенные резервы -150. Таким образом, 60 меньше, чем (10+150)/2 = 80. Следовательно, такая компания сможет воспользоваться преимуществами пониженной налоговой ставки.
К этому следует добавить, что при определении 50% оплаченного акционерного капитала материнской компании стоимость тех акций, которые представляют более 75% акционерного капитала дочерних компаний, не учитываются.
Пример 3. Компания владеет 50 акциями стоимостью 100 дочерней компании А (акционерный капитал распределен между 1 000 акциями); 100 акциями стоимостью 500 дочерней компании В (акционерный капитал распределен между 1 000 акциями); 800 акциями стоимостью 1 500 дочерней компании С (акционерный капитал распределен между 1 000 акциями).
Общая стоимость акций компании: (100+500+1 500)=2 100. Оплаченный капитал равен 10 и нераспределенные резервы – 3 000.
В результате хотя 2 100 больше, чем (10+3 000)/2 = 1 505, компания может пользоваться преимуществами пониженной ставки налога, потому что акции дочерней компании С не вошли в расчетную стоимость акционерного капитала материнской компании, т.к. они представляют более 75% акционерного капитала в дочерней компании С.
Таким образом, окончательный результат таков: (2 100-1 500) = 600, что меньше, чем (10 + 3 000)/2 = 1 505.
Пониженная прогрессирующая ставка корпоративного налога по отношению к ежегодному доходу: до 25 000 евро 24,98%; 25001-90000 евро 1,93%; 90001-322500 евро 35,54%; свыше 322 500 евро 33,99%.
Прежде чем планировать деятельность, подпадающую под описанную выше, мы рекомендуем получить дополнительную консультацию бельгийского аудитора.
В Бельгии можно зарегистрировать партнерство, которое не является юридическим лицом, а потому не подлежит обложению корпоративным налогом. По сути, оно расценивается как «прозрачное» для корпоративных налогов, а партнеры будут облагаться налогом персонально, оплачивая подоходный налог по месту своей налоговой резидентное™. Однако это очень тонкий момент, и мы рекомендуем в каждом конкретном случае проконсультироваться у специалистов.
Прежде всего, необходимо обратиться к соглашению об избежании двойного налогообложения (если таковое имеется между Бельгией и страной, где участник партнерства – резидент), а также посмотреть, будет ли такой иностранный участник партнерства обладать статусом «постоянного представительства» (place of business) в Бельгии.
Как правило, если иностранная компания является партнером в бельгийском предприятии, то считается, что она уже имеет постоянное представительство в Бельгии, а, следовательно, с партнеров здесь будут взимать налог на доходы, которые они получат от партнерства.
Бельгийские компании учреждают в присутствии местного нотариуса. Иностранным учредителям не обязательно лично приезжать в Бельгию, и они могут выписать доверенность на то, чтобы их представлял местный юрист. В таком случае подписи учредителей на доверенности должны быть легализованы в бельгийском посольстве или консульстве.
Все компании регистрируют в Арбитражном Суде Бельгии, который выписывает свидетельство о регистрации только в том случае, если будут представлены достаточные доказательства, что у иностранного директора (если таковой будет в компании) есть разрешения на работу и постоянное жительство в Бельгии.
На заключительной стадии все бельгийские компании регистрируют для учета НДС и получения соответствующего номера.
Ежегодно бельгийская компания должна сдавать аудиторский отчет и заполнять налоговую декларацию.
Бельгия подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с такими странами, как: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бангладеш, Берег Слоновой Кости, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Киргизия, Китай, Корея, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Молдавия, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южно-Африканская Республика, Япония.
Кипр стал одной из десяти стран, которые ратифицировали новую конвенцию Совета Европы по борьбе с торговлей людьми. Новый документ вступает в силу с 1 фев. этого года. Цель конвенции – предотвратить торговлю живым товаром, защитить пострадавших от противоправной деятельности и наказать торговцев. Правовое поле распространяется на всех жертв торговли: мужчин, женщин и детей; на все виды эксплуатации: сексуальную, принудительный труд, порабощение, удаление органов с целью продажи. Кроме Кипра конвенция вступит в силу в Албании, Австрии, Болгарии, Хорватии, Дании, Грузии, Молдове, Румынии и Словакии. А с 1 мая документ начнет действовать на территории Боснии и Герцеговины, Франции и Норвегии. Как гласит положение конвенции, потерпевшие должны считаться именно жертвами торговли людьми.Это сделано прежде всего для того, чтобы исключить обращение с ними полиции и местных властей как с нелегалами-иммигрантами и преступниками. Жертвам торговли людьми будет предоставлена физическая и психологическая помощь, поддержка по их интеграции в общество, а также медицинский уход, услуги консультанта, вся необходимая информация и подходящее жилье. Следует особо отметить, что пострадавшие люди получат право на компенсацию. И, кроме того, потерпевшие не понесут никакого наказания за свое участие в незаконной деятельности, при условии, что они были вынуждены так поступить в силу обстоятельств.

Конфликты в Грузии: как быть дальше?
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2007
Дитер Боден – экс-представитель Генерального секретаря ООН по грузино-абхазскому урегулированию, бывший руководитель Миссии ООН по наблюдению в Грузии (UNOMIG).
Резюме Параллели между Косово и Кавказом во многих отношениях неуместны. Но возможность сравнивать возникает уже в силу основополагающего принципа международного права – принципа территориальной целост-ности – в тех случаях, когда происходит отделение части территории государства.
По прошествии более чем 15 лет конфликты на Кавказе всё еще не разрешились и на мировой политической карте этот регион остается очагом кризисов. Смирились ли мы с таким положением дел? Можно ли предвидеть развитие событий, способное расшевелить тупиковую ситуацию?
Вследствие многократных неудачных попыток как международных организаций, так и отдельных посредников установить мир, бесспорно, создается эффект привыкания. К тому же внимание мировой общественности сегодня поглощено другими, гораздо более масштабными очагами конфликтов, такими, в частности, как Ирак, Афганистан или Дарфур (провинция в Судане. – Ред.). В сравнении с ними узел кавказских противоречий, замороженных, по крайней мере, в военном отношении, представляется «терпимым» злом.
Тем не менее взрывоопасный потенциал Кавказа, включая относящийся к Российской Федерации Северный Кавказ, сегодня, в эру глобальных угроз, воспринимается острее, чем еще несколько лет назад. Спектр его воздействия широко распространяется не только на непосредственно затронутые регионы, но и на Европу, на Ближний и Средний Восток. Только этим можно объяснить тот факт, что к миротворческим усилиям подключились новые действующие лица, как, например, Европейский союз. Правда, обостренное осознание исходящей из Кавказского региона угрозы пока не привело к существенному прогрессу в деле урегулирования конфликтов.
Между тем приближается событие, способное стать прецедентом для дальнейшего развития ситуации на Кавказе: речь идет об определении статуса Косово и вероятном предоставлении этому краю независимости. Наконец, на кавказские конфликты способно повлиять и решение Международного олимпийского комитета (МОК) провести зимние Олимпийские игры 2014 года на спортивных сооружениях в Сочи, некоторые из которых расположены в непосредственной близости от границы с Абхазией/Грузией.
ОТНОШЕНИЕ ГРУЗИИ К ПРОЦЕССУ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Как в настоящее время обстоит дело с урегулированием конфликта в Грузии, центральной стране Южного Кавказа? В целом картина не внушает большого оптимизма. За последние годы практически не наблюдается прогресса и, более того, поставлено под вопрос или даже аннулировано то, что было достигнуто в результате многолетней напряженной работы. Возвращение к конфронтационному мышлению и возобновление военной эскалации в зонах конфликтов нередко выливаются в вооруженные столкновения.
Именно это происходит в Южной Осетии. С лета 2004 года, когда по инициативе Грузии началось обострение военной ситуации, мирный процесс фактически заморожен. Механизмы, созданные для урегулирования конфликта, в особенности Объединенная контрольная комиссия, не в состоянии содержательно продолжать свою деятельность. Разрешение конфликта в значительной мере уступило место управлению конфликтом. В то же время большой ущерб нанесен процессу установления доверия между грузинами и осетинами. Значительный прогресс, достигнутый до 2004-го, по большей части сведен на нет из-за обострения ситуации.
Не лучше положение в Абхазии. И здесь царит застой по меньшей мере со времени событий в Кодорском ущелье в июле – августе 2006 года, которые поставили стороны на грань военной конфронтации. Также застопорена работа механизмов урегулирования конфликтов, прежде всего Совместной консультативной группы. Не наблюдается сдвигов в решении безотлагательных вопросов, касающихся жителей компактно населенного грузинами Гальского района на юге Абхазии.
Почему же не оправдались ожидания? Причины, несомненно, многообразны, и обусловлены они не только региональными, но и глобальными политическими факторами. Очевидно, что в последние годы Кавказ превращается в арену, на которой разыгрываются различные формы мирового политического соперничества. Например, между Россией и США. Обе державы проявляют в Грузии политическую активность, но преследуют различные интересы. Это не может не оказывать негативное воздействие на попытки преодолеть противоречия.
Прежде всего на усилия Тбилиси, который под руководством президента Михаила Саакашвили взял с конца 2003-го бескомпромиссный курс на сближение с Западом, в особенности с Соединенными Штатами. Приоритет внешней политики был отдан вступлению в НАТО. Одновременно дает себя знать изменение грузинской стратегии в отношении обоих внутренних конфликтов. Саакашвили стремится ускорить миротворческий процесс, пытаясь увязать его с официально заявленной целью – вернуть как Абхазию, так и Южную Осетию в состав грузинского государства до окончания своего президентского срока в 2008 году.
Подобную политику не может остановить даже угроза выхода ситуации из-под контроля. Это показал пример Южной Осетии. После провозглашения там с помощью Грузии «альтернативного» правительства, а также вследствие военных операций положение в конфликтной зоне настолько обострилось, что возникла опасность возобновления вооруженной борьбы. Отличительными признаками новой стратегии являются, помимо всего прочего, отказ от совместно определенных механизмов урегулирования конфликта, а также недооценка важности мер по укреплению доверия. Нарастает критика в адрес международных организаций, уже долгое время отвечающих за урегулирование конфликтов, в первую очередь ООН и ОБСЕ.
Роль России в разрешении конфликтов в Грузии по-прежнему трудно переоценить. Едва ли стоит удивляться тому, что особенно в последнее время негативное влияние на происходящее оказывает продолжающееся ухудшение двусторонних отношений с Тбилиси. Москва более чем когда-либо настаивает на сохранении статус-кво и не уступает требованиям как-то изменить форматы урегулирования или механизмы переговоров. Подобный недостаток гибкости делает РФ причастной к ответственности за стагнацию мирного процесса. Неоднозначно воспринимается и двойственная роль России в обоих конфликтах. Она одновременно выступает как посредник, предоставляющий миротворческие силы, и как заинтересованная сторона, из рук которой, по некоторым оценкам, получили гражданство 90 % населения абхазского и югоосетинского регионов, стремящихся к отделению от Грузии. Не случайно критики говорят о «ползучей аннексии».
Совершенно очевидно, что в такой обстановке нелегко приходится организациям, прежде всего ООН и ОБСЕ, которым международное сообщество поручило дело разрешения конфликтов. Эффективность этих структур в принципе зависит от конструктивного взаимодействия как противоборствующих сторон, так и главных внешних политических акторов в регионе. Дефицит его ощущается сегодня как никогда прежде. Ежегодно проводимые Советом Безопасности ООН и Советом министров ОБСЕ дебаты о положении в Грузии отчетливо выявляют существующие принципиальные расхождения интересов. Текст резолюции ООН, подготовка которого до последней минуты вызывает ожесточенные споры, отражает, как правило, наименьший общий знаменатель. Совету министров ОБСЕ с 2005 года не удается выработать совместное заявление по Грузии. В этих условиях миссиям ООН и ОБСЕ труднее, чем когда-либо, оставаться дееспособными и последовательно осуществлять стратегию урегулирования конфликтов.
Последние несколько лет Европейский союз также прилагал усилия к тому, чтобы активно включиться в урегулирование конфликтов на Южном Кавказе. С этой целью в 2003-м учрежден пост специального представителя по Южному Кавказу, напрямую подотчетного Верховному представителю Евросоюза Хавьеру Солане. Пока еще рано давать оценку роли ЕС. Однако в попытках посредничества и он сталкивается с теми же трудностями, что и другие международные организации. По сравнению с ООН и ОБСЕ Европейский союз испытывает дополнительные сложности, поскольку он до сих пор не представлен в ныне существующих форматах переговоров. Выяснилось также, что рассматривать Брюссель как нового партнера в кавказской политической игре России удается не без внутреннего сопротивления. Кроме того, в рамках общей политической стратегии самого Евросоюза еще не до конца определились пределы его готовности отдавать приоритет Кавказу.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ И УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА
В речи на Генеральной Ассамблее ООН 27 сентября 2007 года грузинский президент призвал провести всеобъемлющую проверку процесса урегулирования в Абхазии, чтобы вновь сделать его эффективным. Внутри страны Михаил Саакашвили высказывается еще более откровенно, обличая «бездеятельность» ООН и ОБСЕ в разрешении конфликтов в Грузии. Он обрушился с публичными нападками на Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, ссылаясь на его, дескать, «аморальные и недостаточные рекомендации».
Отнюдь не соглашаясь со всеми без исключения критическими высказываниями Саакашвили, нельзя, однако, не видеть необходимость более энергичных действий. Возобновление мирного процесса является насущной альтернативой обострению и без того взрывоопасной обстановки на Южном Кавказе, непредсказуемые последствия которой грозят выйти за пределы региона. Трудно отрицать тот факт, что принятая до сих пор форма осуществления процесса урегулирования в целом привела его к неудаче. Причина кроется не только в конфронтационной позиции, исходно занятой и упорно отстаиваемой сторонами конфликта, но, очевидно, и в том, что посредники не всегда проявляли необходимую гибкость и часто меняли стратегии. Следует задаться вопросом: насколько принятые на вооружение инструменты урегулирования в их нынешнем виде отвечают поставленной цели? Какие уроки можно извлечь из упущенных в прошлом возможностей? И, наконец, где искать те реалистические отправные пункты, исходя из которых можно было бы реанимировать застывший процесс урегулирования?
Ответить на поставленные вопросы далеко не просто. В первую очередь представляется уместным тщательно осмыслить суть принципа урегулирования, осуществляемого исключительно мирными средствами. Как конфликтующие стороны, так и посредники неоднократно заявляли о своей приверженности данному принципу как основополагающему. И это не должно быть исключительно риторическим заклинанием. Если воспринимать этот принцип всерьез, то он означает: разрешение конфликтов в Грузии потребует еще больше времени, что необходимы долгосрочная терпеливая политика и совместные действия, отказ от максимализма и провокационных жестов и что основополагающие концепции должны быть согласованы всеми посредниками по мере возможности. Эта цель недостижима, если одна из сторон без договоренности спешит установить сроки разрешения конфликта и тем самым вызывает у общественности неоправданные ожидания.
Второй принцип, который до сих пор признается бесспорным (по крайней мере всеми посредниками), – это сохранение территориальной целостности Грузии. Он присутствует во всех резолюциях ООН, так же как и в заявлениях ОБСЕ и других международных организаций. И Россия, выразившая в середине 2006-го сомнение в применимости этого принципа, твердо его придерживается, хотя открытым остается вопрос, как на эту позицию повлияет возможное признание независимости Косово.
Попытки активизировать мирный процесс в Грузии должны основываться на обоих этих принципах. Начиная с середины 1990-х годов и по сегодняшний день разработано множество проектов, касающихся решения проблем Южной Осетии и Абхазии. Чего всегда не хватало, так это воли всех участников реализовать проекты, а также последовательности и широты политического видения, чтобы придерживаться достигнутых договоренностей. Тщательно проработанные пакеты предложений не раз «расшнуровывались», а их содержание потом до неузнаваемости выхолащивалось.
Так, документ «Разделение компетенций между Сухуми и Тбилиси», согласованный в конце 2001-го ООН и «Группой друзей Генерального секретаря ООН», означал в свое время настоящий прорыв. Впервые всем основным посредникам, включая Россию, удалось прийти к согласию относительно основы для решения ключевого вопроса – о статусе. Впоследствии, однако, не хватило настойчивости преодолеть колебания Сухуми, чтобы сделать этот документ ядром дальнейших переговоров. Он, несомненно, актуален и по сей день – именно потому, что в вопросе о статусе там определяются только рамки, которые оставляют за конфликтующими сторонами право на практические договоренности.
Выдвигая новые инициативы, следует учитывать один важный содержательный момент. Вопросы статуса и другие открытые аспекты отношений между Грузией и стремящимися к отделению от нее регионами (в том числе возвращение внутренних беженцев, восстановление экономики, вопросы компенсации ущерба) должны решаться параллельно. 15-летняя история обоих конфликтов свидетельствует о том, что нарушение этой взаимозависимости всегда ведет в тупик. Рассмотрение проблем в едином контексте может придать динамику процессу урегулирования, а «разные скорости» при реализации договоренностей, как показывает опыт, лишь тормозят процесс.
При возобновлении диалога особое значение следует придавать мерам укрепления доверия. Любое политическое урегулирование будет изначально хрупким, если оно не опирается на минимум доверия между абхазами и осетинами, с одной стороны, и грузинами – с другой. Заклинания о мнимой межэтнической гармонии былых времен недостаточны, поскольку пропасть недоверия и вражды возникла уже в результате сепаратистских войн начала 1990-х. Чтобы преодолеть ее, потребуются интенсивные усилия и многочисленные контакты между людьми. Опыт солидной подготовительной работы накапливается уже давно. Содержательные предложения внесли грузино-абхазские конференции по укреплению доверия, которые трижды проводились с 1999 года (в последний раз в марте 2001-го в Ялте), а также соответствующий каталог, представленный в нынешнем году Европейским союзом. Однако на практике в этой области уже несколько лет отсутствуют какие-либо сдвиги. Призыв со всей серьезностью взяться за данный комплекс вопросов и скорее проявить инициативу обращен главным образом к грузинской стороне.
Что касается модификации форматов переговоров и механизмов урегулирования конфликтов, то здесь следует действовать осторожно. Было бы ошибкой превращать этот совершенно обоснованный вопрос в условие возобновления диалога. В последнее время даже самые стойкие защитники статус-кво должны были понять, что изменения в интересах дела неизбежны. Например, в том, что касается миротворческих сил. Так, нынешний режим, который отводит России преобладающую роль в Абхазии и Южной Осетии, создавался в тот период, когда политическая дееспособность Грузии еще не была реально восстановлена. Такой подход не представляется сбалансированным и потому должен быть пересмотрен как можно скорее.
Сошлемся здесь на правило, которое применяется ООН во избежание столкновения интересов. Оно гласит, что при формировании миротворческих сил не должен привлекаться личный состав из непосредственно граничащих стран. К сожалению, данное правило не было применено к абхазскому конфликту и отрицательные последствия этого поныне сказываются на процессе урегулирования. Участие России в миротворческих силах в Грузии не должно полностью исключаться, однако следовало бы выработать формулу, гарантирующую необходимое равновесие между группами миротворцев из разных стран.
Уместны были бы и новые соображения относительно форматов переговоров. Имеющиеся модели существуют уже довольно долго и поэтому не могут в полной мере учитывать сегодняшние требования. Так, есть много аргументов в пользу того, чтобы включить, наконец, Евросоюз в переговорный процесс как полноправного партнера. Политический и экономический вес, приобретенный ЕС во всем регионе Южного Кавказа, делает такой шаг полностью оправданным. Европейский cоюз, только за последние 10 лет предоставивший трем кавказским государствам поддержку, превышающую 1 млрд евро (львиную долю получила Грузия), является важнейшим источником экономической помощи для региона. С введением в действие программы, принятой в 2004-м в рамках Новой политики соседства, эта помощь в ближайшее время значительно возрастет. Вступление Румынии и Болгарии в Евросоюз обеспечило ему непосредственный выход к Черному морю, тем самым организация и в пространственном отношении вплотную приблизилась к Кавказу. Учитывая это, все участники процесса урегулирования заинтересованы в том, чтобы ЕС занял в нем подобающее место.
Успешное возобновление переговорного процесса в значительной мере зависит опять-таки от России. Правда, если принять во внимание современное состояние отношений между Москвой и Тбилиси, то перспективы не особенно благоприятны. Преобладают эмоционально окрашенная публичная полемика, угрожающие жесты, политические интриги, давление с использованием экономических средств и дискриминационных мер в адрес по-прежнему многочисленной грузинской диаспоры в России.
Пора срочно преодолеть существующий кризис. Обе стороны должны быть непосредственно в этом заинтересованы. Грузии нужны нормальные добрососедские отношения с Россией, с которой ее исторически все еще многое связывает. При этом теперь, в отличие от периода десятилетней давности, Тбилиси может уверенно опираться на новых партнеров в Европейском союзе и Северной Америке.
Что касается Москвы, то ее средне- и долгосрочные интересы совершенно очевидно требуют стабильности на Южном Кавказе. С ними едва ли совместимы неразрешенные конфликты непосредственно за Кавказским хребтом, которые могут в любой момент выплеснуться на довольно нестабильный российский Северный Кавказ. Отсюда и необходимость справедливого согласования интересов обеих сторон: законные интересы безопасности России в регионе (которые, однако, не следует путать с правом вмешательства во внутренние дела соседа) должны учитываться в той же мере, в какой и законное право Грузии на обеспечение своей территориальной целостности.
Сторонам, безусловно, следовало бы настроиться на эту линию действий; слишком уж эмоциональна и неустойчива нынешняя политика двусторонних отношений.
Правда, уже сегодня можно предвидеть трудности в установлении подобного мирного баланса интересов. Процесс рискует осложниться в результате целого ряда событий, внесенных в политический календарь на ближайшее время. О Косово здесь уже говорилось. В России – избирательный сезон. Грузия ожидает, что на предстоящем в апреле 2008 года в Бухаресте саммите НАТО будет дан зеленый свет ее настойчивому стремлению подключиться к Плану действий касательно членства (Membership Action Plan). Тем самым страна могла бы сделать решающий шаг на пути к вступлению в данную организацию.
Эту дату тоже необходимо иметь в виду, хотя она может способствовать и смягчению напряженности: обострение конфликтов усиливало бы аргументы тех участников Североатлантического альянса, которые в настоящее время скептически относятся к членству Тбилиси.
МОЖНО ЛИ СРАВНИВАТЬ КОСОВО И КАВКАЗ?
В последние месяцы вновь и вновь обсуждались возможные последствия признания независимости Косово для мирного процесса в Грузии. Конечно, сравнение между Косово и Кавказом во многих отношениях неуместно: слишком разнородны причины, история возникновения, ход и механизмы урегулирования конфликтов. И тем не менее надо остерегаться упрощенной схемы рассуждений. В тех случаях, когда происходит отделение части территории государства, аналогия возникает в силу основополагающего принципа международного права – принципа территориальной целостности.
По сути, предметом дискуссии становится выбор между двумя принципами – территориальной целостности и права на самоопределение. Чтобы самоопределиться в условиях внутригосударственного конфликта, столь ли необходимо провозглашение суверенитета, или же достаточно обеспечить соответствующие права автономии? В данном случае международное право воздерживается от определения приоритетов, но вместе с тем не исключает ни одного из предложенных вариантов.
Исходя из практики последних лет, можно указать на различные компромиссы, особенно в процессе урегулирования конфликтов в бывшей Югославии. Там, как показывает пример Боснии и Герцеговины, новые государства образовывались не только по принципу национальной однородности.
Во всяком случае, приходится констатировать, что решение в пользу независимости Косово еще больше ослабит принцип территориальной целостности. Тем более что невозможно предвидеть во всех нюансах, как именно это событие воздействует на другие регионы, где также имеют место внутригосударственные конфликты. Но правомерно ли отказывать абхазам в том, что, возможно, получат косовары? Решение в конечном счете зависит от политики, которая должна учитывать последствия, способные выйти за рамки одного конкретного случая. Это означает также необходимость не ограничиваться одной Грузией, а принимать во внимание весь Кавказ. Обретение краем Косово независимости наверняка отразилось бы на ситуации в Нагорном Карабахе, а также на Северном Кавказе, включив в повестку дня и Чечню. В результате Россия оказывается перед дилеммой, суть которой не требует дополнительных разъяснений.
Наконец, в начале июля 2007 года мировая общественность в очередной раз получила возможность вспомнить об абхазском конфликте, когда МОК принял решение провести зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи. Олимпийские горнолыжные трассы пролегают всего в нескольких километрах от границы с конфликтным абхазским регионом. Первая реакция на решение МОК была вполне дружелюбной. Даже Михаил Саакашвили увидел в нем шанс ускорить процесс урегулирования, поскольку Россия не заинтересована в том, чтобы проводить Олимпиаду в непосредственной близости к очагу открытого конфликта. Однако очень скоро благодушие уступило место озабоченности. Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе выразила опасение, что Москва использует это событие в целях углубления экономической и политической интеграции сепаратистской Абхазии с Российской Федерацией.
В данном случае также действует правило, согласно которому продвижение к мирному урегулированию происходит не автоматически, а лишь тогда, когда главные действующие лица проявляют политическую волю. Хотелось бы верить пресс-секретарю Владимира Путина, который в интервью 12 июля заявил, что абхазский конфликт не создаст проблем для Сочи, поскольку к тому времени он уже разрешится. Остается добавить: будем надеяться, что это произойдет не в одностороннем порядке, а при согласии всех заинтересованных сторон.
5 дек. 2007г. венгерская нефтегазовая компания МОЛ поддержала инициативу своей «дочки» ЗАО «МОЛ Фелдгазсаллито» об объединении поставщиков газа из семи стран Центрального и Юго-Восточного региона Европы в единую самостоятельную компанию. Предложение сделано однопрофильным предприятиям следующих стран: Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Румынии, Болгарии и Австрии. Если это произойдет, – в Европе появится крупный поставщик природного газа, имеющий в своем распоряжении наиболее протяженную газопроводную сеть в 27 тыс.км. и способный в будущем принять участие в финансировании такого проекта как «Набукко». Переговоры должны состояться в начале 2008г. По заявлению генерального директора ЗАО «МОЛ Фелдгазсаллито» Яноша Жуга двери для участие в проекте открыты и другим странам Европы. «Непсава».
В Лондоне в понедельник открывается международная туристическая ярмарка World Travel Market 2007» («Всемирный рынок путешествий 2007»).Форум будет проходить с 12 по 15 нояб. в выставочном комплексе ExCel в лондонском районе Доклендс. Ярмарка, которая проводится в этом году в 28 раз, вновь обещает стать крупнейшим событием года для мирового туристического бизнеса.
World Travel Market 2007» предоставит возможность для презентации различных услуг и предложений 5,5 тыс. участников из более чем 200 стран и регионов мира, отметили организаторы мероприятия.
Лондонская выставка-ярмарка World Travel Market носит профессиональный характер и не предназначена для широкой публики. Для участия в ней приезжают представители туристического и курортного бизнеса, чиновники правительственных учреждений, занимающихся развитием туризма, владельцы отелей и ресторанов, руководители авиакомпаний, производители различного оборудования и снаряжения для путешествий, пишущие о туризме журналисты.
Программа четырехдневного форума до предела насыщена всевозможными презентациями, конференциями и семинарами. Среда, 14 нояб., официально объявлена на выставке «Днем ответственного туризма». К этому приурочено множество различных мероприятий с упором на экологичный, щадящий исторические ценности и природу туризм, механизмы восстановления и регенерации туристических мест, уважение к местному населению.
Официальным партнером выставки на этот и будущий год стал эмират Абу-Даби. В прошлом году этот регион ОАЭ получил международную награду как лучшее новое место для путешествий и теперь намерен представить планы развития различных видов природного и культурного туризма.
«Впервые на выставке в этом году будет представлена Босния и Герцеговина, которая наконец может распрощаться со своим неспокойным прошлым», – отмечают организаторы World Travel Market.
На стендах разных стран для посетителей приготовлены различные подарки – от восточных сладостей до брелоков и цветочных луковиц. На стендах Финляндии и Нидерландов можно будет выиграть путешествия в эти страны, а голландцы еще и проведут благотворительный аукцион по продаже ограненного в этой стране ценного алмаза.
Россия, традиционно демонстрирующая свои возможности на выставке, в этом году вновь будет представлена единым национальным стендом, который организует Федеральное агентство по туризму. В понедельник запланированы пресс-конференции и презентации правительства Москвы и московского комитета по туризму, а во вторник пройдет презентация российских регионов.
По словам генерального директора «Чешские энергозаводы» (ЧЭЗ) М.Романа, компания в течение четырех лет станет шестой по величине энергетической фирмой в Европе. ЧЭЗ, две трети пакета акций которого принадлежат Чешскому государству, находится на восьмом месте. Одним из приоритетов заграничной политики ЧЭЗ является Польша, где «Чешским энергозаводам» принадлежат две угольные электростанции. В Боснии и Герцеговине фирма участвует в строительстве новой угольной электростанции, в России ведет переговоры о строительстве новых парогазовых и угольных энергоблоков.
Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карла дель Понте, посетившая Белград, привезла сербскому руководству неприятные новости. Она дала понять, что перспективы вступления страны в ЕС более чем сомнительны. Пока «железная Карла» не готова пойти даже на минимальную уступку – рекомендовать европейским чиновникам подписать с Сербией соглашение о стабилизации и сближении (этот документ мог стать первым шагом на пути в альянс). По крайней мере, до тех пор, пока «власти не начнут активно сотрудничать с Гаагским трибуналом». В понимании генпрокурора «сотрудничать» – значит выдать Радована Караджича и Ратко Младича.Но прежде чем выдать, их надо еще найти. И не факт, что сербские власти могут это сделать, – даже ради заветной цели присоединения к «клубу 27». Ведь нет никаких гарантий, что экс-президент Республики Сербской (Босния) Караджич и бывший командующий армией боснийских сербов Младич находятся на территории Сербии. По крайней мере, все операции сил КФОР по их поимке закончились полным провалом. Не нашли Караджича и Младича и в Боснии. Среди других мест, где может находиться бывший лидер боснийских сербов, называли Черногорию (где он родился), Белоруссию и даже Австралию. След Младича потеряли в 2002. Но потеряли как раз в Сербии, где он до свержения режима Милошевича открыто ходил на футбольные матчи и в рестораны.
За 11 лет появлялось немало сенсационных версий, объясняющих причины такой странной неуловимости военных преступников. Одну их них выдвинула бывший представитель главного прокурора МТБЮ Флоренс Артман – человек, хорошо информированный. В книге «Мир и наказание» она свалила вину на три страны – Россию, Францию и США. Россия якобы отказалась предоставлять информацию, хотя прекрасно знала, где прячутся Караджич и Младич. Франция же и США не решались предпринимать активные действия без согласия Москвы. Кроме того, Артман утверждает: еще в 1995г. тогдашний спецпредставитель Билла Клинтона на Балканах Ричард Холбрук заключил с Караджичем «джентльменское соглашение». Лидер боснийских сербов обещает прекратить заниматься политической деятельностью (что в принципе, тот и сделал), а Холбрук гарантирует ему неприкосновенность.
Недавно появился новый вариант все тех же версий. Главной подозреваемой на сей раз, оказалась сама госпожа дель Понте. Как утверждают раскручивающие этот скандал сербские СМИ, генпрокурор вела тайные переговоры с лидером боснийских сербов в 1999. Предлагаемая сделка выглядела следующим образом: Караджича вывезут в Швейцарию, где и арестуют. Генпрокурор убеждала экс-президента: в противном случае, если силы НАТО в Боснии его обнаружат, живым ему не выбраться. Караджич от такого «предложения» отказался.
Что в этих версиях правда, а что лишь сведение счетов с «железной Карлой» (которая за 8 лет пребывания на посту генпрокурора успела насолить многим), – понять трудно. Очевидно другое: свою миссию дель Понте провалила – Милошевич так и не услышал окончательный приговор, а посадить на скамью подсудимых оставшихся в живых двух главных обвиняемых она не успеет. В конце дек. дель Понте передаст дела своему преемнику (срок ее полномочий истек) и отправится в Аргентину – послом Швейцарии.
Сербии же остается надеяться, что новый прокурор Гаагского трибунала будет более сговорчив. Обменять Караджича и Младича на возможность вступления в ЕС – идея, конечно, интересная, но трудновыполнимая. Тем более что сам Белград утверждает: свою часть обязательств перед трибуналом он выполняет. Во-первых, передал в Гаагу всех разыскиваемых трибуналом военных преступников, которых удалось задержать, во-вторых, пообещал награду в 1 млн. евро за Младича (за Караджича, правда, ничего не пообещал под тем предлогом, что он не сербский гражданин). Наконец, открыл доступ прокурорам к святая-святых – государственным архивам. (По последнему пункту, впрочем, у трибунала тоже есть претензии – он требует «более широкого доступа»).
Другой вопрос, что, скорее всего, в торг за место в «единой Европе» Белград сейчас попытается включить еще один не менее принципиальный вопрос – косовский. Как вариант: даст понять, что согласится на независимость края в обмен на собственное членство в ЕС. О возможности такой сделки в Брюсселе прекрасно знают, но участвовать в ней не спешат. Под тем предлогом, что для начала нужно принять Хорватию, где экономические показатели куда больше дотягивают до европейских стандартов.
Пока европейцы затягивают с одним сербским вопросом (ЕС) и очень торопятся с другим (Косово), в Сербии все чаще слышатся призывы к «адекватному ответу» европейской политике. На прошлой неделе руководство Социалистической партии (той самой, которая была основана Милошевичем) пригрозило в ответ на объявление Косово независимым добиваться присоединения Республики Сербской к Сербии. Чем это может обернуться – очевидно. Новой большой войной на Балканах. В которой для Караджича и Младича найдется место.

Интеграция в стиле фанк
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2007
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, советник ректора МГИМО (У) МИД России, заведующая кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
Будущее принадлежит тем, кто выбивается за всякие рамки, тем, кто рискует, пренебрегает нормами и устанавливает новые правила. Будущее принадлежит тем, кто использует любую возможность, чтобы самому создавать это будущее.
Кьелль Нордстрём, Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк
Европейский союз меняется. Меняются его география, институты и механизмы. Меняется сама философия региональной интеграции. Однонаправленное движение уступает место далеко не очевидной совокупности беспрестанно варьирующихся сюжетов.
Европейскую интеграцию привычно сравнивать с поездом, движущимся к единой и понятной всем пассажирам цели. Но сейчас наиболее адекватная метафора европейской интеграции – это гипермаркет с бесчисленными магазинами и кафе, интернет-центрами и салонами красоты, прачечными и кинозалами.
Больше нет вагонов, где пассажиры читают одну и ту же утреннюю газету и вместе рассматривают пейзаж за окном, нет расписания поездов. Но самое главное – отсутствует станция назначения.
Вместо этого появились общие часы работы, автостоянка, чистые полы и туалеты, исправные эскалаторы. А также фонтан, зимний сад и музыка, играющая по вечерам. Места здесь хватает всем: государственным служащим, бизнесменам, семьям с детьми, пенсионерам, подросткам. Отсюда можно выйти с плазменным телевизором или со связкой уцененных бананов, с модным маникюром или с двухтомником об этрусках, с банкой кофе или с уведомлением о покупке пая в инвестиционном фонде. Кому как нравится.
Трансформация поезда в гипермаркет произошла так быстро, что ее не успели осознать ни сами государства – члены ЕС, ни их соседи. Отсюда и частые сбои в интеграционных планах Евросоюза, и не имеющая рационального объяснения напряженность в отношениях с третьими странами, включая Россию.
ГЛОБАЛЬНАЯ ГОНКА
Начнем с того, что же представляет собой региональная интеграция и зачем она нужна. В современной европейской мысли можно выделить четыре основных определения этого феномена.
Первое отталкивается от фактического опыта Европейского союза, прежде всего в сфере экономики: интеграция – это процесс взаимного переплетения и сращивания национальных хозяйств.
Три других определения имеют в своей основе теоретические конструкции, принадлежащие тем или иным политическим школам.
Представители европейского федерализма, вдохновляемые вековыми мечтами о единстве Европы, видят конечную цель в создании сверхгосударства. Решающим признаком интеграции они считают наличие наднациональных органов, которым отдельные государства передают часть национального суверенитета.
Теория коммуникации понимает интеграцию как сплоченное сообщество, основанное на общих ценностях и ведущее к развитию совместной идентичности. Признаком интеграции считается наличие между его участниками более тесных связей, нежели с партнерами извне.
В рамках неофункционализма интеграция – коллективное средство решения практических задач. При этом национальные власти могут делегировать органам союза исполнительные полномочия, но не суверенитет. Население, видя полезность союзных институтов, признаёт их и проявляет к ним лояльность.
Существующие определения заметно отличаются друг от друга, но им присущи два общих недостатка. Они не дают ответа на главный вопрос – о стратегической миссии интеграции. И затушевывают разницу между целями и средствами.
Так, по федералистской концепции, ЕС, создав сильные наднациональные органы, уже прошел наибольшую часть пути. Однако заветная цель – федерация либо конфедерация – в обозримой перспективе недостижима. Значит ли это, что нынешняя деятельность Евросоюза лишена смысла? Конечно же нет.
С позиций теории коммуникации крупным успехом Европейского союза является укоренение общих ценностей. Однако идентичность ЕС пока крайне слаба, ее формирование тормозят не только культурные различия, но и отсутствие в Евросоюзе единой политической системы, а также примат национального гражданства над общеевропейским гражданством.
Еще сложнее дело обстоит с плотностью региональных экономических связей. Интенсивность торговых потоков – доля торговли между странами – членами Европейского союза в их общем внешнеторговом обороте – возрастала только на начальной стадии интеграции. С 1970-х годов и по сегодняшний день она составляет около 60 %. Это и понятно: дальнейшая ориентация партнеров друг на друга вывела бы их из системы международных отношений, отрезав от привлекательных рынков сбыта и источников сырья.
Не выдерживает проверки главный тезис экономистов-практиков о том, что целью интеграции является создание общего рынка и единого хозяйственного комплекса. Хотя единый внутренний рынок ЕС в целом функционирует с 1993-го, закон единой цены действует лишь частично. Любой турист знает, что в Швеции цены высоки, в Испании – умеренны, а в Болгарии – низки. Для многих видов услуг, а тем более для фондовых активов, конвергенция цен невозможна в принципе или ставится как задача для будущих поколений европейцев.
Потеряла актуальность схема известного экономиста Белы Балаши, согласно которой интеграция проходит в своем развитии четыре стадии – от зоны свободной торговли до валютного союза. Согласно этой логике, теперь у Евросоюза осталась одна цель – расширить зону евро до 27 членов, не расточая силы на общую оборонную идентичность либо на научно-техническую политику.
В 2005 году кафедра европейской интеграции МГИМО (У) выдвинула после серии научных семинаров новое определение региональной интеграции. Оно базируется на ее понимании в контексте процесса глобализации, который имеет два начала: объединяющее и разъединяющее.
С одной стороны, глобализация ведет к усилению взаимосвязей между странами и регионами, с другой – к разделению на страты и установлению жесткой иерархии. Страты формируются по уровню благосостояния, по степени мирового политического, экономического и культурного влияния, по доступу к ресурсам и информации, по использованию передовых технологий…
В этих условиях глубинной движущей силой региональной интеграции выступает стремление стран-участниц попасть в лучшую страту (или совместно сформировать лучшую страту), нежели та, к которой они объективно принадлежали бы без интеграции. Объединение Европы не случайно начинается после Второй мировой войны. Именно тогда колониальные империи, задававшие правила стратификации в предыдущую эпоху, рассыпаются, а США и СССР становятся главными мировыми силами.
Отсюда правомерно следующее определение: региональная интеграция представляет собой модель сознательного и активного участия группы стран в процессе стратификации мира, обусловленной глобализацией. Как уже было сказано, главная общая цель – создание максимально успешной страты, то есть укрепление позиций объединения в сферах, наиболее важных для данного этапа глобализации. Задача каждой отдельно взятой страны – обеспечить себе максимально благоприятную стратегическую перспективу. Интеграция позволяет наилучшим образом использовать преимущества глобализации и одновременно минимизировать ее отрицательное воздействие.
Таким образом, региональная интеграция представляет собой модель коллективного поведения в условиях глобальной стратификации. Создание наднациональных органов, расширение региональной торговли, введение единой валюты либо общего гражданства – все это ее инструменты или продукты. Если завтра мировое лидерство будет зависеть от того, умеет ли страна выращивать квадратные помидоры, ЕС немедленно примет подробный и жесткий план действий.
Важнейшим элементом региональной интеграции является идея об общей будущей судьбе народов. Именно будущей, а не прошлой. Общая история, схожесть культуры, политических и экономических систем – это необходимые, но недостаточные условия успешной интеграции. Ее незримый фундамент – общее представление о настоящей и будущей глобальной идентичности. Недаром европейская Конституция начинается со следующих слов: «Отвечая воле граждан и государств Европы построить общее будущее, эта Конституция учреждает Европейский союз…» (статья 1-1).
Интеграция – это мечта о светлом будущем для себя, своих детей и внуков. Как любая мечта, она может сбыться или нет. Но наличие мечты, тем более подкрепленной действенными планами, лучше, чем ее отсутствие. Поэтому интеграция – мечта и действующий проект одновременно.
Сегодняшний Евросоюз в данном смысле на самом деле сродни гипермаркету. Для человека с достатком – это место, где можно быстро и удобно решить бытовые проблемы. Для подростка с окраины – модель лучшей, желанной жизни. Выставка достижений мирового хозяйства, куда он может запросто войти, чтобы проехаться на сияющем эскалаторе, послушать диск модной группы, купить на распродаже стильную футболку либо обсудить с продавцом новую модель мобильного телефона. И быть как все! Как те уважаемые господа, что приезжают на красивых автомобилях и элегантно расплачиваются кредиткой за ворох покупок.
В этом – огромная притягательная сила Европейского союза.
СЛОМАННОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ
После того как в 1992-м Маастрихтский договор разрешил отдельным странам не вводить евро, специалисты заговорили об интеграции на разных скоростях. В очередной раз возникло сравнение ЕС с поездом. Но только ли в динамике дело?
Чтобы ответить на этот вопрос, автор провела блиц-анализ социально-экономических показателей 34 стран Европы, Кипра и Турции на основе данных Всемирного банка. В обзор не включались государства с населением менее 1 миллиона человек, так как их социально-экономические показатели формируются иначе, чем в более крупных государствах. Все страны ранжировались по показателю благосостояния, в качестве которого был принят валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в 2004 году (рис. 1).
Это позволило сформировать пять групп. В первую, наименее обеспеченную, вошли десять стран: шесть из Южной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия и Черногория), три из СНГ (Белоруссия, Молдавия, Украина) и Турция. Во вторую группу попали семь новых членов Евросоюза из Центральной Европы (Венгрия, Польша, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония) и Хорватия. Третью группу составили три отстающие страны ЕС-15 (Греция, Испания, Португалия) и два самых успешных новичка (Кипр, Словения). Четвертая группа включает в себя 11 сильнейших западноевропейских участников Европейского союза. Пятую группу представляют два богатейших аутсайдера – Норвегия и Швейцария.
Далее для каждой группы был рассчитан средний ВНД на душу населения (среднее арифметическое этих показателей для каждой из входящих в данную группу стран). В первой группе средний ВНД составил 2 077 дол., во второй – 6 913 дол., в третьей – 16 752 дол., в четвертой – 32 767 дол., в пятой – 50 705 долларов. Конечно, такой метод достаточно условен и имеет ограничения. Некоторую трудность создают малочисленность пятой группы, а также тот факт, что третья в основном состоит из средиземноморских стран. Вместе с тем избранный метод прост и дает ясные, легко интерпретируемые результаты. Его важное преимущество – отсутствие временных рядов, которые сильно затрудняют выявление тенденций из-за неравномерной инфляции и структурных изменений. Полученные данные предоставляют в наше распоряжение моментальный отпечаток экономического состояния Европы-2004. Они позволяют судить о переменах в обществе по мере роста душевого дохода, так же как семейная фотография дает представление о возрастных изменениях человека.
Человеческие ресурсы. По ожидаемой продолжительности жизни разница между первой и пятой группами составляет 16 лет, соответственно 65 лет и 81 год (рис. 2). При этом подъем на одну ступень, то есть переход из первой группы во вторую, дает половину искомого прироста – 8 лет, и еще 5 лет добавляется при втором шаге. Уже в третьей группе продолжительность жизни приближается к наивысшему европейскому и мировому уровню.
В беднейших странах (кроме Болгарии) не для всех взрослых оказалось доступным среднее образование. Но уже во второй группе эта проблема практически решена, а в четвертой каждый пятый гражданин имеет второе среднее образование. Распространение высшего образования во многом зависит от национальной модели. Больше всего людей с университетскими дипломами в Скандинавских странах – Норвегии, Швеции и Финляндии (80–87 % взрослого населения). В высокоразвитых государствах Западной Европы этот показатель в среднем составляет 62 % (в том числе в Австрии – 49 %, в Германии – 50 %). В беднейших странах Южной Европы и в Турции высшее образование имеют только 31 % взрослых, а в странах Центральной Европы – 53 %. Как и в случае с продолжительностью жизни, основной рывок наблюдается при переходе из первой группы во вторую.
Та же закономерность – важнейший первый сдвиг и значимый второй – характерна для показателей младенческой и детской смертности (рис. 3.) Уже в третьей группе (при душевом доходе от 14 тыс. дол.) общество теряет не более девяти из тысячи рожденных детей до достижения ими пяти лет. В первой группе этот показатель почти вдвое выше. Особенно сложная ситуация в Турции, где из тысячи родившихся детей до пяти лет не доживают 60. В Польше данный показатель равен 15, в Германии – 9, в Финляндии – 7, в Швейцарии – 10.
Интересны данные по числу новорожденных на одну женщину (коэффициент фертильности). Страны первой группы имеют две разные модели. Первая характерна для бывших социалистических государств – Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Румынии и Украины. Там среднее число рождений на одну женщину колеблется от 1,2 до 1,4. В Албании и Турции (где сильны мусульманские традиции) этот показатель равен 2,2, в Македонии, Сербии и Черногории – 1,7. Зато вторая и третья группы в высшей степени однородны: на одну женщину в среднем приходится 1,2–1,4 ребенка.
Явное увеличение числа новорожденных в расчете на одну женщину происходит в четвертой группе. Тем самым опровергается распространенное мнение, будто с ростом доходов рождаемость только снижается. В Нидерландах и Финляндии рождаемость выше, чем в Греции и Испании. Возможно, более высокая рождаемость в благополучных странах обусловлена притоком иммигрантов из третьего мира, социальной моделью (особенно в Скандинавии) и программами поддержки семьи. Так или иначе, в Европе в богатых странах (кроме Германии и Италии) старение населения идет медленнее, чем в относительно бедных.
Модернизация и новые технологии. В наименее обеспеченных странах сельское хозяйство дает от 11 до 21 % ВВП, а в наиболее развитых – от 1 до 3 % (рис. 4). Но можно ли объяснить столь низкий процент аграрного сектора в ВВП Западной Европы огромными масштабами сферы услуг? Чтобы исключить этот фактор, для каждой страны была рассчитана доля промышленности в материальном производстве. Результаты убедительно показали, что развитие экономики сопряжено с неуклонным ростом индустриализации. Так, в Болгарии промышленность дает 74 % материального производства, в Португалии – 87 %, во Франции – 92 %.
Между странами ЕС существует значительный разрыв в качестве международной специализации. Высокотехнологичная продукция в общем экспорте обрабатывающей промышленности составляет 3 % в первой группе, 11 % во второй и третьей группах и 19 % в четвертой группе. Примечательно, что кривая экспорта технически сложных товаров зеркальна по отношению к графику доли сельского хозяйства в ВВП.
По степени развития телефонных сетей и распространения Интернета ведущие государства Евросоюза превосходят наиболее слабых участников в 3–4 раза (рис. 5). Численность стационарных телефонных линий и абонентов мобильной связи увеличивается по мере роста душевого дохода более равномерно, чем, например, продолжительность жизни либо охват населения высшим образованием. Хотя постепенное замедление темпов обнаруживается и здесь.
Необычная форма графиков, отражающих процесс индустриализации (рис. 4) и распространение Интернета (рис. 5), а именно равенство или даже превосходство показателей второй группы над показателями третьей группы, возможно, имеет следующее объяснение. Третью группу составили государства, являющиеся крупнейшими производителями продуктов средиземноморского земледелия. Сельское хозяйство имеет там глубокие исторические и культурные корни. Во вторую группу, напротив, вошли бывшие социалистические страны, где в период действия Совета экономической взаимопомощи проводилась активная индустриализация с ориентированной на экспорт специализацией. В Венгрии, например, на высокотехнологичную продукцию приходится 29 % экспорта промышленных изделий; наряду с Германией она занимает второе место в Европе по этому показателю.
Совершенно особую картину демонстрируют финансовые рынки. В отличие от большинства рассмотренных ранее показателей, капитализация фондового рынка растет не по горизонтально расположенной параболе, а по экспоненте (вверх). Отношение стоимости обращающихся в стране акций и облигаций к национальному ВВП увеличивается при переходе из первой группы во вторую на 11 процентных пунктов, из второй в третью – на 23, из третьей в четвертую – на 40 и из четвертой в пятую – на 53 пункта.
Кластерные стратегии. Проведенный анализ показывает, что внутри Европейского союза те или иные группы стран не только движутся к интеграции на разных скоростях, но и ставят перед собой разные первоочередные задачи этого движения.
Болгарии, Румынии и государствам-кандидатам предстоит завершить индустриализацию, поднять на более высокий уровень системы образования и здравоохранения, нарастить инфраструктуру. Им нужно провести реструктуризацию сельского хозяйства, повысить его рентабельность и усилить специализацию. Перспективы развития промышленности связаны с четким определением приоритетов, а также с привлечением зарубежных инвестиций и технологий. В ближайшие 10–15 лет данные страны не смогут заметно повысить технический уровень промышленности и увеличить экспорт высокотехнологичной продукции.
Государствам Центральной Европы также важно развивать здравоохранение и высшее образование. При взвешенной экономической политике они имеют реальный шанс догнать страны – лидеры ЕС по продолжительности жизни и уровню детской смертности. Однако, согласно прогнозам Европейской комиссии, до 2050 года старение населения в Центрально-Европейском регионе будет продолжаться. В Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и государствах Балтии индустриализация практически завершена, но им предстоят многолетние усилия в целях модернизации промышленности и становления современных производств. Их возможности делать и осваивать масштабные вложения в НИОКР останутся в обозримой перспективе ограниченными.
В Греции, Испании, Португалии, Словении и на Кипре продолжительность жизни, показатели детской смертности, а также охват населения средним и высшим образованием практически соответствуют уровню ведущих стран Евросоюза. Приоритетная задача – завершить технологическое перевооружение промышленности, кардинально повысить в ней долю новейших, наукоемких производств. Судя по опыту Ирландии, это вполне возможно. В Испании, Португалии и Словении сложились предпосылки для нового рывка в развитии национальных НИОКР и современного информационного общества.
Группе из 11 наиболее обеспеченных стран Европейского союза выпадает особая миссия. Благодаря своему экономическому и политическому весу именно они задают приоритеты, формы и темп интеграционного движения. Они же несут наибольшую ответственность за судьбу объединения. Важнейшая задача – удержать занятые высокие позиции. Главные усилия направляются на то, чтобы не допускать снижения нынешних социальных стандартов, обеспечить стабильные (пусть невысокие) темпы экономического роста и преуспеть в глобальной конкуренции. Стратегические перспективы связаны с развитием общества знаний: улучшением качества образования, разработкой высоких технологий, совершенствованием информационных систем, повышением ликвидности финансовых рынков.
Итак, стратификация происходит не только во всем мире, но и внутри ЕС как следствие глобальной конкуренции и нарастающей дифференциации стран Евросоюза. В европейском гипермаркете одни запасаются стиральным порошком в экономичной упаковке, другие радуются пятидесяти сортам мороженого, а третьи придирчиво выбирают морепродукты. Только не надо думать, что жизнь первых тяжела, а третьих легка. Важно понять, что гипермаркет – не поезд, спешащий доставить пассажиров на станцию назначения. Гипермаркет – продукт глобализации. Он предлагает посетителям товары со всего света, отвечающие международным стандартам. В отличие от поезда, где выбор делается единожды, в гипермаркете бремя свободы постоянно. Каждый должен поминутно решать, на что потратить деньги и время.
ВЛАСТЬ ЭМОЦИЙ
Шестьдесят лет мира и окончание холодной войны повлияли на европейскую политику так же, как товарное изобилие – на поведение потребителей. Сегодня, покупая реперскую куртку либо кашемировый пиджак, человек в последнюю очередь думает о тепле, а в первую – о самоидентификации. Конкретной вещью он заявляет другим и себе о принадлежности к социальной группе, ценности разделяет. Если раньше главным вопросом политической повестки дня был вопрос о войне (реальной или вероятной), то теперь на первый план вышла проблема идентичности, а также связанные с нею эмоции.
В начале нового столетия задача строительства общей европейской идентичности приобрела первостепенное значение и одновременно резко усложнилась.
Во-первых, существенно возросла разнородность Европейского союза. Потоки иммигрантов изменили культурное и религиозное пространство многих европейских стран. Массовый прием новых членов не только увеличил число официальных языков ЕС, но и многократно усугубил экономическое неравенство. В 1951 году при подписании Договора об учреждении Европейского объединения угля и стали бельгийский ВВП на душу населения (по текущему обменному курсу) был в 2,3 раза выше, чем в Италии. Сегодня аналогичный разрыв между самой богатой и самой бедной страной Евросоюза (Дания и Болгария) увеличился почти до 15 раз. Кстати, на рис. 1 видно, что по уровню благосостояния государства – основатели ЕЭС до сих пор представляют собой удивительно сплоченную группу.
Во-вторых, после распада советского блока у Европейского союза исчез идеологический противник, наличие которого помогало европейским народам, непохожим и не всегда симпатизирующим друг другу, почувствовать себя некой общностью. Надо признать, что СССР был для Западной Европы идеальным комплиментарным «другим». И его не могут заменить ни США, ни прочие мировые силы или регионы.
В-третьих, механизмы ЕС усложнились настолько, что подавляющее большинство населения объективно не в состоянии в них разобраться. Но широкая общественная поддержка крайне важна в целях поступательного движения интеграции и становления общеевропейской идентичности.
Резкая смена глобальной системы координат породила у западноевропейцев два противоположных чувства. С одной стороны, гордость, подчас переходящую в самодовольство, за историческую правильность рыночной системы. С другой – растерянность и страх за свое будущее. Следует понимать, что приспосабливаться к новой стадии глобализации Западной Европе психологически труднее, чем любой другой части света. Европейская цивилизация держится на строгом рационализме, на стремлении к наиболее эффективным алгоритмам действий и на прямолинейной морали. А глобализация повсеместно ломает стереотипы, заставляет принимать неожиданные решения, требует креативности. Большинство простых европейцев чувствуют себя в этой обстановке крайне некомфортно.
Необходимость укрепить чувство безопасности и сформировать позитивную европейскую идентичность заставила Евросоюз обратить особое внимание на ценности. В 1993-м были впервые оглашены знаменитые Копенгагенские критерии, которые адресовались кандидатам на вступление. Так возник набор характеристик, позволяющих выделить страны – члены Европейского союза из огромного числа других государств мира. Среди этих характеристик демократия, правовое государство, соблюдение прав человека и меньшинств, рыночная экономика. Добавим, что утвержденная система ценностей дала ЕС еще одно важное средство глобальной стратификации – право требовать от других выполнения данных норм (и именно в том смысле, какой вкладывает в них официальный Брюссель).
Необходимость крепить общеевропейскую идентичность существенно повлияла на повседневную практику. Общие заявления лидеров Евросоюза и документы руководящих органов становятся в последнее время все более приглаженными. Открытые дебаты, создавшие славу европейской культуре, уступают место отполированным профессиональным текстам. В Европейском союзе говорят и пишут на особом языке. «Полностью реализовать потенциал» – значит устранить отставание. «Добиться лучшего баланса между гибкостью и защищенностью рынков труда» – сдержать рост зарплаты. «Обеспечить прочность государственных финансов» – ликвидировать дефицит госбюджета. «Внести новый динамизм» – преодолеть застой. Задача европейских функционеров – не допустить возникновения у граждан отрицательных эмоций. Что ж, им это неплохо удается.
Отдельным жанром стал «потребительский тюнинг» программ и ежедневных действий институтов ЕС. Так, агитационная кампания в пользу валютного союза строилась на том, что люди сэкономят на конвертировании и в Европе будут создаваться новые рабочие места. Первое – чистая правда, второе – сильная натяжка, но ни то ни другое не имеет отношения к настоящим целям проекта. Его главное предназначение – обеспечить Европе новые глобальные преимущества и ускорить модернизацию экономики за счет активизации рыночных сил. Но население этим не убедишь. Каждый раз, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышает ставку рефинансирования, он обосновывает это угрозой роста цен, хотя реальной причиной может быть снижение курса евро или изменение процентных ставок в США. Но публика должна верить, что ЕЦБ стоит на страже ее интересов.
Замечательным образцом той же практики стала финансовая стратегия Евросоюза на 2007–2013 годы. Ее главным приоритетом считается обеспечение устойчивого роста, в соответствии с которым действуют две бюджетные линии: «конкурентоспособность в целях роста и занятости» и «сплочение в целях роста и занятости».
На первую, куда входят научно-техническая политика и инновации, образование, трансъевропейские сети, социальная политика и функционирование единого внутреннего рынка, выделено 9 % всех расходов общего бюджета. На вторую, предполагающую помощь отстающим регионам, пойдут все 36 %. Так традиционная региональная политика Европейского союза (половина средств которой направляется отстающим районам весьма состоятельных западноевропейских стран) оказалась под респектабельной вывеской стратегии устойчивого роста. Гораздо больше лукавства во втором приоритете: под заголовком «сохранение и управление природными ресурсами» скрывается давно не соответствующая времени и непозволительно дорогая для ЕС (43 % всех расходов общего бюджета) сельскохозяйственная политика.
Еще один узел сильных и во многом скрытых эмоций связан с расширением на восток. Многие жители Западной Европы отнеслись к этому с недоверием: они резонно опасались перераспределения бюджетных средств в пользу новых бедных окраин. Жителей Центральной Европы перспектива вступления в ЕС окрыляла и вдохновляла. Они были полны самых светлых надежд, в том числе на значительный подъем уровня жизни. Членство в клубе преуспевающих стран решало и вопрос престижа, являлось источником национальной гордости, средством изжить комплекс «младшего брата».
В то же время философия Копенгагенских критериев и осуждение всего, что имело место в советском блоке, вызывали острое чувство неполноценности. Страны-кандидаты в лице своих лидеров и элит принялись доказывать Западу, что они всегда были стопроцентными европейцами. Перед сторонним наблюдателем представала по-настоящему грустная картина. В некоторых странах всплыли обиды по отношению к новым партнерам. На повестку дня вышли проблемы, уходящие корнями во Вторую мировую войну и послевоенное устройство мира.
Многие в государствах Центральной Европы оказались не в состоянии принять собственную историю. Это привело к распространению фантазий о старых добрых временах. А так как большинство рассматриваемых стран появились на карте после Первой мировой войны, то объектом воспевания стал межвоенный период, отмеченный разгулом национализма и жестокости. Подобными измышлениями обезболивались и более свежие обиды. Например, в официальном издании «Эстонский паспорт» говорилось, что в 1980 году олимпийскую регату в Таллине бойкотировали свыше 60 стран мира в знак солидарности с оккупированной Эстонской Республикой.
Вольно или невольно Брюссель совершает крупную ошибку, изымая из общественного дискурса тему социалистического прошлого стран ЦВЕ. Ее серьезное осмысление, как правило, подменяется идеологизированной карикатурой. По сути, жизнь двух либо трех поколений – отцов, дедов и прадедов нынешних молодых венгров, поляков, чехов – окружена заговором молчания или порицания. Но без уважения к своим предкам, к истории своей страны не может быть подлинного чувства собственного достоинства, дающего силы принимать жизненно важные решения.
Почему Евросоюз избегает данной темы, понятно. Дискуссия о советском прошлом лишит его нынешние ценности и с трудом формируемую европейскую идентичность четких контуров. Брюссель также не спешит выступить с собственной официальной позицией, избегает разногласий в обществе и очередной корректировки координат в отношениях с США, Россией, государствами СНГ.
Однако опасность данной практики заключается не только в том, что Европа играет своими ценнейшими активами – демократией и рациональным мышлением. Ее продолжение может привести к тому, что страны Центральной Европы не почувствуют себя полноценными участниками объединения, не проникнутся его общими целями и не сумеют нести ответственность за его будущее. Пока данное предположение подтверждается. Неоднократно на самых разных уровнях я задавала коллегам из стран Центральной Европы вопрос о том, какой вклад они готовы внести в достижение общих целей Европейского союза. Каждый раз он вызывал непонимание, удивление или растерянность. И ни разу я не получила ответа по существу.
Снижение инициативности, неготовность делать будущее собственными руками, неумение творчески осмысливать происходящее – величайшие грехи эпохи глобализации. Утверждение лучших мировых стандартов, инновации, способность к многомерному восприятию действительности, высокая степень принятия себя и других – ее важнейшие достижения. Это касается как ЕС в целом, так и всех стран-членов. Новая модель европейской интеграции отвечает условиям глобализации лучше, чем предыдущая, но и управление ею гораздо сложнее.
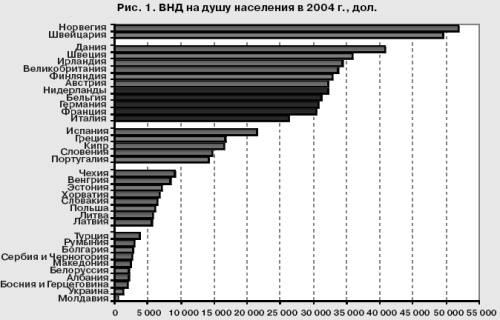
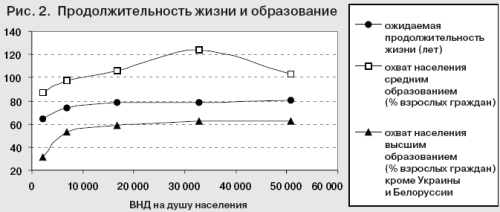
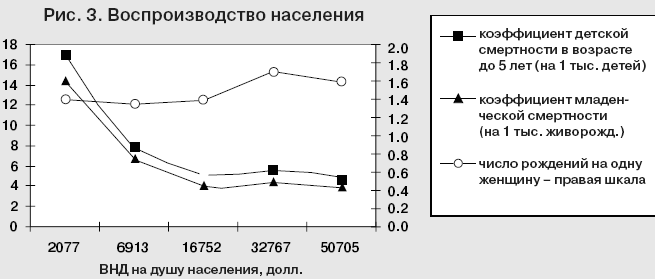
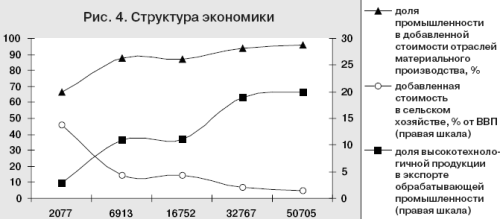
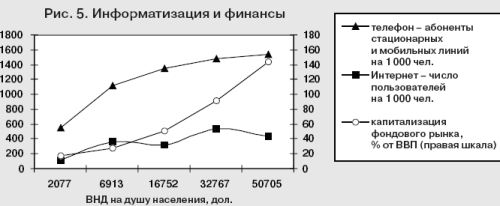
С каждым годом количество погибших российских туристов как за рубежом, так и в России продолжает расти. По подсчетам Клуба защиты прав туристов РФ, каждый год за рубежом гибнет от 300 до 500 наших соотечественников. Еще столько же, а чаще всего и больше отдыхающих погибает в России. Корреспондент "Труда" попытался разобраться, почему отдых для сотен наших туристов превращается в лотерею со смертью.
Что произошло в Египте, сейчас выясняет следствие. Но по нашим данным, история с 67-летней Лидией Ланда как под копирку списана с множества несчастных случаев с российскими дайверами на Красном море. Пожилая женщина вышла в море с местными аквалангистами, которые обучали ее подводному плаванию... На лодку женщина уже не вернулась. Что произошло на глубине, неизвестно, но обнаружили пропажу пожилой россиянки, лишь когда спасти ее было уже невозможно. С 34-летней Марией история другая. В минувшую среду Маша взяла напрокат квадроцикл и вместе со своей группой поехала кататься недалеко от курортного городка Шарм-эль-Шейх. Неудачный поворот руля - и девушка оказалась на земле со сломанной шеей.
И ладно бы погибшие были отважными первопроходцами среди жутких дикарей-каннибалов в экзотических странах. Увы, это не так. Основная доля наших туристов за рубежом погибает в Крыму, Турции и Египте. Это лидеры печальной статистики с россиянами за рубежом.
И хотя российский МИД опубликовал список стран, куда ездить для россиян опасно для жизни, в общей массе погибших эти регионы не занимают и двух процентов. Кстати, как сообщили "Труду" в департаменте консульской службы МИДа, статистики погибших за рубежом россиян они не ведут.
"ПОСЛЕ ЛИТРА ВЫПИТОЙ..."
Пьяный, с больным сердцем на жаре... Как ни странно, но именно так выглядит среднестатистический погибший российский турист. Первое место по смертям занимают сердечно-сосудистые заболевания и пьяные загулы. В среднем каждый день в мире умирает два российских туриста.
- От этих цифр сложно уйти, - считает председатель Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко. - И, к сожалению, с каждым годом эти цифры растут. Уровень жизни граждан повышается, и все больше едут отдыхать. Соответственно и смертельных случаев больше. За рубежом гибнет 300-500 в год человек и чуть больше в России - 400-600. То есть цифра медленно подползает к тысяче. И бороться с этим очень тяжело.
В ТУРЦИИ ТОНУТ ДЕТИ, А В ЕГИПТЕ ТУРИСТЫ ПОПАДАЮТ В ДТП
Для каждого курорта есть свои, специфические причины смерти. Так для Турции очень серьезна проблема гибели маленьких ребятишек в бассейнах. Родители часто оставляют их одних, и малышня тонет. Похожая проблема есть и в Египте, но там сейчас заняты другой, более важной миссией. Обучением ПДД местных водителей. Хотя получается это с трудом. Каждый год на египетских дорогах гибнет более 5 тысяч человек, и туристов среди них очень много.
САМЫЕ ГРОМКИЕ СЛУЧАИ ГИБЕЛИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- 5 февраля 2005 года. В гостинице китайского города Хэйхэ между гражданином России и гражданином КНР возник конфликт, переросший в массовую драку. В результате один из россиян - Олег Черпак из Благовещенска от полученных ножевых ранений скончался, еще пятеро были госпитализированы.
- 18 августа 2006 года. В баре турецкой Антальи местный житель открыл беспорядочный огонь из автоматического оружия. Среди убитых Ольга Юшина из Липецка.
- 24 февраля 2007 года. В Таиланде на пляже застрелены Любовь Свиркова и Татьяна Цимфер, приехавшие из Кемерова.
- 25 февраля 2007 года. В китайском городе Хэйхэ на гражданок России Светлану Кутузову и Нину Щербакову совершено вооруженное нападение. Щербакова от полученного ножевого ранения скончалась.
- 8 марта 2007 года. У побережья мальтийского города Слим в море обнаружен труп Ларисы Сафроновой.
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Андрей КРИВЦОВ, зам. директора департамента информации и печати МИД России:
- В последнее время мы фиксируем большое количество происшествий с нашими туристами за рубежом. Это в первую очередь связано с тем, что год от года растет число россиян, выезжающих за границу на отдых. Российские консульские учреждения, особенно в курортных странах, с максимальным вниманием относятся к каждому несчастному случаю или происшествию. Такие случаи не только фиксируются. Людям оказывается максимально возможная помощь, в том числе и материальная. Зачастую приходится заниматься организацией медицинской помощи, срочным выездом на родину, а в отдельных случаях - отправкой тел погибших в различных инцидентах. Наши консульские работники стараются максимально использовать возможности туристических и страховых компаний, которые обеспечивают поездки наших граждан. МИД России, кстати, неоднократно обращался к соотечественникам: не пренебрегать медицинскими страховками, внимательно читать, что в них написано. Надо сказать, что нас услышали, и инцидентов, в том числе со смертельным исходом, уже в этом году стало значительно меньше.
А КАК В ИСПАНИИ?
"Заканчивающийся курортный сезон в Испании прошел намного спокойнее прошлогоднего", - подвел итог заведующий консульским отделом посольства России в Мадриде Дмитрий Верченко. По его словам, одним из самых серьезных инцидентов 2007 года стало ДТП с летальным исходом в Барселоне, когда русскую девушку, да к тому же беременную, сбил испанский внедорожник. А так по всей Испании до сей поры были зафиксированы лишь мелкие правонарушения с участием россиян.
По свидетельству сотрудников нашего генконсульства в Барселоне различные казусы с нашими гражданами происходят там буквально ежедневно. Имеются в виду мелкие дорожно-транспортные происшествия на арендованных автомобилях, драки, кражи, сердечные приступы по причине перепоя или перегрева, которых хоть и достаточно много, но по сравнению с прошлым годом значительно меньше. Захмелевшие русские то и дело тонут "после литры выпитой", но их на Средиземном море научились вовремя вылавливать и откачивать. Правда, о таких "мелочах" испанские правоохранительные органы не спешат сообщать в консульство.
Недавно в теплом море вместе с отдыхающими туристами, среди которых были и россияне, появилась двухметровая акула - испанцам пришлось всех с пляжа эвакуировать. Ходили слухи, что какого-то "русского Ивана" хищники все же слопали. Тем более что, как выяснилось, наши отпускники действительно купались и отдыхали именно там, где была акула, и по их виду можно было сказать, что появление "большой рыбки" только разнообразило их отдых.
СТРАНЫ И РЕГИОНЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РОССИЙСКИМИ ТУРИСТАМИ (C САЙТА МИД РОССИИ):
Албания, Афганистан, Алжир, Ангола, Босния и Герцеговина, Бурунди, Восточный Тимор, Гаити, Гвинея-Бисау, Джамму и Кашмир в Индии, Йемен, Колумбия, Косово, Коморские острова, Конго (бывший Заир), Либерия, Нигерия, Соломоновы острова, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Фиджи, юг Филиппин, Центрально-Африканская Республика, север и восток Шри-Ланки, Эритрея.
В испанской профессиональной армии в этом году число иностранных наемников, в основном из Африки и Латинской Америки, выросло более чем на 35%, что вызывает тревогу профессиональных организаций офицеров, озабоченных состоянием боеспособности Вооруженных сил страны.«Иностранцы составляют уже 6,1% личного состава испанской армии, их присутствие особо ощутимо во флоте и в авиации», – сообщает в воскресенье интернет-издание популярной мадридской газеты Mundо со ссылкой на минобороны Испании.
Газета не приводит причин увеличения числа наемников, однако, в испанской прессе не раз отмечалось, что это явление «вызвано, с одной стороны, нежеланием самих испанцев служить в армии, а с другой – потребностью в военнослужащих в связи с участием Испании в различных международных миротворческих миссиях».
Испанские военные присутствуют сегодня в Афганистане, Косово, Боснии и Ливане. «Руководство минобороны пошло по самому легкому пути: нанимает иностранцев-иммигрантов вместо того, чтобы сделать военную карьеру привлекательной для испанцев. Наша армия, комплектуемая за счет иностранных наемников, постепенно утрачивает боеспособность», – заявил на условиях анонимности полковник испанских ВВС.
Он пояснил, что «наемники из отсталых стран не только не решают проблемы с личным составом, но и, наоборот, создают дополнительные сложности: они не имеют необходимой для современной армии общей подготовки, не обладают личными качествами, которые отличают солдата европейской демократической страны». «Иностранцы вступают в испанские ВС не по призванию, а из-за желания получить испанское гражданство. Получив через пару лет это гражданство, они немедленно покидают армейские ряды, не оправдав даже затрат на обучение», – сказал собеседник агентства.
Озабоченность по поводу состояния армии выразила на минувшей неделе Ассоциация испанских военных, которая призвала правительство и парламент страны восстановить обязательную военную службу, отмененную пять лет назад.
По мнению членов Ассоциации, необходимо восстановить обязательную военную службу для молодежи, которая гарантировала бы надежную оборону страны на случай военного конфликта или крупномасштабных стихийных бедствий.
Всеобщая воинская повинность, которую испанцы отбывали в течение 9 месяцев, была отменена в 2002г. По сведениям минобороны, личный состав большинства подразделений укомплектован сегодня лишь на две трети. Вакансии покрываются как за счет иностранных наемников, так и за счет привлечения в армию женщин (18% личного состава).
По информации директора фабрики «Застава ауто» Зорана Богдановича возобновились переговоры с итальянской фирмой «Фиат», связанные с рассмотрением вопроса поставок продукции фабрики, речь идет об автомобиле «застава 10», производимом по аналогии с итальянским автомобилем «пунто», на рынки стран Балканского региона, а также в перспективе и на рынок России, где начались переговоры с потенциальными партнерами. Фабрика «Застава ауто» до конца 2007г. планирует начать серийное производство автомобиля «застава 10» и может осуществить в месяц сборку около 500 автомобилей данной марки, последующие планы увеличить производство до 6 тыс. автомобилей в год. Поставленное на фабрику оборудование итальянской фирмы «Камао», оцениваемое в сумме порядка 7 млн. евро, и используемые итальянские технологии позволяют выпускать каждые пять минут по одному автомобилю «застава 10», что может существенно влиять на объемы выпуска автомобилей в целом. Экспорт данных автомобилей осуществляется в Хорватию, Албанию, Болгарию, Боснию и Герцеговину и Румынию.
Проводится анализ и изучение российского рынка, а также рынка Украины. Во время визита 17 июля 2007г. на фабрику «Застава ауто» министра торговли и услуг П.Бубало последним было отмечено, что предприятие в ближайшее время подпишет договор о сотрудничестве с фирмой «Опель» и тем самым начнет производство автомобилей двух марок «Опель» и «Фиат», что позволяет осуществить и имеющаяся сервисная база. Однако упомянутые фирмы не будут являться стратегическими партнерами предприятия. Стратегическим партнером будет третья фирма, поиск которой в настоящее время продолжается. Подписание же соглашений о свободной торговле с Украиной, Белоруссией и Турцией, а также наличие аналогичного соглашения с Россией представляет определенный шанс для предприятия «Застава ауто».
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует последующие инвестиции в банковский сектор Сербии. В 2006г. банком было инвестировано 70 млн. евро в «Комерциялну банку», планируются последующие инвестиции на сумму 25 млн. евро, в тоже время государство остается владельцем 38,6%, а ЕБРР владельцем 23,95% капитала банка. По информации председателя правления «Комерциялне банке» В.Цветковича не предполагается изменение структуры управления банком. Также ЕБРР намерен инвестировать в развитие «Чачанска банка», где является владельцем 25% капитала. В 2007г. ЕБРР планирует участие и в «Прокредит банке», что позволит расширить сектор кредитования малых и средних предприятий. Реализация данного проекта оценивается в сумме около 5 млн. евро. Планируется также предоставление займа «Привредному банку Београд» на сумму около 10 млн. евро для осуществления кредитования жилищного строительства. Одновременно намечает расширение присутствия ЕБРР в Боснии и Герцеговине и Македонии.
Европейской комиссией одобрена стратегия финансовой помощи Сербии и другим странам Балканского региона на 2007-09гг., являющимся потенциальными кандидатами на вступление в ЕС. Предусматривается выделение Сербии 572,4 млн. евро, Хорватии – 438,5 млн. евро, Македонии – 210,4 млн. евро, Турции – 1,6 млрд. евро, Албании – 212,9 млн. евро, Боснии и Герцеговине – 226 млн. евро, Черногории – 97,3 млн. евро, Косово – 199,1 млн. евро. Сербией были представлены 80 проектов, которые могли бы рассчитывать на использование предоставленных средств, что уже в 2007г. потребовало бы расходов в сумме около 185 млн. евро.
Компания Global Payments, лидер на мировом рынке услуг по обслуживанию электронных транзакций, объявила сегодня, что ее расположенное в Праге 100% дочернее предприятие Global Payments Europe, s.r.o., заключило соглашение о предоставлении услуг по процессингу платежных карт еще одной компании, входящей в группу Home Credit, - Home Credit Kazakhstan. Компания Global Payments оказывает услуги по процессингу платежей группе Home Credit и входящим в нее компаниям в Чешской Республике и России.Global Payments Europe предоставит Home Credit услуги по авторизации и управлению картами, обеспечив эффективную поддержку выходу финансовой группы на развивающиеся рынки. Global Payments Europe снабдит Home Credit Kazakhstan технологией генерации и печати PIN-кодов. Соглашение продолжает и углубляет длительную традицию сотрудничества между компанией Global Payments Europe и членами группы Home Credit.
«Мы высоко ценим наши отношения с группой Home Credit, которая заметно выросла в последние годы. Чтобы поддержать устойчивое развитие группы, мы разработали надежную и легкую в применении технологию для выхода Home Credit на любой новый рынок, – заявил глава компании Global Payments Europe Петр Седлачек (Petr Sedlacek). – Кроме того, с подписанием соглашения об оказании финансовых услуг в Казахстане, Global Payments Europe выходит на рынки нового, динамично развивающегося Среднеазиатского региона».
«Мы придаем большое значение сотрудничеству с компанией Global Payments Europe. Ее специалисты разработали гибкий и технологичный подход к процессингу наших револьверных кредитных карт, что позволило нам выйти на рынок Казахстана с новым уникальным продуктом, серебряной картой Home Credit», – отметил гендиректор компании Home Credit Kazakhstan Иржи Бадр (Jiri Badr).
«Компании, входящие в группу Home Credit, уже обслуживают 2 млн. владельцев карт, что ставит группу Home Credit в число ведущих операторов платежных карт в Центральной и Восточной Европе. Мы высоко ценим сотрудничество с компанией Global Payments Europe, которая поддержала нас при выходе на казахстанский рынок и при выработке технологических решений для этого шага», – сказал член совета директоров компании Home Credit B.V. Ладислав Хватал (Ladislav Chvatal). Home Credit B.V. является холдинговой и управляющей компанией группы Home Credit.
Компания Global Payments Europe, s.r.o., с центральным офисом в Праге имеет региональные отделения в Москве, Киеве, Варшаве, Братиславе и Сараево. Компания предоставляет финансовым учреждениям комплексный пакет платежных услуг, в т.ч. проведение операций с кредитными и дебетовыми картами, установку и обслуживание банкоматов и POS-терминалов, а также услуг по эмиссии пластиковых карт, таких как управление эмиссионной базой данных и персонализация. Помимо этого компания предоставляет услуги в области электронной и мобильной коммерции, а также услуги по обработке кредитной информации. Патентованная технологическая платформа компании Global Payments Europe стала одной из первых технологий на европейском рынке, полностью соответствующих международным стандартам EMV для микросхемных платежных карт.
Компания Global Payments Inc. является ведущим поставщиком услуг по обслуживанию электронных транзакций для потребителей, продавцов, независимых торговых организаций (Independent Sales Organizations – ISOs), финансовых институтов, правительственных учреждений и транснациональных корпораций, расположенных в США, Канаде, странах Латинской Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Дополнительная информация о компании и предоставляемых ею услугах размещена на корпоративном сайте.
Home Credit Kazakhstan является членом финансовой группы Home Credit Group. Входящие в эту группу компании действуют на рынках потребительского кредитования Центральной и Восточной Европы, а также Средней Азии. Совокупный портфель потребительских займов составил на конец 2006г. 2,7 млрд.долл. США. Группа Home Credit занимает ведущую позицию на рынке потребительского кредитования Чешской Республики (с 1997г.), Словацкой Республики (с 1999г.), Росийской Федерации (с 2002г.) и Казахстана (с дек. 2005г.). В 2006г. группа Home Credit вышла также на рынки Украины и Белоруссии. Home Credit входит в состав международной финансовой группы PPF, которая активно работает на рынках страхования и кредитных услуг, а также предоставляет комплексный сервис в области управления активами.
Совет безопасности ООН в пятницу назначил словака Мирослава Лайчака высоким представителем в Боснии и Герцеговине, осуществляющим ключевые функции внешнего управления. В соответствии с Дейтонским мирным соглашением 1995г., гарантом которого была и Россия, аппарат высокого представителя является высшей инстанцией в этой стране. «Данное решение соответствует и Дейтонскому соглашению, и прежним резолюциям СБ по Боснии и Герцеговине, и достигнутым ранее договоренностям», – сказал постоянный представитель России в СБ ООН Виталий Чурин. Высокий представитель призван содействовать боснийским сторонам в достижении компромиссных решений через политический диалог.
«Исходим из того, что посол Лайчак будет и впредь придерживаться этой линии, предусматривающей задействование по максимуму политико-дипломатических механизмов, поощрение местной инициативы и отказ от практики неограниченного использования «боннских полномочий», – сказал в своем напутствии российский постпред.
Дополнительные «боннские полномочия», которые были приданы высокому представителю в 1997г., эксперты называют чрезвычайными. Условия их применения не ограниченны по времени и детально не прописаны. Словацкий дипломат заменит на это посту представителя Германии Кристиана Шварц-Шиллинга.
Россия готова сделать все возможное для решения энергетических проблем балканского региона, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на балканском энергетическом саммите в Загребе. «Россия как один из мировых лидеров в добыче нефти и газа готова сделать все возможное для решения энергетических проблем региона. Разумеется, на основе баланса интересов и равной ответственности поставщиков, транзитеров и потребителей энергоресурсов», – сказал Путин. Он заявил, что «Россия заинтересована в продолжении переговоров о продаже газа и дальнейшем использовании транзитных возможностей региона, а также строительстве подземных газохранилищ в ряде балканских государств». «Представляет интерес и газификация территорий Македонии с расширением сети газопроводов на Албанию, Южную Сербию и Косово», – сказал президент РФ.
Путин также отметил, что «Газпром» не только поставляет газ в Балканский регион, но занимается реконструкцией газотранспортных систем. «Россия заинтересована в предметных переговорах по продаже газа и его транспортировке и строительстве газовых хранилищ на территории некоторых балканских государств», – сказал Путин.
Президент также сообщил, что российская компания «Лукойл» активно работает Болгарией, Македонией, Румынией и Сербией и уже инвестировала 1,5 млрд.долл. в регион. «Также хорошие перспективы сотрудничества в атомной энергетике», – сказал Владимир Путин. Он отметил, что «Атомстройэкспорт» заинтересован в строительстве в Болгарии АЭС. «Рассчитываем, что контракт будет подписан в течение этого года», – сказал Путин. Российские компании заинтересованы в приватизации и модернизации генерирующих мощностей. «Интерес представляет, в частности, строительство ТЭЦ в Македонии и модернизации электростанций в Боснии и Герцеговине», – сказал Путин.

Буш и генералы
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2007
Майкл Деш руководит кафедрой теории принятия решений по вопросам разведки и национальной безопасности в Школе государственного и общественного управления имени Джорджа Буша-старшего при Сельскохозяйственном и политехническом университете Техаса. Автор монографии «Гражданский контроль над Вооруженными силами» (Civilian Control of the Military) и готовящейся к печати книги «Демократия торжествует?» (Democracy Triumphant?). Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май – июнь) за 2007 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Конфликт между военными и гражданскими руководителями Соединенных Штатов начался не при Джордже Буше-младшем, но действия именно его администрации и пренебрежение мнением военных экспертов усугубили проблему. Новый министр обороны должен восстановить разделение труда, при котором генералы отвечают за тактику, а штатские – за стратегию. В противном случае он рискует еще больше дискредитировать идею гражданского контроля над армией.
РАСКОЛ МЕЖДУ ШТАТСКИМИ И ВОЕННЫМИ
Не секрет, что с началом войны в Ираке отношения между Вооруженными силами (ВС) США и гражданскими чиновниками администрации Джорджа Буша заметно испортились. Согласно опросу, проведенному Military Times, в 2006 году почти 60 % военнослужащих не верили, что штатские в Пентагоне «болеют за их интересы». Доклад межпартийной Группы по изучению положения в Ираке (в нее входил Роберт Гейтс, пока президент не назначил его главой Пентагона вместо Доналда Рамсфелда), опубликованный в декабре 2006-го, содержал прямую рекомендацию «новому министру обороны предпринять все усилия для того, чтобы выстроить здоровые отношения между штатскими и военными». Достичь данную цель предлагалось «путем создания условий, в которых военное командование сможет свободно обращаться с независимыми рекомендациями не только к гражданскому руководству в Пентагоне, но также и к президенту и Совету национальной безопасности».
Однако напряженность в отношениях между штатскими и военными началась отнюдь не с Ирака; иракская проблема просто выявила разлад, существовавший десятилетиями. Во время вьетнамской войны многие офицеры пришли к убеждению: их безусловное подчинение гражданскому руководству способствовало фиаско, и в будущем высшему военному командованию не следует молча соглашаться, когда штатские в Вашингтоне поведут их по пути, ведущему к стратегическим промахам.
Некоторое время после Вьетнама штатские и военные элиты избегали прямой конфронтации. Военное руководство сосредоточило усилия на перестройке Вооруженных сил для ведения традиционной войны против стран – членов Организации Варшавского договора, а гражданские чиновники без особого сопротивления следовали избранной ими тактике. Однако с окончанием холодной войны на поверхность всплыли глубокие разногласия о том, следует ли использовать военных в иных операциях, кроме войн за границей, и как адаптировать военные институты к меняющимся общественным нравам.
Администрация Джорджа Буша пришла в Белый дом, исполненная решимости заново утвердить контроль штатских над военными, и это намерение еще ярче проявилось после 11 сентября 2001 года. Доналд Рамсфелд пообещал «трансформировать» ВС страны и использовать их для ведения глобальной войны против терроризма. Когда чиновники из администрации Буша считали, что, планируя кампанию в Ираке, военное командование демонстрирует чрезмерную осторожность, они без колебаний игнорировали мнение военных о необходимой численности посылаемых войск и конкретном моменте их развертывания. А когда положение в Ираке ухудшилось после падения Багдада, напряженность вновь обострилась.
Отставные генералы требовали увольнения Рамсфелда. В Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) ВС США, как сообщается, существует настолько глубокая озабоченность планами Белого дома по применению ядерного оружия в упреждающей атаке против ядерной инфраструктуры Ирана, что некоторые из его членов угрожали отставкой в знак протеста. В рамках политики «наращивания» в Ирак были дополнительно отправлены десятки тысяч военнослужащих – вопреки рекомендациям значительной части военных.
Поэтому новому министру обороны со многим придется разбираться. В краткосрочной перспективе Гейтс должен разыграть эндшпиль иракской войны, которую, по его признанию, Соединенные Штаты «не выигрывают», но которую ни он, ни президент не хотят «проиграть». Ему предстоит продолжить работу над трансформацией Вооруженных сил США, одновременно пытаясь поднять боевой дух наземных войск, во многом деморализованных в результате непрекращающихся почти четыре года боевых действий в Афганистане и Ираке. Но на успешное решение этих задач Гейтс может надеяться только в том случае, если ему удастся восстановить отношения сотрудничества между гражданскими и армейскими начальниками. Ему необходимо пересмотреть методы осуществления контроля штатским руководством над армией и в то же время прояснить границы легитимного «инакомыслия» военных.
Главное – Гейтсу необходимо признать, что вмешательство Рамсфелда в значительной мере усугубило проблемы в Ираке и не только. Лучшее решение – вернуться к прежнему разделению труда. Гражданские с должным уважением воспринимают профессиональные рекомендации военных, относящиеся к тактической и оперативной сферам. Те же в свою очередь полностью подчиняются решениям по вопросам большой стратегии и политики. Успех пребывания Гейтса в Пентагоне будет зависеть от того, сможет ли он восстановить необходимое равновесие между штатскими и военными.
ОТДАВАТЬ ЧЕСТЬ И ПОВИНОВАТЬСЯ?
Отношениям между высшим военным командованием и его штатскими контролерами присуще напряжение. Вопреки распространенному представлению, дебаты об использовании силы обычно сводятся к противостоянию между упирающимися генералами и воинственно настроенными штатскими. Нынешняя трещина образовалась фактически еще в годы войны во Вьетнаме.
Решение об интервенции во Вьетнаме продвигали в основном гражданские лидеры: президенты Джон Кеннеди и Линдон Джонсон, министр обороны Роберт Макнамара, госсекретарь Дин Раск, помощник президента по национальной безопасности Макджордж Банди, а также поддерживавшая их группа чиновников более низкого ранга. Высшее военное командование с самого начала не испытывало энтузиазма по поводу отправки американских сухопутных сил в Юго-Восточную Азию. Даже после того как гражданские чиновники убедили генералов, что на карту поставлены жизненно важные национальные интересы, у военных оставались серьезные сомнения относительно вашингтонской стратегии ведения наземной и воздушной войн. К лету 1967-го недовольство военных достигло такой степени, что, как сообщается, Объединенный комитет начальников штабов подумывал о коллективном уходе в отставку. Ее не произошло, однако младшие офицеры запомнили вред, причиненный готовностью военного командования отдавать честь и беспрекословно повиноваться в годы войны во Вьетнаме.
В одном из самых запоминающихся фрагментов своих мемуаров бывший государственный секретарь Колин Пауэлл вспоминает, как во время вьетнамской кампании «военные как единая организация не сумели вести прямой диалог ни со своим политическим руководством, ни друг с другом. Командование ни разу не пришло к министру обороны или президенту и не сказало: эту войну нельзя выиграть теми способами, какими мы ее ведем». Книга полковника Х. Р. Макмастера «Преступная халатность» (Dereliction of Duty), давно включенная в список литературы для чтения председателем ОКНШ, демонстрирует, что этот урок Вьетнама как следует усвоен современным офицерским корпусом. Подспудная мысль военного бестселлера Макмастера состоит в том, что принцип безоговорочной лояльности Верховному главнокомандующему ВС необходимо пересмотреть.
Вьетнамский опыт оказался миной замедленного действия, дожидавшейся момента взорвать взаимоотношения штатских и военных. Только холодная война удерживала ее от того, чтобы сработать. Тогда обе стороны соглашались в том, что приоритетная миссия военных – подготовка к традиционной войне в Европе против стран – членов Организации Варшавского договора, и штатские лидеры предоставили военным значительную свободу действий в выборе соответствующих средств. Тем не менее начальник штаба Сухопутных войск генерал Крейтон Абрахамс сознательно перестроил структуру регулярных армейских дивизий таким образом, чтобы их нельзя было привлечь к участию в войне, не задействовав резервистов или «бригад пополнения» Национальной гвардии. Тем самым генерал обеспечил такие условия, при которых будущим президентам придется провести в стране всеобщую мобилизацию для ведения крупномасштабной войны.
Выросший после вьетнамской войны офицерский корпус начал по-настоящему укреплять свои позиции только тогда, когда у руля государства встал Билл Клинтон – первый президент эпохи, наступившей вслед за окончанием холодной войны. Он занял свой пост, уже имея непростые отношения с военными. Значительные сокращения военного бюджета (на 27 % с 1990 по 2000 год) и личного состава (на 33 % регулярного персонала за тот же период), а также амбициозная социальная повестка дня (интеграция гомосексуалистов в ВС страны и разрешение женщинам служить в боевых частях войск) привели к откровенно враждебным отношениям между штатскими и военными лидерами. Значительное повышение темпа военных операций, характеризовавшее развертывание воинских контингентов на Гаити, в Сомали, Боснии и других «горячих точках» планеты, привело только к нарастанию напряжения.
Натянутые отношения Клинтона с военными негативно сказались на его способности выполнить ряд предвыборных обещаний. Раскритиковав администрацию Буша-старшего за ее недостаточные усилия по прекращению кровопролития во время гражданской войны в Боснии, Клинтон пообещал, что будет проводить более настойчивую политику в сфере гуманитарного вмешательства. В ответ Пауэлл (в то время председатель ОКНШ) опубликовал комментарий в газете The New York Times и статью в журнале Foreign Affairs, возражая против такой политики и выступая за более ограничительный характер критериев допустимости применения силы. Эта концепция стала известна как доктрина Пауэлла. Сомнения военных относительно целесообразности наземного вмешательства в Боснии сыграли важную роль в том, что, применяя силу, США ограничились авиационными ударами в августе 1995 года.
Еще одной из первых инициатив Билла Клинтона было намерение положить конец практике Пентагона по недопущению гомосексуалистов к службе в армии. Это положение тоже являлось важным пунктом предвыборной платформы, которому, как сообщается, президент был глубоко привержен в плане защиты гражданских свобод. Однако, когда Клинтон попытался выполнить свое обещание, он попал под яростный огонь критики со стороны военных и оппозиции в Конгрессе. Ему пришлось отступить и согласиться на далеко не идеальный для него компромисс – «не спрашивай и не рассказывай», что не рассматривается большинством аналитиков как реальное изменение политики.
Неудовлетворительные отношения между штатскими и военными, которые омрачили первые годы работы клинтоновской администрации, сохранились до самого конца второго срока президентства Клинтона. К весне 1999-го стало очевидно, что только военное вмешательство заставит президента Сербии Слободана Милошевича прекратить этнические чистки в Косово. Клинтон и его штатские советники, такие, как государственный секретарь Мадлен Олбрайт и помощник по национальной безопасности Сэнди Бергер, выступали за тактику нанесения ограниченных авиационных ударов, сопровождаемых угрозами сухопутной операции. Однако ОКНШ настаивал на более широкой воздушной кампании, сопротивляясь идеям использовать любые угрозы наземных действий.
Через считанные дни после начала войны из Пентагона пошли утечки – мощный поток информации о том, как президент начал интервенцию в Косово вопреки советам военных. В дальнейшем ОКНШ предпринимал равные усилия и для сдерживания кампании в Косово, и для содействия ей – вплоть до проволочек с выделением необходимых сил для проведения операции НАТО под командованием генерала Уэсли Кларка. Обещая предоставить в распоряжение Кларка все необходимое, Пентагон на несколько недель задержал отправку запрошенных ударных вертолетов Apache, а впоследствии так и не позволил ему реально использовать их.
Нет ничего удивительного в том, что военные сопротивлялись многочисленным инициативам администрации Билла Клинтона. В конце концов высшее военное командование, пережив поражение во Вьетнаме, убедилось: штатским нельзя доверять принятие весомых решений, отражающихся как на внутренней организации армии, так и на том, где и как используются ВС. Колин Пауэлл с гордостью рассказывал, как он вместе со своими поствьетнамскими армейскими коллегами «поклялся, что, когда придет [их] время принимать решения, они не станут молчать и соглашаться на войну в полсилы и без достаточно серьезных оснований».
Даже после того как в 1993-м сам Пауэлл ушел в отставку, доктрина, названная его именем, продолжала жить и процветать в Пентагоне. Преемник Пауэлла на посту председателя ОКНШ, генерал Хью Шелтон, сказал мне в ходе интервью в 1999 году: «Я твердо верю в доктрину [бывшего министра обороны Каспара] Уайнбергера, развитую генералом Пауэллом, и считаю, что мы следовали ей» в ходе операции в Косово. Вторя Пауэллу, он утверждал, что ВС должны быть использованы только в самую последнюю очередь. При отправке американских войск для участия в боевых действиях Шелтон предложил учитывать то, что он называл «проверкой Довером»: «Когда тела погибших начнут доставлять на родину, будем ли мы по-прежнему считать, что это служит интересам Соединенных Штатов?» (Довер – название авиабазы в штате Делавэр, куда доставляют тела погибших американских военнослужащих. – Ред.).
БУНТ ШТАТСКИХ
Многие ожидали, что избрание на пост президента Джорджа Буша-младшего в 2000-м приведет к новому золотому веку взаимодействия и доброжелательных отношений между штатскими и военными. В конце концов, Буш боролся за голоса военных, обещая, что к ним «идет помощь» после восьми лет якобы пренебрежения их интересами. В своей речи по случаю выдвижения республиканцами его кандидатуры на должность президента США (август 2000 г.), Буш предостерег: «Нашим Вооруженным силам не хватает технического оснащения, зарплаты и боевого духа. Если Верховный главнокомандующий призовет их сегодня, целых две дивизии вынуждены будут доложить: “Не готовы к выполнению задания”. У нынешней администрации был подходящий момент. У них (демократов. – Ред.) имелся шанс. Они не смогли стать достойными командирами. Мы сможем». Казалось бы, у администрации, в которую входили два бывших министра обороны (Рамсфелд и вице-президент Дик Чейни), а также бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов (Пауэлл), должны были установиться превосходные отношения с высшим военным командованием.
Однако помимо всего прочего Буш вступил в Белый дом с амбициозной повесткой дня в сфере оборонной политики, что сделало продолжение конфликта между штатскими и военными практически неизбежным. В своем выступлении в «Цитадели» (военное училище в штате Южная Каролина. – Ред.) в сентябре 1999 года Буш заявил, что намерен «заставить» военных «думать по-новому и принимать сложные решения». В первые несколько месяцев работы новой администрации Рамсфелд начал трансформировать американские Вооруженные силы в направлении, которое, как надеялись и он сам, и другие гражданские чиновники, должно было привести к «революции в военных вопросах».
Это незамедлительно вызвало трения с военным руководством и их союзниками на Капитолийском холме, у которых были серьезные претензии как к стилю работы нового министра обороны, так и к сути его политики. Рамсфелд отмахнулся от подобной озабоченности. «Если это кому-то не нравится и их восприятие таково, что это их задевает, мне жаль, – заявил он пресс-службе Пентагона. – Но такова жизнь, потому что перед нами стоят серьезные задачи, и мы должны их успешно выполнить. Мы должны их выполнить хорошо. Конституция устанавливает гражданский контроль над данным ведомством. Я – гражданский. И, поверьте мне, мы тут добились грандиозных успехов. Мы столько осуществили за последние два года! А такого не сделаешь, если просто стоять, заткнув уши, и надеяться, что всем вокруг это нравится».
Некоторые романтики-военные, такие, как адмирал Уильям Оуэнс и вице-адмирал Артур Сибровски, примкнули к стану адептов трансформации. Но Рамсфелд не доверял даже тем людям в мундирах, которые, как казалось, поддержали его революцию. Трансформация, считал он, произойдет, только если гражданские будут подталкивать этот процесс и управлять им. В результате к осени 2001-го отношения Рамсфелда с высшим военным командованием и руководством Конгресса стали хуже некуда. Многие наблюдатели предсказывали, что именно он станет первой «кабинетной» потерей в администрации Буша.
Теракты 11 сентября 2001 года и начальные стадии глобальной войны с терроризмом в Афганистане обусловили временное перемирие между Рамсфелдом и высшим военным командованием. Но как только администрация Буша дала понять, что рассматривает Ирак как следующий фронт (взгляд, не разделявшийся большинством профессиональных военных), перемирие было нарушено. Столкнувшись с тем, что представлялось им непримиримостью военных, Рамсфелд и заместитель министра обороны Пол Вулфовиц без особых угрызений совести вмешивались в решение таких вопросов, как надлежащая численность войск и фазы их развертывания для проведения операции «Иракская свобода».
Самым явным проявлением настроя штатских на игнорирование мнения профессиональных военных по тактическим и оперативным вопросам стал эпизод, когда Рамсфелд бесцеремонно отмахнулся от расчетов необходимой численности войск, подготовленных начальником штаба Сухопутных войск генералом Эриком Шинсеки. В феврале 2003-го, выступая перед Конгрессом, Вулфовиц отмел прогноз Шинсеки о том, что Соединенным Штатам понадобится не меньше «нескольких сотен тысяч военнослужащих» для послевоенных операций по стабилизации. По мнению замминистра обороны, данные оценки «были серьезно преувеличенными». Вулфовиц одержал верх.
Когда такие «послевоенные» операции оказались проблематичными, упреки и взаимные обвинения между недавно ушедшими в отставку генералами и штатским руководством в администрации Буша обнажили постоянные противоречия в отношениях между гражданскими и военными лидерами Соединенных Штатов. Генерал-лейтенант Грегори Ньюболд, бывший директор по оперативным вопросам ОКНШ, в своей острокритической статье в журнале Time написал: он «искренне считает… что отправка [американских] войск на эту войну была произведена с такой небрежностью и чванством, какие присущи только тем, кому никогда не приходилось выполнять подобные миссии или хоронить павших товарищей». Ньюболд присоединился к множеству других недавно ушедших в отставку генералов, в том числе генералу Энтони Зинни (экс-глава Центрального командования), генерал-майору Полу Итону (бывший руководитель миссии по военной подготовке иракской армии), генерал-майору Джону Риггсу (бывший начальник рабочей группы по реформированию армии) и генерал-майорам Чарлзу Суоннаку и Джону Батисте (бывшие командующие дивизиями в Ираке), которые требовали отставки Рамсфелда. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Military Times, 42 % американских военнослужащих не одобряют то, как президент Буш ведет войну в Ираке.
Осенью 2006 года Белый дом и не входящие в администрацию влиятельные «ястребы» в конце концов согласились с тем, что численность американских войск недостаточна для удержания под контролем проблемных районов Ирака. Но к тому времени высшее военное командование в Ираке пришло к выводу, что силы США сами составляют скорее часть проблемы, чем ее решение, поскольку повстанческое движение перешло в межконфессиональную войну. Поэтому вместо того чтобы просить прислать дополнительные воинские части, как они делали в период подготовки к войне, многие высшие командиры в Ираке стали утверждать, что Соединенным Штатам необходимо снизить активность и сократить зону своего присутствия. По данным Military Times, план по увеличению численности войск получил поддержку менее 40 % населения.
В ноябре генерал Джон Эбизейд, нынешний глава Центрального командования, заявил в сенатском Комитете по делам Вооруженных сил, что «не верит, будто увеличение численности американских войск является на данный момент решением проблемы» в Ираке. В ответ на настойчивые расспросы сенатора-республиканца Джона Маккейна Эбизейд пояснил, что «встречался со всеми командирами дивизий, с командиром корпуса генералом [Джорджем] Кейси, с генералом [Мартином] Демпси [главой Командования многонациональных сил по обеспечению безопасности в Ираке]. …И я спросил: “Пойди мы сейчас на увеличение численности американских войск, смогло бы это, по вашему профессиональному мнению, значительно расширить наши возможности добиться успеха в Ираке?” И все они ответили: нет».
Эбизейд и другие высшие военные руководители США считают, что рост числа американских военнослужащих в Ираке приведет к обратным результатам. Как объяснил Эбизейд в телепрограмме «60 минут», «всегда существовало это противоречие между тем, что можем сделать мы, а что делают иракцы. Мы могли бы, конечно, попытаться все сделать в Ираке своими руками, но таким путем страну не стабилизировать». Давая показания на слушаниях в Конгрессе, он отметил: «Мы можем завтра отправить еще 20 тысяч американцев и добиться временного эффекта… [но] когда вы посмотрите на совокупность американских сил, которые там сейчас находятся, то поймете: мы просто не располагаем сейчас способностью сохранять такое присутствие, учитывая численность Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты». Однако, несмотря на эти протесты, штатские в Вашингтоне снова одержали верх над военным руководством, что и привело к нынешней политике «наращивания».
ШТАБНЫЕ КРЫСЫ
Почему отношения между штатскими и военными обострились при администрации Буша? В книге «Возвышение вулканцев» (Rise of the Vulcans) Джеймс Манн рассказывает, что ключевые штатские чиновники в занимавшейся вопросами национальной безопасности команде Буша (эта команда называла себя «вулканцами» по имени древнеримского бога огня, 55-метровая статуя которого установлена на родине бывшего помощника президента по национальной безопасности Кондолизы Райс. – Ред.) полагали, что администрация Клинтона не сумела удержать военных в узде. Известно, что Рамсфелд считал гражданский контроль над военными основной функцией министра обороны. Вместе с Вулфовицем и другими высшими чиновниками администрации он пришел на свой пост, будучи убежденным в том, что потребуется более настойчивое вмешательство гражданских в дела армии, с тем чтобы преодолеть ведомственное местничество и бюрократическую инерцию.
После 11 сентября 2001-го Рамсфелд и другие штатские – сторонники войны, которая поставила бы своей целью свержение иракского режима, осознали: основным препятствием началу такой войны – и проведению ее с использованием минимальных сил (что соответствовало взглядам Рамсфелда на трансформацию американских ВС) – является высшее руководство армии США.
Вместо того чтобы прислушиваться к предостережениям профессиональных военных, они преисполнились решимости преодолеть как широко распространенный в среде военных скептицизм по отношению к войне, так и, как им казалось, бюрократическую инерцию, определявшую представления военного ведомства о численности и составе войск, необходимых для выполнения миссии. Тот факт, что именно Вулфовиц, а не Шинсеки одержал верх в дебатах о численности войск, необходимой для ведения войны в Ираке, показывает, насколько успешны усилия администрации Буша по упрочению власти штатских чиновников над военными.
Члены администрации, решительно настроенные на восстановление гражданского контроля, были готовы даже сами погрузиться в оперативные вопросы, такие, как определение численности сил и составление графика их развертывания. Как вспоминает бывший министр Сухопутных войск Томас Уайт, Рамсфелд хотел «показать всем в структуре, что он несет ответственность за все и собирается руководить, возможно, еще более досконально, чем предыдущие министры обороны, и что он намерен заниматься операционными вопросами». Столь глубокий характер гражданского контроля не мог не усилить трения с военными.
В своем содержательном труде «Солдат и государство» (The Soldier and the State), посвященном отношениям между гражданскими и военными, Самьюэл Хантингтон предложил систему, позволяющую установить баланс между компетенцией военных и всеобъемлющим политическим верховенством гражданских; эту систему ученый назвал «объективный контроль». Хантингтон рекомендовал, чтобы гражданское руководство предоставило профессиональным военным значительную автономию в тактической и оперативной сфере в обмен на их полное и безусловное подчинение гражданскому контролю в вопросах политики и большой стратегии. Хотя эта система не всегда находила практическое выражение, она в течение 50 лет формировала представление о том, как гражданским властям следует осуществлять надзор за ВС США. Когда ее не нарушали, она приводила и к хорошим в целом отношениям между штатскими и военными, и к разумным политическим решениям.
Администрация Буша предпочла фундаментально иной подход к гражданскому контролю. Чиновники администрации опасались, что если гражданские не будут агрессивно и неустанно подвергать сомнению политику и решения военных на всех уровнях, то им не удастся выполнить задачи радикальной трансформации Вооруженных сил и перехода к совершенно новым способам их использования. Бывший член Совета по оборонной политике Элиот Коэн, которого госсекретарь Кондолиза Райс недавно назначила на должность советника Госдепартамента, дал интеллектуальное обоснование такому усилению вмешательства. Его работу «Верховное командование» (Supreme Command) читали многие высшие чиновники из тех, кто входит в команду Буша, занимающуюся вопросами национальной безопасности. Говорят, что эта книга даже оказалась на прикроватной тумбочке в спальне президента в Кроуфорде (штат Техас).
Основная идея Коэна состоит в том, что для военного успеха совершенно необходимо вмешательство гражданских не только на стратегическом, но и на тактическом и оперативном уровне. Чтобы преодолеть сопротивление или некомпетентность военных, гражданскому руководству необходимо быть готовым глубоко «зондировать» военные вопросы посредством «неравного диалога» с подчиненными им профессиональными военными. Комментируя в мае 2003 года деятельность администрации Буша, Коэн с одобрением отметил, что «Рамсфелд производит впечатление весьма активного министра обороны, действия которого вполне вписываются в рамки поведения, необходимого для правильного военно-гражданского диалога. Он подталкивает, изучает, сомневается, но, как мне кажется, не навязывает военным детального плана действий. [По Ираку] администрация Буша поддерживала чрезвычайно интенсивный диалог с высшим военным командованием, и, по-моему, это было правильно». Даже в конце апреля 2006-го Коэн все еще считал, что «можно многое сказать в защиту министра обороны Доналда Рамсфелда, возражая на недавние нападки полудюжины генералов в отставке», критиковавших министра за то, как он и его помощники вели войну в Ираке.
К несчастью, все пошло не по плану, и в ретроспективе кажется, что для Соединенных Штатов было бы гораздо лучше, прочитай Буш во время летнего отпуска в 2002 году книгу Хантингтона «Солдат и государство», а не «Верховное командование» Коэна. Учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию в Ираке (а это прямой результат намеренного небрежения советами военных), наследием Буша в отношениях между штатскими и военными, скорее всего, станет нечто прямо противоположное тому, на что рассчитывала его команда, – дискредитация самого понятия гражданского контроля над военными.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ
Положение, в котором оказался министр обороны Роберт Гейтс, сложно вдвойне: в деле трансформации Вооруженных сил США достигнуто мало реального прогресса, а Вооруженные силы втянуты в конфликт, к которому даже сам руководитель военного ведомства относится без оптимизма. Хуже того, он вынужден заниматься этими проблемами в атмосфере явного охлаждения отношений между штатскими в администрации Буша и высшим военным командованием. Бывший министр Сухопутных войск Уайт отметил, говоря об общем наследии Буша и Рамсфелда: «По определению [министры обороны] являются штатскими. У некоторых в молодости мог быть опыт службы в армии, однако их работа, помимо прочего, состоит в том, чтобы выслушивать мудрые советы военных, обдумывать их, в большей степени доверять им, а затем принимать решения. Вопрос в том, не потеряли ли мы равновесие в этой сфере? Мне кажется, они зашли слишком далеко». Таким образом, главная проблема Гейтса – восстановление баланса между штатскими и военными.
Разумеется, Гейтс не может и не должен избегать обязанности осуществлять гражданский контроль над Вооруженными силами. В демократической политической системе решения о войне и мире должны приниматься не солдатами, а избирателями через избранных ими лидеров. Однако в то же время Роберту Гейтсу необходимо приветствовать, а не отметать откровенные советы высшего военного командования, даже если они идут вразрез с политикой администрации.
Право и долг военных – быть выслушанными. В конце концов, военнослужащие являются экспертами в вопросах ведения войн, и именно их жизни в конечном счете ставятся на кон. Если старшие офицеры чувствуют, что их рекомендации игнорируют или что им отдают приказы, не соответствующие моральным нормам, они должны уходить в отставку. И действительно, если бы Шинсеки либо Ньюболд уволились в период подготовки войны в Ираке, этот шаг стал бы очень ярким показателем скептического отношения военных к этой войне и куда более эффективным фактором, чем протесты постфактум. Угрозы членов Объединенного комитета начальников штабов уйти в отставку, возможно, влияют на политику администрации в отношении Ирана (включая крушение планов по применению ядерного оружия против иранских укрепленных ядерных сооружений). Но за исключением подобных чрезвычайно серьезных случаев, высказав свое мнение, старшие военные офицеры должны отдать честь и подчиниться.
По иронии судьбы генерал Дэвид Петриус, недавно назначенный командующим объединенными силами в Ираке, возглавляемыми США, в прошлом писал о неспособности высшего военного командования откровенно говорить о войне во Вьетнаме и о том, как это повлияло на последующие отношения между штатскими и военными. Петриус сам сейчас находится в положении, позволяющем выступать с рекомендациями в адрес и администрации, и нового состава Конгресса с демократическим большинством. Во время слушаний о его утверждении в должности, прошедших в сенатском Комитете по делам вооруженных сил, Петриус пообещал, что будет давать «самые полезные профессиональные военные советы, а если они окажутся не по вкусу, пускай поищут кого-нибудь другого». Остается надеяться, что генерал будет высказываться откровенно, а Гейтс – к нему прислушиваться.
Должное равновесие сохранит за гражданским руководством право принимать политические решения. Например, о том, оставаться ли Соединенным Штатам в Ираке, или следует ли им применять силу против Ирана. У военных же останутся широкие полномочия самостоятельно принимать тактические и оперативные решения о путях и способах выполнения данной миссии. Граница между двумя зонами ответственности не всегда является идеально четкой, и иногда военные соображения влияют на политические и наоборот. Однако альтернатива – вмешательство гражданских в сферу компетенции военных – почти так же плоха, как и участие военных в политике. Каждый раз, когда баланс между штатскими и военными нарушается в ту или в другую сторону, страдает вся страна.
Совет Евросоюза назначил нового специального представителя ЕС в Боснии и Герцеговине, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС. Решение принято главами МИД 27 стран-членов ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге. 44-летний Мирослав Лайцак, гендиректорполитической секции МИД Словакии и бывший личный представитель верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы в Черногории, 1 июля сменит на посту нынешнего представителя ЕС в Боснии и Герцеговине Кристиана Шварц-Шиллинга. Лайцак закончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности специалист по международным отношениям. В пресс-релизе отмечается, что Лайцак «продолжит консультировать ЕС по вопросам налаживания политического процесса» в регионе, следить за тем, чтобы «власти Боснии и Герцеговины сотрудничали с Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ)», а также «поддерживать процесс подготовки и реструктурализации полиции в рамках тесного сотрудничества с полицейской миссией ЕС (Eupm)».
Новое назначение приветствовал Хавьер Солана. «Я рад, что Совет ЕС назначил Мирослава Лайцака специальным представителем ЕС в Боснии и Герцеговине по моей рекомендации. Лайцак – дипломат высшего ранга с большим опытом работы по европейским и балканским вопросам», – цитирует пресс-служба заявление Соланы.
Турция вывела свою бригаду особого назначения из состава международных сил Евросоюза Eufor. Она уведомила об этом штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, сообщает в четверг турецкая газета «Сабах». По утверждению издания, принятое решение стало ответом Анкары на отказ командования Eufor признать за турецкой стороной право на управление миротворческими подразделениями Евросоюза, несмотря на поддержку турками операций Евросоюза в различных точках планеты, в частности в Боснии и Герцеговине и в Конго. «Впервые в истории ЕС из состава его международных сил полностью выводится бригада одной из стран, усиленная авиацией и кораблями», – пишет «Сабах». «Этим жестом Анкара дает понять, что Турция больше не выделит свою специально сформированную бригаду для проведения операций под руководством Евросоюза», – отмечает газета. По информации «Сабах», решение турецкой стороны вызвало шок в Брюсселе. По ее данным, для урегулирования возникшего кризиса на будущей неделе в Анкару прибудет генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер. Газета также отмечает, что на принятии Анкарой решения о выводе своей бригады из состава международных сил Eufor сказалось невыполнение Евросоюзом своих обязательств, в т.ч. в вопросе подписания соглашения с Турцией о сотрудничестве в области безопасности. Официальные лица в Анкаре пока никак не прокомментировали публикацию «Сабах».
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























