Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
«Потолок» цен на российскую нефть могут ужесточить страны G7
Bloomberg: Страны G7 могут изменить price cap для российской нефти
Страны G7 готовят ужесточение ценового потолка на российскую нефть, собираются представить документ к 24 февраля
Страны G7 могут пересмотреть price cap на российское черное золото для его ужесточения или адаптации для снижения доходов РФ, пишет Bloomberg.
Заявление по этому вопросу ожидается 24 февраля, пишет агентство. Пока идут обсуждения, так как не все участники «Большой семерки» согласны.
«Трудно сказать наверняка, как ужесточение или адаптация ограничения будет выглядеть на практике. Хотя более низкая цена может быть одним из вариантов, другим может быть попытка усилить исполнение текущей меры», — также указано в материале.
«НиК»: «потолки» цен на нефть российских компаний, а также страны G7 ввели в конце 2022 года, на нефтепродукты — в начале 2023 года. В ответ глава России Владимир Путин запретил экспортировать эти продукты, если в договоре на поставку прямо или косвенно будет использован «потолок» цен (price cap).
Отметим, что для нефти «потолок» составляет $60 за баррель. До недавнего времени страны ЕС, особенно Польша, а также прибалтийские государства предлагали снизить price cap до $40 за баррель. Выражение «адаптация» прозвучала в связи с изменением «потолка» цен впервые.
В Эр-Рияде Вашингтон и Москва договорились продвигать двусторонние отношения
Россия и США продолжат переговоры — потоки нефти пока остаются на прежних рынках
После переговоров в Эр-Рияде представитель российской делегации, помощник презента РФ Юрий Ушаков сделал несколько заявлений.
По его словам, переговоры прошли хорошо, Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения.
При этом он уточнил, что пока трудно говорить о сближении позиции Москвы и Вашингтона, а также, что встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе.
А вот Майк Уолц со стороны США сказал, что Трамп собирается можно быстрее провести переговоры по потенциальному мирному соглашению на Украине и переговоры о территориях и гарантиях безопасности.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, входящий в состав делегации в Эр-Рияд на переговоры со Штатами, заявил, что по экономическому сотрудничеству, включая цены на энергоносители, прошли отдельные переговоры.
Позже Госдеп США подчеркнул, что одной встречи слишком мало для урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что это лишь первый шаг, к переговорам привлекут ЕС в обязательном порядке, а с итоговым мирным соглашением должны согласиться все стороны (очевидно, Украина в первую очередь).
«НиК»: для нефтяного рынка пока все остается без изменений. При этом ранее Bank of America прогнозировал, что стоимость нефти может пойти вниз, подешеветь на $5-10 после остановки украинского конфликта и возвращения российских баррелей на традиционный европейский рынок.
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтегазовых компаний в РФ
Дмитриев считает, что у Штатов был успешный бизнес в России, так зачем им отказываться от него
Американские нефтекомпании могут вернуться в Россию, считает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью NYT. «Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?» — цитируют Дмитриева агентства.
Бизнес американских нефтекомпаний в РФ до начала СВО он назвал успешным, а также заявил, что на переговорах в Эр-Рияде «постарается восстановить доверие», чтобы перезапустить отношения. Каким именно образом, он не уточнил.
В целом глава РФПИ высказал мнение, что США при Трампе начали стараться выслушать и понять позицию России, а это первый шаг к диалогу.
«НиК» напоминает, что сегодня в Эр-Рияде идут переговоры глав МИД США и РФ, основная тема — урегулирование украинского конфликта. Впрочем, есть еще ряд тем, которые будут затронуты, например, санкции (но не возобновление прокачки газа в ЕС по «Северному потоку-2», также говорил Дмитриев в интервью).
Пока итогов переговоров нет, и надеяться, что эти переговоры станут прорывными, конечно, не стоит. Это первая встреча за много лет — договоренности вряд ли будут конкретными и оформленными.
Зато есть ярко выраженная негативная реакция Европы, поскольку ЕС, тем более Украина, в переговорах не участвуют. Так, верховный комиссар ЕК по вопросам конкуренции Тереза Рибера из Испании заявила, что «Трамп разрушил отношения США и ЕС». В то время как ЕС пытается найти точки соприкосновения по плану Трампа вводить заградительные пошлины на импорт, в том числе из европейских стран, на переговоры ЕС не берут. Впрочем, заявление Риберы «мы не будем торговаться демократическими принципами» упоминаний Украины не содержало, однако оно сделано именно в тот момент, когда западные СМИ подчеркивают отсутствие представителей ЕС на переговорах РФ-США.
В итальянском порту взорван мальтийский танкер с нефтью из РФ
Танкер Seajewel под флагом Мальты взорвали неизвестные в Савоне, утечек с судна нет
На нефтеналивном судне Seajewel под флагом Мальты прозвучало два взрыва, когда танкер пришел с грузом предположительно российской нефти из Алжира в итальянский порт Савона, сообщает IVG. Импорт нефти из РФ в страны ЕС морским путем запрещен с декабря 2022 года, напоминает «НиК».
Экипаж сообщил, что сталь на корпусе корабля после взрывов прогнута внутрь. Это может указывать на то, что взрывчатка была прикреплена снаружи, пока разгрузка судна прекращена.
Отмечается, что разлива нефти не произошло. Итальянская береговая охрана ведет расследование инцидента с привлечением водолазов. Издание Corriere della Sera сообщает, что карабинеры рассматривает несколько версий ЧП, в том числе поломку, столкновение и теракт.
«НиК»: видимо, европейцы смогут на собственной шкуре понять, что такое танкерная война. Напомним, что ранее, 9 февраля, взрывы прогремели на танкере «Коала», который готовился к выходу из Усть-Луги. Судно было загружено 130 тысячами тонн мазута.
Танкерная война — это термин, которым обозначают нападения на нефтеналивные суда в Персидском заливе и Ормузском проливе с 1980 по 1988 годы. Тогда пострадало порядка 500 судов и более 30 млн т грузов.
Глава РФПИ Дмитриев о переговорах РФ-США: Двум странам нужны совместные проекты
РФ и США нуждаются в сотрудничестве, но тема возобновления прокачки газа из РФ в Европу по «Северному потоку» вряд будет подниматься на встрече в Эр-Рияде, считает Дмитриев.
В Эр-Рияде идут переговоры руководства России и Соедмненных Штатов — первые за многие годы полного отсутствия контактов официальных лиц двух держав. От России — глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, также задействован руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Представители от США — госсекретарь Марко Рубио, помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник США, курирующий Ближний Восток, Стивен Уиткофф.
Непосредственно перед началом встречи Дмитриев обозначил возможные темы для обсуждения между двумя государствами. Он предположил, что Москва будет выступать с предложениями для Вашингтона в экономической отрасли. Двум странам пора реализовывать совместные проекты, даже в арктическом регионе, сказал Дмитриев.
Между тем, предположил он, тема возобновления отправки российского газа в Европу по уцелевшей ветке «Северного потока-2» вряд ли будет обсуждаться.
«НиК» отмечает, что Дмитриев задал верный тон для комментариев вокруг переговоров РФ-США. Новый американский лидер Дональд Трамп предпочитает все проблемы урегулировать посредством бизнес-сделок, а значит, Россия должна что-то предложить Америке, чтобы та способствовала разрешению военного конфликта на Украине. Ибо первопричиной встречи РФ-США на высшем уровне является именно окончание военных действий на Украине.

Совещание с членами Правительства
Президент провёл совещание с членами Правительства. Встреча прошла в формате видеоконференции в ходе рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург.
Основная тема обсуждения – результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году.
В начале совещания рассмотрен ряд актуальных вопросов.
* * *
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
У нас сегодня основной вопрос – результаты диспансеризации взрослых и детей в 2024 году. Татьяна Алексеевна Голикова расскажет нам и о результатах этой работы, и о том, как идёт этот процесс сейчас, что нужно сделать дополнительно.
Начать я бы хотел с темы достаточно острой. Если вы обратили внимание, я недавно встречался с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Он докладывал о том, что сделано было, для того чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации, после того как украинские воинские формирования и наёмники зашли в некоторые районы Курской области.
Как докладывал исполняющий обязанности губернатора, все граждане, потерявшие имущество, получили положенные денежные выплаты, компенсации. На сегодняшний день 80 процентов семей, потерявших кров, получили денежные выплаты на приобретение и строительство нового жилья, почти 10 тысячам семей выделены средства, чтобы арендовать жильё.
Тем не менее Александр Евсеевич после встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно, имея в виду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора, и Правительство подготовить и внести соответствующие предложения.
Антон Германович, знаю, что с Минфином работали областные власти. О чём договорились?
А.Силуанов: Спасибо, Владимир Владимирович.
Я сначала кратко хотел доложить, что Ваше поручение по оказанию поддержки жителям приграничных районов области выполняется в полном объёме. Осуществляются выплаты пенсий, пособий, социальных выплат. Осуществляется выплата частичной компенсации заработных плат работникам организаций, приостановивших деятельность. Предоставляются жилищные сертификаты, осуществлены выплаты в размере 150 тысяч гражданам за утрату имущества. Всё, что Вы поручали, беспрекословно обеспечивается финансированием, и, главное, деньги доходят до людей.
Теперь вопрос, поставленный исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном в ходе Вашей встречи, о дополнительных решениях по увеличению выплат за утрату имущества. Проработали этот вопрос, предлагается установить для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда. Сегодня этот минимальный размер составляет 22 440 рублей. По данным региона, эта выплата коснётся более 112 тысяч граждан. Осуществлять эту выплату предлагается до момента освобождения территории Курской области. Необходимые ресурсы Правительство Российской Федерации в бюджете изыщет для направления региону.
Вот такие предложения, Владимир Владимирович, мы подготовили. Просим рассмотреть.
В.Путин: Александр Евсеевич на связи у нас?
А.Хинштейн: Да, Владимир Владимирович.
В.Путин: Сколько, 22 440 рублей у нас?
А.Силуанов: 22 440.
В.Путин: Александр Евсеевич, а сколько средняя заработная плата в Курской области?
А.Хинштейн: Владимир Владимирович, добрый вечер!
Средняя заработная плата в Курской области по декабрю прошлого года – 64 тысячи. И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей.
В.Путин: Понятно.
Антон Германович, давайте мы сделаем так. Как Вы и предложили, на период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим своё имущество, жителям региона, будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. И прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты. Хорошо?
А.Силуанов: Ясно, Владимир Владимирович.
Разрешите уточнить просто, правильно ли я понимаю. Выплата, Вы сказали, 65 тысяч. Многие люди сегодня получают заработную плату (из приграничья), которые лишились действительно имущества, лишились мест проживания, дома, крова, но устроились на работу, часть людей получают пенсии, пособия и частичные выплаты, связанные с приостановлением деятельности организаций. Правильно я понимаю, что эти 65 тысяч будут учитывать те выплаты, которые люди сегодня уже получают? Так трактовать Ваше поручение?
В.Путин: Нет, нет. Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает, зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении, это 112 с лишним тысяч человек, да? Александр Евсеевич, 112, да?
А.Хинштейн: Владимир Владимирович, эта выплата в 150 тысяч рублей медленно, но возрастает. Когда я Вам докладывал…
В.Путин: Я спрашиваю, сколько человек?
А.Хинштейн: 112 620 человек на данный момент.
В.Путин: Давайте всем 112 620 человекам будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество.
Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь.
Я прошу Министерство финансов обеспечить необходимое финансирование, Антон Германович.
А.Силуанов: Есть, будет сделано.
В.Путин: Договорились.
Давайте перейдем к следующему вопросу.
Следующий вопрос у нас связан с энергообеспечением Калининградской области. Александр Валентинович, пожалуйста.
А.Новак: Спасибо, Владимир Владимирович.
У нас исторически, примерно с конца 60-х годов прошлого века, энергосистемы России (в том числе Калининграда), Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии работали в параллельном режиме, в синхронном режиме, как единая энергетическая сеть. В 2021 году было подписано соответствующее соглашение между странами, уже новое соглашение, и это создавало надежное резервирование, устойчивую работу энергосистем прибалтийских стран в первую очередь.
В июне 2018 года руководством этих стран было принято решение, абсолютно политизированное решение, о выходе из энергокольца БРЭЛЛ и соединении с европейской энергетической системой. За это время был проведен ряд технических мероприятий, и в результате 8 февраля этого года Литва, Латвия и Эстония отключились от параллельной и синхронной работы с российской энергетической системой. Провели при этом такую помпезную акцию в литовской столице с участием Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и глав прибалтийских стран.
Соответственно, что мы видим на сегодняшний день? Результатом этого отделения от российской энергосистемы цены на электроэнергию на оптовом рынке Nord Pool в странах Балтии выросли фактически в два раза по сравнению с тем, что было до отделения. Если раньше это было примерно 100 евро за мегаватт, то сегодня средняя цена, за последние 10 дней, уже 200 евро, а доходило и до 270 в отдельные дни.
То есть фактически жители этих трех стран – Литвы, Латвии, Эстонии – стали в результате отделения от российской энергосистемы платить в два раза больше, чем до этого. И мы считаем, что это даже не предел, потому что существует ограниченная пропускная способность со смежными энергосистемами Швеции, Польши, Финляндии, то есть туда, куда они переподключились.
Более того, появилась информация буквально на днях о том, что крупнейший эстонский целлюлозно-бумажный комбинат прекратил свою работу из-за высоких цен после выхода из синхронной работы. Что касается вот этого решения прибалтийских стран, это их дело, их потребители за это платят.
Что касается российской энергосистемы и Калининградской области, наша основная задача – надежное энергоснабжение. Могу сказать, что наши потребители не почувствовали этого отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме, население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии, ценовые последствия отсутствуют.
Это все стало возможным благодаря Вашему поручению, которое Вы дали еще в 2014 году, когда мы в этот период – с 2014-го по 2020 год – построили дополнительные энергетические мощности в Калининградской области, четыре крупные электростанции мощностью 900 мегаватт, дополнительные линии электропередач, подстанции. Фактически была обеспечена двукратная резервная мощность энергосистемы Калининградской области. И это дало возможность не только обеспечить надежное текущее энергоснабжение, как я уже сказал, объектов промышленной, социальной сферы, но и сделать задел для развития Калининградской области на будущее в рамках социально-экономического роста.
С уверенностью можно сказать, что благодаря заранее принятым мерам созданы все необходимые условия для надежного энергоснабжения потребителей и обеспечения энергетической безопасности Калининградской области, позволяющие работать сегодня в штатном режиме и, как я уже сказал, иметь задел на будущее. Спасибо.
В.Путин: Хорошо. Надо внимательно наблюдать за тем, что там происходит. Только что с руководством «Газпрома» это обсуждал, там у них все заряжено, при необходимости можно поставлять СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, все работает, все отлично. Но я прошу и Вас тоже со стороны следить. Спасибо.
Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, два слова о том, что произошло на объектах КТК под Новороссийском и в каком состоянии там сейчас объекты?
А.Новак: Владимир Владимирович, вчера в короткий промежуток времени семь беспилотников атаковали Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае. Это станция, которая обеспечивает прокачку нефти по Каспийскому трубопроводу компанией «Каспийский трубопроводный консорциум». Это компания, учредителями которой являются американские, европейские, казахские предприятия. По данному трубопроводу прокачивалось по прошлому году 62,5 миллиона тонн, более 65 процентов – это нефть, которая принадлежит американским и европейским компаниям.
В результате атаки повреждено энергетическое оборудование, газотурбинная установка, подстанция и в результате включения резервные схемы прокачки, минуя Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию, мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30–40 процентов по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников. Предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование также западных стран. Это компания «Сименс», газотурбинная установка. Сейчас идет окончательное обследование этого объекта. Но в целом мы понимаем, Владимир Владимирович, что достаточно длительный период потребуется для восстановления этой работы и объемы прокачки нефти будут уменьшены.
По оценке, скажем так, экспертов, атака украинских беспилотников – это так называемый, по сути дела, ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это такой ответ Соединенным Штатам Америки со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы.
Спасибо.
В.Путин: Это же не российская организация, это международная организация с теми акционерами, которых Вы сейчас упомянули?
А.Новак: Да, абсолютно.
В.Путин: И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделе продукции, собственно, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам, та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК.
А.Новак: Владимир Владимирович, абсолютно верно. Это нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками этого консорциума. Как я уже отметил, это в основном иностранные акционеры, американские компании Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания не под санкциями и она прокачивала надежно через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию, в Новороссийск. Фактически эта атака была, действительно, ради того, чтобы остановить прокачку нефти, которая принадлежит иностранным акционерам.
В.Путин: Я так понимаю, что представители этих компаний и участвуют в оценке ущерба, который был нанесен в результате этой атаки, и оценивают сроки и возможности восстановления объекта, так?
А.Новак: Владимир Владимирович, да. Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз «Каспийский трубопроводный консорциум». Идет оценка, но это несколько месяцев, как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили.
В.Путин: Ну да. Но если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования. Сами себе же делают.
Я так понимаю, что вы в контакте, наверное, с партнерами. Если что-то нужно со стороны российского Правительства, прошу это содействие оказать.
А.Новак: Да, есть, Владимир Владимирович. Спасибо.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые данные, свидетельствующие о «тревожном» отсутствии осведомленности у жителей европейских стран о связи алкогольных напитков с онкологическими заболеваниями. Организация призывает принять меры в отношении распространения четкой и ясной информации о вреде употребления алкоголя.
ВОЗ неоднократно предупреждала, что алкоголь способен вызывать рак, и говорила о необходимости введения системы маркировки, однако никогда прежде организация не высказывала столь категоричных требований о принятии новых правительственных решений.
Ранее в этом году главный санитарный врач США также говорил о необходимости размещения на этикетках всех алкогольных напитков предупреждения о том, что их употребление увеличивает риск развития рака.
По данным Европейского подразделения ВОЗ, ежегодно по всей Европе от алкоголизма умирает порядка 800 000 человек, однако о данном риске знает лишь небольшая часть населения. Проведенное исследование показало, что только 15% респондентов знают, что алкоголь может вызывать рак молочной железы. О связи с раком толстой кишки знают лишь 39%.
«Несмотря на то, что рак является основной причиной смертности в Европейском союзе, осведомленность общественности о связи между алкоголем и раком остается тревожно низкой», — говорится в сообщении ВОЗ.
На этикетках алкогольных напитков должны содержаться «четкие и наглядные предупреждения о вреде для здоровья» в сочетании с изображениями для «максимального повышения осведомленности и предоставления потребителям четкой и точной информации для принятия осознанных решений о своем здоровье», — говорится в документе.
ЕС хочет пристальнее следить за любительским рыболовством
Еврокомиссия приступила к разработке новой электронной системы RecFishing. Она будет собирать данные о любительских уловах в морских прибрежных зонах по всему ЕС.
Нововведение приведет «к общему знаменателю» процесс передачи информации об уловах от стран — членов ЕС в Европейскую комиссию.
Инициатива — часть новой системы контроля над рыболовством. Ожидается, что RecFishing позволит заполнить пробелы в области мониторинга уловов и получить более точную картину реального воздействия любительского рыболовства на состояние рыбных запасов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
По задумке, RecFishing облегчит сбор данных и процесс сообщения об уловах по всему ЕС.
В новых правилах также предусмотрены меры по борьбе с нелегальным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством, а также по смягчению влияния на природу бесхозных, потерянных или выброшенных орудий лова.
В Еврокомиссии отметили, что в коммерческом рыболовстве снасти обычно маркируются владельцами, однако рыбаки-любители до сих пор не были обязаны делать это. Вводимые правила предусматривают маркировку таких сетей, ярусов и рыбных ловушек. Удочки в перечень не входят.
Хотя во многих государствах — членах ЕС уже существуют меры по лицензированию любительского рыболовства, новые правила должны стандартизировать все процедуры.
Отмечено, что новая система устанавливает более высокие стандарты устойчивого управления рыболовством и вводит минимальные ограничения для национальных властей и рыбаков, упрощая отчетность и обеспечивая трансграничную совместимость.
Fishnews
В декабре поставки газа РФ в ЕС заняли четверть рынка в стоимостном выражении
В декабре 2024 года Россия продала Евросоюзу газ на €1,84 млрд
В декабре прошлого года поставки России заняли в общей стоимости импорта метана в Евросоюз 25,2%. По этому показателю они опередили Алжир и США, посчитал ТАСС на основе данных европейской статистики.
В ноябре этот показатель был только 18,8%. Выше он был только в ноябре 2022 года — 30,2%.
Общая стоимость российского газа, которую купили страны ЕС в конце прошлого года, составляет €1,84 млрд. Это на 45% больше ноябрьского уровня и на 41% выше декабря 2023 года.
Алжир был вторым экспортером метана в ЕС, цена его поставок достигли €1,36 млрд, США отправили Европе СПГ на €1,13 млрд. Любопытно, что Норвегия стала четвертой со стоимостью импорта в €1 млрд, а Азербайджан вышел на пятое место — €505 млн.
При этом за весь 2024 год Россия заняла только второе место по газовому эскорту в ЕС, ее поставки составили 19,9% от всего импорта, первое место было у Алжира — 21,5%, США сохранили третью позицию с 20,5%.
«НиК»: Брюссель придерживается политики полного отказа стран евроблока от российских энергоносителей уже к концу 2027 года, о чем неоднократно заявляли представители ЕК. И все же, например, стоимость импорта российского СПГ с 2022 года выросла на 150%.
Австрийцы ностальгируют по дешевому газу из РФ
Местные СМИ утверждают, что российско-австрийские связи разорваны только на бумаге
Австрийские предприниматели тешатся надеждами, что смена власти в США поможет вернуть былые крепкие российско-австрийские экономические связи, пишет австрийское издание Die Presse, чье мнение приводит ТАСС.
Газета утверждает, что австрийский бизнес не теряет надежд, что новый американский лидер Дональд Трамп повлияет на сворачивание конфликта на Украине, а значит, европейцы смогут вернуться к работе с РФ. Австрийцы грустят по дешевому российскому метану, и их уход с рынка РФ — лишь формальность, а на самом деле европейцы грезят о возобновлении сотрудничества.
«НиК» напоминает, что в австрийской OMV чуть ранее высказывались резко против заключения новых контрактов с РФ. Контракт OMV, действующий до 2040 года, разорван форс-мажорно в декабре 2024 года, через месяц после того, как австрийская сторона решила «взять натурой» присужденные ей в Европе €230 млн от «Газпром экспорта» за недопоставки газа в 2022-23 гг. «Газпрому» поставлять газ бесплатно не понравилось — он прекратил. А OMV на этом основании разорвала контракт. Впрочем, судя по данным европейских операторов газопроводов, поставки продолжились через словацкие компании — по крайней мере, пока работал украинский транзит.
Недопоставки в те годы были обусловлены взрывом «Северного потока» и санкциями в отношении «Ямал-Европы».
В Приднестровье есть газ, но нет горячей воды
Приднестровью не хватает газа для горячего водоснабжения
Объемы экспорта газа в Приднестровье недостаточны, чтобы обеспечить и газоснабжение, и горячую воду населению
В домах Приднестровья отсутствует горячая вода, поскольку поставки газа ограничены, сообщил зампред правительства региона Сергей Оболоник.
Он уточнил, что ежедневный расход метана для обеспечения бытовых нужд и выработки электроэнергии составляет порядка 3 млн кубометров, однако в автономный регион поступают меньшие объемы голубого топлива.
«НиК»: Кишинев, через который идут поставки газа в Приднестровье, потребовал, чтобы в автономию поступало ежедневно менее 3 млн кубометров газа. Власти Молдавии обеспокоены, что большие объемы будут способствовать перезапуску крупных промышленных предприятий автономии.
Напомним, что с 1 по 10 февраля в регион шел газ, закупленный на помощь ЕС в размере €20 млн. Далее Брюссель предлагал еще €60 млн, но с условием политических реформ, роста цен на энергоносители для населения до рыночного уровня, а также прекращения поддержки энергоснабжения промышленности. Тирасполь отказался от такой европейской помощи.
С 14 февраля газ в регион поставляет венгерская MET Gas and Energy Marketing на российские кредиты. Однако эти поставки идут не только через Кишинев, но еще и через украинскую территорию. Пока они согласованы до конца февраля, а власти Молдавии потребовали ограничить объем этих поставок. Ранее сообщалось, что ежедневно в автономию приходит около 2,7 млн кубометров природного газа по трубе.
Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно говорила о возможном решении всех энергопроблем Приднестровья только после вывода из региона российских миротворцев.

Танкерам с российской нефтью хотят закрыть Балтийское море
Сергей Тихонов
Страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, рассматривают возможности проводить задержания судов, входящих в российский так называемый теневой флот танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на слова европейских чиновников и дипломатов.
Они сообщили изданию, что сейчас разрабатываются изменения в законодательстве, которые позволят задерживать суда за потенциальный ущерб, которые они могут нанести окружающей среде и подводной критически важной инфраструктуре (связи, передачи электроэнергии, транспортировки газа итд). Определять опасные суда собираются по страховке. Будет сформирован список "надежных страховщиков", все суда, застрахованные в других компаниях, можно будет задерживать под соусом "борьбы с пиратством".
Понятно, что между "рассматривают" и "приняли" очень большая пропасть, но риск таких действий ЕС против судов с нашей нефтью в Балтийском море, особенно, в момент прохождения ими Датских проливов (выход в Северное море), стал абсолютно реальным.
Более половины нашего морского экспорта нефти проходит через Балтику
Как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, у нас нет альтернатив этому маршруту. Более половины морского экспорта сырой нефти РФ приходит через Датские проливы. Перенаправить эти объемы некуда. Увеличить нагрузку на порты Арктики или Новороссийск невозможно. Не говоря уже о том, что потребуется строительство новых нефтепроводов, а такой вопрос быстро не решается.
Россия планирует увеличение мощностей перевалки нефти на черноморском направлении, но здесь существует ограничение в виде пропускной способности турецких проливов, уточняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. К тому же здесь возникает зависимость от "политических настроений" Анкары, которая может использовать тот же самый экологический аргумент для ограничения движения танкеров с российской нефтью. А поставки на Дальний Восток зависят от пропускной способности трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".
Кроме того, как замечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, перенаправление с Балтики на другие порты даже части экспорта существенно увеличит логистические издержки и сократит прибыль нефтяников.
По мнению Симонова, для нас есть серьезная угроза. Начнут, вернее, уже начали, с судов, которые ходят под флагами третьих стран. И мы ошибаемся, когда не реагируем на эти задержания. Можно сказать, что сейчас ЕС проводит тесты, задерживая суда с нашей нефтью, ходящие под флагами наиболее политически слабых государств. Начали с танкера Eagle S, зарегистрированном на островах Кука, который обвинили в повреждении электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Сейчас в Дании создана группа юристов, которые как раз занимаются изучением международного морского права, чтобы найти зацепки, по каким причинам можно останавливать торговые суда. Если почитать Конвенцию по морскому праву 1982 года, она оставляет не так много возможностей для задержания танкеров. Зацепок, по большому счету, только две - экология и подозрения в шпионаже, уточняет эксперт.
По мнению Андрианова, в первую очередь под удар попадут суда, идущие под нейтральными флагами. Насколько известно, "серый" флот танкеров (впрочем, как и большинство любых судов, плавающих в международных водах) использует флаги третьих стран. К тому же в этом случае России было бы сложнее защитить эти суда как в силовом, так и в юридическом отношении. Но если такие меры будут предприняты, то европейские суды будут завалены исками - причем не со стороны России, а со стороны компаний, зарегистрированных в третьих странах, и являющихся судовладельцами. Если в Европе остались хотя бы крупицы нормальной юридической системы, действие подобных ограничений будет отменено судами, считает эксперт.
С точки зрения Чернова, в своих собственных водах страны ЕС могут легко задерживать любые суда, как российские, так и третьих стран, никакого труда для них это не составит, поскольку они смогут привлекать к этому компетентные органы, в том числе военных. Россия, наверняка, постарается как-то ответить на такие действия.
Андрианов отмечает, что на аналогичных основаниях Россия могла бы досматривать любые европейские суда подозревая их, к примеру, в соблюдении режима антироссийских санкций, что противоречит российскому законодательству.
Но в нашей экономической зоне проходит не так уж много судов недружественных стран, чтобы мы могли серьезно ответить на враждебные действия ЕС. Поэтому Симонов считает, что реагировать на задержания судов с нашей нефтью и нефтепродуктами, даже если они шли под флагами третьих стран, мы должны уже сейчас. Уже есть нарушение Конвенции морского права о статусе Датских проливов, и мы должны четко обозначить свою позицию, заявить о ней, а не молчать или "выражать обеспокоенность". Нужны жесткие заявления наших чиновников на международном уровне, нужны ответные шаги - они создали комиссию, занимающуюся трактованием морского права в интересах ЕС, давайте мы создадим комиссию, расследующую задержания судов в Балтийском море в нарушение всех норм морского права. Без ответных шагов давление на нас будет только возрастать, считает эксперт.
В качестве предлогов для задержания российских судов могут выступать угроза нанесения ущерба окружающей среде или же повреждения подводных кабелей, говорит Андрианов. То есть формулировки более чем размыты и допускают очень гибкую трактовку. Мы уже видели ряд скандалов, связанных с обвинениями в разрыве интернет-кабелей, пролегающих по дну Балтики, и могли убедиться, что в этом при желании можно обвинить кого угодно. А задержание за еще ненанесенный, но гипотетический ущерб - это вообще верх казуистики, негодует эксперт.
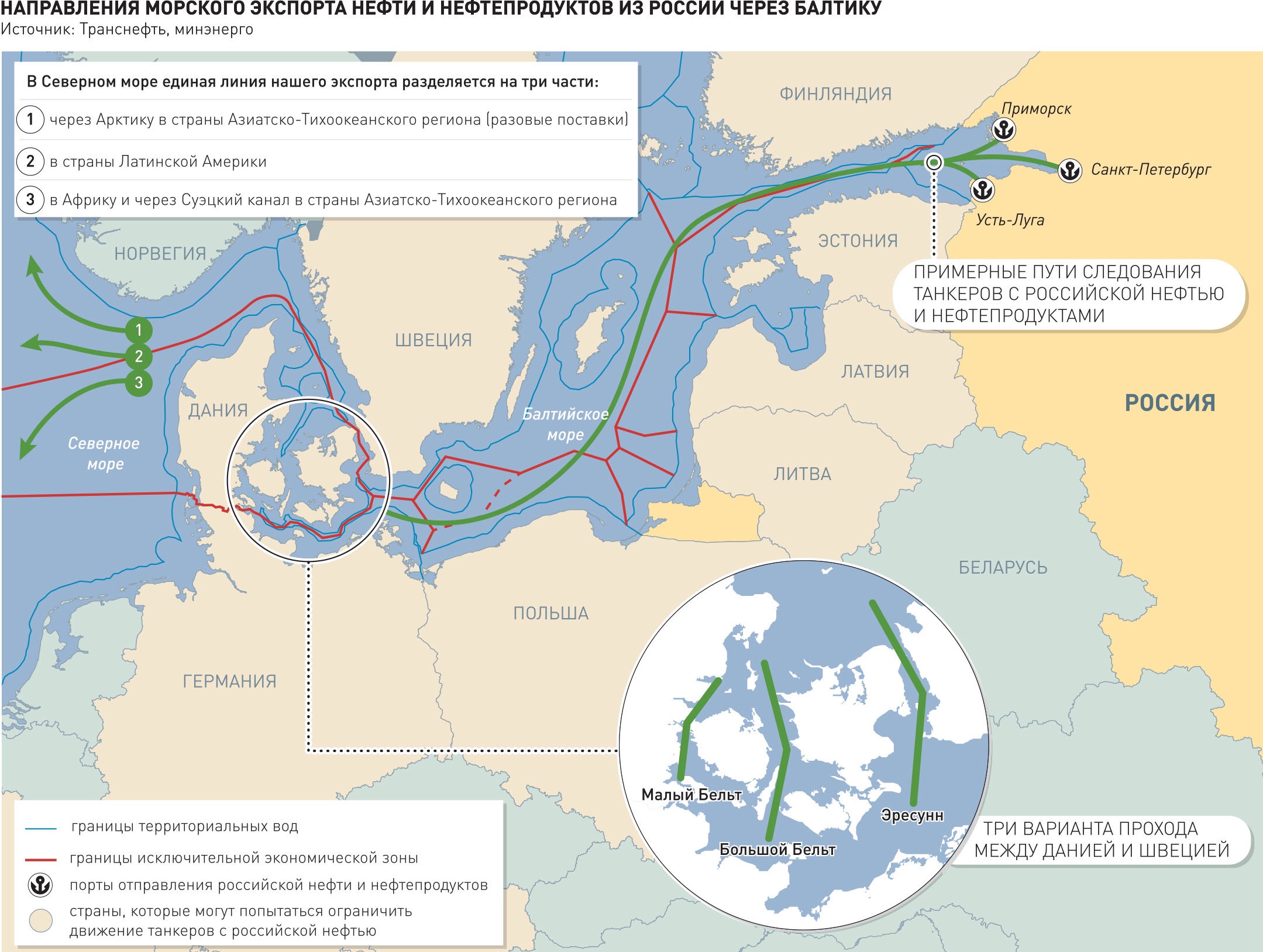
Как украинские СМИ и политики отреагировали на речь Зеленского в Мюнхене
Павел Дульман
Конференция по безопасности в Мюнхене, все там происходившее, и особенно речь Зеленского, вызвали в украинских СМИ, экспертном сообществе и блогосфере замешательство, от которого в Киеве третий день не могут отойти.
Кажется, кардинальных изменений в позиции Киева не произошло, и даже официальная стратегия режима Зеленского - "война до последнего украинца" - осталась прежней, но радости от этого не наблюдается даже у самых отъявленных местных "ястребов". О том, что Зеленскому уготована роль публичного лидера "антитрамповской коалиции", говорилось и ранее, и в Мюнхене он устроил настоящий бенефис, отказав Трампу во всех публично и кулуарно высказанных предложениях и требованиях. Помимо прочего он продолжил настаивать на членстве Украины в НАТО и границах начала 2022 года, пожурил президента США за звонок президенту России и отказался подписывать сделку по полезным ископаемым, сославшись на отсутствие неких "гарантий безопасности".
В соцсетях слова Зеленского восприняли как плевок в лицо
Отдельные моменты вызвали положительный отзыв в публичной сфере от украинских политиков второго и третьего звена. Внесенный в России в список террористов и экстремистов депутат Рады Гончаренко поддержал начертанные Зеленским для Трампа "красные линии" - никакого сокращения ВСУ, никакого признания новых границ, никакой отмены антироссийских санкций. Вылез на свет божий даже экс-глава МИДа Климкин, который дал понять, что США не вправе ограничивать украинский суверенитет касательно будущего и конституционного устройства. При этом партийный босс последних двух персонажей - Петр Порошенко - пока комментировать выступление Зеленского воздерживается, как, впрочем, и Юлия Тимошенко, и другие украинские политики из первой десятки. Не исключено, что попросту ожидают ответа из Вашингтона и прояснения ситуации. При этом наверняка их больше всего впечатлили не плохо заретушированные выпады в сторону Трампа, которыми речь Зеленского изобиловала, а та ее часть, где Зеленский заявил, что украинцы никаких выборов не хотят, а тем, кто их желает, следует поменять гражданство. Более того, чуть позже он в этом контексте обозвал Трампа и его команду незначительными политиками, потому что "на высоком уровне в США никто вопрос выборов не поднимает".
Таким образом, Тимошенко, Порошенко, Кличко и прочие, по слухам уже спустившие в региональные штабы указание готовиться к выборам, получили не просто последнее предупреждение и указание забыть о демократической процедуре, но и недвусмысленную угрозу выдворения из страны - иначе пассаж о "другом гражданстве" не считывается. Однако проблема в том, что по действующим законам лишиться украинского гражданства можно только именным президентским указом. И если в случае с политическими оппонентами рука Зеленского не дрогнет, то на миллионы простых граждан, мечтающих отряхнуть украинский прах со своих ног, эта привилегия распространена не будет - кто-то ведь должен за Зеленского воевать. Судя по реакции тех самых простых украинцев в соцсетях, они слова Зеленского восприняли как плевок в лицо. Что касается официальных украинских СМИ, то они пока перешли в режим простого цитирования произносимых в Мюнхене речей, вырывая из контекста слова поддержки и отдавая предпочтение депутатам и министрам из стран Балтии, Финляндии и Польши, призывающим не ослаблять поддержку Киева.

Использование доллара как санкционной дубины может лишь усилить поиски альтернатив
Политолог Георгий Бовт: Как доллар победил евро, но еще может проиграть
Стоимость евро практически сравнялась с долларом. Вот-вот будет 1=1. Ослабление европейской валюты происходит на фоне опасений возможной торговой войны между США и Евросоюзом, а также на фоне нарастающих трудностей европейской экономики, страдающей как от конфликта на Украине, так и от собственноручно введенных антироссийских санкций. Экономика ЕС выглядит явно слабее американской. ВВП еврозоны вырастет в лучшем случае на 1% в нынешнем году (0,7% в прошлом), тогда как в США ожидается рост ВВП в 2,7%. Локомотивы Европы - Германия, Франция и Италия - покажут еще более скромные результаты - на 0,3, 0,7 и 0,8% соответственно. Сказывается и политическая неопределенность во Франции (нет стабильности правительства) и Германии, где предстоят досрочные выборы в Бундестаг.
А тут еще бодро начавший второй срок Трамп грозит тарифной войной, стремясь сократить огромный дефицит Америки в торговле с ЕС. Тарифы от Трампа ограничат конкурентоспособность европейской продукции на рынке США, который является для ЕС приоритетным: в 2023 году на Америку пришлось около пятой части экспорта из ЕС объемом 535 млрд долл. В ответ Европейский ЦБ может начать смягчать денежную политику, что сработает на еще большее ослабление евро. Базовая ставка ЕЦБ сейчас составляет 2,9% против 4,25-4,5% у ФРС США.
Слабый евро не поможет экономическому росту в Старом Свете
Ниже паритета с долларом евро уже падало - в сентябре 2022 года, опустившись до отметки 0,955, что было напрямую связано с негативными последствиями санкций, которые ЕС начал "на политических эмоциях" вводить против России. В случае эскалации торговой войны США с ЕС доллар может еще подорожать к евро на 5-10%. А ведь были времена (в 2005-2009 гг.), когда евро стоил до 1,6 доллара.
Паритет (аналитики ждут его уже в первом полугодии) психологически будет значим для инвесторов, это может спровоцировать повышенную волатильность евро, против которого могут начать активнее играть на валютных биржах. Хотя обычно ослабление валюты считают средством стимулирования экономического роста (экспорт становится более конкурентоспособным), в данном случае эффект может быть нивелирован тарифами США, зато слабый евро сделает более дорогим импорт сырья и может спровоцировать инфляцию. С другой стороны, "утяжеление" доллара может увеличить его привлекательность как инвестиционного инструмента. Лишний аргумент в пользу того, что нынешняя геополитическая ситуация в Европе выгодна Америке.
По каким-то позициям доллар, который США в последнее время все чаще используют как рычаг политического (санкционного) давления, уступил позиции. Так, доля доллара в мировых резервах упала с более чем 70% в 2000 году до 57,4% в конце прошлого (за год падение составило более процента). Доля евро в резервах составила чуть менее 20%, китайских юаней 2,17%. Доля других валют увеличилась в прошлом году до 20,42% (19,87% было в начале года). Резервы не перетекают в основных конкурентов доллара, таких как евро или иену. Они отчасти перетекают в "нетрадиционные валюты" типа канадского и австралийского доллара, а также китайский юань. Уход от долларов, конечно, ярче выражен в странах, для которых актуальны санкции США, таких как Россия и Китай. По некоторым позициям значимость доллара даже возросла. Так, непогашенные долговые ценные бумаги, хранящиеся в долларах, выросли с 49% в 2010 году до 64% в 2024 году.
По данным SWIFT, доля доллара в мировых платежах выросла до 49,1% (в середине 2024 года), это 12-летний максимум.
Тем не менее Запад своей санкционной политикой сам подтачивает финансовые институты, ассоциирующиеся с доминированием доллара. Так, растут число и объемы платежей (в том числе российских контрагентов), которые никакая SWIFT не видит и не учитывает, они идут иными, чаще непрозрачными для санкционеров путями. Но, как говорится, не мы первые начали. Плюс расчеты в криптовалютах. Несмотря на прозвучавшие от Трампа угрозы "наказать" БРИКС за отказ от доллара 100-процентными пошлинами, эти страны сохранят стремление создать, как минимум, альтернативные платежные системы.
Стоимость транзакций в цифровых валютах может вырасти на 260 000%
Относительный рост роли доллара (повторим, в "прозрачной части" финансового рынка) совпал с резким падением доли евро в мировых платежах, которая за 12 лет упала с 39% до 21%. И это сигнализирует о существенном изменении в мировом финансовом ландшафте. Пока относительно скромно выступает Китай, но юань стал в последние годы единственной валютой, которая смогла набрать обороты: доля юаня в мировых платежах выросла с 2% в 2023 году до почти 5% в 2024 году. Такой темп роста - рекордный, он показывает намерения Пекина по увеличению роли юаня в международных финансах. Более масштабной динамике мешает пока ограниченная конвертируемость юаня и закрытость финансовой системы Китая.
Что дальше? Адепты "непоколебимости доллара" считают, что на фоне прогнозируемого роста мировых платежных потоков на 50-53% с 2023 по 2030 год (до 290 трлн долларов), спрос на надежные платежные системы может укрепить позиции доллара. Однако злоупотребления по части его использования как санкционной дубины могут, наоборот, лишь усилить поиски альтернатив. Скажем, учитывая быстрый рост расчетов в крипте, кто возьмется прогнозировать, что будет с ней через 10 лет? Или как разовьются альтернативные системы платежей, не видимые SWIFT и прочим санкционерам. Аналитики, не являющиеся слепыми фанатами "вечнозеленого доллара", считают едва ли не главным фактором будущей неопределенности для него развитие цифровых валют центральных банков в развивающихся странах. Существует уже несколько межстрановых проектов, которые нацелены на трансграничные межбанковские платежи. Самым продвинутым считается сотрудничество между Таиландом и Гонконгом - Inthanon-Lionrock. Такие цифровые валюты не требуют для функционирования доллара США. Их могут в том числе поддерживать материальные активы, такие как сырьевые товары или золото. По прогнозам, стоимость транзакций, обработанных с помощью цифровых валют, может вырасти на 260 000% с 2023 по 2030 год. А доллар пусть готовится к "прошедшим войнам".
Георгий Бовт

Основной вопрос для атлантического сообщества - прекращать холодную войну в параметрах ХХ века или продолжать ее?
Федор Лукьянов: Последнее сражение холодной войны?
Мюнхенская конференция по безопасности привлекла в этом году внимание, сопоставимое с тем, какое ей уделили 18 лет назад. Тогда возмутителем спокойствия стал президент России, сейчас - вице-президент США. Объединяет эти события два обстоятельства. Оба связаны с последствиями холодной войны, правда, совсем по-разному. А также - и речь Владимира Путина в 2007 году, и выступление Джей Ди Вэнса в 2025-м требуют от трансатлантического сообщества не формальной, а содержательной реакции, изменения привычного образа действий.
Тогда этого не произошло. Европейский и американский истеблишмент предпочел, по сути, отмахнуться, сочтя риторику главы Российского государства досадой в связи с утратой его страной ведущих мировых позиций. Немногочисленные алармисты предлагали внимательно прислушаться к мнению Кремля (правда, с разными выводами - учесть пожелания либо, напротив, исходить из неизбывной агрессивности Москвы и резко нарастить сдерживание). Но этот подход утонул в самодовольной лавине под лозунгом "стерпится - слюбится": никуда Россия по большому счету не денется, привыкнет. Результат мы наглядно наблюдаем сейчас. Игнорировать мнение второго лица из главной страны атлантического сообщества не получится. Переполох налицо, Макрон созывает специальную европейскую встречу в верхах, чтобы выработать линию.
Правда, возникает вопрос: а правильно ли в Европейском союзе понимают суть проблемы, то, о чем говорил Вэнс? По первым откликам уверенности в этом нет. Сохраняется подспудная надежда пересидеть.
Обсуждаемое выступление вице-президента США, вероятно, объясняется несколькими причинами. Самое простое - отместка в адрес невоздержанных и совершенно бестактных европейских начальников, которые костерили Трампа и трампистов почем зря, вообще не задумываясь, что за слова могут и спросить. Кто тянул их за язык превентивно крушить отношения с человеком, который имел растущий шанс стать их старшим партнером - отдельная загадка. Как бы то ни было, они не стеснялись по части Трампа, он не стесняется в ответ.
Второе обстоятельство - идейное расхождение. В некотором смысле Вэнс обратил к Европе те же упреки, которые переселенцы в Новый Свет некогда бросали Свету Старому: тирания, лицемерие, паразитизм. Именно отмежевание от европейской политической традиции составляло 300 лет назад идеологические предпосылки, а затем основу формирования американского государства. Тот факт, что американские представители (не только Вэнс, но и особенно Маск) беспардонно вмешиваются во внутренние дела европейских стран, удивлять не должен - сами либеральные идеологи всегда отстаивали право это делать во имя свободы и демократии. Спор, что такое настоящая демократия, из внутриамериканского теперь превратился в трансатлантический. И он многое определит. Возможно, идеологическое направление Запада на следующий исторический период. И есть третий компонент - наиболее важный, потому что не связан с личностями и текущей конъюнктурой.
Мир изменился. Описать это изменение в полной мере пока довольно сложно - просто рано. Но мало кто спорит, что предыдущие подходы перестали работать, прежде всего по причине общего смещения международного баланса. Демографическое распределение, экономическая динамика, относительная роль Запада и других частей мира, сферы противостояния (технологии все более важная) - все это кардинально смещает картину. И основной вопрос для атлантического сообщества (хотя это звучит странновато 35 лет спустя): прекращать холодную войну в параметрах ХХ века или продолжать ее? Ответ Европы - второе (раз уж не получилось плавно поглотить бывших противников), ответ США - во все большей степени первое. И в американском случае это продукт не Трампа, а трансформации международной ситуации и Америки в XXI столетии в целом. Отход от приоритетности Европы начался сразу - при Джордже Буше-младшем, с меняющейся интенсивностью его продолжили все президенты после него. Трамп просто предельно откровенно сказал то, что избегали произносить его предшественники.
Что будет делать Европа? На данный момент выглядит так, что удержание идейной и геополитической композиции холодной войны - единственный для нее способ сохранить собственную центральность. А вместе с ней - и собственную цельность, которая уже шатается. Европейская интеграция - целиком и полностью продукт либерального мирового устройства. Оно нуждается во враге, и враге привычном. Враг новый, непривычный (Китай, например) не годится. Соответственно, логично предположить, что Европа объективно заинтересована в таком обострении такого масштаба, чтобы союзник, даже не желающий вмешиваться, не смог стоять в стороне. Насколько Старый Свет на такое способен - предмет размышлений. Для США ситуация двойственная. Отказ от идейно-политической рамки противостояния второй половины прошлого века - возможность всерьез заняться темами, которые представляются им актуальными теперь и на предстоящее время: Китай (в первую очередь), в связи с ним - тихоокеанское пространство, Северная Америка (возможно, Америка в целом), Арктика, до определенной степени Ближний Восток. Европа свою нужность в решении этих вопросов не доказала и едва ли докажет, а вот отвлекать внимание и ресурсы может. С другой стороны, обольщаться и полагать, что США просто махнут рукой на Старый Свет и оттуда уйдут, оснований нет. Подход Трампа - не изоляционизм, а другие способы управления "империей". Она должна приносить метрополии больше выгоды и создавать меньше головной боли. И требование Вэнса починить европейскую демократию - по сути, призыв улучшить управление провинцией, где местные власти утратили способность нормально решать внутренние вопросы. Отношение к суверенитету Европы тут еще более пренебрежительное, чем у предшествовавших американских атлантистов либерального толка. В общем, речь Вэнса представляет собой веху в атлантической хронике. А поскольку сама идея атлантизма прежде всего производная от предыдущей холодной войны, в центре вопрос - поставят ли в ней точку, чтобы начать какую-то новую холодную войну.
Федор Лукьянов
профессор-исследователь, Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Александр Рар: Произошел развод Америки с Европой
Внутри Евросоюза точка зрения немцев, французов, шведов уже не главенствует
Я бы сказал, что складывается естественное впечатление, когда смотришь за дискуссиями, дебатами, выступлениями, спорами на мюнхенской конференции безопасности, что назрел конец трансатлантическим отношениям и что между Америкой и Европой наступил развод.
Конечно, конференция - это не ООН, это собрание типа Давоса, где ведутся споры, где каждый высказывает свое мнение, где говорят о планах на будущее и где политики сверяют часы. Но там фактически ничего не решают. Поэтому на то, что происходило и о чем говорилось в Мюнхене, нужно смотреть двояко. Понятно, что Европа готова, с моей точки зрения, устами тех, кто был на конференции, рвать отношения с Америкой. Однако внутри Евросоюза точка зрения немцев, французов, датчан, шведов существует, но уже не главенствует, как прежде. Потому что есть точка зрения Венгрии, Словакии, политиков из других стран, которых просто не пригласили на конференцию по безопасности. И у них есть собственный взгляд по таким судьбоносным вопросам, как дальнейшие отношения с Америкой. У меня впечатление, что мы видим закат европейской политической мысли и развод Европы с США. Но это процесс, который произошел не за один день в Мюнхене. Просто теперь этот процесс будет продвигаться дальше. Кто-то будет за, кто-то будет против. Другими словами, в Европе найдутся силы, которые, конечно, будут цепляться за Америку, будут говорить, что мы без Америки никуда не двинемся и не хотим никуда двигаться. Будут силы в Европе, которые поддержат Трампа. Но появится и новая линия политики Германии. Это совершенно новый поворот.
Меня удивляет, что немцы готовы стать во главе военной коалиции против России
В отличие от последних лет, когда Германия проявляла себя только вассалом американской политики, сейчас Берлин становится лидером или пытается возглавить внутри Европы движение, которое пойдет по иному пути, не совпадающему с планами Вашингтона. Сегодня Германия фактически консолидирует Европу на антитрамповских позициях.
После взрывов на "Северных потоках" от европейцев не было слышно ни одного критического слова в адрес Америки. Поэтому складывалось впечатление, что европейцы настолько ослабли, что полностью находятся под контролем США. И у них нет собственной геополитики, своих целей. И так, в общем-то, действительно было. Но сейчас произошел абсолютный исторический поворот, и оказалось, что некие европейские страны напрямую выступают против Америки. А в США пришли к выводу, что будущие геополитические интересы страны не означают, что нужно продолжать "бодаться" с Россией. Америка этот процесс приостановила и пытается наладить отношения с Москвой.
В Европе же хотят остановить Россию, вытолкнуть ее в Азию. Но то, что раньше выглядело как чисто американский геополитический интерес, как сейчас выясняется, было интересом европейским. И это для России тоже важно понять, чтобы увидеть, что ее новый соперник состоит из европейских стран, которые при нынешних их элитах занимают антироссийские позиции. Это исторически понятно, потому что это повторение того, что мы видели за последние столетия в Европе. Всегда где-то проявлялась эта неприязнь, ненависть к России, неприятие ее интересов и нежелание ее присутствия на Европейском континенте.
В Европе происходит раскол, потому что не все европейские страны такой подход к США будут поддерживать. Есть государства, которые, как мне кажется, будут искать подходы к Трампу. Это Италия, Венгрия, может, Словакия. Не исключено, что это будут Греция, Болгария.
Меня удивляет, что немцы готовы стать во главе военной коалиции против России. По-другому невозможно интерпретировать слова кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС господина Мерца и слова нынешнего канцлера Шольца. Или заявления некоторых немецких политиков, говорящих, что ФРГ уже находится в состоянии войны с Россией. У Германии в прошлом была гораздо менее жесткая антироссийская история, чем, скажем, у Польши и Украины. Но сегодня Германия проявляет желание возглавить в Европе новый процесс экономической войны против России, к удивлению многих немцев, которые, может быть, со своим правительством не согласны. Германия будет сколачивать антироссийскую коалицию, в которую могут войти северные страны - Англия, Скандинавия, Польша и Прибалты. В то же время юг Европы в этой коалиции, на мой взгляд, участвовать не будет. Наоборот, на юге будут искать, как и американцы, возможности для примирения с Россией. Что движет этими планами Германии, трудно сказать. Это не реванш за поражение во Второй мировой войне, как многим может показаться, это просто какая-то идеология. Неприятие того, что Россию рассматривают как страну, которая фактически объявила войну либеральным ценностям и системам, на которых строится Евросоюз и которые немцы считают своей обязанностью защищать.
Америка начала понимать стратегические и национальные интересы России и их признавать. Это не сказано прямым текстом, но это видно. Трамп, конечно, использует жесткую риторику против России и угрожает, что, если Россия его не послушает, он вытащит настоящую дубинку. С другой стороны, он также говорит, что понимает, почему Россия выступает против расширения НАТО. Это очень важное отличие от тех европейцев, кто считает, что Россия фактически проиграла холодную войну и ей деваться некуда. А потому она должна признавать расширение Евросоюза, расширение НАТО. И удивляются, в чем могут быть российские интересы, кроме как тоже принять западную демократию. Поэтому для Германии выступление вице-президента США Вэнса - это абсолютный шок.
Европейские элиты рассчитывают, что Америка уже устала от команды Трампа и начинает его критиковать. Они тоже будут пытаться критиковать Вэнса в надежде на то, что в самой Америке появятся силы - демократы и глубинное государство, которые людей типа Вэнса остановят. Это, я бы сказал, краткосрочная стратегия европейцев. Европа не любит, когда ее критикуют. Знаете, тут очень много людей, которые критикуют по любому поводу политику Германии. Но когда начинают критиковать этот либеральный консенсус, то критиков объявляют или агентами Москвы, или агентами фашизма. И это тоже фактор кризиса, в котором находится Европа. Это показывает самодостаточность, самоуверенность, где-то надменность ее элит, которые видят только свою правоту и видят это даже в каком-то религиозном понимании. И не разрешают никому, даже американцу, себя критиковать.
Есть ли у Европы ресурсы противостоять политике отрицания со стороны Америки? Боюсь, сейчас эти ресурсы будут найдены за счет урезания бюджетов более богатых европейских стран. На словах поддержка Украины в Европе была, но, кроме Германии, никто в поддержку Украины в военном плане финансово не вкладывался. И я думаю, что так и будет дальше. Власти Германии найдут 100 млрд евро для милитаризации страны, для создания новой, уже европейской армии. Это будет армия северной Европы, которая начнет действовать.
Средства информации в будущие годы сделают все, чтобы сохранять противостояние с Россией. Или, как здесь говорят, защиту Украины. Я не знаю, как Германия поведет себя в будущем по отношению к Америке, если увидит, что у нее из-под носа американцы уводят украинские ресурсы к себе за океан. А Берлин ничего практически не получает. И кроме того, должен становиться донором для восстановления Украины. Но по моральным соображениям немецкое правительство готово продолжать поддержку Киева. Вы, наверное, видели, как немцы и другие люди, которые присутствовали в зале, аплодировали на мюнхенской конференции Зеленскому. Никому сегодня вот так не аплодируют, причем речь Зеленского была достаточно слабенькая, ничего нового он не сказал. Но люди, эти европейские элиты, просто от его вида, от его появления приходили в экстаз.
Потому что они видят в нем мученика за либеральные ценности, за которые им тоже хочется сражаться. Посмотрите просто на них, на этих руководителей, на Каю Каллас, на лидеров скандинавских стран, на французских молодых политиков. Они не знали холодной войны, но при этом чувствуют себя постоянными победителями. Они не могут себе представить, что Европа в чем-то проигрывает. Они понимают, что за пределами Европы у них союзников нет, но они считают, как здесь принято говорить, что Европа самая сильная экономическая мощь в мире. И им только не хватает, чтобы эта мощь экономическая была подкреплена собственной европейской армией. И тогда Евросоюз станет великой державой и все будет по-старому. Как было до прихода Трампа.
Подготовил Евгений Шестаков
Александр Рар
немецкий политолог, председатель Евразийского общества
Выключили Старый Свет. Мюнхен: Холодный душ на европейские элиты
Евгений Шестаков
В воскресенье в Германии прошла внеочередная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а на понедельник намечено экстренное заседание лидеров государств ЕС, которое созывает президент Франции Эмманюэль Макрон.
Так выглядит первая официальная реакция Европы на итоги Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя МИД Польши Радослава Сикорского, он ожидает, что на саммите европейские лидеры "очень серьезно обсудят вызовы, которые бросил президент США Дональд Трамп". Тому, что произошло на выходных в Мюнхене, мировые СМИ дают самые разные оценки - от крушения Европы и политического землетрясения до отповеди, которую получил на конференции Белый дом, посягнувший на европейские ценности. Газета "Вашингтон пост" в этой связи напомнила 2007 год, когда президент России Владимир Путин на Мюнхенской конференции "шокировал публику, потребовав отказа от доминирующего влияния Америки и установления нового баланса сил в Европе".
Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене разделила Европу на "до и после"
Но в 2025 году собравшихся в Мюнхене в не меньшей степени ввел в ступор вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявив: "Угроза, которая вызывает у меня наибольшее беспокойство в отношении Европы, - это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний фактор. Меня беспокоит угроза изнутри - отступление Европы от некоторых ее самых фундаментальных ценностей, которые она разделяет с Америкой". И эти слова, как утверждает европейская пресса, заставили участников мероприятия предположить, что при новой администрации "США могут объединиться с Россией и либо напасть на Европу, либо вообще отвернуться от нее". Но еще больший ступор в Мюнхене вызвал телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором был обозначен "обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике и поддержание канала коммуникаций для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях". А также проявились контуры все более реальной встречи лидеров России и США предположительно в Саудовской Аравии, на которой не будет ни представителей Брюсселя, ни Украины.
Реализованный Трампом разрыв шаблона, когда глава Белого дома заявил, что он приветствует возвращение Москвы в G7, а вице-президент США объяснил в интервью The Wall Street Journal, что переговоры по Украине приведут к сделке, которая "шокирует многих людей", заставляет ощутивших себя на обочине глобальных политических процессов лидеров ЕС срочно искать противоядие в отношении будущей политики Вашингтона.
Что и как сказал Вэнс
Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене разделила Европу на "до и после". Никогда прежде на таких мюнхенских конференциях столь зубодробительная критика в адрес Старого Света не звучала от эмиссара Вашингтона. И никогда прежде эта критика не затрагивала тех ценностей, которыми так гордился европейский истеблишмент.
"Я глубоко верю, что безопасности не существует, если вы боитесь голосов, мнений и совести, которые направляет ваш собственный народ, - заявил с каменным лицом Вэнс, обращаясь к сидящим в зале европейским лидерам. - Вы не можете получить демократический мандат, подавляя своих оппонентов или сажая их в тюрьму, будь то лидер оппозиции, скромная христианка, молящаяся у себя дома, или журналист, пытающийся сообщить новости".
И еще цитата второго лица США, адресованная своим теперь, возможно, уже бывшим европейским союзникам: "Игнорирование людей или, что еще хуже, закрытие СМИ, отмена выборов или исключение людей из политического процесса ничего не защищают. На самом деле это самый надежный способ уничтожить демократию". В своем выступлении Вэнс вспомнил незаконно отмененные результаты первого тура выборов в Румынии, угрозы еврокомиссаров закрывать соцсети с "ненавистным контентом" и уже звучавшие из Брюсселя заявления о готовности опротестовать итоги предстоящих парламентских выборов в ФРГ, если их итоги покажутся "неправильными" части немецких политиков. Было очевидным, что в уме Вэнс держал также заявления Зеленского о том, что "украинцы не хотят выборов, и потому их проводить не нужно", но не захотел включать их в свое выступление.
"Если американская демократия могла пережить 10 лет сообщений с упреками от Греты Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска", - иронично заметил вице-президент США, обращаясь к европейской аудитории. Впрочем, по поводу пары месяцев Вэнс точно шутил.
Что услышала Европа
Выступление вице-президента США, фактически потребовавшего от европейских политиков сделать выбор - услышать голос народа или уйти, изменило весь предполагаемый сценарий Мюнхенской конференции. "Пинком под зад Евросоюзу", - назвал будущий курс американской администрации премьер Литвы. Проблема лишь в том, что ни увернуться от этого пинка, ни смягчить пустопорожней риторикой его последствия Европе уже не удастся.
Наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил: "США открыто вмешиваются в выборы. Не американскому правительству учить нас в нашей же стране, как нам следует защищать демократические институты". Не менее суровой оказалась реакция другого претендента на пост главы правительства ФРГ от партии "Зеленых" Роберта Хабека: "То, о чем говорил Вэнс, его не касается. Я отвечу ему четко: это не твое дело".
Впрочем, комментировать по существу речь представителя Трампа, тем более отвечать на его критику решились очень немногие. Большинство выступавших в Мюнхене решили не отступать от ранее написанных заявлений, преимущественно посвященных Украине. "Мы (Европа) должны выиграть эту войну. Мы не можем говорить, что эта война нас не касается. Мы ее часть, и вот уже три года ею являемся", - сообщила премьер Дании Метте Фредериксен. В том же духе высказалась глава евродипломатии Кая Каллас, подчеркнув, что Евросоюз должен обеспечить продолжение войны Украиной. А президент Чехии Петр Павел дал понять, что Украину следует принять в Евросоюз и в НАТО, несмотря на существующие по этому поводу возражения. В публичных оценках лидеры Евросоюза и облеченные властью политики, выступавшие в Мюнхене, старательно избегали оценок, прозвучавших в речи Вэнса упреков, сосредоточившись на привычных проукраинских тезисах. Но это не означает, что в Брюсселе готовы к переменам и согласны с критикой. Напротив, на предстоящем экстренном саммите Евросоюза его участники будут искать согласованные формулировки для коллективного ответа Белому дому. Как заявил в связи с этим президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, европейские лидеры не должны вести себя "как олени, попавшие в свет фар".

В России перепрофилирование Северного потока-2 под водород оценили в €6-12 млрд
В ЕС хотят запустить «Северный поток-2» под предлогом транспортировки водорода, но если качать по нему только водород, то техперевооружение газопровода обойдется дороже, чем его строительство когда-то
Российские эксперты скептически отнеслись к идее перепрофилирования оставшейся нитки «Северного потока-2» для транспортировки водорода. Как пишет «Прайм», для этого необходимы сложные технические решения по уже готовому трубопроводу и строительство нового — от Финляндии до труб на дне Балтики с последующим их соединением.
Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказал агентству «Прайм», что молекула водорода в 8 раз меньше молекул метана. Кроме того, соприкосновение с этим газом делает сталь хрупкой, поэтому необходима обработки трубы специальными покрытиями, а также замена ряда участков.
Он уточнил, что переквалификация «Северного потока-2» в водородопровод будет стоить от €5-10 млн на 1 км при его общей протяженности 1234 км, то есть общие затраты составят от €6-12 млрд. При этом на возведение «Северного потока-2» потрачено €9 млрд.
«НиК» напоминает, что ранее в ЕС предложили задействовать «Северный поток-2» для перекачки водорода, получаемого от ВИЭ, из Финляндии в Германию. Однако данный проект, если речь действительно идет о водороде, потребует модернизации газопровода на сумму, превышающую стоимость его строительства.
Так что «НиК» полагает, что никто в ЕС в здравом уме не собирается производить и транспортировать 50 млрд кубометров водорода в год. Такие мощности в блоке отсутствуют. Идея заключается в том, чтобы «подмешивать» водород к метану, пуская его по действующему газопроводу. Благо, что подсчитывать количество дополнительных молекул водорода в метане никто не будет.
Кстати, сам проект транспортировки водорода вместе с метаном по «Северным потокам» существует порядка 6 лет. Он был создан на фоне развития в ЕС климатической повестки и перспективы взимания трансграничного «зеленого» налога на выбросы СО2. В 2019 году Россия еще пыталась заигрывать с ЕС на тему углеродных единиц, а также компенсации выбросов парниковых газов с помощью «зеленых» технологий. Но в 2022 году, напоминим, оба трубопровода взорвали неизвестные, целой осталась одна нитка «Северного потока-2», но сам газопровод так и не получил лицензию энергорегулятора ФРГ и поставлять природный газ без этого одобрения не имеет права (хотя может технически).
В общем, время прошло. Сейчас европейские страны сильнее зависят от поставщиков сырья, поэтому «протащить» торговый протекционизм с помощью «зеленого водорода» никто не сможет. Кстати Алжир уже заявил, что если к нему захотят применить таможенный сбор на выбросы СО2, он перекроет свой экспорт в ЕС.
Страны ЕС готовят новые санкции против РФ к 23 февраля
Европейцы почти договорились по поводу нового санкционного набора против России.
Представители государств Евросоюза фактически согласовали новый санкционный набор против России. Обозначена дата, на котором будет в финальном варианте представлен 16-й пакет в отношении компаний и физических лиц из РФ. В рамках этих договоренностей предполагается также определение новых рестрикций в отношении Белоруссии.
Затем санкционные предложения будут переданы в Совет ЕС, где их окончательно доработают с тем, чтобы на встрече руководителей европейских МИД 24 февраля санкции были утверждены. В тот же день рестрикции вступят в силу.
«НиК» отмечает, что ходят слухи о запрете российского СПГ в новом пакете, но аналитики пока склонны к мнению, что эмбарго не введут: ЕС ждет расширения поставок с запуском новых проектов в США и Катаре, а это будет со следующего года. В целом отметим, что многолетние санкционные ограничения стали частью экономической жизни России. Участники российской экономики адаптировались к работе в условиях различных рестрикций. Новые партии санкций стали приниматься в РФ довольно обыденно.

Петер Сийярто: мы больше не одиноки в продвижении мира на Украине
Украине "было бы определенно полезно" отменить декрет Зеленского о запрете переговоров с Путиным, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В интервью РИА Новости министр рассказал об обязательстве Киева не атаковать "Турецкий поток" в рамках гарантий ЕС, начале золотого века в двусторонних отношениях Будапешта и Вашингтона, ситуации с оплатой энергоносителей из России, перспективах введения пошлин США против Евросоюза и прогрессе в постройке АЭС "Пакш-2". Беседовал Алексей Алексеев.
— Это был ваш первый визит в США после инаугурации Трампа. Какая программа визита?
— На самом деле я приехал не в США, а в ООН. Цель моего визита — участие во встрече по вопросам контртеррористического соглашения под руководством заместителя генерального секретаря господина Воронкова. Венгрия является не только активным сторонником, но и участником усилий ООН по борьбе с терроризмом. Самый крупный отдел Управления ООН по борьбе с терроризмом за пределами Нью-Йорка находится в Будапеште, и сейчас мы ведем переговоры о том, как еще больше расширить возможности штаб-квартиры в Будапеште, превратив ее из региональной штаб-квартиры в глобальный центр поддержки миссий.
— То есть встреч с представителями США не планировалось?
— Нет, в этот раз нет.
— А есть какие-либо запланированные контакты или встречи?
— У меня уже налажены контакты с новым государственным секретарем.
— У вас был телефонный разговор.
— Да, и это действительно что-то новое. Потому что когда госсекретарь Блинкен занял свою должность, он позвонил всем в НАТО и ЕС, за исключением меня. Так что это новое чувство — что я был одним из первых, с кем связался новый госсекретарь, с которым у нас состоялся отличный разговор, в конце которого мы договорились, что постараемся воспользоваться первым же возможным временным интервалом, чтобы встретиться друг с другом лично.
— Недавно ваш премьер-министр подчеркнул важность заключения хорошей сделки с Соединенными Штатами. Не могли бы вы раскрыть подробности? О какой сделке идет речь?
— Дело в том, что мы должны перестроить наши отношения с Соединенными Штатами, исходя из очень глубоких принципов. Я имею в виду, что прежняя администрация прилагала усилия, принимала решения для того, чтобы загнать эти двусторонние отношения в исторический тупик, и им это удалось.
Они, например, расторгли двустороннее налоговое соглашение между двумя странами, несмотря на огромное американское сообщество инвесторов в Венгрии. Они ограничили доступ венгров к системе ESTA, они весьма серьезно финансировали наших оппонентов в Венгрии, когда дело касалось политики, НПО, СМИ. Они внесли министра, ответственного за секретные службы, в санкционный "список Магнитского". Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений.
— То есть можно сказать, что эта сделка является своего рода соглашением между двумя странами. Или это просто восстановление отношений?
— Мы договорились о том, что восстановим отношения таким образом, чтобы это привело к новому золотому веку двусторонних отношений между США и Венгрией. Подписание нового соглашения об избежании двойного налогообложения, возвращение Венгрии на прежнее место в системе ESTA, пересмотр мер, основанных на мести прежней администрации, — все это, безусловно, станет частью новой реальности.
— Несколько недель назад министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против Москвы. Венгрия получила гарантии по энергетической безопасности от Еврокомиссии. В чем именно они заключаются?
— Хотелось бы сказать очевидную вещь: мы очень недовольны тем фактом, что существуют санкции, — и не из-за России, а из-за нас самих. За последние три года санкции нанесли венгерской экономике ущерб в размере 19 миллиардов евро, а это означает, что дальнейшее продление на полгода приведет к еще трем-четырем миллиардам евро убытков, это огромная сумма. Мы понимаем, что это невозможно, что, с одной стороны, мы платим за то, чего никогда не начинали, а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения. Так продолжаться не может. Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, так как у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями и не очень положительный.
Вот почему мы четко дали понять Еврокомиссии, что вопрос о том, ставит ли страна — кандидат в ЕС под угрозу безопасность энергоснабжения государства-члена, не может рассматриваться как двусторонняя проблема. Это не двусторонний вопрос, это европейская проблема, и, я думаю, недопустимо, чтобы Еврокомиссия скорее представляла интересы страны-кандидата перед государствами-членами, чем интересы государств-членов перед страной-кандидатом. Поэтому мы ясно дали понять Еврокомиссии, что так дальше продолжаться не может.
Финансовые жертвы ради санкций, а затем — угроза нашей энергетической безопасности. Так что они должны принять решение. Нам был представлен список гарантий по трем вопросам. Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро.
Мы в состоянии держать эти гарантии под постоянным контролем, поскольку следующее решение о продлении очередного режима санкций будет принято в середине марта, когда нужно будет решить, будет ли режим персональных санкций продлен или нет, и наше голосование, очевидно, будет зависеть от того, что произойдет до этого момента с этими гарантиями.
— Эти гарантии работают по состоянию на текущий момент?
— Пока еще не было никаких атак на инфраструктуру "Турецкого потока", поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину. Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления поставок газа через Украину, но еще есть некоторое время. В середине марта наш голос будет зависеть от дальнейшего прогресса по этим трем вопросам.
— Вы упомянули поставки газа. Речь идет о российском газе?
— В настоящее время безопасность наших поставок газа в основном зависит от трубопровода "Турецкий поток", который доставляет газ из России через Турцию, Болгарию и Сербию в Венгрию. Недавно этот трубопровод подвергся атаке, и мы предельно ясно дали понять, что нападение на инфраструктуру, которая обеспечивает нашу энергетическую безопасность, является неприемлемым.
— Президент Трамп заявил, что он определенно введет тарифы для Европейского союза. Венгрия является частью Европейского союза. Насколько вы обеспокоены?
— Похоже, в Европе существует спортивное искусство — соревнование между европейскими лидерами в том, кто сможет сказать больше гадостей о президенте Трампе, и журналисты тоже включились в эту гонку. Я очень удивлен, что никто из этих журналистов или политиков не упоминает о том, что самые враждебные американские решения против европейской экономики были приняты администрацией Байдена. Закон о снижении инфляции, который не имел ничего общего ни с инфляцией, ни ее сокращением, представлял собой четкий набор мер, бесстыдно дискриминирующих европейские компании в пользу американских.
Тогда я предложил в Европейском союзе две вещи: принять зеркальные меры или, если вы не готовы или недостаточно смелы для этого, оказать поддержку европейским компаниям таким образом, чтобы компенсировать потери, связанные с IRA (законом о снижении инфляции. — Прим. ред.). В тот раз Европейская комиссия была не готова ни к чему из-за политкорректности: администрацию Байдена нельзя трогать или критиковать. И каков же результат? Если американский президент хочет ввести пошлины для европейской экономики, у него есть надлежащая основа, и эта основа была создана администрацией Байдена.
— Есть шанс, что Венгрия сможет избежать этих пошлин как союзник США?
— Я надеюсь, что будущее мировой экономики — за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп — великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки — либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти.
— Президент Трамп у власти меньше месяца. Что изменилось для ЕС и вас (Венгрии)?
— Эпоха woke-идеологии закончилась. В последние годы, когда мы руководили страной на основе патриотического, христианского, суверенного подхода, мы подвергались массированным нападкам со стороны международного либерального мейнстрима. Теперь международный либеральный woke-мейнстрим потерял своего лидера, лидер западного мира проводит политику в поддержку семьи, суверенитета, борьбы с миграцией и мира, что полностью противоречит тому, что происходило до сих пор.
Я вижу, как эти европейские либералы ревут и вопят о том, что США прекращают финансировать их, а мы просто смеемся над этим. Ведь что происходило: бывшая администрация США инвестировала десятки миллионов долларов по различным каналам в наших оппонентов — в НПО, партии и СМИ в Венгрии, которые были очень-очень враждебно настроены по отношению к правительству. Прежняя администрация США вмешивалась во внутренние дела многих стран мира. Теперь с этим покончено, и это совершенно новая ситуация, поэтому я вижу, как либералы посылают сигналы SOS. Честно говоря, забавно за этим наблюдать.— Вы обсуждали план урегулирования Трампа на Украине?
— Мы не обсуждали планы, но намерения — да, и во всех моих беседах, будь то с госсекретарем Рубио или с советником по национальной безопасности Уолцем, все они очень ясно давали понять, что их намерение и намерение президента заключается в том, чтобы как можно скорее установить мир, а если такого рода намерение есть у президента США — это очень важно.
— Были разговоры о новой мирной конференции, подобной швейцарской. Она нужна, как вы считаете?
— Любая конференция имеет смысл только тогда, когда за столом переговоров присутствуют все стороны. В Швейцарии, я был там, фантастическое место, милые, замечательные люди, но мы разговаривали сами с собой, так что ехать туда, на самом деле, не имело смысла, при всем уважении к швейцарским коллегам и их добрым намерениям. Если за столом нет обеих сторон, то это приятная беседа, но не больше.
— Как вы считаете, следует ли Киеву провести президентские выборы в этом году?
— У меня определенно будет искушение сказать что-то о внутренней политике на Украине, но это противоречило бы моей ДНК, потому что я терпеть не могу, когда другие говорят о внутренней политике Венгрии, и я этого не делаю. Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло. Давайте оставим это на усмотрение украинцев, когда они захотят избрать президента.
— Нашла ли Венгрия решение для оплаты российского газа, нефти, ядерного топлива и проекта "Пакш-2" в условиях санкций США против Газпромбанка?
— Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение — это техническая проблема, мы всегда можем найти решение. Меня больше беспокоит то, что такие вещи вообще не должны происходить в международной политике.
Вы не должны ставить под угрозу безопасность энергоснабжения другой страны по политическим причинам, так что это был очень разочаровывающий шаг со стороны экс-администрации США. Они прекрасно знали, что пострадают некоторые их союзники — Словакия, мы, Турция, и я также поднимал этот вопрос на заседании министров иностранных дел НАТО. Я сказал госсекретарю Блинкену открыто перед всеми, что я понимаю, что администрация США выдала генеральную лицензию некоторым российским банкам, тем, через которые они платят за российское ядерное топливо, поскольку Россия является поставщиком ядерного топлива номер один для Соединенных Штатов. Нам не нужно ничего другого, просто ведите себя с нами так, как вы с самими собой обращаетесь.
— Как продвигается строительство "Пакш-2"?
— Строительство идет хорошо, налицо явный прогресс. Очевидно, что решения прежней администрации США снова создали некоторые досадные препятствия, но не те, которые невозможно преодолеть, а те, которые мы хотим преодолеть, мы должны работать над этим. Я надеюсь, что в ходе наших переговоров с новой администрацией мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что, если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время. Это немедленно снизило бы наши потребности в импорте газа на 3,5-4 миллиарда кубометров в год. Мы могли бы производить электроэнергию для себя, по сути, в объеме 75 процентов так что это был бы огромный шаг вперед на пути к энергетической безопасности, и я очень надеюсь, что наши союзники поймут это и помогут нам в этом.
— Если я не ошибаюсь, то первый бетон для строительства пятого энергоблока "Пакш-2" планируется залить в первом квартале этого года?
— Да, это все еще в силе. Без вопросов, я очень настаиваю на этом.
— Значит, март?
— Март, да, самое позднее, потому что первый квартал означает конец марта. Я предпочитаю все делать раньше, чем позже, но понимаю, что построить АЭС — не то же самое, что построить дом для семьи. Это сложный вопрос, и я понимаю, что иногда приходится пересматривать свой график, иногда приходится прилагать усилия, чтобы приспособиться к реальности. Технологии сложны, но я хочу ускорить сроки, при этом, конечно, не ставя под угрозу безопасность инвестиций, не говоря уже о проекте. Я вижу, что "Росатом", сотрудники "Росатома" проделывают отличную работу, демонстрируя высочайшие стандарты в этой отрасли. Для них также важно иметь инвестиции в Европейском союзе, и мне приятно видеть активное участие немецких и французских субподрядчиков, поэтому я надеюсь, что проект будет успешным.
Правительство Украины предложило Евросоюзу залежи полезных ископаемых страны
Киев готов предоставить доступ к критическому сырью не только Штатам, но и Евросоюзу
У Киева есть в наличии 22 из 30 критически важных для ЕС полезных ископаемых, включая уран, а украинские ВС могли бы стать альтернативой военным США в Европе, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль газете Politico.
По его мнению, украинская армия будет только укреплять отношения ЕС и США.
«НиК»: накануне Зеленский заявил, что американский министр финансов привез в Киев черновик соглашения о доступе к полезным ископаемым (редкоземам в основном) на $500 млрд взамен на помощь. Он сказал, что ни о какой безвозмездной передачи нет и речи. Впрочем, CNN пишет, что Зеленский отказался подписать предложенный документ сразу.
А вот Трамп ранее говорил о том, что Киев должен передать США эти залежи, в частности титана и лития, чтобы компенсировать американскую помощь стране с 2022 года.
Глава военного ведомства США Пит Хегсет предупредил Брюссель, что ему самому следует обеспечивать собственную безопасность. Хотя глава НАТО Марк Рютте уверен, что без Вашингтона Евросоюз себя защитить не сможет.
«НиК» напоминает, что большая часть месторождений лития находится на территориях, которые уже не контролируются Украиной.
В Госдуме живут планами роста экспорта газа по трубопроводам
Завальный: РФ может нарастить сетевой экспорт метана вдвое — до 240 млрд куб. м
Рост трубопроводных поставок газа из России возможен, но для этого нужны новые газопроводы в Китай и Иран, расширение газовой инфраструктуры в Центральной Азии
Восстановление экспорта сетевого газа из РФ позволит нарастить поставки до 240 млрд кубометров, то есть удвоиться и даже несколько превысить уровни прошлых лет, считает первого зампред комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Правда, уточнил он, это возможно в случае успешной реализации ряд проектов, в частности строительства экспортных газопроводов в КНР — «Силы Сибири-2» и с шельфа Сахалина, а также организацию поставок в Иран через Азербайджан и расширение поставок в Казахстан и Узбекистан.
«НиК»: в прошлом году экспорт сетевого метана из РФ увеличился на 15,6%, до 119 млрд кубометров. В текущем году поставки по действующему газопроводу «Сила Сибири» вырастут на 7 млрд кубометров. Кроме того, больше метана может транспортироваться в Казахстан и Узбекистан. В перспективе возможна реализация экспорта в Иран через Азербайджан, по этому маршруту может прокачиваться до 55 млрд кубометров, но она отдаленная.
При этом пока «Газпром» потерял украинский транзит, по которому шло порядка 15 млрд кубометров в ЕС. Дальневосточный маршрут с Сахалина может быть реализован в течение десятилетнего периода. Перспективы «Силы Сибири-2» на 45 млрд кубометров туманны, маршрут этого проекта постоянно меняется. До недавнего времени его хотели вести через Монголию, но в последнее время опять стали говорить о маршруте через Казахстан.
В пятницу начаты поставки газа в Приднестровье через Венгрию
Приднестровье до конца февраля будет получать газ через Венгрию
Венгерская MET Gas and Energy Marketing AG 14 февраля приступит к экспорту газа в Приднестровье, сообщила компания.
Речь идет о поставках метана в Молдавию, из которой этот газа пойдет в автономию. Отмечается, что транзит, который способствует энергобезопасности Кишинева, стал возможным благодаря ГТС Евросоюза, Украины и Молдавии. При этом газ для Приднестровья закупается на российские кредитные средства.
Ранее власти Молдавии отмечали, что эти поставки пока согласованы только до конца текущего месяца.
«НиК»: гуманитарные поставки газа Тирасполю с 1 по 10 февраля шли за счет кредита Брюсселя на 20 млн евро. Проблема заключалась в том, что после закрытия украинского транзита в автономии произошел серьезный энергокризис, который угрожал социальной катастрофой.
Далее ЕС предлагал Приднестровью помощь в 60 млн евро, но при условии политических реформ, роста стоимость электроэнергии и газа для населения, а также полное отсутствие энергосубсидий для промышленности. Тирасполь от этих денег отказался. В настоящее врем Кишинев также потребовал, чтобы поставки газа региону не превышали 3 млн кубометров в сутки, поскольку большие объемы позволяют запускать крупные промышленные предприятия Приднестровья.
До 31 декабря 2024 года автономия удовлетворяла свои потребности за счет 5,7 млн кубометров, из них 2 млн шли на Молдавскую ГРЭС, которая обеспечивала 80% электроэнергии Кишинева и всей правобережной Молдавии.
МЭА: спрос на электроэнергию за три года вырастет на 3500 ТВт
Спрос на электроэнергию в мире вырастет к 2028 году на объем, достаточный для удовлетворения нужд целой Японии
Спрос на электроэнергию в ближайшие годы резко возрастет, поскольку люди по всему миру потребляют больше электроэнергии для работы кондиционеров, промышленности и дата-центров для ИИ, считают аналитики МЭА.
Согласно отчету Международного энергетического агентства, в следующие три года мировое потребление электроэнергии вырастет на «беспрецедентные» 3500 ТВт. Это ежегодное увеличение, превышающее годовое потребление электроэнергии в Японии.
«Ускорение мирового спроса на электроэнергию подчеркивает значительные изменения, происходящие в энергосистемах по всему миру, и приближение новой эпохи электричества», — заявил в своем заявлении директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.
В последние годы развивающиеся страны стимулировали потребление электроэнергии, а в развитых экономиках оно застопорилось или даже упало. Но теперь, как обнаружило МЭА, США, ЕС и Япония готовы удивить ростом. Только в Соединенных Штатах в течение следующих трех лет ожидается повышение потребления электроэнергии, равное годовому потреблению Калифорнии, самого густонаселенного штата.
Но более значительный рост все равно будет происходить в развивающихся странах, особенно в Китае. Растущая часть экономики страны работает на электричестве, примерно 28% конечного потребления энергии приходится на электроэнергию по сравнению с 22% в США. Для производства солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей китайские заводы использовали столько же электроэнергии, сколько вся Италия в прошлом году. Промышленность продолжит оставаться основным драйвером роста электроэнергии в КНР наряду с растущим спросом на кондиционирование воздуха и зарядку электромобилей.
Глобальные выбросы углерода в секторе электроэнергетики должны снижаться всего на 0,1% в год до 2027 года, при этом угольная энергетика останется примерно на том же уровне в этот период, а электроэнергия от станций, работающих на природном газе, вырастет на 0,6%, подчеркивает агентство.
ФСЭГ: Импорт сетевого газа в ЕС упал на 13% с окончанием транзита по Украине
Январские отгрузки европейцам по трубе составили чуть меньше 12 млрд кубометров
Европейские страны удержали потребление метана в январе на уровне прошлого года в 42 млрд кубов из-за холодной погоды и слабой генерации электричества из ВИЭ. Поставки не опускались ниже это уровня пятый месяц подряд.
При этом январские закупки газа по трубе снизились на 13%, до 11,9 миллиардов кубов к декабрю и на 10% год к году из-за перекрытия транзита по украинской ГТС, а часть поставок из Норвегии перенаправлена в Великобританию.
Спрос на голубое топливо в КНР первый раз за 20 месяцев понизился на 1% год к году — почти до 38 млрд кубов.
Поставки СПГ европейцам в январе увеличились за год на 8% — до 12,03 миллиона тонн, чему способствовало уменьшение отгрузок и рост спроса на метан из-за холодов. Объемы экспорта СПГ в мире в январе выросли на 2% г/г, до максимумов для января значений. Самыми крупными продавцами СПГ в прошлом месяце стали США, Катар и Австралия. РФ находится на четвертом месте с объемом примерно 3 млн тонн.
Сетка от насекомых: Италия защищает кулинарные традиции от сверчков и личинок. Последуют ли примеру другие страны ЕС
Италия противостоит программе ЕС по потреблению насекомых
Нива Миракян (Рим)
Двусмысленная и местами абсурдная ситуация сложилась в Италии касательно использования продуктов, произведенных из сверчков и насекомых.
С одной стороны, страной движет благородное желание защитить свое богатое кулинарное наследие путем противостояния против реализации глобальной программы потребления насекомых на территории Европейского Союза, с другой - она вынуждена соблюдать директивы ЕС, с которыми она в корне не согласна.
В начале 2023 года, когда Евросоюз, активно продвигающий использование альтернативных источников белка, одобрил продажу насекомых (сверчков, саранчи и личинок жуков и червей) для потребления человеком, Италия решила пойти против течения.
Власти страны, пытающиеся сохранить аутентичность национальной кухни и защитить многовековые кулинарные традиции, приняли сразу пять законопроектов. Согласно нововведениям, были установлены жесткие правила для продуктов, содержащих белки насекомых, был введен запрет на производство и продажу продуктов питания, созданных искусственным путем в лабораториях, а также кормов подобного происхождения. Нарушителей обещали наказать штрафными санкциями в размере 60 тысяч евро.
Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида, решивший пойти навстречу местным фермерам, пояснил со своей стороны, что данное решение не является полным запретом на продажу и потребление продуктов из насекомых в стране. Речь идет именно о защите традиционной итальянской кухни от современных гастрономических экспериментов.
"Итальянская кухня - это часть нашего культурного наследия, признанного во всем мире. Мы не можем допустить, чтобы многовековые рецепты, передающиеся из поколения в поколение, подверглись радикальным изменениям в угоду современным трендам", - прояснил свою позицию министр.
54 процента итальянцев не намерены допускать до своего желудка насекомых
В этом направлении местные власти постарались сделать все от них зависящее, чтобы оградить потребителя от продуктов, изготовленных с использованием четырех видов насекомых (домашних сверчков, личинок мучного хрущака, мучных червей и перелетной саранчи), не нарушая при этом европейские директивы. В частности, торговые точки обязали размещать такие продукты на отдельных стендах подальше от традиционных продуктов питания. А производителей призывали использовать особую маркировку с подробным описанием возможных рисков для здоровья и потенциальных аллергических реакций. Представители ресторанного бизнеса также должны четко указывать наличие ингредиентов на основе насекомых в неитальянских блюдах, чтобы потребители могли сделать взвешенный выбор.
Такой подход Италии, по мнению экспертов, должен существенно затруднить планы Брюсселя по продвижению так называемой "новой еды" (novel food) на итальянском рынке. Обозреватели также отмечают, что примеру Италии могут последовать другие европейские страны, также стремящиеся защитить свои кулинарные традиции в эпоху глобализации и появления новых пищевых технологий.
Однако у этой медали есть и обратная сторона. Сначала под давлением Евросоюза Италия впустила на свой рынок гамбургеры из сверчков, а затем в 2024 году компания Nutrissect стала первой в Италии, которая получила разрешение на производство сверчковой муки, напоминающей по вкусу фундук и тыквенные семена. Компания с нескрываемой гордостью сообщила, что данная продукция будет распространяться среди компаний-поставщиков продуктов питания и учреждений общественного питания.
Как эта новость соотносится со стремлением властей оградить от новых кулинарных тенденций итальянскую гастрономию, пока не совсем понятно, ведь из сверчковой муки итальянского производителя будут, скорее всего, производить пасту и пиццу, которую власти изначально планировали защитить от подобных посягательств.
В этом вопросе, судя по всему, остается надеяться лишь на осознанный подход потребителей. Как показывают многочисленные опросы, проведенные по инициативе ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, более 54 процентов итальянцев не намерены допускать до своего желудка насекомых.
Единственное, где Италия пока в состоянии держать оборону, так это в отношении использования синтетической еды.
"По отношению к синтетической еде правила будут совершенно иными. В то время как мука из насекомых, пусть даже и не являющаяся частью нашей культуры, остается в конечном счете натуральным продуктом, суперобработанная пища, которую некоторые хотят нам навязать, таковой не является, остается неизученной, и нельзя исключать ее возможное негативное влияние на здоровье человека", - утверждает министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида.
Новый смартфон Apple приедет в Россию до конца февраля
Олег Капранов
Продажи новой модели смартфона Apple iPhone SE 4 начнутся в России в конце февраля, рассказал "Российской газете" собеседник на рынке электроники. Как ранее сообщал инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, компания планирует представить новинку на мировом рынке уже на этой неделе.
В продажу iPhone SE 4, как ожидается, поступит в конце месяца, о чем Гурману также сообщили осведомленные источники. При этом Apple не будет проводить презентацию, а просто выложит информацию о бюджетной новинке на своем сайте. Такой подход не является чем-то новым - в последние годы Apple часто выводит так на рынок новинки, не являющиеся знаковыми. Собеседники "РГ" на рынке розничных продаж электроники отмечают, что продажи Apple iPhone SE 4 начнутся в России в один день с мировыми продажами. Как ожидается, цена новинки может составить около 70 тысяч рублей на старте продаж. Эксперты не ожидают ажиотажного спроса, так как линейка SE традиционно ориентируется на экономсегмент и отличается скромными характеристиками.
Существующая версия iPhone SE выпущена в 2022 году и на сегодня устарела: это единственный iPhone, у которого все еще есть кнопка "Домой" и отсутствует Face ID. Кроме того, этот смартфон оснащен портом Lightning, а не USB-C, как того требуют европейские регуляторы, поэтому в странах ЕС продажа этого смартфона приостановлена. В новой модели этот недостаток будет устранен.
По сообщениям источников, смартфон лишится кнопки Home, вместо нее на экране будет вырез для камеры. Кроме того, он получит OLED-дисплей с диагональю 6,06 дюйма и частотой 60 ГЦ.
Что увидели мировые СМИ за телефонным разговором Путина и Трампа
Юрий Когалов
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал активное обсуждение в зарубежной прессе. Обозреватели пытаются проанализировать произошедшее с учетом текущей ситуации на международной арене.
Британская The Guardian обратила внимание на слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, что ни одна европейская страна не вовлечена в переговоры, о которых говорил Трамп. По мнению издания, это "кошмарный сценарий" для Зеленского.
"Стремительное развитие событий обеспокоило Европу, что Путин и Трамп, по-видимому, ведут переговоры о будущем безопасности континента через головы самих европейцев", - пишет газета. The Guardian также приводит мнение неназванного европейского чиновника, пожаловавшегося, что США даже не проконсультировались с ЕС по поводу переговоров по Украине.
Daily Mail называет "огромным ударом по Киеву" любое мирное соглашение, которое приведет к сохранению Россией новых территорий. А именно о таком развитии событий говорил глава Пентагона Кит Хегсет. В связи с этим британская газета пытается убедить своих читателей в недопустимости мирных переговоров.
Журнал Economist отмечает, что разговор президентов России и США без предварительной консультации с украинскими властями "вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах". Издание указывает, что там еще после первых обещаний Трампа во время предвыборной кампании быстро закончить украинский конфликт опасались, что Вашингтон оставит Украину без поддержки. И теперь будущее этой поддержки "туманно".
The Financial Times пишет об ожиданиях ряда высокопоставленных европейских чиновников от Трампа в связи с его позицией по Украине. "Американцы не видят роли для Европы в больших геополитических вопросах", - приводит слова одного из них издание. Однако европейцы полагают, что США возложат именно на Европу восстановление Украины после завершения конфликта. Также отмечается, что дипломаты ЕС нервничают из-за того, что им сложно организовывать встречи чиновников, в том числе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с членами команды Трампа.
Портал Euractiv со своей стороны приводит мнение представителя НАТО, назвавшего смену курса Вашингтона в отношении украинского конфликта "чем-то похожим на склонение Украины к превентивной капитуляции". Нынешняя позиция США относительно вступления Украины в НАТО и ее границ вызывает недовольство в Европе, там были неприятно удивлены, что такие заявления Хегсетом были сделаны еще до начала мирных переговоров по Украине.
Французская Le Figaro называет телефонный разговор Путина и Трампа "драматичным обменом мнениями, который перетасовал карты после трех лет конфликта". Газета напоминает, что предшественник Трампа Джо Байден оказывал Киеву помощь на миллиарды долларов, а новый президент США резко изменил подходы Вашингтона, пообещав быстро завершить конфликт, в том числе путем оказания давления на Киев. Издание отмечает, что "европейцы опасаются, что возможное мирное соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто без них"
Le Parisien указывает, что беседа двух лидеров застала врасплох украинские власти, Трамп не предупреждал Зеленского о своих планах позвонить Путину. "Украина опасается размежевания с Соединенными Штатами, которые являются ее главной военной и финансовой опорой", добавляет газета.
Испанская La Razon задается вопросом, "предал ли Трамп Европу и Украину", самостоятельно заключив соглашение с Путиным. "Соединенные Штаты, которые не колеблясь поощряли продолжение конфликта, после смены президента стали самым ярым сторонником скорейшего его прекращения", - пишет газета. "Заявления вызвали волну критики со стороны различных политических деятелей в Соединенных Штатах и вызвали недоумение в Европейском союзе, где шок был настолько сильным, что даже председатель Европейской комиссии не высказался по этому поводу", - добавляет La Razon.
El Confidencial написала, что за 90 минут телефонного разговора с Путиным Трамп уничтожил 80 лет "атлантизма", что подняло вопросы о его "предательстве"
Польская Rzeczpospolita отмечает, что "Европа затаила дыхание" после разговора двух президентов. "То, чего мы так долго боялись, становится реальностью на наших глазах. Американский президент вступил в прямые переговоры с российским лидером через головы европейцев", - пишет обозреватель издания. Сам факт телефонного звонка он называет доказательством, что Путин является равноправным партнером в глазах Трампа. В то же время автор высказывает недовольство, что США признают невозможность вступления Украины в НАТО и возвращения к старым границам. По его мнению, на эти уступки Вашингтону надо было идти не сразу, после переговоров, в обмен на некие уступки со стороны России. "Поэтому нельзя исключать, что Трамп просто хочет освободиться от украинского бремени, умыть руки и сосредоточиться на внутренних делах или, возможно, на конкуренции с Китаем", - пишет Rzeczpospolita.
Кстати, такую мысль высказал и один из экспертов, опрошенных китайской Global Times. Как заявил изданию профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, за стремлением выпутаться из украинского конфликта может стоять желание Вашингтона переключить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Американский портал Axios называет телефонный разговор Путина и Трампа "значительным прорывом в замороженных отношениях США и России".
Агентство Bloomberg отмечает обеспокоенность европейских чиновников, которые не знали заранее о звонке в Москву. "Власти европейских стран ошеломил звонок Трампа и Путина - значительный дипломатический шаг, о котором не уведомили ключевых союзников", - информирует СМИ.
Politico считает, что столь длинный разговор президентов демонстрирует удивительный сдвиг во внешнеполитической стратегии США, желание Трампа нормализовать отношения с Россией. В то же время издание отмечает, что отношения ЕС с новой администрацией США "настолько плохи, что их практически нет". И европейцы не знают, как реагировать на заявления американских политиков.
NBC News указывает, что "возрождение потенциально позитивных отношений между США и Россией - это отход от последних четырех лет". Телеканал напоминает, что администрация Джо Байдена ввела широкомасштабные санкции против России и предоставила многочисленные пакеты помощи Украине.
Трамп и Хегсет за день переписали подходы к Украине и разрушили курс на изоляцию РФ
Игорь Дунаевский
Глава Белого дома Дональд Трамп, который вышел к журналистам после первого за несколько лет телефонного разговора президентов России и США, так ответил на вопрос о том, не видит ли он угрозы в диалоге с Москвой без участия Киева: "Нет, я так не думаю". Его предшественник Джо Байден всегда повторял "ничего об Украине без самой Украины", пускай даже на деле мнение Киева его не интересовало.
День 12 февраля вышел насыщенным на такие контрасты. Трамп, осуществивший свой первый подход к украинскому кризису, напоказ рвал с риторикой предшественника, за несколько часов перекроив фундамент того курса, который Байден заложил в 2022 году. В той парадигме Запад, несмотря на все слова о стремлении к миру, демонизировал Кремль и исключал переговоры с ним, а Украина должна была продолжать воевать ради "стратегического поражения" или хотя бы ослабления России. Трамп показал, что ради переговоров о мире было достаточно снять трубку и позвонить в Кремль.
По словам главы Белого дома, он предложил Путину прекращение огня, а президент РФ ответил, что хочет долгосрочного урегулирования, а не "временного разрешения ситуации". Трамп по итогам разговора сообщил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой в Саудовской Аравии, планирует часто общаться с ним, а потому могут последовать и другие встречи. Республиканец ожидает своего визита в Россию и визита Путина в США. Позже в Белом доме уточнили, что пока рано говорить о времени и возможных условиях для первой встречи. Трамп при этом не обещал поехать на Украину.
Президент США проинформировал о состоявшемся разговоре Киев, о чем тоже рассказал журналистам. Выражался глава Белого дома императивами, не подразумевающими возражений с украинской стороны. Когда журналисты настойчиво еще раз спросили, считает ли он Украину равноправным участником переговоров, Трамп ответил: "Интересный вопрос. Думаю, что им надо заключить мир". "Он будет делать то, что он должен", - продолжил республиканец, комментируя возможность территориальных уступок со стороны просроченного президента Украины Владимира Зеленского. Трамп считает "маловероятным" возвращение Украины к границам 2014 года и "непрактичным" вопрос о ее вступлении в НАТО.
Президент США вновь подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине, которым так противится Зеленский, указав, что у последнего "рейтинги не особенно хорошие, мягко говоря". Дальнейшую помощь Киеву от Вашингтона республиканец назвал возможной "под гарантии" возвращения денег. Такой документ, по словам Трампа, привезет из Киева глава минфина США Скотт Бессент. Договор будет подразумевать доступ американцев к редкоземельным металлам Украины, а его сумму Трамп оценил в 500 миллиардов долларов. Конкретики на этот счет пока никакой нет, но очевидно то, что сейчас Трампу нужна не она, а в первую очередь пиар-шаг для внутренней аудитории, объясняющий интересы Америки в возможном урегулировании.
Часть тезисов Трампа за несколько часов до этого озвучил его министр обороны Пит Хегсет на встрече в формате "Рамштайн". Он в своем первом международном выступлении не стушевался. В прошлом он дослужился в ВС США до майора, а позже был ТВ-комментатором, а потому умело ораторствовал, чеканил фразы, давая понять, что приехал не консультироваться с союзниками, а зачитать им волю своего начальника: "Возвращение Украины к границам 2014 года - это нереалистичная задача... Гарантии безопасности для Украины должны быть подкреплены европейскими и неевропейскими силами в рамках миссии, не относящейся к НАТО, США не направят туда свои войска... Стратегические реалии не позволяют Америке концентрироваться на безопасности Европы". Хегсет заявил о новой реальности, в которой, по его словам, предусмотрено "разделение труда": приоритетом для США будет противостояние с Китаем, а ведущую роль в поддержке Украины должна играть Европа.
Позже журналисты попытались спровоцировать главу Пентагона, бросив ему в лицо: "Вы собираетесь предать Украину?" Хегсет парировал: "Это ваши слова, не мои. Речь не о предательстве. Есть признание того, что США и весь мир заинтересованы в наступлении мира через переговоры. Как сказал президент США, необходимо остановить гибель людей".
Пока глава Пентагона, как казалось, не без удовольствия заколачивал гвозди в крышку гроба с курсом Байдена внутри, выражения лиц сидевших рядом с ним министров обороны Британии, Германии и Украины красноречиво говорили сами за себя. В этот момент они еще не знали, что вскоре Трамп позвонит в Москву, ведь администрация республиканца не уведомила о столь серьезном шаге не только Украину, но и, по данным Bloomberg, даже ближайших американских союзников.
Глава МИД Германии Анналена Бербок, заявившая, что Европа не может заменить США в военной поддержке ВСУ, и призвавшая к участию ЕС в переговорах. Руководство Британии, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции и Еврокомиссии подписало совместное заявление о том, что "Украина и Европа должны быть частью любых переговоров", - отмечается в пресс-релизе.
Издание Euractiv цитирует натовских чиновников, которые считают, что заявления Хегсета сродни "принуждению Киева к капитуляции". По данным газеты Financial Times, европейцы считают, что Трамп "видит в них только деньги" и потребует оплачивать восстановление Украины. Издание The Telegraph и вовсе резюмирует, что теперь "это мир Путина и Трампа".
Жак Сапир: Спасение европейцев в возврате к сотрудничеству с Россией
Вячеслав Прокофьев (Париж)
Европейцы в панике. Новый президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу импортными пошлинами в 25 процентов на сталь и алюминий, сославшись на необходимость сокращения торгового дефицита с Европой. Уже подписан декрет о том, что эта мера вступит в силу 12 марта. "Российская газета" попросила известного французского экономиста и политолога Жака Сапира поделиться своими мыслями по этому поводу.
Как вы считаете, оказался ли Евросоюз на грани торговой войны с Соединенными Штатами?
Жак Сапир: Все идет к этому. Надо понимать, что тарифы в качестве весомого инструмента могут преследовать разные цели. Так, в отношении Канады и Мексики заявленная цель была политическая, а конкретно - остановить контрабанду синтетического наркотика фентанила, который в массовых масштабах косит американскую молодежь. А когда правительства этих соседних США стран отреагировали, ужесточив контроль на своих границах, Вашингтон, скорее всего, не станет их кошмарить новыми пошлинами. Что касается Китая, то здесь, по логике Трампа, речь идет о национальной безопасности, ибо США, и на это есть вполне определенные резоны, стали в значительной степени зависимы от китайского импорта. Ведь, действительно, дефицит в торговле с Пекином явно не в пользу американцев.
Трамп ведет дело к демонтажу европейской промышленности. Спасение Европы в доступе к российским энергоносителям и снятии санкций
Если говорить о Европе, и в первую очередь о Германии, то, на мой взгляд, его намерение поднять тарифы на сталь и алюминий наносит удар по некогда мощной немецкой промышленности. Ведь их производство в высшей степени электроемкое и уже сейчас оказалось в бедственном положении из-за цен на энергоносители. По сути, нынешний тарифный наезд на Евросоюз ведет к его деиндустриализации.
Насколько Трамп был прав, когда заявил, что "Европа ужасно относится к Вашингтону"?
Жак Сапир: Обвинения Трампа не имеют ничего общего с действительностью. Если посмотреть на то, как эволюционировала торговля между ЕС и США, то следует отметить, что европейцы, скажем так, всегда были весьма покладистыми, сговорчивыми партнерами. Более того, к американским интересам относились с большим пиететом. Скажу больше. В то время как страны ЕС были всегда открыты для товаров из США, на противоположном берегу Атлантики не допускали, чтобы европейские товары могли составить реальную конкуренцию тамошней продукции. Достаточно вспомнить, что в 60-е и 70-е годы прошлого столетия они не пустили на свой рынок французские пассажирские лайнеры "Каравелла", позже заблокировали франко-британский сверхзвуковой самолет "Конкорд". И таких примеров из других областей можно привести множество.
На днях французский президент Макрон призвал европейцев готовиться к схватке. Как вам это?
Жак Сапир: Опасения объяснимы. Ведь сейчас стоимость энергоресурсов, к примеру, в Германии в три раза выше, чем в США. Впрочем, она значительно выше и в других европейских странах, включая Францию. Повторюсь, и это важно. Навязывая Евросоюзу дополнительные таможенные пошлины, Трамп тем самым хочет ускорить исход промышленных гигантов за океан, и этот процесс, как мне представляется, не остановить уступками, на которые может пойти Брюссель. Макрон отреагировал на демарш нового хозяина Белого дома примерно так же, как это делали его предшественники в подобных ситуациях в прошлом. Однако он, как мне кажется, не понял, что Трамп ведет дело к демонтажу европейской промышленности, прежде всего Германии. Это долгоиграющая стратегия. Ему не нужны компромиссные подвижки, уступки по тем или иным торговым вопросам. Он реально хочет лишить Германию большой части ее потенциала.
Это касается и Франции?
Жак Сапир: Да, но в меньшей степени. Хотя бы потому, что Франция уже в значительной степени лишилась своей промышленности. Сейчас на нее приходится лишь 13,9 процента ВВП, в Германии же этот показатель пока составляет 25 процентов - гораздо больше. Что происходит сейчас на наших глазах? Немецкие сталелитейщики массово планируют перебраться в США вслед за автомобилестроительными корпорациями Volkswagen, Mercedes Benz, химическим гигантом Bayer и еще десятками других компаний.
Есть ли у Евросоюза набор средств, чтобы оказать сопротивление наезду из-за океана?
Жак Сапир: ЕС может ответить зеркальными санкциями против американских товаров, как это было в 2018 году, когда были среди прочего введены особые пошлины на виски, мотоциклы Harley-Davidson, джинсы Levy Strauss. Но этого мало. Необходимо изменить стратегию, политическую линию. Я убежден в том, что надо восстановить связи с Россией в области энергетики. Потому что Европа как промышленная сущность не способна дать отпор наступлению США, когда ее энергетические затраты на порядок выше, чем за океаном. Германия, Евросоюз, объявив санкции против России, реально загнали себя в крайне невыгодное положение по отношению к США. Выбор у европейцев таков: прогнуться под нахрапистым наездом американцев и наблюдать за тем, как Европа лишается промышленности. Либо снять санкции, получив доступ к российским источникам энергии, в первую очередь к трубопроводному газу. В этом спасение Европы. Вопрос о возвращении к сотрудничеству с Россией назрел, и это очевидно для многих. Конечно, европейцы могли бы выйти из энергетического тупика за счет АЭС. Но их явно не хватает. Думается, Европе, чтобы избежать опаснейшего кризиса, надо, как говорится, съесть свою шляпу, то есть признать ошибки как в плане связей с Россией, так и в отношении атомной энергетики.
В итальянских школах попробовали внедрить виртуальных помощников учителей
Нива Миракян (Рим)
Школы Италии, где регулярно испытывают проблемы со своевременным наймом преподавательского состава, делают первые шаги в сторону решения этих проблем через внедрение новых технологий.
В текущем учебном году в 15 итальянских школах стартовал масштабный экспериментальный проект по использованию виртуальных помощников учителей на основе искусственного интеллекта. Инициатива нацелена на повышение уровня преподавания и успеваемости, а также на уменьшение цифрового разрыва между Италией и другими странами Евросоюза.
Итальянские ИИ-ассистенты главным образом сосредоточены на персонализации обучения для каждого школьника в зависимости от его способностей и скорости усвоения материала. Соответствующие программы интегрированы в планшеты и компьютеры, помогая детям как во время уроков, так и при выполнении домашних заданий. Виртуальные ассистенты также способны оказывать поддержку ученикам, которые имеют особенности развития, и тем детям, для кого итальянский не родной.
Отмечается, что проект особенно актуален для школ с высоким уровнем отсева учащихся, таких как профессиональные и технические институты.
Алессандро Больоло, профессор систем обработки информации Университета Урбино, утверждает, что "ИИ позволяет создавать персонализированные образовательные маршруты, адаптируя учебный материал под конкретные потребности каждого ученика". Марко Гуи, директор Центра "Цифровое благополучие" Миланского университета Бикокка, утверждает, что "ИИ может автоматизировать многие административные задачи, позволяя учителям больше сосредоточиться на дидактических и межличностных аспектах". Однако, по словам эксперта по образовательным технологиям Агостино Менна, "необходимо разработать четкие правила использования ИИ в школах, которые гарантируют конфиденциальность учащихся и предотвратят возможные злоупотребления".
Ожидается, что эксперимент продлится два года. По словам министра образования Италии Джузеппе Вальдитары, в случае положительных результатов с 2026 года ИИ будут внедрять во всех школах страны.
Почему саммит по искусственному интеллекту в Париже завершился скандалом
ИИ стал еще одним поводом для противостояния в мировой политике
Иван Сысоев
США и Британия отказались подписывать совместную декларацию парижского саммита по искусственному интеллекту (ИИ). Мероприятие, задуманное в целях поиска совместного подхода мирового сообщества к прорывной, но очень опасной технологии, своей задачи не выполнило. Вместо области для сотрудничества в мировой политике появился еще один повод для конкуренции и противостояния.
В итоговом документе содержатся достаточно общие положения, говорится, что ИИ должен быть "открытым, инклюзивным, прозрачным, этичным, безопасным, надежным и заслуживающим доверия". Но Вашингтон и Лондон пошли на демарш, чтобы подчеркнуть свое особое отношение к технологии. В Британии заявили, что "в целом согласны" с декларацией, но считают, что она "не обеспечивает ясности в отношении глобального управления ИИ и не затрагивает сложные вопросы, связанные с национальной безопасностью и угрозами".
Многие наблюдатели уверены, что британцы пошли на поводу у США, чтобы завоевать расположение Вашингтона, которой по вопросу ИИ занял еще более жесткую позицию. Вице-президент Джей Ди Вэнс на саммите вполне ясно высказался против "чрезмерного регулирования" технологии, бросив камень в адрес Евросоюза. Вполне логичная позиция, учитывая, что именно американские компании занимают лидирующие позиции в разработках в области ИИ. Им лишние обязательства и ограничения совсем не нужны. "Международные режимы регулирования должны способствовать созданию технологий ИИ, а не душить их, - заявил Вэнс. - Нам нужно, чтобы наши европейские друзья смотрели на этот новый горизонт с оптимизмом, а не с тревогой". Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "регулирование необходимо для обеспечения доверия к ИИ", Вэнс даже не стал слушать, покинув зал.
Помимо "европейских друзей" американцы опасаются конкуренции со стороны Китая. Не называя прямо Пекин, Вэнс указал на риски от взаимодействия с "авторитарными режимами", которые "стремятся внедриться, окопаться и захватить информационную инфраструктуру". Ответ КНР не заставил себя долго ждать. В МИД Китая, комментируя позицию США, призвали не политизировать международное сотрудничество в области ИИ. Пекин подчеркнул, что нацелен на расширение "инклюзивного развития ИИ" и на "помощь развивающимся странам укреплять потенциал в этой области".
Напряженность на саммите проявилась даже между его соорганизаторами - президентом Франции Макроном и премьером Индии Нарендрой Моди. Француз демонстративно не пожал руку индийцу. Может быть, это была лишь случайная неловкость, ведь перед началом саммита они вполне дружелюбно общались. Но вполне возможно, что Запад таким образом подал сигнал недовольства заявлениями Моди, который призвал мировое сообщество делиться преимуществами ИИ со всеми странами, в первую очередь, с Глобальным югом. Эти слова принимают еще большее значение, если учитывать, что следующий саммит по ИИ пройдет именно в Индии.
Но наивно надеяться, что Запад будет бескорыстно помогать бедным. Для него ИИ - это деньги, власть и контроль над другими. Пока политики с трибун говорили об "открытости и надежности", Китай и Индия призывали к справедливому сотрудничеству, в кулуарах саммита западники решали свои вполне прозаичные вопросы. Например, французский ИИ-стартап Mistral подписал контракт с немецкой военной компанией Helsing, разрабатывающей программное обеспечение для дронов и реактивных истребителей. На полях мероприятия представители западного военного сообщества в тишине решали, как лучше использовать ИИ для обороны и нападения. "На примере Украины мы видим, как важно умение адаптироваться к действиям противника, - заявил командующий НАТО по трансформации французский адмирал Пьер Вандье. - Нам придется найти способы контролировать ИИ, иначе мы потеряем контроль над всем".
Что обсудили Шойгу и Токаев на встрече в Астане
Сергей Шойгу: Выборы в США не могут повлиять на ядерную доктрину РФ
Иван Егоров (Астана)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду в Астане принял секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Их встреча продлилась более часа. За это время собеседники, как удалось выяснить обозревателю "РГ", обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись оценкой международной обстановки, включая ситуацию в Сирии, Афганистане и на Украине.
"Считаю абсолютно важным публично передать слова приветствия Владимиру Владимировичу Путину. Мы проведем дополнительные встречи в ходе моего визита в Москву 9 мая на 80-летие Победы", - поприветствовал российского гостя Токаев.
В целом, по его словам, ситуация сотрудничества между двумя странами выглядит достаточно успешной - оно развивается по восходящей линии.
Шойгу в ответ также передал Токаеву привет и наилучшие пожелания от Путина.
"Конечно, видно не только нам, но и всему миру - те отношения, которые сложились между нашими братскими народами. Объем и товарооборота, и наших совместных проектов - он, конечно, впечатляет. Вы сказали о российских инвестициях, которые присутствуют в Казахстане, - 23 тысячи предприятий, которые присутствуют здесь, это говорит о многом", - обратился к главе Казахстана Шойгу.
В то же время, по его словам, это впечатляет не только Россию и Казахстан, но и тех, кто смотрит на наши страны со стороны.
"Кто-то с завистью, а кто-то с большим вниманием и желанием участвовать", - заметил секретарь Совбеза РФ.
Он также рассказал президенту Казахстана об итогах очередных консультаций по линии аппаратов Совбезов двух стран, которые прошли утром в среду.
"События в Афганистане, последние события в Сирии и ситуация на Украине - безусловно, они требуют нашего постоянного внимания, постоянных официальных консультаций", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что все, что касается вопросов безопасности, обсуждается между Москвой и Астаной в оперативном режиме. В остальном, по его словам, вся работа идет на плановой основе согласно программе сотрудничества на 2025-2027 годы.
Уже после встречи с президентом Казахстана Сергей Шойгу подробно ответил на вопросы российских журналистов о том, например, как на российско-казахстанские отношения может повлиять смена власти в США.
"Вы знаете, отношения России и Казахстана имеют настолько глубокие корни, они не могут зависеть от выборов президента Соединенных Штатов. Нас связывает общая история, общая жизнь, связывают общие границы", - ответил на это секретарь СБ РФ.
При этом он напомнил, что между нашими странами самая протяженная сухопутная граница - это больше семи тысяч километров.
"Что касается безопасности, ну как могут повлиять на нашу, допустим, ядерную доктрину выборы того или иного президента в США? Никак. Как обеспечивали безопасность наших союзников, наших соседей, которыми являются и Казахстан, и Белоруссия, так и будем обеспечивать безопасность единым зонтиком. Мы об этом всегда говорили и никогда этого не скрывали", - заявил Шойгу. При этом он не исключил, что необходимые коррективы будут вноситься по мере развития и реализации всех тех заявлений, которые сделаны Трампом и его окружением.
В целом, по его мнению, кардинальные изменения, начавшиеся во второй срок Дональда Трампа, могут быть предвестником большой революции в США.
"России хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - заметил секретарь Совбеза.
Кардинальные изменения, начавшиеся во второй срок Дональда Трампа, могут быть предвестником большой революции в США
Правда, по его словам, есть небольшие сомнения в том, что все положительные изменения в Америке, начавшиеся со вторым президентским сроком Трампа, останутся при следующем главе государства. По его мнению, с приходом нового президента США могут опять вернуться к той же работе и риторике, что и раньше.
Высказался Шойгу и по поводу деятельности по всему миру Агентства США по международному развитию. "Нам давно понятна сущность этой организации, задачи и цели, которые она преследует в разных странах. Там все цвета радуги, как в смысле ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), так и в смысле цветных революций", - заявил Шойгу.
Он напомнил, что в России деятельность агентства запретили еще в 2012 году. По его словам, жалко, что понимание сути этой организации ко многим странам приходит с большим опозданием, когда уже начались необратимые последствия.
При этом он подчеркнул, что даже с закрытием USAID не нужно питать иллюзий насчет того, что Вашингтон откажется от своей деструктивной деятельности по отношению к неугодным государствам.
Например, в Сербии и Словакии ничего не останавливается и продолжаются попытки извне организовать протестные движения как со стороны Евросоюза, так и со стороны Соединенных Штатов.
Глава Пентагона приехал на "Рамштайн" с пустыми руками
Игорь Дунаевский
Первая с момента инаугурации президента США Дональда Трампа встреча военных спонсоров Украины в формате "Рамштайн" оправдала мрачные ожидания "ястребов". Еще до заседания Вашингтон, безраздельно руководивший этим форматом с момента его создания в апреле 2022 года, избавился от председательства, передав его британскому министру обороны Джону Хили.
Глава Пентагона Пит Хегсет встречу в Брюсселе прогуливать не стал. Но времена, когда такие мероприятия проходили под мантры американцев о том, что накачивание Украины вооружениями продлится "столько, сколько потребуется", похоже, канули в историю вслед за автором и главным адептом этой формулы - экс-президентом США Джо Байденом.
"Мы должны начать с того, что возвращение Украины к границам 2014 года - это нереалистичная задача... США не считают, что членство Украины в НАТО может быть реалистичным результатом урегулирования... Гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы, США не направят туда свои войска... Достижение мира - это наивысший приоритет... Кровопролитие на Украине должно остановиться", - по заявлениям Хегсета на полях встречи казалось, что он задался целью перечеркнуть как можно больше тех обещаний и подходов, которые обычно озвучивал коллегам его предшественник Ллойд Остин.
Нельзя исключать, что "ястребы" попытаются найти такую форму дальнейших поставок оружия ВСУ, которую смогут преподнести Трампу как выгодную для США сделку
На момент написания этого текста заседание еще продолжалось, но, по данным агентства Associated Press, Хегсет на полях "Рамштайна" не планировал объявлять о какой-либо новой помощи Украине и даже не собирался отдельно встречаться с ее представителями, как это всегда делал Остин. По слухам в СМИ, глава Пентагона вообще собирался "больше слушать", чем говорить. Таким образом он, похоже, сразу хотел обозначить новую реальность для формата, которая, как Хегсет заявлял в эфире телеканала Fox News, подразумевает "ведущую роль европейцев в поддержке Киева".
Перед поездкой в Брюссель заокеанский визитер навестил расквартированных в Германии американских солдат, озвучив им приоритеты новой вашингтонской администрации: "Самым большим вызовом является охрана собственных границ США, мы эту задачу быстро решаем. Мы долго защищали чужие границы, теперь защищаем свои собственные". Впрочем, как рассказал Хегсет, никаких планов по сокращению американского военного присутствия в Европе пока не имеется, хотя в Вашингтоне намерены провести анализ дислокации сил в мире. Из внешних угроз он выделил противостояние с Китаем, а вот Украину вниманием обделил.
Будущее как самого "Рамштайна", так и военной поддержки Украины пока трудно прогнозировать. По данным ресурса Euractiv, в Европе в некоторой степени уже смирились с новыми реалиями и не ждали, что на заседании США примут на себя существенные новые обязательства по помощи Киеву. Пока ВСУ, похоже, продолжают получать от США те партии вооружений, которые выделила еще администрация Байдена. Трамп не запрашивал у конгресса США новых денег на эти цели, но в остальном его риторика о примирении пока не подкреплялась конкретными действиями. Республиканец фонтанирует идеями, порой противоречивыми, включая, например, некую сделку о компенсации затрат американцев на военную помощь Украине за счет ее природных ресурсов.
Более или менее понятно только то, что Трамп не собирается продолжать линию Байдена, игравшего роль идеологического предводителя западной коалиции и главного спонсора Украины, а хочет переложить значительную часть бремени на Европу. Поэтому нельзя исключать, что "ястребы" по обе стороны океана будут искать такую форму продолжения поставок вооружений Киеву, которую смогут преподнести главе Белого дома как выгодную для США сделку. Именно таким образом республиканец на первом сроке (2017-2021) принял решение о первых поставках Киеву боевых противотанковых систем, на что не решался его предшественник Барак Обама.
К слову, выбор Британии в качестве нового председателя "Рамштайна" выглядит не случайным - у нее в коалиции натовских спонсоров Украины сложилась особая роль. По объему передаваемых ВСУ вооружений Лондон занимает не первую и даже не вторую строчку. Однако именно британцы играли роль главного "ястреба", проталкивая на полях "Рамштайн" поставки Украине все более тяжелых систем вооружений. Когда в рядах союзников возникали споры насчет передачи очередного типа вооружений и опасения того, что это может привести к эскалации конфликта, именно Лондон нередко делал первый шаг и объявлял, что отправит ВСУ очередные системы, будь то танки или дальнобойные ракеты. Тем самым создавался прецедент, а Байден мог делать вид, что нехотя ему следует, после чего подтягивались и остальные.
Но проблема "Рамштайна" в том, что заменить главу Пентагона в председательском кресле куда проще, чем найти замену тем объемам вооружений, которые США передавали Украине. На американцев приходилась львиная доля всей боевой техники, передаваемой ВСУ, а у европейских стран НАТО, судя по их же заявлениям, в таких количествах оружия не имеется.
В этом контексте объявленный по итогам встречи пакет новой помощи Украине от Британии на сумму 150 миллионов фунтов, на порядок уступающий былым поставкам от США, был для Киева сомнительным поводом для радости. Как и заявление главы МИД Эстонии о готовности защищать Украину.
Перспективы дальнейшего падения в рейтинге приоритетов Запада тревожат Киев, который в последние недели лихорадочно сыпет самыми разнообразными заявлениями, пытаясь нащупать подходы к взаимодействию с Трампом. Глава Белого дома рассуждает общими фразами и пока явно далек от однозначно сформулированного подхода к украинскому кризису, но любит упоминать о стремлении к мирным переговорам. Как показала практика последних недель, странам, зависящим от США, порой дорого даются пререкания с Трампом, поэтому приехавший из Киева украинский министр обороны Рустем Умеров избрал путь наименьшего сопротивления. Он не стал изобретать колесо и послушно повторил лозунги главы Белого дома, при этом не утруждаясь вкладывать в них никакого конкретного смысла. "Украина готова к переговорам по завершению (боевых действий)", - написал он в своем Telegram-канале по прибытии на встречу, не смущаясь тем, что сам он собирался просить в Брюсселе "стабильных и своевременных поставок" военной помощи Украине от союзников, включая авиацию, системы ПВО и боеприпасы. Кроме того, Умеров призвал увеличить объемы передаваемых вооружений как за счет наращивания производственных мощностей европейской оборонки, так и инвестиций в предприятия на украинской территории.
Перспективы дальнейшей поддержки Украины также станут центральной темой еще одного крупного мероприятия - ежегодной конференции по безопасности в немецком Мюнхене, которая пройдет 14-16 февраля.
Между тем
Первым высокопоставленным американцем, который посетит Киев после избрания Трампа, будет не спецпредставитель по Украине Кит Келлог, а новый министр финансов Скотт Бессент, автор экономической части президентской предвыборной программы. Но этот опытный управляющий инвестиционными фондами, кажется, пугает режим Зеленского больше, чем отставной трехзвездочный генерал. Визит Бессента в Киев подтвердил сам Трамп, а телеканал Fox News предположил, что в разговоре с Зеленским будут обсуждаться санкции против России, украинские недра, которые так неосторожно предложил Трампу Зеленский, и главное - "куда были потрачены средства США". Последние два вопроса связаны, и по обоим Киеву нечего отвечать. В отношении аудита направленных Киеву средств Зеленский откровенно валяет дурака, предложив американцам поискать у себя десятки, если не сотни миллиардов долларов. Однако вряд ли такой ответ устроит главу финансового ведомства. Что касается встречного предложения Трампа - возместить американские траты - 500 миллиардов долларов, полностью и с процентами, то здесь разговор окажется еще тяжелее. Во-первых, Скотт Бессент инвестор опытный, учился у самого Сороса и работал с нефтяными монархиями. Поэтому разницу между предполагаемым и доказанным месторождением понимает, равно как в состоянии на глаз определить себестоимость добычи того же лития на Украине. Ему вырванную из учебника экономической географии страничку не продашь. Во-вторых, и об этом говорят на Украине, все месторождения, которые Зеленский хочет отдать США, уже кому-то принадлежат, в том числе самым богатым украинцам. И для того чтобы заключить сделку с Трампом, Зеленскому нужно все эти участки конфисковать или национализировать. Итогом может стать уже реальный заговор олигархов, а не тот, потешный, конца 2021 года, которым Зеленский пугал сам себя.
Подготовил Павел Дульман
Азербайджан в январе снизил экспорт газа на 13%, до 2 миллиардов кубометров
Статистика пока не подтверждает выполнение планов Баку по наращиванию газового экспорта.
Январский экспорт газа Азербайджаном упал на 13%: если за январь-2024 было экспортировано 2,3 млрд куб. м, то за январь-2025 уже 2 млрд куб. м.
Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова руководителя азербайджанского Минэнерго Пярвиза Шахбазова, половина поставок голубого топлива в январе — 1 млрд куб. м — пришлась на европейские государства. Еще 35% объемов отправилось в Турцию — 0,7 млрд кубов, а остальные 0,3 млрд кубометров (15%) были экспортированы в Грузию.
Агентство отмечает, что в минувшем месяце экспорт газа из Азербайджана в Европу снизился на 9,1%, в Турцию — упал на 12,5%, а в Грузию — рухнул на 25%.
«НиК» напоминает, газовый экспорт из Азербайджана в Европу был запущен в конце 2022 года, к настоящему моменту Баку заключил контракты с десятком европейских государств. При этом Азербайджан везде и всюду заявлял, что намерен наращивать экспорт голубого топлива, но пока роста не видно. Возможно, есть проблемы с увеличением добычи, а возможно, и внутренний спрос растет более высокими темпами.
Анкара поддержит любой выгодный проект по поставкам газа в ЕС
Турция изучает разные альтернативы после прекращения транзита российского газа по украинской ГТС
Турция готова оказать поддержку любому экономически выгодному проекту по отгрузке метана в ЕС после остановки транзита топлива из РФ через украинские земли, рассказали в турецком Минэнерго.
По словам главы ведомства Алпарслана Байрактара, Турция активно изучает возможности как импорта, так и экспорта газа, реагируя на растущий спрос европейцев. Примером готовности Анкары помогать европейцам может служить Словакия, которая как и соседи лишилась российского метана с 1 января.
«НиК» напоминает, что остановка перевалки газа из РФ через Украину после отказа Киева пролонгировать договор спровоцировала дефицит на рынке Европы. Альтернативами могли бы стать схемы привлечения третьих стран для подписания контракта с Киевом, а также своповые поставки российского голубого топлива с Азербайджаном через ГТС Украины.
Кишинев получил из Румынии 2,7 млн кубометров газа для Приднестровья
С 11 февраля Приднестровье получает метан на деньги России
«Молдовагаз» импортировала из Румынии еще 2,7 млн кубометров газа для Тирасполя.
Это покупка была сделана за счет аванса от «Тираспольтрансгаза» на румынской бирже, поставка должна осуществиться 13 февраля.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщал, что с 11 февраля метан для региона приобретается на российские кредитные средства. Поставки пойдут за счет венгерской MET Gas and Energy Marketing, через оплату дубайской JNX General Trading. Это голубое топлива начнет поступать в Молдавию, а уже потом пойдет в Приднестровье.
«НиК» напоминает, что энергопомощь Приднестровья предлагал и Брюссель в виде €60 млн. Однако эти деньги пошли бы автономии с условиями того, что электроэнергия и газ подорожают для населения до рыночного уровня, кроме того, поставками газа не сможет воспользоваться промышленный сектор региона. В противном случае, молдавские власти пригрозили остановкой транзита. Тирасполь от этой помощи отказался.
Politico: В Еврокомиссии опровергла слухи о возможном введении ограничений цен на газ
Еврокомиссия к концу февраля опубликует план развития европейской промышленности, но там нет механизмов ограничения стоимости импортного газа.
Еврокомиссия не намерена включать тему ограничения цен на газ в план снижения стоимости на энергоносители, пишет Politico, ссылаясь на источники. Один из собеседников издания уведомляет, что Еврокомиссия к концу февраля опубликует планы по «зеленой» промышленности, и там нет идеи ограничения стоимости импортного газа.
Тема контроля газовых цен может внести раскол между странами Евросоюза, предполагает Politico. Поддерживают эту тему Греция, Испания и Польша, но категорически против высказываются Германия, Дания и Нидерланды. И даже те государства, что прежде высказывались за введение ограничений, теперь выражают сомнения.
«НиК» напоминает, что впервые о предельной стоимости голубого топлива ЕС договорился в 2022 году из-за энергокризиса, вызванного СВО России на Украине. Однако указанные ограничения ни разу не применялись: предельная цена установлена в €180/МВт*ч, а на рынке с февраля 2022 года таких цен не было. В феврале 2025 года действие ограничений прекратилось, но в последние недели стоимость газа в Европе резко выросла на фоне сокращения газовых запасов в холодную погоду, остановки газовых поставок из РФ через Украину. Недавно FT написал, что в ЕС снова рассматривается введение предельных цен на газ.
Эксперты отмечают, что европейский газ по цене в 3-4 раза дороже, чем в США.
Reuters: Россия может резко сократить производство нефти из-за санкций
Нефтекомпании РФ готовятся сокращать производство, поскольку не могут экспортировать нефть, считает Reuters
НК России готовятся к вынужденному сокращению производства из-за санкций, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в нефтяной отрасли страны.
По данным агентства, санкции от 10 января привели к переизбытку черного золота в России, вывезти его из страны невозможно.
Экспорт из портов европейской части РФ упал в прошлом месяце на 17%, на Дальнем Востоке в пять раз подорожала доставка сырья танкерами. Сейчас уже 17 млн российских баррелей дрейфуют в танкерах, так как не могут разгрузиться. К лету этот объем может увеличиться до 50 млн баррелей, уверяет агентство.
При этом крупных нефтяных хранилищ в России практически нет. Более того, существующие регулярно атакуются дронами, как и НПЗ, которые перерабатывают нефть. Агентство указывает, что последние атаки на российские заводы сократили возможность переработки на 10%, отмечают источники Reuters.
Они уверены, что единственным выходом для отрасли является сокращение производства.
В настоящее время РФ добывает 8,9 млн б/с, следуя сделке ОПЕК+. Рекорд добычи фиксировался в 2019 году — 11,25 млн б/с. По есть уже сейчас нефтедобыча упала на 20%, отмечает Reuters.

Гидеон ван Мейерен: при Трампе реально сделать Украину нейтральной
Политические партии в Нидерландах после прихода к власти в США Дональда Трампа начали понимать, что их призывы к вооружению Украины больше не соответствуют новым реалиям, а эксперты заговорили о необходимости сосредоточиться на мирных переговорах, заявил депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен в интервью шеф-корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой. Парламентарий также рассказал о том, почему его партия не переставала выступать за диалог с Россией, какой сценарий украинского урегулирования возможен при Трампе, и что может привести НАТО к распаду.
— В конце декабря вы впервые приняли участие в проходившей в Амстердаме демонстрации против поставок оружия Украине и за мир. Почему решили участвовать?
— Это был первый раз на конкретной демонстрации в Амстердаме, но были и другие мероприятия, в которых мы участвовали, и где мы призывали к миру. Что касается этой демонстрации, организатор пригласил меня выступить там, потому что "Форум за демократию" — единственная политическая партия в Нидерландах, которая призывает к миру еще с начала конфликта. И для меня было важно высказаться, потому что война продолжается уже долгое время. Люди гибнут, и это бесполезно, поэтому мы считаем, что должны говорить об этом вслух. И все больше и больше людей узнают о происходящем. И они должны знать, что бесконечная война (НАТО против России – ред.) – не в интересах голландского народа. Я думаю, что вначале многие люди в Нидерландах поддерживали войну против России, потому что они думали, что нет других вариантов, веря пропаганде в западных СМИ. Но в последнее время у меня есть ощущение, что все больше людей начинают понимать, что мы должны сосредоточиться на переговорах, чтобы положить конец конфликту, однако его невозможно закончить отправкой оружия, ведь больше оружия означает больше смертей. Так что это было важно для меня.
— Можно ли говорить о том, что "Форум за демократию" является чуть ли не единственной партией в парламенте Нидерландов, которая открыто выступает против поставок оружия Украине и за скорейшее урегулирование конфликта? Учитывая тот факт, что "Партия свободы" Герта Вилдерса после того, как попала в правящую коалицию, перестала открыто об этом заявлять, хотя раньше тоже была активным противником вооружения Киева.
— Да, это верно. Перед последними выборами партия Герта Вилдерса также выступала с критикой. Но я должен сказать, что "Форум за демократию" была единственной партией, которая все время выступала за мир и говорила, что мы не должны отправлять оружие на Украину. И когда Зеленский выступал в нидерландском парламенте по видеосвязи, "Форум за демократию" был единственной партией, которая не присутствовала на его выступлении. А все остальные партии, включая "Партию свободы" (PVV), были там и аплодировали Зеленскому.
После выборов (в Нидерландах – ред.) Вилдерс даже стал, напротив, выступать за отправку оружия Украине. В этом его позиция изменилась. Еще во время переговоров о новой коалиции Марк Рютте, бывший премьер-министр, заявлял, что если Вилдерс не поддержит войну и не поддержит Украину, то он не попадет в коалицию. Так что это очень ясно показало, что на Вилдерса оказали большое давление, и что ему пришлось поступиться своей точкой зрения в этом вопросе, чтобы просто стать частью коалиции. Так что это делает его, как мы это называем, контролируемой оппозицией.
— Вы также являетесь активным членом парламента Нидерландов. Наблюдаете ли вы изменения в позиции коллег из других партий по Украине спустя почти три года СВО? Какие настроения сейчас преобладают?
— Это интересный вопрос, потому что с самого начала "Форум за демократию" призывал к миру, за что остальные нас всегда называли экстремистами. Это очень странно: когда вы выступаете за мир, а вас только за это называют экстремистом. Эти депутаты делают вид, что единственный выход — отправить больше оружия, больше боеприпасов на Украину. Но в этом плане я вижу своего рода сдвиг после избрания президента Трампа в США. И теперь некоторые эксперты внезапно стали выступать за мир и заявлять, что необходимо сосредоточиться на переговорах. Это показывает, что мы были правы все это время. Я думаю, это только потому, что они понимают, что если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, то Украина больше не сможет воевать. Они видят, что геополитический ландшафт меняется. Теперь они проявляют оппортунизм, чтобы изменить свою точку зрения и сделать вид, что они думали так постоянно.
Даже пару недель назад в голландских СМИ – NOS – была большая статья, где эксперты говорят о том, что необходимо было сосредоточиться на переговорах раньше. Но то, что они просто изменили свою точку зрения из-за перемен в США, делает их очень ненадежными.
— Вы упомянули экспертов. А как насчет реальных политиков?
— Трамп совсем недавно вступил в должность, но я думаю, что и в политических партиях уже начинают понимать, что все меняется, и что их призывы к большим поставкам вооружений для Украины больше не соответствуют складывающейся ситуации. Так что постепенно мы увидим сдвиг, но есть партии, которые все еще говорят: нет, мы должны продолжать бороться, мы должны отправлять больше оружия, больше денег, но я думаю, что даже эти партии очень скоро поймут, что это неправильный путь.
— Партия, которую вы представляете, всегда активно выступала за диалог с Россией. Но в последнее время мы мало что слышали об этом. Вы все еще считаете, что этот диалог важен?
— Безусловно. Мы всегда выступаем за диалог. И наша позиция началась не в 2022 году, а раньше, потому что мы всегда говорим, что эта война началась не в 2022 году. Она началась тогда, когда НАТО нарушила свои обещания и стала придвигаться к российской границе. Мы все время предупреждали, что это очень провокационный шаг по отношению к России, и что если НАТО не изменит свою позицию и продолжит провоцировать Россию, то со временем это приведет к войне.
Кроме того, в Нидерландах несколько лет назад, в 2016 году, прошел референдум по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. И даже тогда мы уже предупреждали, что этого делать не следует, это очень провокационно, и если соглашение будет утверждено, то это приведет к войне. Большинство голландцев на референдуме сказали: нет, мы этого не хотим. Но власти проигнорировали результаты референдума, и соглашение было принято. На самом деле, потом произошло именно то, о чем мы все время предупреждали. Так что наша точка зрения не изменилась. Конечно, геополитическая ситуация постоянно меняется. Но наша главная мысль заключается в том, что мы должны прекратить все эти бесконечные войны, особенно войну против России, и должны начать переговоры. Правительство Нидерландов не должно быть вассалом Соединенных Штатов. И мы не должны слепо следовать всем приказам НАТО и ЕС, потому что это не в интересах голландского народа. И наше правительство должно всегда проводить политику, которая отвечает интересам своего народа. Поэтому мы должны поддерживать переговоры, ведь если мы продолжим отправлять оружие, война не закончится. И даже наша страна идет на огромный риск, потому что мы делаем Нидерланды законной целью, в конечном счете, для российских действий против голландского народа. Так что мы идем на большой риск, хотя не должны этого делать.
— Политические, экономические и все остальные контакты между Россией и Нидерландами оказались разорваны по инициативе нидерландской стороны. Не считаете ли вы, что такая позиция официальной Гааги вредит интересам самих же Нидерландов? Особенно с экономической точки зрения.
— Безусловно. Голландцы страдают от очень высоких цен на энергоносители и других экономических проблем. А пропаганда в наших СМИ заключается в том, что мы должны винить в этом (президента РФ Владимира – ред.) Путина. Потому что якобы Путин хочет войны, и именно поэтому цены на энергоносители так взлетели. Но с нашей точки зрения, это неправда. Цены на энергоносители очень высокие, потому что цены на энергоносители росли еще задолго до начала военной операции в 2022 году, а также из-за климатической политики. Так что, да, вы совершенно правы. Голландцы страдают от очень высоких цен. И все деньги налогоплательщиков, которые мы сейчас тратим на поддержку войны, мы должны тратить на голландцев.
— Поговорим о санкциях, потому что, как я могу себе представить, они также повлияли на европейцев и, в частности, голландцев.
— Конечно. Я общаюсь со многими голландскими фермерами, которые занимаются цветами и другими сельскохозяйственными продуктами, которые мы экспортировали в Россию. Они страдают, потому что они больше не могут продавать свои товары в Россию. Кроме того, факты показывают, что голландская экономика, да и европейская экономика в целом, пострадали из-за санкций гораздо больше, чем российская. Эффект, целью которого было нанесение вреда российской экономике, оказался совершенно нелепым. На самом деле, санкциями мы наносим вред нашей собственной экономике, нашему собственному народу. Поэтому это также одна из причин, по которой мы считаем, что необходимо прекратить санкции против России.
— С приходом к власти в США Дональда Трампа многие заговорили о возможности мирных переговоров между Россией и Украиной. Насколько реалистичен сценарий, при котором США согласятся предоставить России твердые гарантии безопасности, среди которых отказ от планов по приему Украины в НАТО? И способны ли страны ЕС сыграть позитивную роль в урегулировании?
— Я думаю, они могут, но они должны быть готовы сделать это, потому что в этот момент, прямо сейчас, Запад, я имею в виду НАТО и ЕС, все еще настаивают на большей войне. И я думаю, что Трамп действительно хочет мира. Это означает, что сейчас все может измениться. В его власти прекратить поддержку Украины, и без этой поддержки Украина не сможет продолжать сражаться. Я также ожидаю, что Россия согласится на переговоры, потому что она много раз говорила, что хочет этого. Вопрос в том, позволит ли Запад Украине вести переговоры с Россией. Я думаю, если мы сможем заключить соглашение, то оно будет действовать только в том случае, если НАТО прекратит вмешиваться, а Украина станет нейтральной. Поэтому Украина не должна вступать в НАТО, не должна вступать в ЕС, а иначе мы продолжим провоцировать Россию, и это сохранит напряженность. Мы должны сделать много шагов назад, а НАТО должна прекратить приближаться к российским границам. Я думаю, что с точки зрения Трампа сделать Украину нейтральной страной между ЕС и Россией было бы лучшим решением, и что он не поддержит вступление Украины в НАТО. Поэтому мне кажется, что с президентом Трампом это реалистично. При предыдущей администрации это было нереально. Но теперь я думаю, что ситуация изменилась, и что Трамп не хотел бы, чтобы Украина стала частью НАТО.
— Почему страны ЕС, в особенности Нидерланды, так твердо настаивают на продолжении военной помощи Киеву, даже несмотря на изменение позиции США в этом вопросе? Кому и почему, по вашему мнению, выгодно продолжение военных действий?
— К сожалению, некоторые влиятельные люди и организации извлекают выгоду из этой войны, в то время как простым людям от этого нет никакой выгоды. А НАТО и военно-промышленному комплексу США нужны враги, чтобы оправдать войну, потому что, если нет войны, нет причин тратить миллиарды на оружие. Они хотят создать образ большого врага извне: Россия – враг, и они надеются, что это укрепит их собственные позиции. Без войны не было бы оправдания существованию НАТО. И именно поэтому им нужны были и предыдущие войны – в Ираке, Афганистане. Все эти войны были только в интересах небольшой группы влиятельных людей и организаций. И я считаю, что Соединенные Штаты хотели ослабить Россию, а Украина просто оказалась идеальным инструментом для этого. Это не имело никакого отношения к защите Украины. Я думаю, что все это время речь шла о сохранении господства Соединенных Штатов над Европой и над миром.
— Но сейчас, похоже, США меняют свою позицию, а Европейский Союз нет.
— Да, верно. Я думаю, что у Европейского Союза нет другого выбора, кроме как следовать позиции Дональда Трампа. Потому что, если США перестанут поддерживать Украину, нет никакого смысла продолжать поддерживать Украину, ведь поддержка Соединенных Штатов намного больше, чем поддержка ЕС. Я думаю, если Трамп действительно хочет мира, а я в это верю, то он может добиться в этом успеха. США являются ключевым игроком в этой ситуации, и без их помощи это безнадежная ситуация для ЕС.
— "Форум за демократию" всегда последовательно выступал против членства Украины в НАТО. В чем состоят ваши аргументы против этого?
— Ну, во-первых, мы не поддерживаем НАТО в целом. Мы считаем, что НАТО больше не должна существовать. И главный аргумент, по которому мы выступаем против членства Украины, заключается в том, что мы считаем, что это будет провоцировать Россию. Даже согласно статье 5 действующего договора НАТО, если Украина вступит в альянс, это будет означать, что мы находимся в прямой войне с Россией. И я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Именно поэтому для Украины вступление в НАТО было бы очень, очень плохой идеей.
— Считаете ли вы, что НАТО подтолкнула Россию к спецоперации на Украине три года назад?
— Да, я так считаю, потому что, если знать историю, то станет понятно, почему Россия отреагировала. НАТО все время расширялась и расширялась. Альянс нарушил свои обещания не расширяться в сторону России. Кроме того, правительство Украины притесняло русскоязычных людей в Донбассе. Тысячи из них были убиты украинской армией. Я думаю, очень логично, что Россия увидела в этом прямую угрозу, угрозу своей безопасности. А Запад продолжал давить, отказывался вести переговоры. Россия все предупреждала и предупреждала, но мы игнорировали все эти предупреждения. С моей точки зрения, любая страна отреагировала бы, когда ее собственный народ и национальная безопасность находятся в опасности. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать, была ли реакция России оправданной, мы должны спросить, почему Запад проигнорировал все эти предупреждения и продолжал давить и провоцировать Россию? Это была очень плохая идея.
— Генсек НАТО Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов, очень настаивает на вступлении Украины в НАТО. При этом Трамп, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, заявил об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Может ли такая разница в позициях, на ваш взгляд, грозить расколом в альянсе?
— Думаю, что да, НАТО без США совершенно не имеет значения. Да, США, безусловно, вносят наибольший вклад в альянс. И Трамп иногда намекал, что он может выйти из НАТО. Я знаю, что он не поддерживает такого рода партнерство и критикует НАТО за то, что европейские страны не вносят достаточного вклада. Поэтому я думаю, что это действительно может изменить путь НАТО и, возможно, надеюсь, даже привести к концу альянса.
Система управления репутацией мониторинга СМИ «СКАН-Интерфакс» представила рейтинг фармацевтических компаний в российском медиапространстве по итогам 2024 года.
Согласно опубликованным данным, лидирует компания Pfizer, хотя ее упоминания и уменьшились почти на 1,5 тыс. по сравнению с 2023 годом. На высокие показатели повлияли новости о проверке причастности главы Еврокомиссии к коррупционной деятельности, связанной с закупкой вакцин от COVID-19 у компании. На втором и третьем местах рейтинга расположились AstraZeneca (7 тыс. упоминаний против 4 тыс. в 2023 году) и Biocad (7 тыс. упоминаний против 5 тыс. годом ранее).
На первом месте рейтинга индекса заметности находится AstraZeneca — этот показатель у компании увеличился на 105% (998 тыс. в 2024 году и 487 тыс. годом ранее). Однако наибольший рост индекса заметности продемонстрировала компания «Акрихин» — на 312% (с 69 тыс. до 285 тыс.). Широкое освещение получила история с препаратом Фордиглиф от «Акрихина» — аналогом препарата Форсига от AstraZeneca.
Индекс заметности вырос у фармкомпании «Алцея» — на 304% (с 12 тыс. в 2023 году до 50 тыс. в 2024 году). В несколько раз увеличились и ее охваты аудитории — на 324% (с 3 млн до 14 млн год к году).
Частный оператор ФРГ сокращает количество плавучих терминалов для разгрузки СПГ
Оператор СПГ-терминалов в Балтийском море отменяет аренду плавучей регазификационной установки
Немецкий частный оператор СПГ-терминалов Deutsche ReGas расторг договор субчартера с правительством на плавучую установку для хранения и регазификации (FSRU) в порту Мукран.
Эта одна из двух FSRU, действующих в настоящее время на терминале Deutsche Ostsee в Мукране (Балтийское море). Она работает с февраля 2024 года. Установку арендует госоператор терминала Deutsche Energy Terminal (DET), который и сдает установку в субаренду частной Deutsche ReGas.
Deutsche ReGas жалуются на разрушительную ценовую политику DET. Но в компании считают, что при дефиците газовых поставок решение может быть найдено очень быстро.
В конце января в ReGas заявили, что DET за счет субсидий со стороны государства предлагает слоты для разгрузки СПГ на своих терминалах ниже себестоимости, тем самым нечестно конкурирует за поставки газа. В ответ DET сообщила, что никаких правил не нарушает: помощь ей одобрена Еврокомиссией, а краткосрочные аукционы с декабря обеспечивают бесперебойную поставку газа в Германию и другие страны ЕС.
Ранее «Ъ» писал, что совокупные мощности по хранению у плавучих терминалов DET — 59,1 ТВт*ч, тогда как у Deutsche ReGas — всего 8,5 ТВт*ч.
«НиК»: не зря власти Германии не хотели связываться с СПГ-инфраструктурой до момента прихода к власти Олафа Шольца. Начиная с 2022 года, страна стала стремительно ставить на побережье терминалы по приему сжиженного газа, чтобы заменить выпавшие объемы российского трубопроводного сырья. Однако эксплуатация установок, видимо, оказалась настолько дорогой, что мало кто из энергокомпаний готов ими пользоваться. В прошлом году загрузка немецких СПГ-терминалов была на уровне 65%, а доля СПГ в газовом балансе Германии не превышала 8%.
Алжир, Нигерия и Нигер ускорят строительство Транссахарского трубопровода
Вчера в Алжире министры трех стран подписали ряд документов по газопроводу, в том числе договорились обновить ТЭО проекта
Министры Алжира, Нигерии и Нигера подписали несколько соглашений, направленных на ускорение реализации проекта Транссахарского трубопровода (TSGP). Речь, в частности, об обновлении ТЭО проекта и распределении компенсаций, сообщает турецкое информагентство Anadolu. Министры Нигерии и Нигера на подписании документов в Алжире еще раз высказали приверженность проекту со стороны своих стран, поскольку это укрепит африканской сотрудничество.
«НиК» напоминает, что межправительственное соглашение по проекту этого газопровода подписано в июле 2009 года, но по разным причинам, в том числе из-за нестабильной ситуации в Нигерии и Нигере, проект постоянно откладывали. Только в июле 2022 года страны обновили договоренности по TSGP.
Транссахарский трубопровод (Трансафриканский трубопровод, TSGP, NIGAL) длиной более 4100 км должен стартовать в Нигерии и идти на север, через Нигер в Алжир, где уже соединяться с существующими газопроводами, в том числе с Medgaz из Алжира в Испанию по дну Средиземного моря. Мощность трубопровода составит 30 млрд кубометров газа в год. А это в два раза больше, чем страны ЕС потеряли с окончанием украинского транзита российского газа.
Трубопровод построят и будут эксплуатировать нигерийская NNPC и алжирская Sonatrach, миноритарий в проекте — правительство Нигера с долей в 10%.
FT: Брюссель снова будет ограничивать стоимость газа в ЕС
Создается правовая основа для ограничения цен на газ, пока мера рассматривается как временная
Власти ЕС изучают вопрос об ограничении стоимости метана на территории блока, пока на временной основе, пишет FT. Беспокойство за энергетику у еврочиновников началось из-за резкого роста стоимости газа после прекращения поставок российского сырья по украинской ГТС.
Издание отмечает, что стоимость голубого топлива в ЕС в настоящее время подскочила до двухлетних максимумов, метан в Старом Свете стоит примерно в три-четыре раза дороже, чем в США.
В материале указывается, что сейчас создается правовая основа для ограничения цен, она будет обсуждаться в марте. Она затронет субсидирование европейской тяжелой промышленности. Что именно за механизм придумает Еврокомиссия, не поясняется.
Однако не все члены ЕС настроены поддерживать данную инициативу Брюсселя, в частности Германия и Нидерланды выступают против вмешательства в рыночное ценообразование.
«НиК» напоминает, что буквально в конце января в ЕС отменен «потолок» цен на газ — предельная цена газа, выше которой продавать газ на европейских биржах нельзя. Такой механизм ввели в феврале 2023 года: предельная цена начинала бы действовать при соблюдении ряда условий, в частности устойчивой цены на месячный фьючерс на TTF выше €180/МВт*ч (около $2 тыс. за тысячу кубов). Механизм ни разу не сработал: не поднимались цены в Европе настолько высоко после февраля 2023-го. При этом еще в прошлом году ряд стран, например, Италия, предлагали снизить предельную цену до €50-60/МВт*ч, но их предложение не приняли.
Отметим, сегодня мартовский фьючерс на газ на хабе TTF стоит €56,92 за мегаватт-час (около $621,5 за тысячу кубометров при текущем курсе евро/доллар).
Теперь же временное ограничение направлено в большей степени на летний период, когда странам блока необходимо активнее закупать метан для пополнения своих ПХГ. Сейчас стоимость поставок летом выше, чем в следующие периоды (июльский фьючерс стоит €56,01, октябрьский — €54,56). в целом это нормальная ситуация бэквордации, вопрос в разнице цен.
Ранее Bloomberg подсчитал, что ЕС может потерять €3 млрд из-за необходимости летнего пополнения газовых хранилищ.
Недельная поставка газа по «Турецкому потоку» достигла рекордных 390 млн кубометров
«Турецкий поток» включился в активное снабжение газом ЕС
С 3 по 9 февраля через КС «Странджа-2» (выход газопровода из Турции в Болгарию) удалось прокачать 390 млн кубометров. Это недельный рекорд газопровода за все время его работы. Суточные самые высокие поставки были 10 февраля — 56,7 млн кубометров.
В январе, по данным ENTSOG, «Турецкий поток» транспортировал в ЕС 1,56 млрд кубометров, что также является самым высоким показателем.
«НиК»: в конце января Венгрия добилась от властей ЕС гарантий безопасности поставок газа по «Турецкому потоку». Кроме того, она потребовала от Киева сохранения транспортировки нефти по «Дружбе», а также продления переговоров по возобновлению транспортировки газа по украинской ГТС из России. Только после получения этих гарантий Будапешт согласился не блокировать продление антироссийских санкций.
Напомним, этот газопровод остался единственным действующим маршрутом прокачки российского газа в ЕС. Нападения на «Турецкий поток» фиксировались еще с 2022 года. Последний раз БПЛА напали на КС «Русская» на российской территории 11 января. Венгрия и Словаки расценили эту атаку как попытку подрыву энергобезопасности стран ЕС.
Министр высшего образования, науки и инноваций встретился с делегацией Международного консультативного совета
Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов обсудил с членами Международного консультативного совета Альфредом Гузенбауэром, Александром Квасьневским и Штефаном Фюле вопросы расширения сотрудничества с ведущими университетами Европейского союза.
В начале встречи министр выразил благодарность международным консультантам за их вклад в адаптацию опыта ведущих европейских высших учебных заведений, внедрение кредитно-модульной системы в систему высшего образования Узбекистана, а также за поддержку интеграции образования и производства.
В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы внедрения с 2025-2026 учебного года трех новых программ бакалавриата Анхальтского университета (Германия) в Узбекистане, организации семинаров и тренингов для преподавателей и ученых в рамках программы Erasmus+, а также проведения форумов по сотрудничеству с европейскими университетами в Ташкенте, Нукусе и Навои.
Стороны также обсудили дальнейшее расширение совместных образовательных программ с европейскими университетами, развитие научного сотрудничества и академических обменов, повышение квалификации студентов и преподавателей, а также расширение исследовательских проектов.
По итогам встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем активном продвижении работы по поддержке программ непрерывного профессионального развития и образования.

Павел Князев: в БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа
Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале января 2025 года, укрепив позиции блока по защите интересов Глобального Юга. Присоединение к БРИКС Индонезии, крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии и самой густонаселенной страны региона, показало, что все больше развивающихся стран ищут платформы для отстаивания своих интересов. Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев в интервью РИА Новости заявил, что объединение стран очень серьезно обогатилось с вхождением Индонезии в число стран-членов БРИКС. Дипломат также подчеркнул, что БРИКС не занимается созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп грозил стопроцентными пошлинами странам-участницам. По словам су-шерпы РФ в БРИКС, никто в альянсе не отказался от сотрудничества после угроз Трампа. Князев подчеркнул, что подобные высказывания со стороны США и Запада только подрывают доверие к доллару и вынуждают страны искать альтернативы. Беседовала Ульяна Мирошкина.
– Расскажите пожалуйста о целях и задачах рабочей поездки в Индонезию.
– Рабочая поездка в Индонезию была в рамках наших традиционных дружеских связей с нашими индонезийскими партнерами. Индонезия подала заявку, по итогам которой стала полноправным членом БРИКС 1 января. Как стране, председательствовавшей в БРИКС в 2024 году, нам выпала честь провести консультацию по этому поводу с другими партнерами по БРИКС.
По просьбе наших индонезийских коллег мы подробно рассказали им, как работает БРИКС, какие есть направления сотрудничества, какие есть механизмы взаимодействия во всех трех основных направлениях стратегического партнерства БРИКС – то есть политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурно-гуманитарное сотрудничество и контакты между простыми людьми. У нас состоялся очень плодотворный контакт с заместителем министра иностранных дел Индонезии и его командой, по их просьбе мы провели брифинг для представителей более сорока индонезийских ведомств и организаций, которым предстоит подключиться к механизмам взаимодействия, диалога и сотрудничества в рамках БРИКС. Надеемся, что наш брифинг поможет индонезийским друзьям органично встроиться во взаимодействие БРИКС.
С приемом в БРИКС новых стран-членов это является одной из важнейших задач председательства БРИКС – в прошлом году нашего, когда были приняты и вошли в БРИКС пять стран, теперь к ним присоединилась Индонезия. И эта задача от нас переходит к нашим бразильским коллегам, которые председательствуют в БРИКС с 1 января в течение всего 2025 года.
– Как проходил процесс перехода Индонезии из статуса страны-партнера, о котором говорилось ранее, в статус полноценного членства в БРИКС?
– Не совсем верно говорить, что Индонезия перешла из одного статуса в другой. Индонезия подала первую заявку на полноценное вступление в БРИКС еще в 2023 году, перед саммитом в Йоханнесбурге. И на саммите в Йоханнесбурге все члены БРИКС были близки к тому, что принять решение по приглашению Индонезии в полноправные члены объединения. Однако в последний момент партнеры из Индонезии попросили отложить рассмотрение их заявки до того, как новое правительство Индонезии будет сформировано, то есть после выборов президента, которые состоялись в марте прошлого года. Как известно, инаугурация президента Индонезии была 21 октября прошлого года.
Президент Прабово Субианто направил на саммит БРИКС в Казани своего специального представителя, министра иностранных дел Сугионо, который передал Сергею Викторовичу Лаврову послание о том, что Индонезия хотела бы стать полноправным членом БРИКС. То есть это было продолжение и подтверждение той заявки, которая была раньше. В этой связи наша работа по рассмотрению заявки Индонезии в значительной степени упростилась тем, что понимание решения уже имелось. Новые члены БРИКС подтвердили, что они присоединяются к этому решению. Соответственно, соблюдая все процедуры, мы вышли на решение о приеме Индонезии в БРИКС, которое было объявлено уже бразильским председательством в начале января, поскольку подтверждение их интереса пришло уже в ходе саммита.
Перед саммитом одной из задач нашего председательства было, в соответствии с поручением, которое лидеры дали в Йоханнесбурге, создание новой категории стран-партнеров БРИКС, и в том числе согласование списка потенциальных кандидатов на приглашение в эту категорию. К саммиту эту задачу вместе со всеми членами БРИКС нам удалось реализовать. И для новой категории стран-партнеров список потенциальных кандидатов был согласован, представлен на саммите в Казани лидерам, которые его одобрили и утвердили.
То есть это были два параллельных процесса, это не было переходом из одной категории в другую. Нет никакого автоматизма в переходе из категории партнеров в категорию полноправных членов. Это два самостоятельных статуса, два самостоятельных процесса. Мы очень ценим, что в числе девяти государств, подтвердивших свое согласие и позитивную реакцию на приглашение в новую категорию стран-партнеров, есть такие близкие нам страны, как Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Мы всячески содействуем укреплению их взаимодействия с БРИКС. А дальнейшие перспективы будут зависеть от них самих.
Также надо помнить, что все решения БРИКС принимаются на основе консенсуса. Одним из приоритетов российского председательства была консолидация партнерства БРИКС в более широком составе. Нецелесообразно гнаться за цифрами и зацикливаться на них. Важнейшей задачей является консолидация, повышение эффективности и результативности нашего стратегического партнерства в рамках объединения.
– Что касается Белоруссии, можно ли рассчитывать на скорые сроки ее вступления в БРИКС?
– Здесь невозможно строить какие-либо искусственные сроки. Как я уже сказал, мы приветствуем интерес и готовы содействовать укреплению взаимодействия Белоруссии с БРИКС. Белоруссия стала государством-партнером БРИКС, все решения в объединении принимаются консенсусом. Если белорусские друзья будут работать над этим, мы готовы оказывать им содействие. Сколько это займет времени – посмотрим.
– Павел Русланович, какие перспективы вы видите у Индонезии в БРИКС?
– Индонезия является одним из видных лидеров среди государств Глобального Юга и Востока. Эта страна – одно из ведущих государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Индонезия также входит в десятку ведущих экономик мира (на восьмом месте по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности МВФ и ВБ – ред.). Мы видим, какое большое внимание индонезийские друзья уделяют задаче по интеграции в БРИКС, они подошли к этой работе очень организованно. Поэтому я думаю, что БРИКС очень серьезно обогатился с вхождением Индонезии в объединение. Рассчитываем, что и индонезийские партнеры в полной мере воспользуются теми возможностями, которые дают наше взаимодействие и сотрудничество в объединении для развития как связей с другими членами БРИКС, так и в нашем общем стремлении укрепить голос и позиции Глобального Юга в современных международных делах.
По целому ряду вопросов мы сталкиваемся со схожими вызовами. В том числе с искусственными препятствиями на пути экспорта и торговых связей с нашими партнерами. Я имею в виду и те приемы, которые используются для недобросовестной конкуренции – те препятствия, которые создаются индонезийскому экспорту, например, Евросоюзом. Они якобы призваны выступить корректирующим механизмом по углеродным выбросам, а на самом деле создают искусственные преимущества для Европы. Но это только один пример из множества.
Мы не рассматриваем вхождение Индонезии в БРИКС как шаг, направленный против кого-то. Напротив, это направлено на позитивное сотрудничество, развитие наших связей и партнерства по очень широкому спектру вопросов.
– Есть ли ясность с членством Саудовской Аравии в БРИКС? Когда они станут полноценным членом организации?
– Россия исходит из того, что Саудовская Аравия вошла в БРИКС в качестве полноценного члена с 1 января 2024 года. Саудовские коллеги участвуют в ряде мероприятий, присутствуют на встречах шерп, а также были на сессиях в формате "аутрич"/"БРИКС+" саммита в Казани и заседания министров иностранных дел. Они информировали о том, что продолжают внутренние процедуры и обсуждают, как оформить членство в БРИКС, и как имеющиеся договоренности соотносятся с их обязательствами в других форматах. Мы спокойно и с уважением относимся к тому, что им для этого необходимы дополнительные процедуры и дополнительное время. Мы не делаем из этого какого-то острого вопроса и спокойно ожидаем, когда они определятся. Сами они называют свой статус "приглашенное государство". В каком-то смысле они действительно остаются в этом состоянии, хотя такого формата не существует и не вводилось. Уверены, что в свое время коллеги из Саудовской Аравий примут соответствующее решение.
– На какой стадии сейчас находится создание новых инвестиционных платформ?
– В прошлом году было заявлено, что мы создаем инвестиционные платформы, но как таковое сотрудничество в сфере инвестиций не является чем-то новым. В том числе оно уже давно рассматривается как по линии министерства финансов, так и по линии министерства экономического развития. Есть, например, такой рабочий орган, который давно и эффективно работает, – контактная группы по экономике, торговле и инвестициям. Это большая и серьезная работа, она ведется и продолжается.
– Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае попытки заменить доллар новой валютой или какой-либо из существующих валют. Как вы считаете, исполнение этого возможно, или это не подкрепленные ничем угрозы?
– Комментировать за нового президента США – что он может сделать, что нет – сложно. Могу сказать только, что сотрудничество стран БРИКС в финансовом сфере не направлено против кого-то, и даже против того же доллара. Страны БРИКС работают над тем, чтобы облегчить и улучшить условия для дальнейшего развития и расширения торговли между собой и другими странами. В числе мер, которые прорабатываются, есть повышение доли расчетов в национальных валютах. Это уже делается – на двухсторонней основе и не только странами БРИКС.
Президент Трамп обещал ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если они введут единую валюту. Как уже сказал специальный представитель и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков, страны БРИКС в практическом плане не занимаются созданием единой общей валюты БРИКС. Это экономически не вполне реалистично.
То есть, как идея это может существовать, но для того, чтобы была единая валюта БРИКС, вначале нужно создать единый эмиссионный центр для всех стран БРИКС. Это несколько трудно себе представить – как можно будет подвести под единый Центробанк все страны БРИКС и выпустить общую для всех валюту. Это означало бы унификацию экономических политик, унификацию эмиссионных механизмов. Это может быть задача на очень далекое будущее, но в данном случае об этом речь не идет. Речь идет о создании и укреплении развития расчетов в национальных валютах, о создании надежных механизмов трансграничных расчетов, которые бы не были подвержены влиянию и проискам третьих стран.
Также хотел бы обратить внимание на то, что роль доллара как мировой валюты в первую очередь основана на доверии, на вере в то, что это та валюта, которую все могут использовать в своих расчетах. Те действия, которые предпринимают в американской администрации и на Западе в целом, скорее подрывают это доверие и заставляют страны думать о том, какие другие инструменты они могут использовать.
В этом же ряду стоят заявления о том, что стопроцентные пошлины будут введены в ответ на создание неких единых валют. Доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить.
– То есть этими угрозами был достигнут обратный эффект?
– По крайней мере я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует. Может или не может это быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты.
– Но при этом президент Дональд Трамп высказывает новые угрозы.
– Наступательный стиль Трампа сейчас ярко проявился и в отношении Гренландии, и в отношении Канады, и в отношении Панамы, и в отношении Латинской Америки. Что касается Палестины, мы также видели предложения по переселению части палестинцев из сектора Газа. Эти предложения были отвергнуты и самими палестинцами, и арабскими государствами, и мусульманскими странами, включая Индонезию. Насильственное перемещение гражданского населения никогда не было чем-то, с чем можно было бы согласиться. Мы исходим из того, что принятая и одобренная ООН цель урегулирования палестинского вопроса основана на создании двух государств. В соответствии с этой схемой должно быть создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет жить в мире и безопасности с израильским государством. Эта схема остается полностью в силе.
Надеемся, что соглашение по прекращению огня будет соблюдаться, что будут освобождены в том числе и несколько заложников с российскими корнями. Рассчитываем, что будут согласованы и выстроены те пути восстановления, которые необходимы в условиях гуманитарной катастрофы в секторе Газа, вызванной действиями Израиля.

Александр Кинщак: Сирия – не место для сведения геополитических счетов
Россия готова восстанавливать энергетическую и транспортную инфраструктуру в Сирии, разрушенную за годы гражданской войны, новые сирийские власти в этом тоже заинтересованы. О том, какие могут быть условия для начала такого сотрудничества, когда западные страны снимут санкции с Сирии, и как идет политический процесс в стране после ухода Башара Асада с поста президента, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
– В 2023 году было заключено российско-сирийское соглашение об экономическом партнерстве, которое, в частности, предусматривало совместную реализацию ряда инвестиционных проектов. Продолжится ли деловое взаимодействие с новыми властями Сирии?
– Заключение в октябре 2023 года межправительственного соглашения о расширении торгово-экономического сотрудничества стало важным событием в контексте нашего взаимодействия с Сирией. Оно предусматривает реализацию совместных проектов в критически значимых областях национального хозяйства САР и отвечает интересам ее постконфликтного восстановления.
Перспективы возобновления в новых условиях двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере подробно обсуждались в ходе состоявшегося 28 января визита в Дамаск российской межведомственной делегации во главе со специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым. Этот конструктивный диалог будет продолжен.
Солидные заделы для наращивания российско-сирийского делового взаимодействия имеются в целом ряде отраслей. Наша страна внесла значительный вклад в становление промышленного сектора Сирии. Многие объекты энергетической и транспортной инфраструктуры были построены при участии советских и российских специалистов. При их создании использовались отечественные технологии и оборудование. Компании из России могли бы подключиться к восстановлению и модернизации этих объектов. С сирийской стороны имеется заинтересованность в возобновлении такого сотрудничества. Мы также к этому готовы при том понимании, что конкретные проекты и формы двусторонней деловой кооперации должны обсуждаться по линии профильных ведомств и компаний с учетом развития ситуации "на земле".
– Какой вклад может внести Россия в международные усилия, предпринимаемые в интересах сирийского урегулирования?
– С первых дней кризиса Россия прилагает активные усилия для содействия комплексному политическому урегулированию в Сирии. В этих целях поддерживаем тесные и доверительные контакты с различными сирийскими политическими силами, а также с конструктивно настроенными партнерами на международной арене.
Сейчас, после драматических изменений военно-политической ситуации в Сирии такая коллективная работа в интересах содействия нормализации в САР особенно востребована. Видим попытки искусственно изолировать Россию и другие влиятельные государства от создаваемых многосторонних механизмов сопровождения сирийского урегулирования. Считаем это контрпродуктивным. Мы всегда выступали против превращения САР в арену для геополитического соперничества и сведения счетов между различными странами. Исходим из того, что необходимо вести дело к созыву широкой международной конференции по Сирии с участием всех заинтересованных внешних игроков. Рассчитываем, что выдвинувший эту идею спецпосланник генсекретаря ООН Гейр Педерсен активизирует усилия в целях ее практической реализации.
При этом по-прежнему убеждены, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы в рамках максимально инклюзивного и транспарентного политического процесса на основе широкого общенационального диалога. В этом деле важно обеспечить учет интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп сирийского общества. Только руководствуясь таким подходом, можно найти формулу долгосрочной стабилизации в ситуации в САР и вернуть страну на траекторию устойчивого развития.
– Ожидается ли с учетом смены власти в Сирии полное снятие санкций в отношении Дамаска? Как отразится на социально-экономическом положении САР их дальнейшее сохранение?
– Хотел бы начать с того, что никаких международно признанных санкций в отношении Сирии нет. США, Евросоюз, Великобритания и их союзники ради достижения собственных геополитических целей в одностороннем порядке приняли многочисленные экономические ограничительные меры против САР. Эти рестрикции лишены какой-либо международно-правовой основы, так как введены в обход СБ ООН. Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности на протяжении многих лет неизменно выступала против принятия подобного рода решений в отношении САР. При этом мы исходили и исходим из того, что в результате санкционного давления Запада на Сирию в первую очередь страдают простые граждане этой страны.
Вводившиеся в разное время под различными предлогами удушающие санкции против Дамаска дали кумулятивный эффект и стали одной из главных причин обвальной деградации социально-экономического положения в САР. Спровоцировали обесценивание национальной валюты, многократный рост стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости. В условиях масштабного вооруженного конфликта сирийские медучреждения столкнулись с нехваткой лекарств и оборудования.
Все это привело к массовому недовольству населения и росту антирежимных настроений. В результате прежнее руководство во главе с президентом Башаром Асадом было свергнуто, и к власти пришли его противники, чего так долго добивались США и их союзники. Однако и теперь они не торопятся и, по-видимому, не будут торопиться с началом демонтажа санкционного режима.
Все ведущие страны региона активно и настойчиво призывают американцев и европейцев к отмене односторонних нелегитимных ограничений на торгово-экономическое сотрудничество с Дамаском. Поскольку хорошо понимают, что они препятствуют постконфликтному восстановлению в Сирии. Этот вопрос был одним из центральных на состоявшейся в Эр-Рияде 12 января 2025 года международной встрече по сирийскому урегулированию. Мы также его регулярно поднимаем, в том числе в ходе дискуссий в рамках Совета Безопасности.
Однако уверенности в том, что к этой здравой логике прислушаются на Западе, у нас нет. Пока там предпочитают ограничиваться введением временных исключений и изъятий из общего массива санкций "для гуманитарных целей", сохраняя при этом рычаги давления на уже новые сирийские власти.
Спрос на экологически чистые продукты растет быстрее, чем посевные площади
Желание потреблять биопродукты в Германии иногда превышает предложение на внутреннем рынке, например, в случае с мясом или фруктами. Это должно измениться, считает эксперт отрасли.
Потребители в Германии все чаще обращаются к органическим продуктам питания. "В прошлом году мы действительно достигли рекордного уровня продаж", – говорит Тина Андрес, председатель Немецкой федерации производителей органических продуктов питания (BÖLW).
Площадь органического земледелия также выросла, но не так сильно. Если политики не примут меры, немецкий рынок органических продуктов рискует в будущем стать зависимым от импортных товаров. "Мы уже сейчас с трудом справляемся со спросом на сырье". Это особенно заметно на примере мяса, а также фруктов.
Промышленность встречается на крупнейшей в мире выставке органических продуктов питания
BÖLW является головной организацией немецких производителей органических продуктов питания, переработчиков и розничных торговцев. 11 февраля на крупнейшей в мире выставке органических продуктов питания Biofach (11-14 февраля) в Нюрнберге она намерена представить точные данные о немецком рынке органических продуктов. Параллельно пройдет выставка натуральной косметики Vivaness.
В 2023 году жители Германии потратили на органические продукты питания 16,1 миллиарда евро – на 5 процентов больше, чем годом ранее. Однако это произошло в основном из-за роста цен.
Потребители уделяют больше внимания защите окружающей среды и климата
В 2024 году рост обусловлен главным образом повышением спроса, объясняет Андрес. После снижение покупательской способности в связи с инфляцией сейчас снова наблюдается повышенное внимание к качеству. "Люди снова сосредоточены не только на том, чтобы сделать хорошо для себя, но и на том, чтобы сделать хорошо для окружающей среды, защиты климата и биоразнообразия".
Несмотря на то, что все больше фермеров переходят на органическое земледелие, Андрес подчеркнул, что Германии еще далеко до того момента, чтобы достичь поставленной цели в 30 процентов сельскохозяйственных угодий к 2030 году. "Эта цель все еще остается высокой, но далекой из-за недостаточной политической реализации".
В преддверии выборов в Бундестаг Андрес потребовал от следующей коалиции удвоить площадь органического сельского хозяйства к 2030 году и придерживаться принятой в ЕС программы перехода сельского хозяйства на защиту климата и видов. "Если политические цели не будут определены разумно сейчас, это будет упущенная возможность для отечественного сельского хозяйства". Фермеры хотят перейти на органическое земледелие. Однако им нужны надежные рамочные условия.
В погоду вторглась политика
Как России защитить свои интересы в новой климатической политике
Павел Арсеньев
Россия последовательно выполняет свои климатические обязательства, сокращая выбросы парниковых газов и развивая научный потенциал в сфере мониторинга углеродных выбросов. Однако правила, по которым формируются международные климатические обязательства, не способны эффективно отвечать на климатические вызовы с учетом реальных интересов стран.
Ключевой инструмент Парижского соглашения - определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), в которых страны фиксируют свои планы по сокращению выбросов. Россия утвердила свой ОНУВ в 2020 году, обязавшись ограничить выбросы на 70% от уровня 1990 года к 2030 году с учетом поглощающей способности лесов.
ОНУВ обновляются каждые пять лет, и сейчас Россия, как положено по Парижскому соглашению, работает над своим новым документом. По словам директора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ Ирины Петруниной, в него будут включены новые научные данные, полученные в рамках Российской системы климатического мониторинга.
В то же время ведущие российские экономисты и промышленники указывают на то, что сама логика формирования климатических обязательств требует пересмотра. Так, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письмо в правительство с предложением оценить целесообразность участия России в Парижском соглашении в его нынешнем виде.
А стоит ли вообще продолжать свое участие в этом соглашении или, подобно США, надо выйти из него?
"Надо не выходить, а менять ее - добиваться с партнерами справедливого перехода, углеродного рынка, отказа от СВАМ (механизм трансграничного углеродного регулирования в Европейском союзе - Прим. ред.). Это намного продуктивнее", - отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с ТАСС.
Андрей Мельниченко, возглавляющий Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, ранее поднимал вопрос о необходимости учитывать не только выбросы в какой-то отдельный будущий год, но и общие объемы накопленных эмиссий как в прошлом, так и в предстоящие годы.
Сейчас же мировой климатический мейнстрим базируется на сокращении выбросов в конкретный год. Страны ставят цели на 2030, 2050 и даже 2060 годы. Но такой подход не учитывает историческую ответственность стран, которые в XX веке выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа, обеспечив себе технологическое и экономическое преимущество. Также никак не учитываются выбросы, которые могут происходить в другие года до того, на который зафиксирована виртуальная цель.
"Объем эмиссии, то есть тех выбросов парниковых газов, который был накоплен за последние 30 лет, в США в три раза выше, чем в России и Китае, в Евросоюзе в два раза выше, чем в России и Китае", - заявил в эфире "Дума ТВ" зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
Кроме того, по его словам, в последние годы обострилась ситуация, когда некоторые страны, в первую очередь Евросоюз, начали использовать Парижское соглашение как инструмент для введения протекционистских мер, ограничивающих свободу торговли.
Какую стратегию может выбрать Россия
Прежде всего, пересмотреть принципы формирования ОНУВ. И вместо того чтобы фиксировать национальную цель России на один год, предложить учет накопленных выбросов за длительный период (1990-2035 гг.). Учитывать как достигнутые в прошлые годы результаты, так и ограничивать выбросы на будущий период. Кумулятивный ОНУВ будет наглядно демонстрировать амбициозность России по ограничению выбросов парниковых газов и подчеркивать лидерство страны в области противодействия изменениям климата.
Переход на кумулятивную цель по выбросам парниковых газов позволит обеспечить выход на углеродную нейтральность к 2060 году, как это и установлено Климатической доктриной РФ.
РФ будет играть активную роль в формировании новой климатической парадигмы
Такой подход позволит нивелировать негативное влияние слабо контролируемых изменчивых явлений на достижение целевых показателей выбросов парниковых газов. В случае с однолетними целями такие явления, как, например, пандемия или крупные лесные пожары, могут существенным образом искажать отчетность по выбросам парниковых газов, если они случаются в целевой год. В случае с кумулятивными целями на период времени такой риск исключается.
Следует продолжать продвижение позиции о ключевой роли природных экосистем, в первую очередь лесов, в борьбе с изменениями климата. Включение этого принципа в статью 5 Парижского соглашения уже стало дипломатической победой России и других сторонников сбалансированного подхода, но механизмы его реализации пока не доработаны. Важно добиться, чтобы российские природные экосистемы учитывались по объективным данным, а не по заниженным расчетам зарубежных организаций (в основном из недружественных стран).
Надо и дальше развивать глобальный и национальный рынок климатических проектов. Такой механизм позволит странам компенсировать выбросы от экономики, в том числе реализуя проекты по лесовосстановлению и другим природным решениям, повышая энергоэффективность. Россия, обладая огромным потенциалом экономически эффективных климатических проектов, может стать лидером этого процесса.
"Россия, имея один из наиболее чистых энергетических балансов в мире, имея высочайшие поглощающие способности, должна наращивать свое преимущество. И я уверен, что будет играть активную роль в формировании вот этой новой климатической парадигмы", - считает Юрий Станкевич.
Сейчас, когда США выходят из Парижского соглашения, а другие страны пересматривают свои климатические обязательства, у России есть шанс на своем примере инициировать внедрение более справедливых механизмов в борьбе с изменениями климата. Это не вопрос отказа от обязательств по сокращению нетто-эмиссий, а вопрос защиты экономических интересов страны и выстраивания нового, более сбалансированного подхода к глобальной климатической повестке.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























