Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
В.В.Путин провёл заседание Координационного совета по делам ветеранов при Правительстве Российской Федерации.
Стенограмма:
В.В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами встречаемся в преддверии 9 Мая, чтобы поговорить о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны, поговорить о том, как решаются эти проблемы, и что нужно сделать дополнительно, чтобы решались эти проблемы лучше.
Но вначале, к сожалению, должен начать с трагедии. Вы знаете, 3 мая в Махачкале совершён террористический акт, погибло много людей, раненых много. Сегодня в Дагестане объявлен день траура, и поэтому я прошу вас почтить память погибших.
(Минута молчания. Все встают.)
Спасибо. Разумеется, Правительство в соответствии с законом выделит необходимые ресурсы, чтобы поддержать людей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, люди, которые получили тяжёлые ранения, – по 400 тыс. рублей, а те, кто получил легкие ранения, – по 200 тыс. рублей.
Давайте вернёмся к теме нашей сегодняшней встречи. А сегодня в рамках Координационного совета по делам ветеранов нам предстоит обсудить вопросы повышения эффективности медицинской помощи ветеранам и людям пожилого возраста, поговорим в принципе о проблемах медицинской и правовой помощи вообще, поговорим о пенсиях, социальных выплатах и социальной поддержке в целом, о льготах в сфере ЖКХ.
Вы знаете, что ветераны Великой Отечественной войны в последние несколько лет в опережающем порядке обеспечиваются жильём – те из ветеранов, кто нуждается в жилье, улучшении жилищных условий. Уже 200 тыс. человек, ветеранов, улучшили свои жилищные условия. Мы обязательно эту программу будем продолжать. В текущем 2012 году на эти цели выделено 24,3 млрд рублей.
Я уже сказал, 200 тыс. у нас получили квартиры. На очереди сегодня стоит 39 тыс. Связано это с тем, что мы приняли решение не ограничивать никого, кто имеет право на улучшение жилищных условий. И количество людей, которые подают соответствующие заявления, не иссякает, оно постоянно пополняется. И в прошлом году произошло определённое пополнение. Надеюсь, что мы в самое ближайшее время этот вопрос полностью закроем и всех нуждающихся жильём обеспечим.
Конечно, самое пристальное внимание будем уделять медицинскому и лекарственному обеспечению. Дополнительно скажу, что мы знаем, конечно, о существующих здесь проблемах, стараемся их последовательно решать. Так, отмечу, что в региональные программы модернизации здравоохранения включены 46 из 64 действующих в стране госпиталей для ветеранов Великой Отечественной войны, да и вообще для ветеранов войн, проводится их текущий и капитальный ремонт, идёт работа по дооборудованию их современными медицинскими средствами.
Ряд шагов принят и в сфере лекарственного обеспечения. Это острая тема, она всегда на слуху. С конца прошлого года рецепты на лекарства гражданам, достигшим пенсионного возраста и страдающим хроническими заболеваниями, выписываются сразу на трёхмесячный срок. Это значит, что людям не нужно лишний раз посещать клиники и стоять в очередях. Сам процесс получения и приобретения лекарств, конечно, должен стать более удобным. Речь идёт о приёме заказов по телефону, доставке лекарств на дом, росте числа социальных и дежурных аптек. Рассчитываю, что региональные власти, наши коллеги на местах подобные формы работы будут развивать и использовать активно.
Особое внимание следует уделить сельским территориям. Напомню, что в тех сельских поселениях, где аптеки по разным причинам отсутствуют, теперь разрешено отпускать лекарственные препараты через местные фельдшерско-акушерские пункты. Я прошу Минздравсоцразвития вести постоянный мониторинг обеспечения лекарственными препаратами жителей сельских территорий. Там, где это необходимо, конечно, нужно оказывать регионам консультативную помощь в организации работы.
Отдельно хочу затронуть и чувствительную тему льготных лекарств. Сегодня на льготное лекарственное обеспечение выделяются серьёзные бюджетные средства. Вы знаете, что несколько лет назад на эти цели государство выделяло мизер. Сколько было, Татьяна Алексеевна, не помните?
Т.А.Голикова: До 5 млрд.
В.В.Путин: До 5 млрд рублей мы выделяли раньше на льготное лекарственное обеспечение. В 2011 году на эти цели выделено 122 млрд рублей, причём около 80% этих средств выделяется из федерального бюджета. Вместе с тем хочу отметить, что федеральный бюджет средства выделяет, но направляет их в регионы Российской Федерации, которые организуют сами тендеры, закупки и соответствующее распределение.
Есть, конечно, и сбои в поставках, несвоевременность имеет место быть, эффективность далеко не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Очевидно, что существующие процедуры государственного и муниципального заказа на поставку лекарств нуждаются в корректировке. Рассчитываю, что региональные власти будут уделять этому самое пристальное внимание, а Правительство Российской Федерации с правительственного уровня будет обеспечивать прозрачность, следить за тем, как все эти процедуры исполняются, соответствуют ли они действующему закону. Будем и дальше, конечно, развивать законодательство, стимулировать развитие фармацевтической отрасли. У нас отдельная федеральная целевая программа сформулирована, на которую выделяется где-то 124–125 млрд рублей на ближайшие годы, для того чтобы ускоренными темпами развивать национальную фармацевтическую промышленность.
Думаю, что здесь нужен, конечно, и общественный контроль за тем, что происходит в сфере лекарственного обеспечения, в том числе и со стороны ваших организаций. Поэтому предлагаю на советах по делам ветеранов, которые созданы в субъектах Российской Федерации, обсудить с руководителями регионов ключевые вопросы медицинского и лекарственного обеспечения. Буду рекомендовать руководителям регионов не отталкивать от себя ваши организации, а, наоборот, привлечь их к совместной работе по этому направлению.
Ещё один пункт нашей повестки дня – это поддержка волонтёрского движения и общественных организаций, которые реализуют значимые социальные инициативы. Понятно, что речь идёт, как правило, о молодых людях, которые думают о старшем поколении, думают о наших ветеранах, думают о тех людях, которые много сделали для нашей Родины, отдали свои силы, здоровье и сегодня нуждаются в поддержке как со стороны государства, так и со стороны общества. Очень приятно, что у нас таких людей, молодых людей, внимательно относящихся к проблемам ветеранов, становится всё больше и больше. Будем и на региональном, и на федеральном уровне их поддерживать, будем совершенствовать и законодательную, и нормативно-правовую базу, для того чтобы их работа была встроена в правовое русло, и они чувствовали поддержку со стороны всех уровней власти, начиная от муниципалитетов и кончая федеральным уровнем власти.
Это то, что я хотел бы сказать вначале. Давайте начнём работать. Я хочу предоставить слово Голиковой Татьяне Алексеевне для соответствующего сообщения о совершенствовании медицинского и лекарственного обеспечения ветеранов и лиц пожилого возраста. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.
Т.А.Голикова: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Для удобства работы у вас есть презентация, которая так же называется, как и вопрос, который я докладываю. Но прежде чем перейти к проблемам медицинского и лекарственного обеспечения, я бы хотела сказать о той демографической ситуации, в которой находится Российская Федерация.
Если мы посмотрим прогноз на ближайшие 10 лет, до 2020 года, то мы увидим, что численность населения у нас прогнозируется к росту на 1,8% по сравнению с 1 января 2011 года, численность людей моложе трудоспособного возраста будет расти на 16%. Что же касается лиц старше трудоспособного возраста, нашего трудоспособного возраста (55 лет – женщины и 60 лет – мужчины), то здесь прогнозируется увеличение на 21,4%.
Если характеризовать предыдущий 10-летний период, то у нас численность лиц в возрасте 65 лет и до 70 лет уменьшилась на 3,7%, а численность лиц старше 70 лет увеличилась, а численность лиц старше 70 лет увеличилась. С одной стороны, это позитивный тренд, который свидетельствует об увеличении продолжительности жизни, с другой стороны, это свидетельствует о том, что внимание к этой категории граждан со стороны всех структур, которые отвечают за организацию медицинского, лекарственного, социального обеспечения, возрастает.
Что же касается наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны и категорий, которые регулируются Законом «О ветеранах», то их численность по состоянию на 1 января 2012 года составила 3,4 млн человек. К сожалению, это категория убывающая: за прошедший 2011 год количество ушедших из жизни составило почти 136 тыс. человек.
Если говорить о распределении ветеранов Великой Отечественной войны по территории Российской Федерации, то наибольшее количество ветеранов войны проживает в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Что касается возрастного состава этой категории, то 32,3% этих граждан находятся в возрасте старше 85 лет. При этом, Владимир Владимирович, должна сказать, что 503 ветерана перешагнули 100-летний рубеж, и сейчас в Республике Дагестан проживает ветеран, которому 1 июля 2012 года исполнится 116 лет, то есть он живёт уже по счету третий век.
Что касается социального обеспечения, то, наверное, ключевым элементом здесь является пенсионное обеспечение. Пенсионное обеспечение этой категории, безусловно, превышает средние размеры трудовых пенсий. На сегодня средний размер пенсии инвалидов Великой Отечественной войны превышает средний размер трудовой пенсии по России в 2,4 раза, граждан, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и вдов военнослужащих – почти на 80%, участников Великой Отечественной войны – на 44%. При этом у данной категории граждан есть ещё один вид дохода – это так называемая единовременная денежная выплата, которая варьируется от 1151 рубля по состоянию на 1 апреля 2012 года до 3834 для инвалидов войны.
Таким образом, на сегодняшний день совокупный доход с учётом пенсии, единовременной денежной выплаты составляет: по инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны почти 30 тыс. рублей, участникам, не имеющим инвалидности, – порядка 20 тыс. рублей, вдовам военнослужащих – тоже приблизительно такую же цифру.
Что касается тенденции, то за период с конца 2007 года суммарно финансовое обеспечение по этим платам возросло в 2,1–2,2 раза. Очевидно, что это связано с индексацией соответствующих выплат опережающим темпом и изменениями в пенсионном законодательстве, в частности валоризацией пенсионных накоплений, которые происходили в последние годы.
Что касается структуры заболеваемости данной категории граждан, не только ветеранов, но и пожилых людей, то в структуре заболеваемости на сегодня лидируют, как и в целом по Российской Федерации, болезни сердечно-сосудистой системы, далее идут офтальмологические заболевания и заболевания органов дыхания. При этом я должна отметить, мы пока не имеем окончательных данных по этой категории за 2011 год, но тем не менее за 2010 год смертность от болезней органов дыхания, от внешних причин, от болезней эндокринной системы, новообразований по этим категориям снизилась.
Теперь что касается организации помощи ветеранам и пожилым людям. Это крайне чувствительная позиция, потому что людям, которые страдают на сегодня хроническими заболеваниями и нуждаются в поддерживающем лечении, субъекты Российской Федерации обязаны в соответствии с законодательством организовывать соответствующий уход и оказывать соответствующую помощь. Сегодня в субъектах Российской Федерации существуют 15 домов сестринского ухода, 21 хоспис и в стационарных учреждениях здравоохранения имеется 21 тыс. коек сестринского ухода и почти 2 тыс. хосписных коек. Но на сегодня такого рода помощи в субъектах Российской Федерации недостаточно, поэтому ветеранские организации (и сейчас мы в преддверии совещания обсуждали) ставят вопрос о том, чтобы для этой категории граждан приоритетной формой стало оказание медицинских и социально-реабилитационных услуг на дому. Я хочу сказать, что это возможно, и сейчас субъектами Российской Федерации соответствующие меры в этом направлении принимаются. Естественно, здесь ключевым становится оплата такого рода медицинской помощи на дому, и здесь достаточно решения Правительства Российской Федерации, которое мы подготовим, по поводу того, чтобы такого рода уход и такого рода помощь на дому оплачивалась за счет средств программы государственных гарантий и бесплатного предоставления гражданам медицинской помощи.
Что касается нормативного обеспечения медицинской помощи, то на сегодняшний день в обязанность субъектов Российской Федерации и, соответственно, врачебного персонала входит проведение углубленного обследования с участием врачей-специалистов. В соответствии с установленным клиническим диагнозом определяется индивидуальный план лечебно-оздоровительных мероприятий, порядок диспансерного наблюдения. Один раз в три месяца должен осуществляться патронаж участковой медицинской сестры и один раз в шесть месяцев – дополнительное лабораторное и инструментальное обследование. И, естественно, выписка лекарственных препаратов, которые в соответствии с законодательством положены, поскольку эти категории граждан подпадают под льготные категории и в соответствии с федеральным законодательством, и в соответствии с законодательствами субъектов Российской Федерации.
Для того чтобы несколько улучшить и само обеспечение учреждений, которые оказывают такого рода помощь, и приблизить помощь к непосредственно потребителю услуг, как Вы уже сказали, в рамках программ модернизации здравоохранения в 46 госпиталях осуществляются мероприятия по модернизации.
Должна сказать, что на данный момент капитальный ремонт закончен в трёх госпиталях – Рязанской области, Республики Карелии и Республики Мордовии, текущий ремонт – в двух госпиталях Пензенской области. На сегодняшний день полностью закуплено медицинское оборудование в трёх госпиталях из 12 запланированных для закупки оборудования – в Рязанской, Смоленской областях и Республике Башкортостан.
Я сказала о диспансерном наблюдении и проведении углублённой диспансеризации. Это в соответствии с законодательством, как я уже сказала, должно осуществляться ежегодно, но это осуществляется в соответствии с той обращаемостью, которая сегодня существует в субъектах Российской Федерации. При этом я должна сказать, что не все ветераны, инвалиды войны обращаются. Из тех, которые обращаются, практически 88%, по данным 2011 года, прошли диспансерное наблюдение. Но те, которые не обращаются, я думаю, что здесь на это следует обратить внимание субъектам Российской Федерации.
Мы провели соответствующую сверку между данными Пенсионного фонда по количеству ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые стоят на учёте, с одной стороны, с другой стороны – с данными медицинской статистики, которые тоже предоставляют регионы Российской Федерации, о прошедших диспансерное наблюдение. Приблизительно 60% попадает в спектр медицинского диспансерного наблюдения. Очевидно, другие не попадают либо потому, что не обращаются, либо потому, что доступность недостаточна в субъектах Российской Федерации.
Нам представляется, что необходимо дать поручение медицинским и социальным службам провести такой мониторинг, соответствующую сверку и при необходимости провести диспансерное и медицинское обследование тех категорий ветеранов, которые в него не попадают.
Что касается регионов-лидеров, то здесь наиболее успешными являются Саратовская и Тамбовская области, Республики Адыгея, Ингушетия, Пензенская, Ульяновская, Кемеровская, Магаданская, Самарская области, Чукотский автономный округ, Чувашская Республика, Ростовская область, Республика Башкортостан и Воронежская область.
Ещё одной составляющей, которая сегодня законодательно урегулирована, является санаторно-курортное обеспечение ветеранов и пожилых людей. В соответствии с законодательством у нас граждане, имеющие право на соответствующую льготу, могут выбрать либо денежную выплату, либо натуральное предоставление путёвки. Количество инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня сохранили право на санаторно-курортное лечение, то есть на путёвку, составляет 416 тыс. человек, но реально пользуются, то есть подают заявление на получение путёвки, 50,6 тыс. человек. К сожалению, должна сказать, обеспечиваются не все, хотя в данном случае эта категория является приоритетной. По данным за 2011 год, 58% из нуждающихся были обеспечены санаторно-курортным лечением.
Вы уже сказали в своём вступительном слове о лекарственном обеспечении. Я хочу обратить внимание лишь на три детали из этой темы, которые представляются наиболее существенными. Сегодня лекарственное обеспечение осуществляется посредством передачи, как Вы сказали, средств в регионы Российской Федерации. Регионы осуществляют закупку и посредством организации лекарственного обеспечения непосредственно в регионах, как собственного полномочия регионов Российской Федерации.
Здесь я должна сказать, что Российская Федерация в лице федерального бюджета ежемесячно в качестве нормативов финансовых затрат направляет в регионы Российской Федерации сумму в размере 918 рублей на человека в месяц как норматив, соответственно мы выходим на сумму порядка 41–44 млрд рублей в год. Что же касается подобного финансового обеспечения в регионах Российской Федерации, то там, к сожалению, эта цифра лишь только в отдельных регионах превышает российскую, а в среднем норматив финансового обеспечения составляет чуть больше 180 рублей на человека. В этой связи из-за такой разницы, почти семи- или шестикратной, возникает существенный разрыв в лекарственном обеспечении между федеральной льготой и региональной льготой.
Что сейчас делается в этом направлении? В соответствии с Вашим поручением мы совместно с Министерством финансов, органами здравоохранения субъектов и финансовыми органами, по сути, закончили сверку. Что мы в результате этой сверки выяснили? Те категории граждан, которые сегодня относятся к юрисдикции субъектов Российской Федерации, к сожалению, в регионах не имеют соответствующего учёта, то есть регистра льготополучателей, и тех, кто на сегодняшний день имеет право… в значительном количестве, ну в большинстве субъектов не имеется. Поэтому на сегодняшний день ключевым для них является (чтобы определить, а сколько реально средств нужно) определение и формирование регистра тех, кто нуждается.
Следующим шагом должен стать вопрос финансового обеспечения и изменения существующего сегодня в регионах Российской Федерации старого, 1993 года постановления, так называемого 890-го, «О лекарственном обеспечении граждан в субъектах Российской Федерации». Вот эту работу нам нужно совместно с регионами, собственно, завершить в 2012 году, для того чтобы эта работа приобрела законченную форму и чтобы люди в регионах Российской Федерации, которым действительно необходима эта помощь, её получали в установленном объёме.
Ещё одна тема в части лекарственного обеспечения, на которую Вы обратили внимание, – это доступность аптечных учреждений или медицинских учреждений, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и имеют право отпускать лекарственные препараты нашим гражданам.
Здесь я хочу сказать, что у нас на 100 тыс. человек в среднем приходится 44 аптечные организации. Наиболее высокий показатель у нас в Брянской, Владимирской, Амурской областях и Хабаровском крае. К сожалению, более сложная ситуация сегодня в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Хакасии и Магаданской области, которым предстоит эту проблему ещё решать. Наверное, в этой части ещё один момент, который тоже не остаётся без пристального внимания наших граждан и той категории, которая сегодня является предметом нашего рассмотрения: это доступность с точки зрения цены на соответствующие лекарственные средства. С 1 апреля 2010 года мы начали регистрировать цены на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. В общем остановили тот достаточно высокий рост цен, который мы наблюдали в 2009 году. Что касается 2011 года, то рост цен на лекарственные препараты, по данным мониторинга, составил 2,17% – это ниже, чем уровень роста потребительских цен. Связано это в основном с тем, что цены на жизненно важные препараты в соответствии с методикой просто индексируются на соответствующий уровень инфляции.
Наконец, в завершение я бы хотела сказать следующее. Ключевым в работе для нас сейчас является принятие закона, который давно не пересматривался. Это закон о социальном обслуживании населения, который регулирует порядок предоставления социальных услуг всем гражданам – не только тем, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но и тем, о которых мы сейчас говорим. Этот закон сродни закону, который мы принимали в части здравоохранения об охране здоровья граждан, который регулирует все вопросы, связанные с услугами, стандартами, порядками предоставления таких услуг и так далее.
Этот законопроект начиная с 2011 года обсуждается практически на всех площадках. Мы в конце 2011 года завершили его обсуждение совместно с Фондом общественного мнения. Он буквально на прошлой неделе обсуждался у нас с представителями общественных организаций, Государственной Думы и Совета Федерации. Сейчас он дорабатывается, официально размещён, естественно, на сайте министерства, в июне мы планируем внести его на рассмотрение Правительства Российской Федерации, а затем уже в парламент.
Принятие этого закона позволит определить механизмы, которые должны действовать в сфере социальной политики в отношении этих категорий граждан, для того чтобы устранить правовые проблемы, в том числе дифференциацию с точки зрения социального обслуживания, которая имеет место быть сегодня между разными субъектами Российской Федерации. Спасибо.
В.В.Путин: Спасибо большое.
Я предлагаю послушать Савелова Артура, а потом мы поговорим в свободном режиме. Пожалуйста.
А.Р.Савелов (президент АНО «Московский студенческий центр», председатель совета проректоров по воспитательной работе высших и профессиональных учебных заведений): Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Координационного совета!
В раздаточном материале есть слайды моего выступления. Для меня большая честь доложить результаты работы волонтёрского движения в поддержку старшего поколения на заседании Координационного совета по делам ветеранов при Правительстве Российской Федерации. Я возглавляю Московский студенческий центр, работающий 12 лет и охватывающий своей деятельностью более 250 ведущих высших учебных заведений. Центр был в числе первых, что совместно с Координационным советом при президиуме генсовета партии «Единая Россия» по взаимодействию с объединениями старшего поколения и советом проректоров по воспитательной работе в вузах создали программу «Студенты – старшему поколению». Сегодня к реализации программы присоединились студенты-волонтёры более 300 вузов страны, а также учащиеся других образовательных учреждений. На начало 2012 года в России из 3 млн молодых людей-волонтёров более 1 млн активно участвуют в программах поддержки людей старшего возраста, включая и нашу программу.
Развитие волонтёрства – это огромный воспитательный потенциал, которому сейчас уделяется большое внимание. Есть регионы, например Свердловская область, где число волонтёров достигает 52 тыс. человек. В целом ряде субъектов Российской Федерации волонтёры объединяются в постоянно действующие сообщества. Например, в Белгородской области действуют 52 волонтёрских студенческих отряда, 153 волонтёрских молодёжных объединений. Волонтёры проходят серьёзную подготовку. В 36 субъектах созданы краевые, областные и муниципальные волонтёрские центры, задачами которых являются: создание условий для вовлечения молодёжи и студентов в волонтёрское движение, формирование активной жизненной позиции, обучение участников волонтёрского движения, проведение информационной работы.
Важно отметить, что у волонтёров и властных структур есть взаимные интересы и должное взаимодействие. В 31 субъекте России приняты региональные законодательные и нормативно-правовые акты, программы по поддержке и развитию волонтёрского движения, в 34 субъектах мероприятия по развитию добровольческой деятельности молодёжи включены в региональные целевые программы.
Достоин распространения опыт столицы. Так, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в 2011 году поддержал программу «Столичное студенчество», выделив субсидию отдельной целевой поименованной строкой в бюджете на 2012–2014 годы. Охват программ можно оценить в буклете центра, тоже находящемся в раздаточном материале. Другой пример. В Ярославской области волонтёрские объединения участвуют в региональной программе «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011–2013 годы. В результате программы отремонтировано около 1,5 тыс. кв. м в домах и квартирах.
Хотел бы подробнее рассказать о программе «Студенты – старшему поколению». В рамках программы реализуется четыре проекта. Первый проект – «Скорая социальная помощь», за время действия этого проекта более 114 тыс. волонтёров оказали помощь 798 тыс. человек. Второй проект – «Юридические клиники»: более 4,5 тыс. студентов оказали юридическую помощь почти 300 тыс. человек. Третий проект – «Повышение компьютерной грамотности». 3,1 тыс. волонтёров обучали более 112 тыс. граждан пожилого возраста. И последний проект – «Уроки памяти». В рамках проекта более 65 тыс. волонтёров участвовали в акциях, охватив 2 млн человек.
Немного подробнее остановлюсь на некоторых проектах. Первый – «Скорая социальная помощь» – направлен на оказание социальной и правовой помощи сельским пенсионерам и одиноким пожилым людям студентами социальных вузов. В 2012 году адресная помощь пожилым людям оказывается в 57 субъектах России. Мобильные бригады выезжают в сёла и помогают в ведении домашнего хозяйства, организации досуга и уходе за захоронениями ветеранов, осуществляется поддержка проживающих в домах-интернатах.
Проект «Юридические клиники» предусматривает оказание студентами, будущими юристами, бесплатного правового консультирования, помощи в повышении правовой культуры старшего поколения. В настоящее время проект реализуется в 13 субъектах России.
Проект «Повышение компьютерной грамотности» направлен на оказание студентами помощи в организации занятий для пожилых людей в целях обучения их работе на компьютере. Участники проекта – волонтёры 31 субъекта России. Например, в Красноярском крае в 2011 году было открыто 10 компьютерных классов, в 2012 году планируется открытие ещё 20. Программой охвачено более 16 тыс. слушателей курсов из числа граждан пожилого возраста.
Проект «Уроки памяти» – это помощь студентов ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, проведение акции «Спасибо вам за Победу». Волонтёры проводят с ветеранами встречи, создают видео- и фотоархивы их воспоминаний, проводят экскурсии, вечера памяти, помогают по дому нуждающимся, а также проводят работу по благоустройству территорий, памятников и воинских захоронений. Например, в Челябинской области за три года отремонтировано 635 квартир. В Курской области в 2011 году приведено в порядок 945 братских могил и воинских захоронений.
Акция «Спасибо вам за Победу», разработанная в год 65-летия Московской битвы совместно с Российским комитетом ветеранов войны и военной службы, за прошедшие годы получила размах, и её подхватили регионы. Накануне Дня Победы студенты размещают поздравительные наклейки на дверях подъездов домов. Уже несколько лет наклейки также размещаются и на личном автотранспорте. К раздаточным материалам мы также приложили наклейку, выпущенную ещё в 2006 году (это первый выпуск).
Волонтёрское движение в России растёт и ширится, в него вливаются новые молодые силы, приходят новые молодые люди, но, несмотря на активное развитие этого явления, несмотря на усилия Министерства спорта, туризма и молодёжной политики, сложившийся опыт говорит о необходимости более глубокой систематизации взаимодействия власти и волонтёрского движения. Существуют вопросы, которые возможно решить лишь путём принятия нормативных актов, охватывающих все направления волонтёрской деятельности. Убеждён, что принятие закона о волонтёрстве на федеральном или региональном уровне придаст системность понятийному аппарату волонтёрства, обеспечит единые принципы и стандарты организации и осуществления волонтёрской деятельности для всех российских регионов.
В завершение я хотел бы, безусловно, поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех участников совета с первой годовщиной создания Общероссийского народного фронта. 6 мая Вы выступили с идеей его создания, и завтра я хотел бы пригласить, безусловно, Вас, Владимир Владимирович, и всех присутствующих здесь в парк Победы на Поклонной горе, где московским студенческим центром–членом Фронта будет организован большой праздник, посвящённый этой дате, для всех жителей столицы и всех гостей. Спасибо за внимание.
В.В.Путин: Спасибо. Действительно, завтра год исполняется. Я хочу поблагодарить вас и очень многих здесь присутствующих, потому что вы возглавляете организации, которые так или иначе были причастны либо принимали прямое участие в деятельности Общероссийского народного фронта. Надеюсь, что это будет очень хорошей консолидирующей площадкой и на будущее. Спасибо вам большое. Я приглашаю к дискуссии. Пожалуйста, какие есть соображения, замечания, предложения по темам, которые мы обсуждаем?
Ф.А.Клинцевич (заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»): Я думаю, Владимир Владимирович, что из темы, которую мы обсуждаем, вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, – это самые болезненные вопросы. У нас есть одна проблема, по которой мы практически все, представляя региональные и общероссийские организации, получаем информацию снизу. Всё, что касается федерального центра, практически никогда не бывает никаких срывов. Вот то, что Вы говорите, говорят соответствующие должностные лица: деньги поступают, но как только начинается реализация на местах, у нас всегда проблемы. Я думаю, что в какой-то постановляющей части... Сегодня здесь есть губернаторы, на которых, конечно, надо в этом плане равняться…
Владимир Владимирович, сегодня Татьяна Алексеевна говорила по поводу того, что федеральный центр поставил в медицинские учреждения очень много оборудования. Я Вам скажу: у нас есть субъекты, где это оборудование годами стоит и им не пользуются, не могут найти средства, чтобы ввести его в действие. Вне всякого сомнения, у людей это вызывает большое раздражение, в целом обиду и на власть, и на порядок, и так далее.
Второй момент, очень важный. Мы тоже должны понимать, что, когда распределяются дорогостоящие лекарственные средства, у нас очень много на местах злоупотреблений. Я не знаю, как с этим бороться. Это, конечно, не в состоянии сделать Министерство здравоохранения. Но люди приходят и годами не имеют возможности получить это средство. Когда им говорят, что за деньги вы можете, пожалуйста, и называются суммы, у людей, конечно, это тоже вызывает очень большое и серьёзное беспокойство. Я думаю, что на эти моменты тоже нам надо было бы обратить внимание.
Ну и, Владимир Владимирович, сегодня, пользуясь случаем, тоже хотел бы поздравить Вас с годовщиной «Народного фронта». Хотел сказать, Владимир Владимирович, что в рамках Общероссийского народного фронта много сделано, в том числе и в социальном плане, потому что много ветеранских организаций было. Мы через «Народный фронт» проводили много региональных программ и в процессе предвыборной кампании. В данном случае Министерство здравоохранения очень серьёзно и качественно помогало и оказывало нам поддержку. Но люди задают вопрос, Владимир Владимирович. Я, правда, ссылаюсь на последнее заседание Координационного совета, что он оформится в какую-то юридическую организацию. Вот Артур Размикович (А.Р.Савелов) сегодня говорил, завтра проходит мероприятие на Поклонной горе. У нас же Фронт не оформлен? Общественная организация действует. А журналисты добиться толком не могут, кто там и так далее. Я сам не знаю. Я говорю, что я знаю, что готовят мероприятие… Я приду с внуками. Но вот в ближайшее время мы Фронт оформим как некую общественную площадку для консолидации.
В.В.Путин: Как общественную организацию. Мы договорились.
Ф.А.Клинцевич: Как общественную организацию. Владимир Владимирович, когда мы говорим о проблемах, которые сегодня подняли, конечно, медицинское обеспечение для ветеранов Великой Отечественной войны, да и вообще для ветеранов – это самая главная задача. Я сегодня специально не поднимаю, Владимир Владимирович, проблему жилья для ветеранов боевых действий, потому что отчётливо понимаю, что это очень серьёзная, неподъёмная тема. Нам надо закрыть проблему с ветеранами старшего поколения. А вот медицина – это проблема, которая касается всех, и она сегодня нуждается в очень серьёзной поддержке. Одному Министерству здравоохранения, на мой взгляд, с этой проблемой не справиться, там нужна поддержка и местной, и региональной власти. Спасибо.
В.В.Путин: Спасибо большое. Прошу вас.
В.Г.Михайлов (председатель совета Всероссийского центра социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн): Уважаемый Владимир Владимирович, я с удовольствием выслушал и первый доклад, и второй. Я хотел бы кратко сказать: с интересом второй выступающий доложил о студентах и старшем поколении. Я внёс бы такое предложение. У нас многие общественные организации и студенчество этой работой серьёзно занимаются… Видимо, нам надо собраться и скоординировать эту работу, чтобы мы били в одну точку вместе. Видимо, в постановлении эту проблему надо отразить. Спасибо.
В.В.Путин: Спасибо большое. Да, это хорошее предложение, правильное.
Коллеги, есть ещё что-то? Прошу вас.
Д.И.Карабанов (председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов): Спасибо за предоставленное слово. Я хотел бы задать буквально два маленьких вопроса. Уже было озвучено, что рецепты выписывать можно на два месяца сразу.
В.В.Путин: На три.
Д.И.Карабанов: Было вначале два, а сейчас три. Ни денег не надо, ничего не надо, все знают, что это больной стационарный, но обязательно надо каждый месяц проходить врачей, обязательно надо стоять в очереди и так далее. Этот вопрос надо прямо экстренным образом, быстрее налаживать, чтобы он немедленно был принят к исполнению.
И второй вопрос – это продажа аптек в сельской местности. Во-первых, Вы знаете, что все сельские административные формирования сегодня сократились чуть ли ни в 5 раз, соответственно, ликвидировались аптеки и фельдшерско-акушерские пункты и так далее. Я понимаю, фельдшерско-акушерские пункты создать сложно так быстро, но их создавать надо, а вот продавать лекарства надо, конечно, быстро, потому что в сельской местности добраться куда-то быстро и купить лекарство невозможно – то дорога мешает, то ещё что-нибудь.
То есть два вопроса, которые требуют не больших вложений, а внимания, и проблема во многом сразу будет решена, и старшее поколение сразу это почувствует. Спасибо.
В.В.Путин: Я уже говорил о том, что мы разрешили в ФАПах продавать. Надо, конечно, совершенствовать это – и саму работу в этих ФАПах совершенствовать, и другие формы использовать. Пожалуйста.
В.В.Рязанский (председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель общественной организации «Союз пенсионеров России»): Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович!
Я был бы неправ, если бы не напомнил об одной теме, которая стала в стране широко распространяться, – теме детей войны. В рамках работы «Народного фронта» к нам с этой темой стали часто обращаться. Мы прекрасно понимаем, что решить этот вопрос в целом на федеральном уровне будет сложно. Мы могли бы в рамках нашего Координационного совета порекомендовать использовать опыт регионов, который на сегодня уже есть. Он есть во многих областях – в Вологде, Твери, Перми, Волгограде, Туле, Ульяновской области, Красноярском крае, Чувашии, Новосибирской, Самарской, Томской областях, где каждый регион неким образом выделяет эту тему в качестве приоритетной и снимает некую напряжённость, которая стала в последнее время появляться вплоть до образования даже общественных организаций под одноимённым названием.
Мне представляется, что можно было бы такую рекомендацию дать регионам, может быть, одно из заседаний провести именно по этой теме, для того чтобы несколько этот накал страстей, который в последнее время стал появляться, в том числе и по пяти законопроектам, которые находятся в Государственной Думе… Мне представляется, что можно было бы таким образом эти рекомендации в регионы дать.
В.В.Путин: Хорошо. Всё?
Мы в преддверии праздника находимся, поэтому я хочу вас всех поздравить с наступающим праздником, во-первых.
Во-вторых, хочу сказать, что вторая тема, которую Артур Размикович (А.Р.Савелов) отметил, информация, с которой выступил, не менее важна, чем весь набор первых. А их, этих первых, много – и медобслуживание, и жилищное обеспечение, и ЖКХ в целом, в широком смысле этого слова. Но внимание к людям подчас не менее важно, чем материальное состояние или решение тех или других вопросов.
Печальная статистика есть (Татьяна Алексеевна сейчас мне дала) по поводу того, что в мире происходит с суицидами. Я просто по информации из различных источников знаю, что, как ни странно, в благополучных странах Европы они растут. На тысячу жителей в Корее – 31, в Японии – 24,4, в Словении – 21,9, в Литве – 34,1, во Франции рост в 1,3 раза – 21,3, в Италии пока в общем и целом не такой большой показатель, но рост в 2,1 раза. Связано это, конечно, с кризисом, с потерей работы и так далее. В Российской Федерации тоже пока ещё высокий – 18,4, но постоянное снижение. В прошлом и позапрошлом году – на 8,2%, и у нас за последний год, если месяц к месяцу смотреть, ещё снижение на 5,1%. Это говорит прежде всего об экономической составляющей и уровне безработицы, который у нас снижается, и снизился до докризисного уровня. Это объективные составляющие. Но что касается людей старшего поколения, повторю ещё раз, крайне важно внимание со стороны общества вообще, молодёжных организаций, со стороны властей всех уровней, и я прошу вас об этом никогда не забывать.
Спасибо большое.
В Китай было экспортировано иранской ненефтяной продукции на общую сумму в 5 млрд. 652 млн. долларов, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом, и эта страна занимает первое место среди основных импортеров иранской продукции, сообщает агентство ИРНА.
Второе место принадлежит Ираку, в который было экспортировано иранской ненефтяной продукции на общую сумму в 5 млрд. 151 млн. долларов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.
Эти две страны представляют собой важнейшие рынки для экспорта иранской продукции.
Третье место среди импортеров иранской продукции принадлежит ОАЭ. В эту страну было экспортировано иранской ненефтяной продукции на общую сумму в 4 млрд. 515 млн. долларов, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом.
За прошлый год в страны Азии было экспортировано 64 млрд. 167 млн. т иранской ненефтяной продукции (без учета газового конденсата) на общую сумму в 30 млрд. 844 млн. долларов. Если сравнивать эти показатели с объемом иранского экспорта на остальные четыре континента, то на экспорт в страны Азии приходится 91% экспортных поставок иранской ненефтяной продукции.
К числу 10-ти основных импортеров иранской продукции относятся такие страны, как Китай, Ирак, ОАЭ, Индия, Афганистан, Турция, Южная Корея, Сингапур, Индонезия и Пакистан. В эти страны было экспортировано иранской ненефтяной продукции на общую сумму в 26 млрд. 188 млн. долларов, что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом.
Директор департамента зарубежных выставок Мешхедской компании по проведению международных выставок Али Хаксар заявил, что с 13 по 15 июня в Кабуле будет проводиться 6-ая Иранская специализированная выставка, посвященная энергетике, строительной индустрии и пищевой промышленности, сообщает агентство ИРНА.
По словам Али Хаксара, названная выставка организуется Мешхедской компанией по проведению международных выставок, и в ней примут участие иранские компании, специализирующиеся в различных сферах экономики, которые могут поставлять необходимую Афганистану продукцию.
Али Хаксар отметил, что афганские предприниматели заинтересованы в торговле с Ираном в связи с тем, что они хорошо знают иранский рынок и иранские товары, которые отличаются высоким качеством. Они нуждаются в Иране, поскольку через эту страну пролегают самые надежные и дешевые, а также наиболее безопасные транзитные маршруты, которые могут использоваться для экспортно-импортных поставок. Кроме того, обе страны объединены общими традициями и культурой.
Али Хаксар сказал, что Афганистан нуждается в продуктах питания и напитках, домашнем скоте и птице, медицинском оборудовании, строительных материалов. Этой стране необходимо развивать сферу образования, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, ковроткачество, народные промыслы и ремесла, туризм, гостиничный бизнес, дорожное строительство.
Али Хаксар подчеркнул, что участие в выставке иранских компаний, специализирующихся в перечисленных отраслях, не только позволит удовлетворить потребности Афганистана, но и будет способствовать дальнейшему росту национального производства.
По словам Али Хаксара, представители компаний, желающих принять участие в Иранской специализированной выставке в Кабуле, для получения дополнительной информации могут обратиться на Интернет-сайт http://www.expo.ir .
В Швеции в нынешнем году прогнозируется увеличение числа иммигрантов. По данным Миграционного ведомства, число беженцев вырастет с 31 000 в прошлом году до 34 000. В основном этот прирост за счёт прибывающих граждан Сомали, Сирии и Афганистана.
Параллельно ожидается значительное увеличение родственной и рабочей миграции. Рост миграции по семейным причинам связывают с январским приговором Миграционного суда, который снизил требования к документальному подтверждению степени родства, взамен родство может подтверждаться с помощью тестов ДНК.
На этой неделе директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов в очередной раз подверг критике стратегию НАТО по борьбе наркопроизводством в Афганистане.
Глава российского антинаркотического ведомства заявил, что попытки побудить афганских крестьян перейти на выращивание легальных культур не имеют смысла, поскольку у рядовых участников процесса наркопроизводства нет выбора.
«Афганские крестьяне… сами по себе экономически не мотивированы, – отметил Иванов в опубликованном накануне интервью газете «Коммерсантъ». – Сегодня они выращивают опиумный мак на плантациях, которые им не принадлежат,.. практически как рабы трудятся за кусок хлеба».
Директор ФСКН сообщил о предложении России разыскивать и наказывать хозяев плантаций, которое представители НАТО отвергли под предлогом того, что в случае широкого тиражирования списков владельцы плантаций будут пытаться уйти от преследования. «Хотя, честно говоря, преследования мы пока и не видим», – добавил он.
По словам главы российского антинаркотического ведомства, совокупная численность афганских силовиков и служащих МССБ позволяет уничтожить все опиаты, выращиваемые и распространяемые на территории Афганистана, в очень краткий срок.
Виктор Иванов предложил объединить антинаркотические усилия ОДКБ и НАТО, чтобы первая из организаций боролась с наркотрафиком в своих странах, а вторая приложила бы усилия для уничтожения наркотических веществ в Афганистане. «Если начать совместную операцию в какой-то конкретный день, то закончить ее можно за неделю», – сказал он.
Процесс археологических раскопок вокруг крупнейшего в мире медного месторождения Айнак близится к завершению, и его разработка может начаться уже в следующем году, заявил в понедельник министр шахт и горной промышленности Афганистана.
На совещании представителей стран-доноров и гражданских организаций в Кабуле Вахидулла Шахрани сообщил, что ситуация с безопасностью улучшилась, а раскопки вокруг месторождения практически завершены, поэтому ничто не препятствует началу добычи меди в следующем году.
Как сообщает телеканал «Лемар», министерство шахт и горной промышленности совместно с министерством культуры Афганистана сделали всё возможное для извлечения и сохранения исторических артефактов. Медь из месторождения может поступить в продажу уже в 2014 году, добавил министр.
Месторождение Айнак, по оценкам экспертов, содержит более 12 млн. тонн меди. Тендер на его разработку выиграла китайская компания «MCC», которая потратит на проект 5 млрд. долларов. Сообщается, что компания уже вложила 350 млн. долларов в предварительные работы.
Накануне в Женеве состоялось открытие двухдневной конференции по проблемам афганских беженцев. Участие в разработке стратегии решения данного вопроса приняли представители Афганистана, Ирана, Пакистана и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
В качестве задачи мероприятия была поставлена разработка мер, направленных на предоставления убежища афганцам, вынужденным покинуть страну, в соседних государствах, а также обеспечение реинтеграции в афганское общество тем, кто принял решение вернуться на родину.
По данным ООН, начиная с 2002 года, в Афганистан из эмиграции вернулись уже 5,7 миллиона человек. Тем не менее, число афганцев, вынужденных оставаться за границей, до сих пор остаётся высоким. На данный момент в Пакистане легально проживают около 2 миллионов афганцев, а в Иране – ещё примерно 1 миллион.
В последние несколько лет темпы возвращения афганских беженцев на родину замедлились. За прошедший год из эмиграции вернулись в Афганистан только 70 тысяч человек.
Как отметил в своём выступлении Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонью Гутерриш, в настоящее время ситуация в Афганистане остаётся сложной, что отражается в том числе и на возвращении беженцев. Тем не менее, глава УВКБ подчеркнул, что следует приложить усилия для облегчения реинтеграции бывших эмигрантов на родине.
В свою очередь, министр Афганистана по делам беженцев Джамахир Анвари заявил, что сокращение притока бывших эмигрантов в страну объяснимо, поскольку для тех, кто прожил за границей уже более 30 лет, возвращение на родину было бы сопряжено с серьёзными трудностями и вызовами.
Начиная с 2002 года, при поддержке министерства по делам беженцев и ООН в Афганистане для бывших эмигрантов было построено около 220 тысяч домов, установлено более 10 тысяч пунктов водоснабжения, предоставлена финансовая помощь 4,6 миллионам афганцев, вернувшихся на родину.
Тем не менее, около 60% бывших эмигрантов до сих пор испытывают затруднения с поиском жилья, трудоустройством, получением услуг образовательных и медицинских учреждений.
Джамахир Анвари подчеркнул, что помощь беженцам, вернувшимся в Афганистан, должна носить долговременный характер, чтобы их реинтеграция в афганское общество была полноценной.
Антонью Гутерриш сообщил, что для выполнения стратегии ООН по поддержке афганских беженцев требуется 1,9 миллиарда долларов, и призвал страны, входящие в состав организации, оказать содействие в финансировании данной программы.
Директор департамента зарубежных представительств Организации развития торговли Ирана Хамид Реза Задбум в интервью агентству ИРНА сообщил, что на втором заседании глав организаций по содействию торговле стран-членов Организации экономического сотрудничества (ЭКО) в Баку состоялось обсуждение вопросов разработки общей торговой стратегии названных стран, а также совершенствования системы обмена торговой информацией между ними.
По словам Х.Р.Задбума, участники заседания в Баку обсудили также вопросы развития торговли, расширения сотрудничества в области таможенной, банковской и страховой деятельности, расширения транспортных и транзитных перевозок грузов.
Х.Р.Задбум подчеркнул, что разработка общей торговой стратегии будет способствовать развитию торговли между странами-членами ЭКО и расширению их совместной инвестиционной деятельности.
Х.Р.Задбум положительно оценил результаты второго заседания глав организаций по содействию торговле стран-членов ЭКО в Баку и отметил, что представители названных стран выступили с конструктивными предложениями и обстоятельно рассмотрели пути развития взаимовыгодной торговли.
Х.Р.Задбум напомнил, что первое заседание глав организаций по содействию торговле состоялось в феврале 2009 года в Тегеране, а третье заседание будет проводиться в будущем году в Турции.
Второе заседание глав организаций по содействию торговле стран-членов ЭКО проходило в Баку 2 и 3 мая.
Организация экономического сотрудничества была создана в 1984 году при участии трех стран, Ирана, Турции и Пакистана, с целью повышения уровня жизни населения региона и развития региональной и внерегиональной торговли. Позже, в 1992 году, к организации присоединились Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и Азербайджан.
Генеральный директор компании Иранские железные дороги (ИЖД) Абдолали Сахеб Мохаммади в интервью агентству «Мехр» заявил, что строительство коридора «Север – Юг» будет вестись при участии Индии.
По словам А.С.Мохаммади, Индию и Иран объединяют общие интересы, и индийская сторона весьма заинтересована в реализации проекта.
А.С.Мохаммади отметил, что один из маршрутов коридора «Север – Юг» протянется от порта Чабахар до Мешхеда и прокладка этого маршрута уже началась. В этой связи с индийской стороной проводятся переговоры о ее участии в строительстве этого маршрута, и Иран заявляет о своей готовности к сотрудничеству с ней. Пока переговоры не завершились.
Ранее директор департамента инвестиций и международных дел ИЖД Аббас Назари в интервью агентству «Мехр» заявлял, что новый транспортный коридор, предназначенный для транзита грузов по маршруту Чабахар – Захедан и далее Захедан – Мешхед, будет строиться при участии индийских инвесторов. Этот коридор свяжет Иран со странами прикаспийского региона и с Афганистаном.
По словам Аббаса Назари, с индийской стороной проведены переговоры с тем, чтобы она взяла на себя финансирование строительства коридора, общая протяженность которого на участках Чабахар – Захедан и Захедан – Мешхед составит 1 тыс. 310 км. В этой связи стороны обменялись соответствующей документацией.
Россия поддерживает намерение Киргизии не продлевать соглашение с США по Центру транзитных перевозок в аэропорту "Манас", заявил в пятницу официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
"Мы считаем, что параметры и сроки действия Центра должны быть обусловлены целевыми задачами стабилизации усилий международных сил содействия безопасности в Афганистане. Исходим из того, что необходимость в Центре в связи с выводом войск отпадет", - сказал он.
"Мы позитивно восприняли заявление президента Киргизии о намерении не продлевать после 2014 года соглашение с США по этому Центру, а трансформировать этот объект в гражданский международный транспортный узел без какой-либо военной составляющей", - отметил дипломат.
Авиабаза США, позже переименованная в Центр транзитных перевозок, была создана в международном аэропорту "Манас" в декабре 2001 года и является основным транспортным и логистическим узлом для перевозки грузов и переброски сил антитеррористической коалиции в Афганистан. По официальным данным, в транзитном центре дислоцированы около 1,5 тысячи американских военных и гражданских сотрудников, участвующих в операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане. Договор о размещении авиабазы США в Киргизии истекает осенью 2014 года.
Группа компаний "Совфрахт-Совмортранс" в 2011 году увеличила объем перевозок нефтеналивных грузов. По сравнению с 2010 г. рост объемов составил 15%, около 32 млн. т, в том числе нефтеналивных грузов - 24 млн т. (с учетом объемов крупных дочерних компаний - "Совфрахт-Казани", "Совфрахт-Нижнего Новгорода", "Совфрахт-Приволжска"). География поставок компании - от станций Ванино и Крабовая на Дальнем Востоке до Балтийского Леса в Калининградской области.
Как отмечает председатель совета директоров ОАО "Совфрахт" Александр Иванов, рост, в частности, связан с вводом в строй новых перерабатывающих мощностей в России. В июле 2011 года был запущен в эксплуатацию Усинский НПЗ (Коми). ""Совфрахт" полностью отвечает за логистическое обеспечение этого предприятия. Сейчас совместно с менеджментом НПЗ мы рассматриваем возможность расширения транспортной инфраструктуры завода. Запущен Нижнекамский завод "Танеко" (Татарстан), увеличилась глубина переработки на Антипинском НПЗ (Тюменская обл.)", - отметил Александр Иванов.
ГК "Совфрахт-Совмортранс" - это полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по перевозке в цистернах нефтеналивных грузов. "Совфрахт-Совмортранс" является оператором полного цикла, осуществляет всю цепочку логистических услуг: от налива в подготовленные цистерны с дальнейшим формированием и отслеживанием по маршруту, в том числе с оплатой транзитных тарифов и переадресовкой цистерн. Эти услуги компания оказываются как на территории России, так и в странах СНГ, Балтии, а также в Афганистане и Китае.

Нет у революции конца
Демократизация Ближнего Востока и новые вызовы
А.Г. Аксенёнок – кандидат юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат, арабист, долго работавший во многих арабских странах, в том числе в качестве посла России в Алжире, а также спецпредставителем на Балканах и послом Российской Федерации в Словакии.
Резюме оссия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий.
Пошел второй год с тех пор, как началась череда массовых народных выступлений, которая смела целый ряд несменяемых арабских правителей (Тунис, Египет, Ливия, Йемен). Другим странам (Марокко, Иордания, Сирия) пришлось пойти на частичные политические реформы, промедление с которыми в Сирии было одной из причин разгоревшегося внутреннего конфликта. Третьи восприняли «арабскую весну» как сигнал серьезной опасности, с которой нужно бороться финансовым «пряником» и «мечом» одновременно (нефтяные монархии Аравии). Вновь, как и в начале прошлого века, когда первое «пробуждение арабов» было поставлено под англо-французский протекторат, или во время подъема освободительного движения 1950–1960-х гг. под руководством националистически настроенного офицерства, этот регион, жизненно важный для всего человечества, вошел в полосу затяжных потрясений. Эволюционный путь развития в последние два-три десятилетия вылился в авторитарную стабильность, и теперь вступили в силу законы революционного хаоса. Мощная энергия массовых протестов, выплеснувшаяся на поверхность, создает атмосферу неопределенности, повышенных конфронтационных рисков.
Новое поколение арабов потрясло мир страстным призывом к отстаиванию человеческого достоинства, социальной справедливости, права на свободное национальное развитие. Вместе с тем нельзя не видеть и другой стороны этой медали. Завязался тугой клубок острых противоречий и сталкивающихся интересов. Естественная тяга к давно назревшим переменам и открытость перед внешним миром переплетаются с живучестью исторических и религиозных традиций, завышенные ожидания – с отсутствием реальных возможностей для их быстрой реализации, интервенционизм Запада – с непомерными амбициями ближневосточных игроков, не затронутых «арабской весной». В результате теряется или затушевывается видение конечных целей, а справедливые демократические лозунги, провозглашаемые протестными движениями, поиски национальной идентичности превращаются в банальное средство борьбы за власть и перехват революционной волны на регилнальном уровне. По мере снижения государственной управляемости международные террористические группировки укрепляют свои опорные базы в Северной Африке, Йемене, Ираке и последнее время Сирии, что вносит в переходные процессы дополнительные элементы непредсказуемости.
Революционные всплески на всем пространстве арабского мира от Марокко до Бахрейна высветлили три слоя напряженности, воспроизводя все новые очаги конфликтогенности на страновом, региональном и глобальном уровнях.
И после распада биполярного мира, когда «игра с нулевой суммой», казалось бы, закончилась, международное сообщество демонстрирует неспособность согласованно реагировать на политический форс-мажор. Эксперты-ближневосточники и ранее прогнозировали смену правящих элит, но скорость обвала прежних режимов и формы, в которые это вылилось, захватили врасплох практически всех. Политические решения принимались в условиях острого дефицита времени, причем скорее интуитивно, чем продуманно. Спустя год пора не только трезво осмыслить происходящее, но и попытаться найти общие подходы, которые за истекший период так и не наметились.
В чем, собственно, заключаются расхождения? Действительно ли Россия и ее западные партнеры заняли места по разные «стороны истории»? Или проблема здесь в том, что сама история, в том числе арабская, не закончилась, имеет свое пока неясное продолжение, а в мире, как справедливо заметил Фрэнсис Фукуяма, происходит что-то странное. Важно проследить последовательность международной реакции на системные сдвиги в регионе, определиться с процессом адаптации к их побочным негативным последствиям.
«Свой – чужой»
С самого начала «арабская весна» выглядела как демократический вызов авторитаризму и воспринималась на Западе как некое универсальное явление. Нередко проводились даже аналогии с разрушением Берлинской стены и демократическими революциями в странах Восточной и Центральной Европы на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Одним словом, инерционно возобладала тенденция к идеологизации сложных и далеко неоднозначных событий в мусульманском мире. Настолько велик был соблазн подкрепить «пробуждением арабов» тезис о победном шествии демократии по всему миру. В условиях, когда сама либеральная модель мирового капитализма переживает кризисные времена, такие упрощенные трактовки представлялись особенно своевременными.
Сегодня очевидно, что арабские революции не были и не могут быть «бархатными». В каждой из трансформация власти проходила своим путем, а в Ливии и Сирии эти процессы приняли характер вооруженного противостояния. В Египте взрыв народного протеста, во многом стихийный, вынудил армию, которая не применила жесткую силу, взять на себя управление страной в переходный период.
В тех особых условиях логика действий свелась к необходимости принести в жертву крупную фигуру, чтобы спастись от сползания в анархию. Режим Каддафи в Ливии был свергнут повстанческим движением племен, вылившимся в многомесячную гражданскую войну, однако решающую роль сыграло вооруженное вмешательство НАТО. Социально-политические причины, вызвавшие взрыв в Египте и Тунисе, налицо и в Сирии. Особое ожесточение конфликту между баасистским режимом и оппозицией придал конфессиональный фактор: алавитское меньшинство, сконцентрировавшее в своих руках власть и финансово-экономические ресурсы, против суннитского большинства. Нарастающее напряжение в Бахрейне также развивается по линии межконфессионального разлома с той разницей, что там все зеркально – правящее суннитское меньшинство противостоит требованиям раздела власти со стороны шиитского большинства. В Йемене затянувшееся отречение Али Абдаллы Салеха от власти, хотя и имело под собой политически договорную основу и одобрение Совета Безопасности ООН, проходило в обстановке внутреннего конфликта, немалых человеческих жертв и по сути латентной гражданской войны.
В отличие, например, от США и Франции, которые по идеологическим причинам быстро начали идеализировать «арабские революции», Россия сразу сделала акцент на недопустимости иностранного вмешательства и необходимости решать проблемы внутреннего развития – такие, как характер и темпы реформ – через политический диалог. Возможно, с российской стороны декларации солидарности с демократическими устремлениями арабских народов звучали и не столь громко. Исчерпавшая в минувшем столетии лимит на революции и войны и имевшая свой, не во всем успешный опыт на Ближнем Востоке, Россия не пошла по пути продвижения демократии на риторическом уровне. Тем более что российское экспертное сообщество в отличие от западных политиков не рассматривало происходящее в черно-белых тонах. В общем и целом падение режимов в Тунисе и Египте не повлекло за собой заметных противоречий в позициях России и Запада. И это нужно отметить особо.
В международную повестку дня арабская тема вошла только на волне ливийских и сирийских событий. И дело здесь не в том, что одни альтруистически встали на сторону «демократии», а другие своекорыстно выступили в поддержку «диктатур», как об этом в пылу полемики всерьез заявляли солидные официальные лица Соединенных Штатов, Франции и Англии. Предмет спора видится гораздо шире, и дело вовсе не в спасении старых режимов, боровшихся или борющихся за выживание. По большому счету речь идет о том, будут ли и дальше действовать такие фундаментальные нормы международного права, как государственный суверенитет и невмешательство во внутренние дела, или правила поведения государств меняются де-факто в зависимости от политической, экономической или иной целесообразности. После военного удара НАТО по Сербии и американской оккупации Ирака именно эти уставные принципы вновь подверглись серьезному испытанию в Ливии и Сирии. Объявление правящих там режимов априори нелегитимными и поспешная поддержка оппозиционных внутренних сил вплоть до прямого или косвенного, как в Сирии, вооруженного вмешательства. Привлечение Организации Объединенных Наций, имеющей немалый опыт миротворчества, к легитимации операций совсем иного рода – «по принуждению к демократии». Все это не могло не вызвать в России подозрений, не используется ли «арабская весна» для перекраивания геополитического ландшафта.
Мышление категориями «свой – чужой» превалировало в период холодной войны и блокового противостояния, особенно в регионах, где переплетались интересы двух сверхдержав. В новых постконфронтационных условиях многополярного мира глобальная управляемость утрачивается, и региональные процессы стали развиваться зачастую бесконтрольно, подчиняясь собственной внутренней логике.
В период 1990–2000 гг. Ближний Восток не числился среди приоритетов России, переживавшей трудности собственной трансформации в условиях распада государства и внутренних конфликтов. Соединенным Штатам, в свою очередь, не удалось воспользоваться моментом для укрепления позиций в регионе. Политика США попала в заложницы двух трудносовместимых противоречий – приверженности союзническим отношениям с Израилем на базе общих ценностей и осознанию того, что продолжение ближневосточного конфликта наносит ущерб коренным интересам Америки в мусульманском мире. Это противоречие особенно обострилось после того, как администрация Джорджа Буша инициировала две войны – в Афганистане и в Ираке.
Возвращение России
Возвращение России на Ближний Восток в последнее десятилетие происходило уже в иных условиях. Отношения с арабскими государствами более или менее выровнялись, развиваясь по широкому спектру. Во главе угла стояли соображения прагматического свойства, в первую очередь экономика и региональная безопасность. На этой основе строились, и довольно успешно, отношения с традиционно дружескими арабскими режимами (Алжир, Египет, Сирия, Ирак), начали выходить на стратегический уровень взаимовыгодные связи с новыми партнерами в регионе Персидского залива. Наметилось совпадение подходов России и США к решению практических вопросов палестино-израильского урегулирования, что позволило наладить конструктивное взаимодействие в рамках «ближневосточного квартета» при признании за Вашингтоном ведущей роли международного посредника. Словом, Россия, поставившая своей целью обеспечение национальных интересов на более ограниченном поле, отошла от системного противоборства.
В этом духе российская дипломатия действовала и в ходе ливийского кризиса. И даже два вето на проекты резолюций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии Москва не рассматривает как повод для возвращения к давно минувшим баталиям. Российские мотивировки заслуживают того, чтобы быть услышанными.
С самого начала реакция России на конфликт в Ливии, как и ранее в Тунисе и Египте, отражала международную озабоченность судьбой мирного гражданского населения и призывала к общим усилиям по предотвращению насилия. Особенно после того, как против повстанцев была задействована тяжелая артиллерия и даже авиация. Россия поддержала резолюцию 1970 Совета Безопасности ООН, которой вводилось эмбарго на поставку в Ливию вооружений с целью обеспечить условия для начала политического диалога. Когда это не помогло, и считанные часы отделяли войска Каддафи от взятия Бенгази, было принято решение не блокировать резолюцию 1973 Совета Безопасности о введении бесполетной зоны. Москва показала, что помимо стремления избежать человесческих жертв для нее имеют значение соображения глобальной политики, сохранения авторитета ООН и действенной роли Совета Безопасности.
Дальнейшие действия западных партнеров, вольно трактовавших резолюцию ООН для легализации военной операции по смене режима (Каддафи или кого-то другого – не имело значения), были расценены не только как намеренный выход за пределы мандата совершенно в иных целях, но и как удар по международному престижу самой России. Этим, в частности, объяснялась позиция при рассмотрении в Совете Безопасности ООН сирийского кризиса. Россия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Для совершения такого серьезного и даже драматического шага в большой политике требуются, как правило, весомые основания. В данном случае соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий от неконтролируемого развития событий. Свою роль сыграло и крайне негативное восприятие натовских ударов российским общественным мнением, что не могло не учитываться в непростой предвыборной обстановке.
Силовая смена режима в Ливии, и сегодня это очевидно всем, повлекла за собой тяжелые гуманитарные и политические последствия, прежде всего для самих ливийцев, вновь вернула страну в состояние полураспада, дестабилизировала обстановку южнее Сахары (события в государстве Мали, которое фактически развалилась, тому свидетельство), подстегнуло нелегальную иммиграцию в Европу. Сирия в отличие от «отдаленной» Ливии находится в сердце ближневосточного региона. Нарушение хрупких конфессиональных и этнических балансов в случае продолжительной гражданской войны чреват риском ее перетекания в соседние страны. Возрастет вероятность новых вспышек палестино-израильского противостояния. Наихудший из возможных сценариев: международному сообществу придется иметь дело с внутримусульманским конфликтом по линии шиитско-суннитского разлома.
Ставка таких крупных региональных игроков, как оформившийся союз арабских государств Персидского залива, на победу сирийской оппозиции, где ощутимо влияние воинствующих исламистов, судя по всему связана не столько с поддержкой демократии, сколько с осуществлением антииранской стратегии. В сирийской головоломке присутствует и цивилизационный аспект с учетом международной озабоченности судьбой христианского населения, численность которого на Святой земле неуклонно сокращается. Для России с ее двадцатимиллионным мусульманским населением и исторической ролью покровителя ближневосточного православия перенос внутренних конфликтов в плоскость религиозно-конфессиональных крайне чувствителен. В этой связи особую опасность для выстраивания эффективных международных подходов представляет разыгрывание конфессиональных карт в борьбе за сферы регионального влияния.
Экспертные оценки негативных последствий гражданской войны в Сирии в основном совпадают. Суть же разногласий на официальном уровне сводится к тому, как добиться прекращения кровопролитного внутреннего конфликта – через вооружение оппозиции и насильственные действия по свержению режима или путем внутрисирийского диалога о политических реформах, нацеленных на достижение соглашения о разделе власти. По российским оценкам, поощрение оппозиции к движению по первому пути чревато неоправданными региональными рисками, оно перегружает международные отношения конфронтационными элементами. К пониманию этого постепенно пришел и Генеральный секретарь ООН, который, вопреки своему статусу высшего международного чиновника, поначалу занял несбалансированную позицию. Теперь и он признает: «Вооруженный конфликт в Сирии может серьезно сказаться на ситуации во всем ближневосточном регионе… привести к непредсказуемым глобальным последствиям».
В многосторонних контактах по сирийскому кризису Россия пытается снизить конфронтационный тон, заданный западными и некоторыми арабскими партнерами. Ее дипломатические усилия направлены по сути дела на то, чтобы наладить скоординированную параллельную работу влиятельных внешних игроков с сирийским режимом и оппозицией, побуждая обе стороны к политической гибкости. Не остаются без внимания и просчеты, допущенные сирийскими властями. Дамаск с трудом расстается с иллюзиями о том, что в быстро меняющемся мире можно сохранить монопольную власть одной партии.
Международная адаптация к политическим катаклизмам, сотрясающим арабский мир, проходит столь же болезненно, сколь и сами трансформационные процессы. Государствостроительство началось практически с нулевого цикла. В первую очередь это касается Ливии, где единоличный режим Каддафи, прикрывавшийся фасадом народовластия, оставил после себя политический вакуум. Египет также находился в шаге от послереволюционного хаоса, если бы армия не взяла на себя роль стабилизатора. Другой сколько-нибудь монолитной силы к тому времени не было, но даже военным вынужденным в ходе перехода к гражданскому правлению маневрировать между различными политическими силами, с большим трудом удается контролировать ситуацию. Если напор улицы выйдет за рамки законности, реакция Высшего военного совета может быть жесткой. Призывы ко «второй революции» раздаются и в Йемене уже после ухода Салеха и проведения президентских выборов. Если смена нынешней власти партии БААС в Сирии произойдет обвальным, а не реформистским путем, эту страну, как и соседний Ирак, ожидает долгая полоса нестабильности с более трагическими последствиями.
Легализация исламистов
Революционные потрясения в арабском мире с новой силой поставили перед мировым сообществом такие вопросы, как роль и перспективы политического ислама. Причем уже не столько в академическом аспекте, сколько в плане практической внешней политики и дипломатии. Исламские движения и партии, находившиеся многие годы в подполье, получили легальный статус. Не будучи главными движущими силами массовых выступлений, они сумели оседлать революционную волну и одержать победу на парламентских выборах в Египте и Тунисе, закрепиться в рядах ливийских повстанцев и разрозненной сирийской оппозиции, сформировать правительство в Марокко и получить более трети мест в парламенте Кувейта.
Побед с таким широким региональным охватом не одерживало ни одно политическое движение со времени подъема националистической волны на Ближнем Востоке в 50–60-е гг. прошлого столетия. Тогда перемены в регионе происходили в результате военных переворотов, теперь же исламистские партии пришли во власть через всеобщие выборы, получив международную легитимность.
Особое внимание этот феномен привлекает к себе в Египте. От того, какая модель развития там возобладает, зависит, как можно полагать, и ход трансформаций в других частях арабского мира. Если успех умеренных «братьев-мусульман» в целом прогнозировался, то поистине ошеломляющего результата добились кандидаты от спешно образованной крайне консервативной исламистской партии «Ан-Нур» (Свет), представляющей так называемых салафитов – около четверти голосов египетских избирателей. В итоге исламистское движение в Египте получило более двух третей парламентских мест.
Неожиданный приход во власть салафитов вносит существенные коррективы в расстановку политических сил. Поле борьбы за влияние на принятие политических решений пролегает теперь не только в треугольнике между военными, исламистами и светской частью общества. Следует ожидать усиления борьбы внутри самого исламистского движения.
Программы «братьев-мусульман» и салафитов во многом расходятся. Лидеры салафитских группировок в своих проповедях вообще отвергали демократию представительного типа. Приняв участие в выборах, они несколько смягчили эти акценты. Суть требований осталась, однако, прежней: добиваться принятия такой конституции, которая гарантировала бы исламский характер египетского государства и распространение жестких норм шариата, пусть и постепенное, на все стороны общественной жизни, гражданские и личные свободы. Египетский салафизм берет за основу саудовскую ваххабитскую модель государства. По данным египетской печати, благотворительные фонды этого толка в прошлом году получили от доноров из арабских государств Персидского залива более 65 млн долларов. Для Египта с его светскими устоями и традициями веротерпимости такая исламизация неминуемо сопряжена с новыми всплесками массовых выступлений уже против тех, кто «украл революцию». Реакция египетского гражданского общества на монополизацию исламистами конституционного процесса показывает, насколько революция далека от завершения.
Помимо умеренного и жестко исламского крыла в составе салафитского течения легализацию получили и так называемые джихадисты, то есть активисты находившихся ранее в подполье многочисленных террористических организаций. Такой пестрый расклад сил еще более обостряет внутриполитическую борьбу в Египте вокруг президентских выборов и принятия новой конституции.
Руководство «братьев-мусульман», заявляющих о готовности играть по современным демократическим правилам, опасается соперничества со стороны радикальных исламистов, которые могут потеснить их именно на религиозном фронте. В этом случае они окажутся перед дилеммой – либо рисковать сужением своей социальной базы, либо поставить под угрозу отношения с Западом, в финансовой помощи которого Египет остро нуждается. Придерживаясь принципов социально ориентированной рыночной экономики, умеренные исламисты видят в жесткой исламизации серьезные преграды на пути иностранных инвестиций и угрозу для туристического сектора, одного из главных источников валютных поступлений.
Разногласия в исламистской среде имеют также серьезный внешнеполитический аспект. Теперь, когда исламисты стали доминирующей силой в египетской политике, возникают вопросы о судьбе мирного договора с Израилем, об отношениях Египта с палестинцами, о корректировках планов сдерживания исламского экстремизма и великодержавных амбиций Ирана. Конечно, быстрое возвращение Египта в глобальную политику вряд ли возможно. Слишком тяжел груз внутренних проблем. Вместе с тем появляются признаки того, что на региональном направлении новый Египет будет пытаться проводить более самостоятельный и нюансированный курс. Хотя истоки египетской революции находятся внутри страны, свою роль сыграли и такие общественные настроения, как недовольство слишком большой зависимостью от США и Израиля, а также принижением ведущей роли Египта на Ближнем Востоке.
Победу политического ислама на международной арене оценивают противоречиво. Существуют две крайние точки зрения. Согласно одной из них, умеренные исламисты представляют собой некий аналог христианско-демократических партий Европы. Соответственно, со временем, после прихода к власти, они будут вынуждены демонстрировать прагматизм и развиваться по пути секуляризации. Сторонники противоположных оценок утверждают, что исламистские партии в силу самой природы ислама склонны к догматизму, испытывают комплексы антизападничества и не способны адаптироваться к мировым реалиям.
Реакция на американскую инициативу «Большой Ближний Восток» показала, что к идее ускоренной демократизации по западным рецептам исламский мир отнесся скептически. На фоне революционного подъема, когда эти вопросы стали неотъемлемой частью повестки дня, вновь разворачиваются дискуссии вокруг того, до какой степени современная демократия соотносится с нормами шариата, не является ли демократизация синонимом вестернизации, очередной попыткой Запада навязать свои ценности. По мере того как проходит эйфория в лексиконе арабских политологов все чаще фигурирует такое понятие, как «хассыя арабия», то есть «арабская особость». И в этом есть свой резон. Демократические ценности в их либеральном понимании не во всем ложатся на арабо-мусульманскую почву. Регион имеет специфический менталитет, свои глубоко укоренившиеся традиции правления и бытовой жизни, отличные от западных. Реформирование Ирака даже в условиях иностранной оккупации показало, что парламентаризм в многоконфессиональной и многоэтнической арабской стране прививается с трудом. Египет также трудно представить парламентской республикой европейского образца. Эффективную, зачастую харизматическую власть арабское сознание не рассматривает как автократию, скорее как способ национально-государственного существования. От семьи до государственных институтов в арабском мире укоренены такие негласные нормы, как патернализм и консенсусное принятие решений по принципу «ни победителей, ни побежденных», что не укладывается в русло строго регламентированных демократических процедур.
Как бы ни сужались возможности внешнего воздействия на стихийные процессы в регионе, их интернационализация уже произошла. Причем в немалой степени по инициативе самих арабских государств. Какие-то уроки из ливийского, йеменского, бахрейнского и особенно сирийского кризисов уже можно извлечь. В первую очередь это касается характера вмешательства извне. Силовой способ решения деликатных внутренних проблем значительно осложняет проведение реформ на переходном этапе. Внешнее воздействие, пусть и по просьбе самих государств региона, имеющих свои особые интересы, должно быть направлено на поиск разумных компромиссов, на достижение общенационального примирения. Без этого накопившуюся протестную энергию арабов трудно направить в русло конструктивных программных действий по реализации их справедливых чаяний.

Поворот в ближневосточной геополитике
Арабские восстания и меняющаяся реальность
Резюме: Арабские восстания и последовавшие за ними военно-политические события поставили под сомнение представление о том, что «международное сообщество» способно разрешить любую региональную проблему. Внешнее вмешательство снизило уровень безопасности, спровоцировало кризис или усугубило раскол.
Арабские восстания стали поворотным пунктом в развитии геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В свое время подобным же образом на положении в регионе сказались исламская революция в Иране (1979 г.), распад Советского Союза и теракты 11 сентября 2001 года. Эти события, создавшие вакуум власти, немедленно привели к геополитическим изменениям и идеологическому соперничеству региональных и трансрегиональных игроков.
Проявлением борьбы за влияние после революции в Иране стала ирано-иракская война (1980–1988 годы). Исчезновение СССР обусловило геополитическое и идеологическое соперничество таких держав, как Россия, Иран, Турция и Соединенные Штаты в Центральной Азии и на Кавказе. Региональные кризисы в Афганистане и Ираке после терактов 11 сентября 2001 г. спровоцировали конкуренцию между Ираном, США и Саудовской Аравией, имевшую идеологический подтекст вплоть до «священной войны» против радикального исламизма и вооруженных группировок. Наконец, арабские восстания породили новую форму противостояния, в котором задача поддержания баланса сил переплетается со столкновением региональных идеологических моделей. В игру вовлечены, с одной стороны, региональные акторы – Иран, Турция, Саудовская Аравия и Израиль, а с другой – международные силы и великие державы, включая Соединенные Штаты, Россию, Китай и Евросоюз. Соперничество наиболее ярко проявилось в сирийском кризисе.
Изменения, вызанные с «арабской весной», продемонстрировали, что Ближний Восток – очень динамичная часть мира, а проблемы, затрагивающие ценности и идеологии, неотделимы от вопросов геополитики, баланса сил и роли различных держав. Арабские восстания позволили расширить традиционную концепцию геополитики, включив в нее тему подвижности границ, политической безопасности и роли этнических факторов в вопросах идеологии и ценностей. Все это приобретает особое значение в регионе, где великие державы имеют жизненные интересы. Хотя США выводят войска из Ирака и Афганистана, стремясь изменить форму своего присутствия и масштабы влияния, их заинтересованность в Ближнем Востоке (как и других крупных государств) в значительной степени сохранится.
Идеологические расхождения
Существуют две доминирующих идеологических тенденции, определяющие развитие Ближнего Востока.
Первая – «западный либерализм», в рамках которого Запад стремится управлять развитием арабских стран, исходя из собственных интересов, и вести их к тому, чтобы они взяли на вооружение западную идеологию и ценности. Это предусматривает проведение быстрых политических реформ, свободную рыночную экономику, приоритет гражданской и личной свободы и др. Преобладание в мире западных ценностей имеет длинную историю, начавшуюся еще в конце XIX века. Тогда Запад попытался институционализировать свою политическую философию и образ мышления, сосредоточившись на среднем классе, буржуазии, вопросах глобализации и гармонизации мира. Хотя этот курс вызвал сопротивление в разных странах, особенно когда дело касалось культуры и традиций, он продолжает осуществляться.
Можно говорить о двух волнах влияния западного либерализма на арабский мир. Первая, связанная с процессом деколонизации, началась в 1920–1930-х гг. и продолжалась до 1960–1970-х годов. Она способствовала формированию в арабском сообществе национальных государств. Постепенно они сблизились с Западом или стали зависимыми от него в вопросах приобретения технологий, знаний и благосостояния.
Вторая волна связана как раз с «арабской весной». В 2000-е гг. стратегия Соединенных Штатов в рамках концепции «Большой Ближний Восток» была нацелена на то, чтобы способствовать подобному развитию событий. Однако эта инициатива провалилась из-за обострения ситуации в Ираке и Афганистане и необходимости поддерживать стабильность в регионе. Политику США и Европы в нынешних арабских событиях можно считать продолжением духа «Большого Ближнего Востока» с точки зрения продвижения идеи прав человека, социальных и экономических трансформаций, которые Запад воспринимает как свое фундаментальное право и ответственность.
Другая важная составляющая происходящих событий, которая выступает альтернативой либерализму, – «исламская идеология», основанная на исламских идеях и ценностях и обеспечивающая иные формы влияния. Как мы видим, после арабских революций общественные движения склоняются к исламу. Об этом свидетельствуют и результаты всеобщих выборов, в частности в Тунисе и Египте, и укрепление влияния исламистов. Две дискуссии – западная об «арабской весне» и региональная об «исламском пробуждении» (термин, в основном используемый в Иране) – существуют в рамках доминирующих трендов и не исключают друг друга, так как обе имеют прочную ценностную и духовную базу. Важно отметить, что сосуществование двух дискурсов преобладает над желанием определить победителя или проигравшего. Хотя в этих дискуссиях используется много схожих понятий, в том числе «борьба с деспотизмом», укрепление «национальной исламской идентичности» и «противодействие Израилю», они различаются степенью доверия к Западу в вопросах проведения реформ, политической философии и моделей развития. Идеология, проблемы геополитики и вопросы государственного управления неотделимы друг от друга, поскольку в совокупности подразумевают новое распределение ролей между региональными и нерегиональными акторами. Иными словами, будущее власти и политики на Ближнем Востоке будет в равной степени зависеть от баланса идеологий (ценностей) и ролей (сил).
Различия региональных и международных подходов
Все острые региональные кризисы были связаны с применением западных рецептов, включая использование силы. В случае с Ираком, например, США и Запад рассматривали международный терроризм и «Аль-Каиду» как наиболее серьезную и неминуемую угрозу мировой безопасности. Атаку на Ирак объясняли тем, что режим Саддама Хусейна обладает оружием массового поражения и может передать его террористам либо вооруженным исламистским группировкам. Хотя подозрения не подтвердились, Запад развязал восьмилетнюю кампанию, пагубные последствия которой ощущаются до сих пор. Война в Афганистане началась из-за прямого участия страны в международном терроризме, но дальнейшие события имеют исключительно локальные корни. Тем не менее НАТО продолжает интервенцию, не учитывая местных особенностей и потребностей. В Сирии западные страны склонны разрешать преимущественно региональный вопрос при помощи своего традиционного метода, оказывая политическое давление и бряцая оружием, но при этом они не в состоянии оценить реальные политические риски и возможные потери.
Восстания в арабском мире связаны с проявлением активной роли людей. Возникновение национальных исламских движений в странах с независимыми парламентами, отражающими настроения общества, будет оказывать растущее влияние на власти и региональную политику. Это не значит, что западные подходы и схемы исчезнут, поскольку они пользуются поддержкой некоторых политических и интеллектуальных групп, и особенно этнических меньшинств. Но геополитика определит баланс между региональными и международными подходами. События доказывают, что разумнее решать проблемы, опираясь на региональные и локальные реалии, а не на основе схем, привнесенных извне. В отношении сирийского кризиса региональное решение, несомненно, будет более благотворным, чем международное в форме военного вторжения НАТО. В этой сфере такие ближневосточные державы, как Иран, Турция и Саудовская Аравия могут сотрудничать с трансрегиональными и мировыми державами – Соединенными Штатами, Россией, Китаем и Евросоюзом – ради достижения консенсуса и разрешения кризиса на базе региональных интересов, что принесет пользу и международному сообществу.
События в регионе заставили усомниться в традиционном представлении о том, что у мирового сообщества (Запада) есть решение для любой региональной проблемы. Во многих случаях предложенные рецепты подорвали политическую систему и безопасность, спровоцировав конфликты и усугубив разногласия. Например, западный подход к сирийскому кризису столкнул Иран и Турцию, что само по себе является стратегической ошибкой. Разногласия или соперничество между двумя ключевыми региональными державами опасны для перспектив мира и устойчивой безопасности в регионе, прежде всего в Афганистане и Ираке. Региональные решения, напротив, способны учесть интересы всех сторон, локальных и внешних. При этом естественно, что у таких держав, как Иран и Турция, проводящих активную политику и руководствующихся динамичной идеологией, будет больше возможностей для использования приемлемых для них подходов и защиты собственных интересов.
Противоречивые роли региональных и внешних акторов
В число активных региональных игроков входят Иран, Турция, Саудовская Аравия и Израиль. Внешние акторы – США, Россия, Китай и Европейский союз. Все они вышли на арену, стремясь добиться реализации собственных геополитических и идеологических интересов.
Турция взяла на вооружение «максималистский» подход, используя любую возможность, чтобы посредством поддержки арабских восстаний повысить свою региональную и международную роль. Однако по ходу дела (особенно в случае с кризисом в Сирии) проблемой Анкары стал поиск баланса между ценностями идеологии, внутренней политикой и геополитическими интересами. Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, полагал, что страна нуждается в тесных взаимоотношениях с Западом, но не считал вестернизацию обязательной. Затем, однако, сторонники светского государства поставили эту идею себе на службу, подстегивая идеологическое и геополитическое сближение с США и Европой. Это до сих пор затрудняет для Турции решение региональных вопросов. Приверженцы светской модели и сегодня твердо убеждены, что необходимо делать ставку на взаимодействие с НАТО и Западом. Основным вызовом для правящей исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) и правительства Реджепа Тайипа Эрдогана является, с одной стороны, позиция прозападных секуляристов, с другой – более происламское общественное мнение. Светские оппоненты официальной Анкары утверждают, что ПСР переоценивает возможности страны и идет на поводу у оппортунистического подхода, стремясь опереться на ислам и исламские группировки, такие как «Братья-мусульмане». Общественное мнение при этом настроено против чрезмерного вовлечения в региональные вопросы, особенно в конфликт вокруг Сирии и тем более против участия в военных интервенциях под руководством Запада.
На Западе принято считать, что Турция выиграет от событий в арабском мире, но это отнюдь не гарантировано. Перемены, в особенности кризис в Сирии, привели к разногласиям между ПСР и секуляристами. В результате Турция стала более консервативно, чем в предыдущие месяцы, оценивать перспективы и более реалистично воспринимать роль других акторов, включая Иран и Россию, в урегулировании сирийского кризиса. Из-за своего максималистского подхода Анкара оказалась перед серьезным выбором. С одной стороны, если Турция поможет союзникам по НАТО, она не сможет претендовать на ведущую роль в регионе. С другой – сосредоточенность на внутриполитической ситуации может вступить в противоречие с традиционной ролью, которую ПСР определила для себя в решении этих вопросов.
Саудовская Аравия, наоборот, использует «минималистский» подход. Она пытается замедлить события или «реквизировать» революции, поставить их себе на службу. Нельзя не отметить относительный успех такой политики. Используя свои финансовые ресурсы, подконтрольные СМИ и наличие влиятельных лобби в Египте, Сирии и Йемене, а иногда применяя силу (например, для подавления восстания в Бахрейне), Эр-Рияд старается сохранить позиции. При этом Саудовская Аравия, которая и сама почувствовала на себе дыхание «арабской весны», попыталась ускорить события в Сирии, так как в Эр-Рияде, по-видимому, считают, что любой режим в Дамаске будет выгоднее Западу и саудовцам, чем нынешний. Как бы то ни было, цель консервативного саудовского режима – отодвинуть «арабскую весну» подальше от своих границ. Кроме того, Саудовская Аравия старается воздействовать на геополитику и идеологию. Так, она препятствует установлению тесных связей между Ираном и Египтом и пропагандирует исламские прогрессивные ценности.
Тегеран практикует умеренный подход. Он основан на защите своих геополитических интересов (насколько смены власти повлияют на стабильность двусторонних отношений) и идеологических ценностей (идеалы исламской революции 1979 г., целью которой были поддержка народных движений, противостояние вмешательству иностранных держав и содействие «исламскому единству»). Формулируя курс по сирийскому вопросу, Иран ищет баланс между геополитическими и идеологическими интересами. Тегеран не возражает против реформ в Сирии при условии, что они не будут представлять угрозу для движений сопротивления – «Хезболлы» и ХАМАС. Иран считает, что кризис в Сирии – это региональный вопрос, который должен решаться на региональном уровне с учетом реалий безопасности. В определенной степени это поддерживают Россия и Китай, для них важно не противодействовать трансформации Сирии, а установить пределы западного вмешательства. Определение этих рамок позволит избежать одностороннего взгляда на ситуацию, отражающего интересы исключительно Запада.
Наконец, Израиль рассматривает арабские восстания с пессимистической и консервативной точки зрения. Израиль столкнулся с серьезными проблемами в отношениях с Египтом, Сирией, Ираном и Турцией, четырьмя столпами стабильности на Ближнем Востоке. Безопасность еврейского государства зиждется на Кэмп-Дэвидских соглашениях – мирном договоре Израиля и Египта, позволявшем поддерживать приемлемые отношения с ключевыми арабскими государствами, чтобы затем добиться так называемого устойчивого мира. Эта стратегия, по сути, неприменима после падения режима Хосни Мубарака. Общество обрело более активную роль в формировании парламента, что ведет к росту влияния исламских и национально ориентированных сил. События в Сирии не отвечают израильским интересам, хотя Израиль и пытался свергнуть режим Асада. А участие России и Ирана в урегулировании сирийского кризиса в значительной степени ослабило роль Запада и Израиля.
В свою очередь у Турции, которая рассматривает арабские революции как возможность расширить свое влияние и использовать мягкую силу в арабском мире, не осталось других вариантов, кроме как дистанцироваться от Израиля. Это стало еще одним ударом по двусторонним отношениям после рейда против «флотилии свободы» в мае 2010 г. (инцидент с судном «Мави Мармара»), который почти привел к разрыву дипломатических контактов. Наконец, Иран, противодействуя стремительной смене режима в Дамаске и пропагандируя исламские ценности и единство, пытается ослабить роль Израиля на Ближнем Востоке, что еврейское государство воспринимает как угрозу безопасности.
На трансрегиональном уровне также наблюдается соперничество между Соединенными Штатами и Евросоюзом с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой. В октябре 2011 г. Москва и Пекин заявили о необходимости ограничить западное вмешательство в дела региона, а затем наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН против сирийского режима. Де-факто сформировались коалиции: Иран, Россия и Китай – с одной стороны, и США, ЕС, Саудовская Аравия, Катар и Израиль – с другой. Турция находится где-то посередине. Подобное противостояние не отвечает долгосрочным интересам Ближнего Востока, поскольку издержки могут оказаться очень высокими. Нужно осознать необходимость компромисса между интересами региональных и трансрегиональных акторов, который достижим посредством учета региональной специфики.
* * *
Арабские восстания оказали огромное геополитическое воздействие на структуры региональной власти и политики. Они привели к дальнейшей политизации ближневосточной проблематики, укрепив регионализм в дихотомии «региональные – интернациональные подходы», а также обострив конкуренцию между игроками. Тегеран воспринимает эти восстания и как новые возможности, и как вызов. Формирование новых национальных исламских правительств может позволить Ирану преодолеть прежнюю изоляцию неарабского государства и укрепить связи с арабскими странами, что обещает более активную роль на Ближнем Востоке. Но события в арабском мире также бросают Ирану вызов, поскольку растет риск противоречий с влиятельными акторами, включая Турцию, Саудовскую Аравию и США. Геополитическая значимость Ирана связана с его региональной ролью. Как новая региональная держава Иран может выиграть от событий в арабском мире, воспользовавшись стратегической возможностью консолидировать геополитические и идеологические интересы.
Кайхан Барзегар – глава факультета политологии и международных отношений научно-исследовательского отделения Исламского университета Азад и директор Института стратегических исследований Ближнего Востока в Тегеране.

Арабская весна – первый год
Опасное время для жизни
Резюме: Римский историк Тацит однажды точно подметил, что «лучший день после свержения плохого императора – это самый первый день». Нынешнее третье арабское пробуждение лежит на весах истории. В нем есть опасности и перспективы, опасность оказаться в застенках, но и возможность обрести свободу.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
На протяжении всего 2011 г. из арабского мира доносилось ритмичное скандирование: «Народ – за свержение режима». Этот клич легко преодолевал границы, нашел отражение на страницах газет и журналов, в социальных сетях Twitter и Facebook, звучал на телеканалах «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия». Арабский национализм недооценивали, зато налицо были все признаки панарабского пробуждения. Молодые люди, жаждавшие политической свободы и экономических возможностей, уставшие просыпаться каждый день в монотонной действительности, восстали против своих склеротичных господ.
Все произошло неожиданно. На протяжении почти двух поколений волны демократии захлестывали другие регионы – от Южной и Восточной Европы до Латинской Америки, от Восточной Азии до Африки. Однако до Ближнего Востока они не докатывались. Местные тираны взяли под контроль политический мир и стали владельцами своих стран – если не по форме, то по сути. Сложилась довольно унылая картина: ужасные правители, подавленное население, террористы-маргиналы, в отчаянии бросающиеся под каток нелегитимного режима. Арабы почувствовали, что над ними тяготеет проклятье, они обречены на деспотизм. Исключительность региона оборачивалась не только гуманитарной катастрофой, но и моральной ущербностью.
Внешние державы закрывали глаза на происходящее, полагая про себя, что это лучшее, на что арабы способны. Внезапный порыв вильсонианства привел к тому, что в течение нескольких лет Соединенные Штаты своей властью провозгласили в Ираке свободу. Саддама Хусейна удалось вытравить из его «паучьей щели», сирийские террористы и вымогатели были изгнаны из Ливана, деспотизму Хосни Мубарака, который долгое время был столпом американского влияния, также был положен конец. Но Ирак после Саддама представлял собой противоречивую смесь демократии с кровью на улицах и религиозным противостоянием. Автократии ушли в глухую оборону и сделали все возможное, чтобы новый иракский проект окончился провалом. Ирак оказался в огне, и арабские «самодержцы» указывали на него как на предостережение – к чему приводит свержение даже худшего из деспотов. Более того, Ирак нес двойное бремя унижения из-за ослабления арабов-суннитов – США принесли свободу, и война усилила позиции шиитов в арабском мире. Результатом оказалась ничья: арабы не могли затушевать или игнорировать проблески свободы, но пример Ирака не стал маяком надежды для простых людей, на что многие рассчитывали.
Сами арабы говорят, что Джордж Буш вызвал цунами в регионе. Это верно, но арабы хорошо умеют пережидать бури, и вскоре уже сами американцы упали духом и решили не продолжать экспериментировать. На выборах 2006 г. в Палестинской автономии победу одержало движение ХАМАС, и администрацию Буша постигло еще одно разочарование. Наращивание контингента в Ираке стало весьма своевременным спасением всей военной кампании, но от более честолюбивых планов реформирования арабского мира пришлось отказаться. Автократиям удалось пережить короткий период наступательного порыва Соединенных Штатов, и вскоре новый знаменосец американской власти Барак Обама принес утешительную весть: США изменят свою политику, установят мирные отношения со всеми имеющимися режимами, обновят партнерство с дружественными автократами и даже попытаются взаимодействовать с враждебными режимами в Дамаске и Тегеране. Какое-то время Америке еще потребуется для завершения миссии в Кабуле, но Большой Ближний Восток оказался предоставлен самому себе.
В первое лето президентства Обама был захвачен врасплох мятежом против засилья аятолл в Иране и не знал, что предпринять. Твердо взяв курс на умиротворение правителей, он не нашел нужных слов для переговоров с мятежниками. Тем временем сирийский режим, отказавшийся под нажимом мирового сообщества от владычества в Ливане, жаждал восстановить там утраченные позиции. Тайная кампания терактов и убийств, доминирование «Хезболлы» и субсидии Ирана способствовали подавлению «Кедровой революции», которая была гордостью дипломатии Буша.
Изучая баланс сил в регионе в конце 2010 г., наблюдатели могли побиться об заклад, что автократия просуществует еще долго. Имея перед собой пример Башара Асада в Дамаске, они невольно приходили к выводу, что аналогичная участь ждет Ливию, Тунис, Йемен и даже законодателя мод в арабской политической и культурной жизни – Египет. Однако за внешней стабильностью скрывались нищета и бесплодность политической мысли. Арабы не нуждались в каких-либо докладах о «развитии человечества», и без того осознавая свое жалкое положение. В обществе отсутствовало согласие; единственное, что связывало правителей и их подданных, – это страх и подозрительность. Не было и намека на какие-либо проекты по общественному переустройству, которые можно было бы завещать будущему поколению, и это в арабских странах, где молодое население столь многочисленно.
Затем грянул гром. В декабре 2010 г. в Тунисе отчаявшийся торговец фруктами Мохаммед Буазизи не смог найти иного выхода, как совершить самосожжение в знак протеста против несправедливого уклада жизни. Вскоре миллионы его безымянных соотечественников вышли на улицы, избрав другой способ выражения протеста. Внезапно деспоты, владычеству которых, казалось бы, ничто не угрожало, без пяти минут небожители, вынуждены были спасаться бегством. Со своей стороны, Соединенные Штаты поспешили оседлать эту волну. «В слишком многих странах, и везде по-разному, фундамент региона проседает и уходит в песок,» – заявила государственный секретарь Хиллари Клинтон, выступая в Катаре в середине января 2011 г., когда буря только начиналась. Вскоре события в арабском мире стали красноречивой иллюстрацией к ее словам. Единственное, что упустила госсекретарь, так это то, что в песок ушли и наработки нескольких поколений американской дипломатии.
На этот раз огонь
Мятеж был сведением счетов между властью и населением, которое твердо решило покончить с засильем деспотов. Первый взрыв произошел в маленькой стране, расположенной на периферии арабского политического пространства, более образованной, процветающей и связанной с Европой, чем большинство других государств Магриба. Когда волна восстаний начала продвигаться на восток, она поначалу обогнула Ливию и обрушилась на «мать мира» Каир. Там продолжающееся представление обрело достойные подмостки в соответствии с амбициями мятежников.
Часто списываемый со счетов как страна, преимущественно покорная, Египет столкнулся с беспрецедентными по своей жестокости беспорядками. То, что народ терпел Мубарака три десятилетия, можно отнести за счет везения диктатора. Будучи преемником Анвара Садата, Мубарак проводил осторожную политику, но со временем у него возникли династические амбиции. В течение 18 дней в январе и феврале египтяне всех профессий, как завороженные, собирались на площади Тахрир, требуя избавления от Мубарака. Ведущие военачальники сместили его с президентского поста, и он разделил участь тунисского деспота Зин эль-Абидина Бен Али, кабинет которого пал месяцем ранее. После Каира пробуждение охватило весь арабский мир – восстания вспыхнули в Йемене и Бахрейне. Последний, будучи монархией, стал редким исключением, поскольку весной 2011 г. беспорядками были охвачены только республики, управлявшиеся автократами. Но если в большинстве монархий действовал общественный договор между властью и подданными, Бахрейн оказался расколот противостоянием шиитского большинства и суннитских правителей. Таким образом, страна уязвима, и в порядке вещей, что социальный взрыв в ней вылился в межрелигиозное противоборство. Тем временем беднейшая из арабских стран, Йемен, раскололась на два лагеря вследствие буйствующих на севере и на юге изоляционистских течений и политики лидера страны, Али Абдуллы Салеха, ничем не примечательного, кроме владения искусством политического выживания. Феодальная вражда в Йемене вспыхивала в основном из-за ссор между племенами и их вождями. Широкие волнения в арабском мире дали йеменцам, жаждущим избавиться от правителя, мужество, чтобы бросить ему вызов.
Затем волна с удвоенной силой обрушилась на Ливию. Это было царство безмолвия, где безраздельно правил психически неуравновешенный Муаммар Каддафи, самопровозглашенный «староста арабских правителей». Четыре мучительных десятилетия ливийцы находились под началом тюремного надзирателя – полутирана, полуклоуна. Каддафи разграбил богатейшую в Африке страну и довел ее население до ужасающего обнищания. В период между мировыми войнами Ливия столкнулась с жестоким колониальным господством итальянцев. После небольшой передышки при аскетичном короле Идрисе страну в конце 1960-х гг. охватила революционная лихорадка. Главный лозунг тех лет звучал так: «Иблис ва ла Идрис» – лучше дьявол, чем Идрис. И Ливия получила то, чего хотела. Наличие больших запасов нефти лишь подливало масла в огонь безумия: европейские лидеры и американские интеллектуалы всячески обхаживали ливийских заправил. На сей раз в 2011 г. поднялся Бенгази – город, находящийся на некотором удалении от столицы – и история дала ливийцам еще один шанс.
Египетские воротилы заявили, что их страна – не Тунис. Каддафи сказал, что его республика – не Тунис и не Египет. Башар Асад также уверял, что Сирия – это не Тунис, не Египет и не Ливия. Асад молод, его режим был более легитимен в глазах ислама, потому что противостоял Израилю, а не сотрудничал с ним. Но он явно поторопился со своим суждением, и в середине марта настала очередь Сирии. Туда ислам пришел сразу после того, как преодолел пределы Арабского полуострова, но раньше, чем его центр переместился из арабского мира в Персию и Турцию. Вместе с тем несколько десятилетий тому назад отец Башара Хафез – чрезвычайно изворотливый и опытный политик – привел военных и партию Баас к абсолютной власти, создав режим алавитов, народа, составляющего меньшинство. Объединение деспотизма и религиозного фанатизма породило самое страшное государство на арабском Востоке.
Когда в 2011 г. вспыхнуло восстание, оно имело четкие географические границы, как доказывал французский политолог Фабрис Баланше. Главными очагами стали городские кварталы и территории, населенные арабами-суннитами. Сначала социальный взрыв произошел в южном провинциальном городке Дераа, затем мятеж перекинулся на такие города, как Хама, Хомс, Джиср эль-Шугур, Растан, Идлиб и Дейр-аз-Зор, минуя курдские и друзские территории, а также горные селения и прибрежные города, считающиеся оплотом алавитов. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в третьем по величине городе Сирии Хомсе из-за его взрывоопасной демографии – две трети суннитов, четверть алавитов и 10% христиан.
Конечно, дело не только в религиозной вражде. В Сирии один из самых высоких показателей рождаемости в регионе; ее население выросло почти вчетверо с 1970 г., когда к власти пришел Хафез Асад. У режима, образно говоря, произошла закупорка сосудов, поскольку в политике и экономике доминировал военно-торговый комплекс. Финансовые средства государства значительно сократились, после того как под знаменами приватизации, проводимой в последние годы, государство самоустранилось от решения злободневных проблем. Мятеж явился выражением чувства экономической обездоленности и гнева суннитского большинства, твердо решившего избавиться от власти нечестивого меньшинства.
Нынешнее положение дел
Никакого единого сценария по смене режимов в арабском мире, конечно, не существовало. Тунис с его глубокими традициями государственности и ярко выраженной национальной самоидентификацией решил все проблемы сравнительно легко. Было избрано учредительное собрание, в котором большинство получила исламистская партия «Ан-Нахда». Ее лидер Рашид Ганнуши оказался мудрым и предусмотрительным человеком; годы, проведенные в изгнании, научили его осторожности, и партия сформировала коалиционное правительство совместно с двумя светскими партиями.
В Ливии иностранная интервенция помогла повстанцам свергнуть режим. Каддафи вытащили из трубы коллектора, где он скрывался, и зверски убили. Та же участь постигла одного из его сыновей. Диктатор пожал ненависть и ярость, которую сам сеял. Богатство, небольшая плотность населения и помощь иностранных государств – вот те плюсы, на которые может рассчитывать Ливия. Годы правления Каддафи – худшее, что могло приключиться с этой страной.
Над Бахрейном витают тени Ирана и Саудовской Аравии. Массового террора нет, но политический порядок малопривлекателен. Имеет место религиозная дискриминация, да и правящая верхушка ведет себя по меньшей мере странно. Династия Халифа, завоевавшая эти территории в конце XVIII века, до сих пор не заключила мирного соглашения с местным населением. Силы безопасности комплектуются иностранцами, и до настоящей стабилизации еще очень далеко.
Что касается Йемена, то это государство несостоятельно по определению. Правительство почти не вмешивается в дела населения, оно неплатежеспособно, зато в стране почти нет такого понятия, как террор. Заканчиваются запасы пресной воды, джихадисты, бежавшие из предгорий Гиндукуша, нашли здесь пристанище. Это тот же Афганистан, но с протяженной береговой полосой. Люди, высыпавшие на улицы Санаа в 2011 г., требовали восстановления правопорядка, более достойной политики, чем та, которую проводил циничный фигляр, стоявший у руля больше трех десятилетий. Будут ли их требования выполнены, неясно.
Сирия по-прежнему в хаосе. Палестинское движение ХАМАС ушло из Дамаска в декабре, потому что оно боялось оказаться на неправильной стороне укрепляющегося среди арабов консенсуса, который направлен против сирийского режима. «Никакого Ирана, никакой «Хезболлы», мы хотим правителей, боящихся Аллаха», – так звучит одно из наиболее осмысленных требований протестующих. Власть алавитов незаконна. Режим, жестоко подавляющий восстания, позволяющий силам безопасности осквернять мечети, стрелять в молящихся и приказывающий несчастным заключенным скандировать: «Нет Бога, кроме Башара», сам себя изжил. Хафез Асад тоже совершал жестокости, но всегда умудрялся оставаться в арабском правовом поле. Башар ведет себя иначе – совершенно безрассудно и безответственно, так что даже Лига арабских государств, которой свойственно закрывать глаза на некоторые бесчинства и авантюры своих членов, приостановила членство Дамаска.
Битва продолжается, Алеппо и Дамаск пока еще не восстали, и осажденный правитель, похоже, убежден, что сможет бросить вызов законам гравитации. В отличие от Ливии, на горизонте пока не маячит иностранная гуманитарная миссия. Но несмотря на всю неопределенность, одно не вызывает сомнений: устрашающая система государственной безопасности, которую построил Хафез Асад, партия Баас, солдаты-алавиты и главари спецслужб канули в Лету. Потеряв народную поддержку, режим какое-то время держался на страхе, но люди победили страх и вышли на улицы. Узы, некогда связывавшие властителей Сирии с ее населением, теперь разорваны окончательно.
Что после фараона
Тем временем Египет, возможно, утратил былой блеск, но об этой арабской эпохе будут судить по конечным результатам. При катастрофическом сценарии революция приведет к образованию исламской республики: копты будут вынуждены бежать, о доходах от туризма можно будет забыть, и египтяне будут жаждать железной хватки фараона. Большое число голосов, которые получили на недавних парламентских выборах «Братья-мусульмане» и еще более экстремистская партия салафитов, наряду с расколом светского и либерального электората, похоже, оправдывают опасения по поводу возможного развития политической ситуации. Но египтяне с гордостью вспоминают о либеральных периодах своей истории. Шесть десятилетий военный режим лишал их преимущества проведения открытой политики, и вряд ли они теперь легко откажутся от нее.
Выборы были прозрачными и представительными. Либеральные и светские партии оказались не готовы к борьбе, тогда как «Братья-мусульмане» десятилетиями ждали благоприятного исторического шанса и не преминули им воспользоваться. Не успели салафиты выйти из катакомб, как население возмутилось, и им пришлось отказаться от некоторых экстремистских взглядов. События на площади Тахрир ошеломили мир, но, как выразился молодой египетский интеллектуал Самуэль Тадрос, «Египет – это не Каир, а Каир – это не площадь Тахрир». Когда осядет пыль, за будущее Египта будут бороться три силы: армия, «Братья-мусульмане» и широкая светская коалиция либералов, лозунгами которой являются отделение религии от политики, гражданская форма правления и спасительные добродетели нормальной политической жизни.
«Братья-мусульмане» привносят в политическую борьбу проверенную временем смесь политической хитрости и искреннего стремления установить политический порядок по канонам ислама. Основатель этой партии Хасан аль-Банна был убит в результате покушения в 1949 г., но до сих пор служит ориентиром для мусульманского мира. Неутомимый заговорщик, он говорил о Божьем правлении, но подспудно совершал сделки с королем Египта против Вафд – господствующей партии тех дней. Он играл в политические игры, собрав грозное ополчение и попытавшись найти сочувствующих в офицерском корпусе, к чему с тех пор стремятся и его последователи. Вне всякого сомнения, его бы восхитило тактическое искусство преемников, маневрирующих между либералами и Высшим советом Вооруженных сил. Они приобщились к мятежу на площади Тахрир, но не участвовали в погромах и эксцессах, подчеркивая приверженность трезвости и общественному порядку.
Правда в том, что Египту не хватает финансовых средств для построения успешного современного исламского порядка. Исламская Республика Иран опирается на нефтяные доходы, и даже умеренное усиление Партии справедливости и развития в Турции обеспечивается процветанием благочестивой буржуазии из нагорной Анатолии. Египет находится на перекрестье международных сообщений и во многом полагается на доходы от туризма, судоходства по Суэцкому каналу, зарубежную помощь и денежные переводы от египтян, живущих за рубежом. Добродетель вынуждена идти на поклон к необходимости: в прошлом году золотовалютные резервы снизились с 36 до 20 млрд долларов. Инфляция стучится в дверь, цена импортной пшеницы очень высока, и приходится платить по счетам. Желание стабильности сегодня уравновешивает пьянящий восторг от низложения деспота.
Лидерам Египта придется решать грандиозные проблемы, и нежелание «Братьев-мусульман» и военных принять всю полноту власти говорит о многом. Вместе с тем здравый смысл и прагматизм может возобладать. Разумное разделение полученной в результате выборов легитимности и ответственности обещает оставить за «братьями» министерские портфели, которые им наиболее дороги: образование, социальное обеспечение и судебно-исполнительную власть, тогда как генералы будут контролировать оборону, разведку, мирный договор с Израилем, военные связи с США и сохранение экономических прерогатив офицерского корпуса. Светские либералы сохранят за собой значительное число сторонников, влияние в повседневной жизни, которая с трудом поддается регламентации и организации, а также возможность выставить сильного кандидата на предстоящих президентских выборах.
На протяжении двух веков кряду Египет борется за современное общество и достойное своих амбиций место в международной жизни. До сих пор это напоминало Сизифов труд, но египтяне упорствуют. В августе прошлого года страна стала свидетелем сцены, которая продемонстрировала великодушие египтян, что может их утешить. Перед судом на инвалидной коляске предстал, если так можно выразиться, последний фараон. Мубарака не вытащили из трубы коллектора, чтобы расправиться, как с Каддафи, он не затаился со своей семьей и не убивал свой народ, как это делал Асад. По словам писателя Эдварда Моргана Форстера, египтяне всегда демонстрировали способность примирять противоречия и могут сделать это еще раз.
Третье великое пробуждение
Это третье пробуждение в новейшей истории арабского мира. Первое – культурно-политический ренессанс, порожденный желанием быть частью современного мира – началось в конце 1800-х годов. Возглавляемое книжниками и законниками, мнимыми парламентариями и христианскими интеллектуалами, оно задалось целью реформировать политическую жизнь, отделить религию от политики, эмансипировать женщин и восстановить мусульманский мир после развала Османской империи. Не случайно это великое движение, важнейшими центрами которого были Каир и Бейрут, основал его летописец Георг Антониус, христианский писатель, родившийся в Ливане, выросший в Александрии, получивший образование в Кембридже и служивший в британской администрации на территории Палестины. Написанная им в 1938 г. книга «Арабское пробуждение» остается главным манифестом арабского национализма.
Второе пробуждение началось в 50-е гг. прошлого столетия и набрало силу в последующее десятилетие. Это была эпоха Гамаля Абдель Насера в Египте, Хабиба Бургибы в Тунисе и ранних лидеров партии Баас в Ираке и Сирии. Лидеры того времени не были демократами, но они энергично занимались политикой, стремясь решать насущные проблемы своего времени. Они были выходцами из среднего класса или даже ниже среднего и мечтали об индустриализации и избавлении своего народа от комплекса неполноценности, который развился в годы колониального господства, и еще раньше – в эпоху правления Османов. Простое обращение к их деяниям не способно раскрыть всего величия проекта. Их грандиозные свершения были отчасти сведены на нет демографическим взрывом, поползновениями авторитаризма и другими недостатками. Когда режим зашатался, образовавшийся вакуум заполнили полицейские государства и политический ислам.
Нынешнее, третье, пробуждение произошло как никогда вовремя. Арабский мир стал мрачным и пугающим. Население ненавидело своих правителей и их иностранных покровителей всеми фибрами души. Банды джихадистов, прошедшие закалку в жестоких тюрьмах зловещих режимов, распространились повсюду, сея смерть. Мохаммед Буазизи призвал своих собратьев творить новую историю, и миллионы людей в этом регионе услышали его и откликнулись. В июне прошлого года алжирский писатель Буалем Сансал написал Буазизи открытое письмо: «Дорогой брат, пишу тебе эти строки, чтобы ты знал, что у нас в целом все хорошо, хотя день на день не приходится: иногда меняется ветер, начинается дождь, и жизнь пробивается из всех пор… Давай задумаемся на мгновение о будущем. Может ли найти путь тот, кто не знает, куда идти? Разве изгнание диктатора – это все, что нам нужно? Теперь, когда ты второй после Бога, Мохаммед, тебе, наверно, стало очевидно, что не все дороги ведут в Рим, и за изгнанием тирана автоматически не последует свобода. Узники любят менять одну тюрьму на другую ради перемены обстановки, и чтобы получить возможность чему-то научиться, приобрести новый опыт».
Римский историк Тацит однажды точно подметил, что «лучший день после свержения плохого императора – это самый первый день». Это третье арабское пробуждение лежит на весах истории. В нем есть опасности и перспективы, опасность оказаться в застенках, но и возможность обрести свободу.
Фуад Аджами – старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете и сопредседатель Рабочей группы Герберта и Джейн Дуайт по исламизму и мировому порядку при Институте Гувера.

Арабские решения арабских проблем?
Изменение региональной роли стран Персидского залива
Резюме: Государствам Персидского залива удалось избежать худшего сценария и подтвердить репутацию долгожителей ближневосточной политической сцены. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия пытаются направлять ветер перемен в нужном им направлении. Но все эти правящие элиты уязвимы.
События в Ливии, а затем в Сирии знаменовали собой новый этап региональной политики – о намерении резко повысить собственную значимость и вовлеченность в процессы политического переустройства заявили арабские государства Персидского залива. Эти монархии в основном выдержали давление, вызванное массовыми волнениями на Ближнем Востоке, после чего переключились на поиск «арабских решений арабских проблем».
Первые признаки их стремление к новой роли появились в марте 2011 г., когда Катар и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к международной интервенции сил НАТО в Ливию. Эскалация кровопролития в Сирии побудила Катар и Саудовскую Аравию занять еще более воинственную позицию и начать вооружать сирийскую оппозицию. Весьма консервативные режимы хотят соответствовать запросам общественного мнения по всему арабскому миру, которое все решительнее высказывается в поддержку народных восстаний против автократов, лишившихся легитимности и политического авторитета.
Наперегонки с революцией
Вспышка восстаний стала неожиданностью для большинства наблюдателей и правительств. Вполне случайное самосожжение Мохаммеда Буазизи в Тунисе в декабре 2010 г. явилось катализатором накопившегося народного возмущения по поводу вопиющего неравенства и унижения, которые ежедневно испытывают люди в арабском мире. Всплеск гнева после смерти Буазизи 4 января 2011 г. способствовал тому, что протест против социально-экономических трудностей обрел ярко выраженную политическую составляющую.
Водораздел прошел между молодым населением, приобщенным к интернету и спутниковому телевидению, жаждущим модернизации и перемен, и косными репрессивными режимами, неспособными дать молодежи надежду на лучшую жизнь и новые возможности. Современные СМИ и достижения в области телекоммуникационных технологий изменили условия взаимодействия между правителями и народными массами, лишив режимы возможности контролировать информационные потоки. Интернет, спутниковое телевидение и социальные сети открыли новое пространство для горячих дискуссий о ширящейся пропасти, которая разделяет общественные прослойки, и о неравенстве в распределении богатства и доходов между «имущими» и «неимущими». В Египте и Тунисе коммуникационный удар пришелся по слабому месту усталой геронтократии – отсутствию прозрачности и подотчетности. Мобильная телефония и связь в режиме реального времени объединяли друг с другом все больше людей, создавая мощную платформу для распространения сообщений о планируемых демонстрациях и освещения идущих в данный момент выступлениях.
Наиболее радикальные события, сопряженные со сменой режима, прокатились по Северной Африке. Однако «дух времени» отчетливо ощущался по всему ближневосточному региону, включая и страны Персидского залива. Социальное напряжение неуклонно нарастало в течение всего 2010 г., особенно в Бахрейне и Кувейте, где на действия оппозиции власти ответили репрессиями. Таким образом, еще до начала волны арабских восстаний в других местах появились признаки того, что многие режимы сидят на пороховой бочке, способной взорваться от любой искры.
Вполне предсказуемо ареной нарастающих протестов местного населения стал Бахрейн, страна с богатой историей социально-политического противостояния. Правящую семью Эль-Халифа спас от свержения своевременный ввод войск Саудовской Аравии и ОАЭ. Не столь масштабные (но до сих пор продолжающиеся) протесты зафиксированы в Кувейте, Омане (где гибель в феврале 2011 г. нескольких демонстрантов спровоцировала обострение ситуации) и в Восточной провинции Саудовской Аравии, богатой нефтяными месторождениями. Жесткие меры властей побудили организации гражданского общества и представителей интеллигенции потребовать политических реформ, однако власти и тут прибегли к подавлению. В Саудовской Аравии арестовали основателей первой политической партии королевства, а в ОАЭ задержали и осудили пятерых интеллектуалов, подписавших петиции с требованиями реформ.
На этом фоне две страны из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) – Катар и ОАЭ – стали архитекторами международной интервенции в поддержку восставших против печально известного своими зверствами режима в Ливии. Это дало монархиям передышку в атмосфере повсеместных восстаний, поскольку отвлекло всеобщее внимание от трудностей, возникших в непосредственной близости от их границ и внутри них. Более того, монархи позиционировали себя в качестве противников репрессивного и эксцентричного ливийского режима и решительно выступили против тирании в других государствах, хотя в Бахрейне пришли на помощь власти, жестоко подавив восстание.
Катар решительнее всех вступился за права человека и демократические свободы, присоединившись к международному сообществу во главе с Западом. Катарский премьер-министр шейх Хамад бен Джассем бен Джабр Аль-Тани инициировал поддержку Лигой арабских государств (ЛАГ) и ССАГПЗ идеи создания над Ливией зоны, запрещенной для полетов авиации, а впоследствии – признания повстанческого Национального переходного совета (НПС). Он также заявил, что «Катар будет участвовать в военных операциях, поскольку мы считаем, что они должны предприниматься и арабскими государствами ввиду невыносимого положения в некоторых странах». ОАЭ поддержал решимость Катара искать арабские решения арабских проблем. Совместными усилиями они предоставили военно-финансовую помощь, необходимую для международной коалиции и успеха НПС. Катарские истребители «Мираж» участвовали в ударах НАТО и обеспечили арабскую поддержку операции, призванную развеять впечатление, что кампания в Ливии – это еще одна западная интервенция на Ближнем Востоке. Катар снабжал повстанцев оружием, обеспечивал их обучение, командировал советников, а также направил в Ливию специальные отряды, которые, как говорят, сыграли решающую роль во взятии Триполи 20 и 21 августа.
Обе страны также оказывали материально-техническую помощь повстанцам, которая была для них жизненно важна. В мае 2011 г. ОАЭ организовали на своей территории встречи представителей ливийских провинций и племен, а в июне – третью встречу Международной контактной группы. Помимо военного содействия, Катар предоставил Ливии финансовую помощь на сумму 400 млн долларов, запасы питьевой воды и газа для обогрева помещений, товары первой необходимости, а также посредничал в продаже ливийской нефти на мировых рынках. Четыре танкера с бензином, соляркой и другими видами топлива, отправленные в июне компанией «Катар Петролеум» в Бенгази, покрыли основные потребности подконтрольной мятежникам территории в энергоносителях. Кроме того, Катар был одной из четырех стран, признавших НПС в качестве законного представителя ливийского народа и организовавших в апреле первую встречу Международной контактной группы. Катарский флаг развевался рядом с флагом повстанцев после взятия последнего оплота Каддафи – Баб-эль-Азизия.
Другие страны ССАГПЗ, например, Кувейт, поддержали Катар, пообещав создать механизм финансирования НПС Ливии на сумму 260 млн долларов, а также выделили гуманитарную и медицинскую помощь. Даже Саудовская Аравия высказалась в пользу управляемого перехода, добавив Ливию к списку стран (наряду с Сирией и Йеменом), которым намерена оказать помощь в смене режима. Когда-то монархии Персидского залива считались оплотом контрреволюционных сил, решительно сопротивляясь любым изменениям. Однако заявления Эр-Рияда относительно сирийской диктатуры, которая не несла непосредственной угрозы саудовской династии, означали изменение позиции монархии в отношении «арабской весны». Они отражают стремление саудовцев учитывать баланс сил в мире в интересах безопасности собственного режима.
Ливийские события в целом пошли на пользу странам Персидского залива, хотя НПС с тех пор уже выражал недовольство уровнем и размером катарской помощи негосударственным соперникам в борьбе за власть. Падение Каддафи означало новый импульс для волны мятежей, которая пошла было на спад, но оно также дало режимам Персидского залива возможность восстановить свою репутацию после неприятных для них событий «арабской весны». Роль ОАЭ и Катара, а также телеканала «Аль-Джазира», освещавшего ливийскую революцию, изменили мнение многих наблюдателей. Сдержав волнения в своих странах и даже в Бахрейне с помощью иностранного воинского контингента, региональные монархии своей успешной политикой в Ливии вернули многим уверенность в том, что они способны держать под контролем призывы к переменам и реформам.
Конкуренция Дохи и Эр-Рияда
В 2011–2012 гг. Катар председательствует в Лиге арабских государств. В этой связи катарский эмир и премьер-министр попытались мобилизовать арабский мир на то, чтобы дать ответы на ключевые вопросы региональной повестки дня.
В Сирии Доха, похоже, намерена продолжать дело, начатое в Ливии, чтобы подтвердить роль Катара как ответственного и прогрессивного члена мирового сообщества. Когда режим Асада решительно и сурово подавил протесты, а противостояние внутри страны приняло характер войны, Катар возглавил усилия арабского мира по разрешению усугубляющегося конфликта. Эмир Шейх Хамад первым из арабских лидеров призвал к военному вмешательству с целью положить конец кровопролитию. Однако призыв к решительным действиям в отношении Сирии был встречен намного прохладнее, чем его инициативы по Ливии. Хотя лидерство Катара в ЛАГ практически гарантировало согласие этой организации относительно необходимости принять меры, не удалось договориться о том, что именно надо делать, особенно после того как первоначальная наблюдательная миссия в Сирии не добилась ощутимых успехов. Баланс сил в Сирии неопределенный, и оппозиция не получает такой единодушной поддержки арабского сообщества, как повстанцы в Бенгази.
В ответ Катар усилил политическое, экономическое, информационное, а косвенно и военное давление на Дамаск. Кульминацией стало официальное объявление 27 февраля 2012 г. о том, что Катар будет добиваться смены режима в Сирии. В этот день катарский премьер Аль-Тани призвал международное сообщество вооружать сирийскую оппозицию, чтобы помочь ей «во что бы то ни стало» свергнуть Асада.
Саудовская Аравия и Катар руководствуются разными политическими мотивами, оказывая помощь повстанцам, но обе страны искренне желают положить конец бедствиям и страданию народа Сирии, а также насилию, инициаторами которого становятся власти. (Национальная Ассамблея Кувейта призвала судить режим Асада за военные преступления в Международном уголовном суде.) Интрига состоит в том, что Доха и Эр-Рияд фактически оспаривают друг у друга роль лидера в решении сирийского вопроса. Призыв Катара вооружать сирийскую оппозицию прозвучал через три дня после того, как министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд аль-Фейсал назвал это «прекрасной идеей», перед тем как покинуть учредительное собрание Группы друзей Сирии в Тунисе в знак протеста против ее «бездействия». Саудовцы первыми признали Сирийский национальный совет в качестве законного представителя сирийского народа за несколько недель до того, как это сделало большинство других стран. На негосударственном уровне Эр-Рияд снабжает сирийских повстанцев оружием и финансами, успешно используя для этих целей трансграничные племенные сети. Это еще один уровень саудовской поддержки сирийских братьев-суннитов.
Не последнюю роль в действиях Саудовской Аравии играют геополитические соображения, поскольку свержение главного в арабском мире сторонника Ирана ослабило бы Тегеран, усугубив его региональную и международную изоляцию. Саудовские официальные лица давно считают расширение иранского влияния в Ираке главным следствием американской интервенции и последовавшей за ней передачи значительных полномочий в руки шиитского большинства. Еще в 2005 г. министр иностранных дел Саудовской Аравии аль-Фейсал предупреждал администрацию Джорджа Буша, что США «без всякого на то основания выдают Ирак на поруки Ирану». Саудовское правительство решительно не доверяет иракскому премьеру Нури аль-Малики, которого считает доверенным лицом Тегерана. Подозрения саудовцев усилились, когда после спорного переизбрания в 2010 г. аль-Малики попытался сосредоточить в своих руках всю власть. И сразу после вывода из Ирака американского воинского контингента в декабре 2011 г. начал преследовать главных политических конкурентов из числа суннитов.
Малики также изменил иракскую политику в отношении Сирии – гневные обвинения в адрес Дамаска в связи с организацией подрывов багдадских министерств в 2009 г. сменились поддержкой Асада в трудное для него время. Учитывая фактическое формирование регионального триумвирата в составе Ирака, Ирана и Сирии, который обеспечивает стратегическую глубину режимов, считающихся враждебными для саудовских (и американских) интересов на Ближнем Востоке, низложение Асада создало бы благоприятные условия для внесения раскола в эту коалицию.
Элемент соперничества между Саудовской Аравией и Катаром может осложнить политику в отношении Сирии и арабских восстаний в целом. Благодаря очень небольшому населению и значительным запасам нефти и газа на душу населения Катар совершенно не ощутил на себе социально-экономического или политического давления, которое почувствовали все другие страны региона. В силу своего уникального положения Катар воспринял арабские восстания не как вызов для себя, а как возможность укрепить международную (прозападную) репутацию, пусть и ценой ухудшения отношений с некоторыми арабскими странами. Последнее становится все более очевидно по тому сопротивлению, которое встречает ряд инициатив Катара на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Можно упомянуть о серьезной размолвке между катарским и алжирским министрами иностранных дел на саммите ЛАГ в ноябре 2011 года. Визит катарского эмира в Мавританию в январе 2012 г. был резко сокращен после того, как президент Мавритании остро отреагировал на предложение эмира начать процесс демократических преобразований.
Во второй половине января 2012 г. Би-би-си сообщила, что в Саудовской Аравии готовится встреча афганского правительства с эмиссарами движения «Талибан» для начала мирных переговоров. Талибы сразу опровергли эту новость. Однако в свете широко разрекламированного объявления о том, что «Талибан» откроет представительство в Катаре, чтобы начать переговоры с Соединенными Штатами, многие усмотрели в сообщении британской телерадиокомпании попытку произвести «предупредительный выстрел» в сторону Дохи. Не менее провокационной была статья в немецкой газете Die Welt в середине февраля 2012 года. Саудовская Аравия якобы провела встречу с другими странами Персидского залива для обсуждения противодействия нарастающей активности движения «Хезболла», но не пригласила представителей Катара. Авторы высказали предположение, что одной из причин может быть «ненадежность» Катара в решении региональных вопросов. Как бы то ни было, это лишний раз подтвердило отсутствие доверия и взаимопонимания между саудовскими и катарскими официальными лицами по ключевым вопросам региональной повестки.
Вечный двойной стандарт
Хотя общественность стран Персидского залива мобилизована в пользу более активной интервенционистской политики, поддержка этого курса монархиями делает их уязвимыми для обвинений как минимум в двойных стандартах. Об этом говорил сирийский делегат, выступая в ООН 2 марта 2012 года. Государства Персидского залива отнюдь не являют собой демократический пример, достойный подражания. Сирийский оратор даже призвал ООН направить миротворческий контингент в Саудовскую Аравию для защиты демонстрантов в городе Катиф, расположенном в беспокойной Восточной провинции. Он также потребовал, чтобы королевство вывело свои войска из Бахрейна. На его слова можно было бы не обращать внимания, квалифицировав их как эскападу человека, загнанного в угол, но в них есть большая доля правды.
Так, 14 марта 2011 г. более тысячи солдат Национальной гвардии Саудовской Аравии и менее многочисленный полицейский контингент из ОАЭ вошли на территорию Бахрейна по плотине короля Фахда. Хотя они не принимали непосредственного участия в безжалостном подавлении оппозиционных групп, выступавших за демократизацию, само их присутствие развязало руки Силам обороны Бахрейна. Всего через пять дней, 19 марта, Катар и ОАЭ возглавили международную интервенцию в Ливию, дабы защитить гражданское население Бенгази от неминуемой бойни, которую устроили бы в этом городе войска Каддафи. Сопоставление этих действий убедительно продемонстрировало, как одна и та же концепция международной интервенции может приобретать диаметрально противоположный смысл в разных контекстах.
Это ставит, в частности, ОАЭ в неловкое положение, поскольку страна отправляла войска и в Бахрейн, и в Ливию. Катар как член ССАГПЗ тоже был соучастником интервенции в Бахрейне, осуществленной от имени совета. Более того, «Аль-Джазиру», базирующуюся в Дохе, обвинили в неравномерности освещения восстаний в арабском мире. Примечательно, что ее отделение, ведущее вещание на арабском языке, гораздо более скупо рассказывало о событиях в Бахрейне, чем англоязычный канал, на котором вышел получивший высокие награды документальный фильм «Крики в темноте». Противоречие между энергичной позицией во время революций в Египте и Ливии и относительным молчанием по поводу непрекращающихся волнений в непосредственной близости от штаб-квартиры «Аль-Джазиры» – на востоке Саудовской Аравии и в Бахрейне – породили скептицизм по поводу целей и скрытой повестки канала.
Этот скептицизм выразил потрепанный в боях с повстанцами йеменский президент Али Абдулла Салех, который весной 2011 г. отверг инициативу ССАГПЗ по передаче власти. Идея фактически была выдвинута Катаром. Тогда Салех заявил: «Катарская инициатива неприемлема, неприемлема, неприемлема. Мы отвергаем все то, что исходит от Катара или от “Аль-Джазиры”». В этом высказывании он фактически объединил Катар с «Аль-Джазирой», что созвучно настроениям многих жителей данного региона. Тема вмешательства властей Дохи в деятельность «Аль-Джазиры» и редакционный контроль ее новостной ленты катарскими официальными лицами поднималась в переписке американских дипломатов в конце 2010 г., еще до начала восстаний, о чем стало известно в результате утечки. Масла в огонь подозрений добавила внезапная замена генерального директора «Аль-Джазиры» Вадаха Ханфара представителем катарской правящей семьи.
Создание в 2006 г. и быстрый рост англоязычного отделения «Аль-Джазиры» привели к интернационализации торговой марки и позволили совершить прорыв на главные мировые телерынки. Освещение израильского наступления в Газе в 2008–2009 гг. стало для «Аль-Джазиры» тем же, чем прямая трансляция «Бури в пустыне» для CNN в 1991 году. А драматичный репортаж в режиме реального времени с каирской площади Тахрир (январь-февраль 2011 г.) позволил завоевать всемирное признание и увеличить аудиторию на 2500% (!). Но по мере роста узнаваемости более пристальным становится и анализ программ. Теперь продукция «Аль-Джазиры» подвергается более критическому осмыслению, чем в прошлом году.
Под жестким международным прессингом и контролем может оказаться и новый арабский канал спутникового телевидения, созданный принцем Аль-Валид бен Талалом, колоритным саудовским медиамагнатом. Решение разместить «Аль-Араб» в новом офисном комплексе Манамы «Медиа Сити» сразу же бросило тень сомнений на независимость этого ресурса. Аль-Валид настаивает, что его канал сосредоточится «на важных изменениях, происходящих во всем арабском мире, с акцентом на свободу слова и свободу печати». Весьма странно при этом, что базироваться компания будет в государстве, которое более других потрудилось на поприще подавления свободных СМИ и замалчивания независимых суждений. В интервью для arabianbusiness.com Аль-Валид убедительно говорил о ветре перемен, который рано или поздно проникнет во все уголки арабского мира, но до сих пор именно режим Бахрейна решительно и отчаянно сопротивляется этому ветру.
Недоброжелатели «Аль-Джазиры» указывают на то, что она не освещает внутриполитические события в Катаре, иными словами, между каналом и страной его базирования, по всей видимости, была заключена сделка. Крупномасштабные волнения в Катаре если и возможны, то лишь в отдаленном будущем, но налицо признаки перегрева экономики и растущего недовольства темпом и направленностью реформ в эмирате. К тому же существует вероятность того, что раскол между престолонаследником и премьер-министром выльется в открытое противостояние и междоусобицу. Новейшая история Катара свидетельствует о том, что политические передряги и вызовы власти вызревали не в обществе, а внутри правящей семьи. В 1995 г. нынешний эмир отнял власть у собственного отца, который, в свою очередь, в 1972 г. низложил с престола своего кузена. Как и в случае с новым каналом Аль-Валида в Бахрейне, лакмусовой бумажкой станет способность «Аль-Джазиры» критически освещать любые внутренние события в Катаре – в том же стиле, в каком этот канал информирует о волнениях в других странах региона.
Туманные перспективы
Сегодня, когда так называемая арабская весна вступила во вторую календарную весну, на первый взгляд может показаться, что государствам Персидского залива удалось избежать худшего сценария и подтвердить репутацию долгожителей ближневосточной политической сцены. Посрамив политологов и социологов, которые предсказывали их неминуемую гибель под давлением модернизации 1960-х и 1970-х гг., нефтяные монархии последовательно демонстрировали способность адаптироваться к переменам, умиротворяя недовольных и протестующих. Ход событий последнего года, похоже, подтверждает и укрепляет эту тенденцию, по мере того как Катар, ОАЭ, а теперь и Саудовская Аравия пытаются направлять ветер перемен в нужном им направлении. На Аравийском полуострове по-прежнему используются испытанные стратегии выживания и обновления режимов.
Вместе с тем правящие элиты в странах Персидского залива уязвимы. Крупномасштабные волнения в Бахрейне удалось сдержать, но мелкие протесты продолжаются ежедневно, и отсутствие политического консенсуса означает, что недовольство может вспыхнуть в любой момент. Более того, насильственное подавление разорвало общественную ткань в архипелаге и поляризовало общество как никогда прежде. Спокойствие в Бахрейне, скорее всего, иллюзорно, и мир в лучшем случае «холодный», а в худшем случае – лишь ожидание удобного момента для новой эскалации.
Не утихают стихийные беспорядки и по другую сторону пролива, в богатой нефтью Восточной провинции Саудовской Аравии. Они происходят еженедельно и подавляются репрессивными методами. Волнения, нередко приводящие к гибели людей по вине служб безопасности, возникают, как считают саудовцы, в основном среди шиитского меньшинства, и они едва ли воспламенят широкие массы суннитского населения. Несмотря на это, упование на угрозу применения силы и ее фактическое использование для подавления выхолащивает осуждение других режимов, которые реагируют аналогичным образом.
Последний сценарий менее вероятен в Катаре и ОАЭ, хотя арест и суд над пятью активистами в ОАЭ в 2011 г. нанесли урон международной репутации страны. Однако мировая политика может быть грязной игрой, которая порой порождает ответную реакцию и вспышки насилия против тех, кто ею занимается. Сообщения о попытке государственного переворота, якобы имевшей место в Катаре, и смертоносном взрыве на предприятии по производству газа в апреле 2012 г., за которыми последовала хакерская атака на пользователей социальных сетей канала «Аль-Арабия», стали примером ущерба, который могут нанести информационная кампания противников.
В первый год арабских мятежей усилия государств Персидского залива направить народный гнев, захлестнувший регион, в свою пользу, были на удивление успешны и позволили им оградить свои страны от «заразы» народных бунтов. Но миновала ли угроза? По-видимому, эмир Катара решил действовать на упреждение и объявил о проведении в 2013 г. первых выборов в парламентскую ассамблею. Время покажет, станут ли эти выборы действительно поворотным моментом в политической жизни или (что более вероятно) политической декорацией.
Кристиан Коутс Ульрихсен – доктор наук, заместитель директора Кувейтской программы по развитию, управлению и глобализации в странах Персидского залива, Лондонская школа экономики и политологии.

Нет у революции конца
Демократизация Ближнего Востока и новые вызовы
Резюме: Россия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий.
Пошел второй год с тех пор, как началась череда массовых народных выступлений, которая смела целый ряд несменяемых арабских правителей (Тунис, Египет, Ливия, Йемен). Другим странам (Марокко, Иордания, Сирия) пришлось пойти на частичные политические реформы, промедление с которыми в Сирии было одной из причин разгоревшегося внутреннего конфликта. Третьи восприняли «арабскую весну» как сигнал серьезной опасности, с которой нужно бороться финансовым «пряником» и «мечом» одновременно (нефтяные монархии Аравии). Вновь, как и в начале прошлого века, когда первое «пробуждение арабов» было поставлено под англо-французский протекторат, или во время подъема освободительного движения 1950–1960-х гг. под руководством националистически настроенного офицерства, этот регион, жизненно важный для всего человечества, вошел в полосу затяжных потрясений. Эволюционный путь развития в последние два-три десятилетия вылился в авторитарную стабильность, и теперь вступили в силу законы революционного хаоса. Мощная энергия массовых протестов, выплеснувшаяся на поверхность, создает атмосферу неопределенности, повышенных конфронтационных рисков.
Новое поколение арабов потрясло мир страстным призывом к отстаиванию человеческого достоинства, социальной справедливости, права на свободное национальное развитие. Вместе с тем нельзя не видеть и другой стороны этой медали. Завязался тугой клубок острых противоречий и сталкивающихся интересов. Естественная тяга к давно назревшим переменам и открытость перед внешним миром переплетаются с живучестью исторических и религиозных традиций, завышенные ожидания – с отсутствием реальных возможностей для их быстрой реализации, интервенционизм Запада – с непомерными амбициями ближневосточных игроков, не затронутых «арабской весной». В результате теряется или затушевывается видение конечных целей, а справедливые демократические лозунги, провозглашаемые протестными движениями, поиски национальной идентичности превращаются в банальное средство борьбы за власть и перехват революционной волны на регилнальном уровне. По мере снижения государственной управляемости международные террористические группировки укрепляют свои опорные базы в Северной Африке, Йемене, Ираке и последнее время Сирии, что вносит в переходные процессы дополнительные элементы непредсказуемости.
Революционные всплески на всем пространстве арабского мира от Марокко до Бахрейна высветлили три слоя напряженности, воспроизводя все новые очаги конфликтогенности на страновом, региональном и глобальном уровнях.
И после распада биполярного мира, когда «игра с нулевой суммой», казалось бы, закончилась, международное сообщество демонстрирует неспособность согласованно реагировать на политический форс-мажор. Эксперты-ближневосточники и ранее прогнозировали смену правящих элит, но скорость обвала прежних режимов и формы, в которые это вылилось, захватили врасплох практически всех. Политические решения принимались в условиях острого дефицита времени, причем скорее интуитивно, чем продуманно. Спустя год пора не только трезво осмыслить происходящее, но и попытаться найти общие подходы, которые за истекший период так и не наметились.
В чем, собственно, заключаются расхождения? Действительно ли Россия и ее западные партнеры заняли места по разные «стороны истории»? Или проблема здесь в том, что сама история, в том числе арабская, не закончилась, имеет свое пока неясное продолжение, а в мире, как справедливо заметил Фрэнсис Фукуяма, происходит что-то странное. Важно проследить последовательность международной реакции на системные сдвиги в регионе, определиться с процессом адаптации к их побочным негативным последствиям.
«Свой – чужой»
С самого начала «арабская весна» выглядела как демократический вызов авторитаризму и воспринималась на Западе как некое универсальное явление. Нередко проводились даже аналогии с разрушением Берлинской стены и демократическими революциями в странах Восточной и Центральной Европы на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Одним словом, инерционно возобладала тенденция к идеологизации сложных и далеко неоднозначных событий в мусульманском мире. Настолько велик был соблазн подкрепить «пробуждением арабов» тезис о победном шествии демократии по всему миру. В условиях, когда сама либеральная модель мирового капитализма переживает кризисные времена, такие упрощенные трактовки представлялись особенно своевременными.
Сегодня очевидно, что арабские революции не были и не могут быть «бархатными». В каждой из трансформация власти проходила своим путем, а в Ливии и Сирии эти процессы приняли характер вооруженного противостояния. В Египте взрыв народного протеста, во многом стихийный, вынудил армию, которая не применила жесткую силу, взять на себя управление страной в переходный период.
В тех особых условиях логика действий свелась к необходимости принести в жертву крупную фигуру, чтобы спастись от сползания в анархию. Режим Каддафи в Ливии был свергнут повстанческим движением племен, вылившимся в многомесячную гражданскую войну, однако решающую роль сыграло вооруженное вмешательство НАТО. Социально-политические причины, вызвавшие взрыв в Египте и Тунисе, налицо и в Сирии. Особое ожесточение конфликту между баасистским режимом и оппозицией придал конфессиональный фактор: алавитское меньшинство, сконцентрировавшее в своих руках власть и финансово-экономические ресурсы, против суннитского большинства. Нарастающее напряжение в Бахрейне также развивается по линии межконфессионального разлома с той разницей, что там все зеркально – правящее суннитское меньшинство противостоит требованиям раздела власти со стороны шиитского большинства. В Йемене затянувшееся отречение Али Абдаллы Салеха от власти, хотя и имело под собой политически договорную основу и одобрение Совета Безопасности ООН, проходило в обстановке внутреннего конфликта, немалых человеческих жертв и по сути латентной гражданской войны.
В отличие, например, от США и Франции, которые по идеологическим причинам быстро начали идеализировать «арабские революции», Россия сразу сделала акцент на недопустимости иностранного вмешательства и необходимости решать проблемы внутреннего развития – такие, как характер и темпы реформ – через политический диалог. Возможно, с российской стороны декларации солидарности с демократическими устремлениями арабских народов звучали и не столь громко. Исчерпавшая в минувшем столетии лимит на революции и войны и имевшая свой, не во всем успешный опыт на Ближнем Востоке, Россия не пошла по пути продвижения демократии на риторическом уровне. Тем более что российское экспертное сообщество в отличие от западных политиков не рассматривало происходящее в черно-белых тонах. В общем и целом падение режимов в Тунисе и Египте не повлекло за собой заметных противоречий в позициях России и Запада. И это нужно отметить особо.
В международную повестку дня арабская тема вошла только на волне ливийских и сирийских событий. И дело здесь не в том, что одни альтруистически встали на сторону «демократии», а другие своекорыстно выступили в поддержку «диктатур», как об этом в пылу полемики всерьез заявляли солидные официальные лица Соединенных Штатов, Франции и Англии. Предмет спора видится гораздо шире, и дело вовсе не в спасении старых режимов, боровшихся или борющихся за выживание. По большому счету речь идет о том, будут ли и дальше действовать такие фундаментальные нормы международного права, как государственный суверенитет и невмешательство во внутренние дела, или правила поведения государств меняются де-факто в зависимости от политической, экономической или иной целесообразности. После военного удара НАТО по Сербии и американской оккупации Ирака именно эти уставные принципы вновь подверглись серьезному испытанию в Ливии и Сирии. Объявление правящих там режимов априори нелегитимными и поспешная поддержка оппозиционных внутренних сил вплоть до прямого или косвенного, как в Сирии, вооруженного вмешательства. Привлечение Организации Объединенных Наций, имеющей немалый опыт миротворчества, к легитимации операций совсем иного рода – «по принуждению к демократии». Все это не могло не вызвать в России подозрений, не используется ли «арабская весна» для перекраивания геополитического ландшафта.
Мышление категориями «свой – чужой» превалировало в период холодной войны и блокового противостояния, особенно в регионах, где переплетались интересы двух сверхдержав. В новых постконфронтационных условиях многополярного мира глобальная управляемость утрачивается, и региональные процессы стали развиваться зачастую бесконтрольно, подчиняясь собственной внутренней логике.
В период 1990–2000 гг. Ближний Восток не числился среди приоритетов России, переживавшей трудности собственной трансформации в условиях распада государства и внутренних конфликтов. Соединенным Штатам, в свою очередь, не удалось воспользоваться моментом для укрепления позиций в регионе. Политика США попала в заложницы двух трудносовместимых противоречий – приверженности союзническим отношениям с Израилем на базе общих ценностей и осознанию того, что продолжение ближневосточного конфликта наносит ущерб коренным интересам Америки в мусульманском мире. Это противоречие особенно обострилось после того, как администрация Джорджа Буша инициировала две войны – в Афганистане и в Ираке.
Возвращение России
Возвращение России на Ближний Восток в последнее десятилетие происходило уже в иных условиях. Отношения с арабскими государствами более или менее выровнялись, развиваясь по широкому спектру. Во главе угла стояли соображения прагматического свойства, в первую очередь экономика и региональная безопасность. На этой основе строились, и довольно успешно, отношения с традиционно дружескими арабскими режимами (Алжир, Египет, Сирия, Ирак), начали выходить на стратегический уровень взаимовыгодные связи с новыми партнерами в регионе Персидского залива. Наметилось совпадение подходов России и США к решению практических вопросов палестино-израильского урегулирования, что позволило наладить конструктивное взаимодействие в рамках «ближневосточного квартета» при признании за Вашингтоном ведущей роли международного посредника. Словом, Россия, поставившая своей целью обеспечение национальных интересов на более ограниченном поле, отошла от системного противоборства.
В этом духе российская дипломатия действовала и в ходе ливийского кризиса. И даже два вето на проекты резолюций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии Москва не рассматривает как повод для возвращения к давно минувшим баталиям. Российские мотивировки заслуживают того, чтобы быть услышанными.
С самого начала реакция России на конфликт в Ливии, как и ранее в Тунисе и Египте, отражала международную озабоченность судьбой мирного гражданского населения и призывала к общим усилиям по предотвращению насилия. Особенно после того, как против повстанцев была задействована тяжелая артиллерия и даже авиация. Россия поддержала резолюцию 1970 Совета Безопасности ООН, которой вводилось эмбарго на поставку в Ливию вооружений с целью обеспечить условия для начала политического диалога. Когда это не помогло, и считанные часы отделяли войска Каддафи от взятия Бенгази, было принято решение не блокировать резолюцию 1973 Совета Безопасности о введении бесполетной зоны. Москва показала, что помимо стремления избежать человесческих жертв для нее имеют значение соображения глобальной политики, сохранения авторитета ООН и действенной роли Совета Безопасности.
Дальнейшие действия западных партнеров, вольно трактовавших резолюцию ООН для легализации военной операции по смене режима (Каддафи или кого-то другого – не имело значения), были расценены не только как намеренный выход за пределы мандата совершенно в иных целях, но и как удар по международному престижу самой России. Этим, в частности, объяснялась позиция при рассмотрении в Совете Безопасности ООН сирийского кризиса. Россия вынужденно пошла на риск обострения отношений с Западом и с нефтяными монархиями Персидского залива. Для совершения такого серьезного и даже драматического шага в большой политике требуются, как правило, весомые основания. В данном случае соображения внешнеполитического позиционирования как государства, с которым нельзя не считаться, совпали с экспертными оценками региональных последствий от неконтролируемого развития событий. Свою роль сыграло и крайне негативное восприятие натовских ударов российским общественным мнением, что не могло не учитываться в непростой предвыборной обстановке.
Силовая смена режима в Ливии, и сегодня это очевидно всем, повлекла за собой тяжелые гуманитарные и политические последствия, прежде всего для самих ливийцев, вновь вернула страну в состояние полураспада, дестабилизировала обстановку южнее Сахары (события в государстве Мали, которое фактически развалилась, тому свидетельство), подстегнуло нелегальную иммиграцию в Европу. Сирия в отличие от «отдаленной» Ливии находится в сердце ближневосточного региона. Нарушение хрупких конфессиональных и этнических балансов в случае продолжительной гражданской войны чреват риском ее перетекания в соседние страны. Возрастет вероятность новых вспышек палестино-израильского противостояния. Наихудший из возможных сценариев: международному сообществу придется иметь дело с внутримусульманским конфликтом по линии шиитско-суннитского разлома.
Ставка таких крупных региональных игроков, как оформившийся союз арабских государств Персидского залива, на победу сирийской оппозиции, где ощутимо влияние воинствующих исламистов, судя по всему связана не столько с поддержкой демократии, сколько с осуществлением антииранской стратегии. В сирийской головоломке присутствует и цивилизационный аспект с учетом международной озабоченности судьбой христианского населения, численность которого на Святой земле неуклонно сокращается. Для России с ее двадцатимиллионным мусульманским населением и исторической ролью покровителя ближневосточного православия перенос внутренних конфликтов в плоскость религиозно-конфессиональных крайне чувствителен. В этой связи особую опасность для выстраивания эффективных международных подходов представляет разыгрывание конфессиональных карт в борьбе за сферы регионального влияния.
Экспертные оценки негативных последствий гражданской войны в Сирии в основном совпадают. Суть же разногласий на официальном уровне сводится к тому, как добиться прекращения кровопролитного внутреннего конфликта – через вооружение оппозиции и насильственные действия по свержению режима или путем внутрисирийского диалога о политических реформах, нацеленных на достижение соглашения о разделе власти. По российским оценкам, поощрение оппозиции к движению по первому пути чревато неоправданными региональными рисками, оно перегружает международные отношения конфронтационными элементами. К пониманию этого постепенно пришел и Генеральный секретарь ООН, который, вопреки своему статусу высшего международного чиновника, поначалу занял несбалансированную позицию. Теперь и он признает: «Вооруженный конфликт в Сирии может серьезно сказаться на ситуации во всем ближневосточном регионе… привести к непредсказуемым глобальным последствиям».
В многосторонних контактах по сирийскому кризису Россия пытается снизить конфронтационный тон, заданный западными и некоторыми арабскими партнерами. Ее дипломатические усилия направлены по сути дела на то, чтобы наладить скоординированную параллельную работу влиятельных внешних игроков с сирийским режимом и оппозицией, побуждая обе стороны к политической гибкости. Не остаются без внимания и просчеты, допущенные сирийскими властями. Дамаск с трудом расстается с иллюзиями о том, что в быстро меняющемся мире можно сохранить монопольную власть одной партии.
Международная адаптация к политическим катаклизмам, сотрясающим арабский мир, проходит столь же болезненно, сколь и сами трансформационные процессы. Государствостроительство началось практически с нулевого цикла. В первую очередь это касается Ливии, где единоличный режим Каддафи, прикрывавшийся фасадом народовластия, оставил после себя политический вакуум. Египет также находился в шаге от послереволюционного хаоса, если бы армия не взяла на себя роль стабилизатора. Другой сколько-нибудь монолитной силы к тому времени не было, но даже военным вынужденным в ходе перехода к гражданскому правлению маневрировать между различными политическими силами, с большим трудом удается контролировать ситуацию. Если напор улицы выйдет за рамки законности, реакция Высшего военного совета может быть жесткой. Призывы ко «второй революции» раздаются и в Йемене уже после ухода Салеха и проведения президентских выборов. Если смена нынешней власти партии БААС в Сирии произойдет обвальным, а не реформистским путем, эту страну, как и соседний Ирак, ожидает долгая полоса нестабильности с более трагическими последствиями.
Легализация исламистов
Революционные потрясения в арабском мире с новой силой поставили перед мировым сообществом такие вопросы, как роль и перспективы политического ислама. Причем уже не столько в академическом аспекте, сколько в плане практической внешней политики и дипломатии. Исламские движения и партии, находившиеся многие годы в подполье, получили легальный статус. Не будучи главными движущими силами массовых выступлений, они сумели оседлать революционную волну и одержать победу на парламентских выборах в Египте и Тунисе, закрепиться в рядах ливийских повстанцев и разрозненной сирийской оппозиции, сформировать правительство в Марокко и получить более трети мест в парламенте Кувейта.
Побед с таким широким региональным охватом не одерживало ни одно политическое движение со времени подъема националистической волны на Ближнем Востоке в 50–60-е гг. прошлого столетия. Тогда перемены в регионе происходили в результате военных переворотов, теперь же исламистские партии пришли во власть через всеобщие выборы, получив международную легитимность.
Особое внимание этот феномен привлекает к себе в Египте. От того, какая модель развития там возобладает, зависит, как можно полагать, и ход трансформаций в других частях арабского мира. Если успех умеренных «братьев-мусульман» в целом прогнозировался, то поистине ошеломляющего результата добились кандидаты от спешно образованной крайне консервативной исламистской партии «Ан-Нур» (Свет), представляющей так называемых салафитов – около четверти голосов египетских избирателей. В итоге исламистское движение в Египте получило более двух третей парламентских мест.
Неожиданный приход во власть салафитов вносит существенные коррективы в расстановку политических сил. Поле борьбы за влияние на принятие политических решений пролегает теперь не только в треугольнике между военными, исламистами и светской частью общества. Следует ожидать усиления борьбы внутри самого исламистского движения.
Программы «братьев-мусульман» и салафитов во многом расходятся. Лидеры салафитских группировок в своих проповедях вообще отвергали демократию представительного типа. Приняв участие в выборах, они несколько смягчили эти акценты. Суть требований осталась, однако, прежней: добиваться принятия такой конституции, которая гарантировала бы исламский характер египетского государства и распространение жестких норм шариата, пусть и постепенное, на все стороны общественной жизни, гражданские и личные свободы. Египетский салафизм берет за основу саудовскую ваххабитскую модель государства. По данным египетской печати, благотворительные фонды этого толка в прошлом году получили от доноров из арабских государств Персидского залива более 65 млн долларов. Для Египта с его светскими устоями и традициями веротерпимости такая исламизация неминуемо сопряжена с новыми всплесками массовых выступлений уже против тех, кто «украл революцию». Реакция египетского гражданского общества на монополизацию исламистами конституционного процесса показывает, насколько революция далека от завершения.
Помимо умеренного и жестко исламского крыла в составе салафитского течения легализацию получили и так называемые джихадисты, то есть активисты находившихся ранее в подполье многочисленных террористических организаций. Такой пестрый расклад сил еще более обостряет внутриполитическую борьбу в Египте вокруг президентских выборов и принятия новой конституции.
Руководство «братьев-мусульман», заявляющих о готовности играть по современным демократическим правилам, опасается соперничества со стороны радикальных исламистов, которые могут потеснить их именно на религиозном фронте. В этом случае они окажутся перед дилеммой – либо рисковать сужением своей социальной базы, либо поставить под угрозу отношения с Западом, в финансовой помощи которого Египет остро нуждается. Придерживаясь принципов социально ориентированной рыночной экономики, умеренные исламисты видят в жесткой исламизации серьезные преграды на пути иностранных инвестиций и угрозу для туристического сектора, одного из главных источников валютных поступлений.
Разногласия в исламистской среде имеют также серьезный внешнеполитический аспект. Теперь, когда исламисты стали доминирующей силой в египетской политике, возникают вопросы о судьбе мирного договора с Израилем, об отношениях Египта с палестинцами, о корректировках планов сдерживания исламского экстремизма и великодержавных амбиций Ирана. Конечно, быстрое возвращение Египта в глобальную политику вряд ли возможно. Слишком тяжел груз внутренних проблем. Вместе с тем появляются признаки того, что на региональном направлении новый Египет будет пытаться проводить более самостоятельный и нюансированный курс. Хотя истоки египетской революции находятся внутри страны, свою роль сыграли и такие общественные настроения, как недовольство слишком большой зависимостью от США и Израиля, а также принижением ведущей роли Египта на Ближнем Востоке.
Победу политического ислама на международной арене оценивают противоречиво. Существуют две крайние точки зрения. Согласно одной из них, умеренные исламисты представляют собой некий аналог христианско-демократических партий Европы. Соответственно, со временем, после прихода к власти, они будут вынуждены демонстрировать прагматизм и развиваться по пути секуляризации. Сторонники противоположных оценок утверждают, что исламистские партии в силу самой природы ислама склонны к догматизму, испытывают комплексы антизападничества и не способны адаптироваться к мировым реалиям.
Реакция на американскую инициативу «Большой Ближний Восток» показала, что к идее ускоренной демократизации по западным рецептам исламский мир отнесся скептически. На фоне революционного подъема, когда эти вопросы стали неотъемлемой частью повестки дня, вновь разворачиваются дискуссии вокруг того, до какой степени современная демократия соотносится с нормами шариата, не является ли демократизация синонимом вестернизации, очередной попыткой Запада навязать свои ценности. По мере того как проходит эйфория в лексиконе арабских политологов все чаще фигурирует такое понятие, как «хассыя арабия», то есть «арабская особость». И в этом есть свой резон. Демократические ценности в их либеральном понимании не во всем ложатся на арабо-мусульманскую почву. Регион имеет специфический менталитет, свои глубоко укоренившиеся традиции правления и бытовой жизни, отличные от западных. Реформирование Ирака даже в условиях иностранной оккупации показало, что парламентаризм в многоконфессиональной и многоэтнической арабской стране прививается с трудом. Египет также трудно представить парламентской республикой европейского образца. Эффективную, зачастую харизматическую власть арабское сознание не рассматривает как автократию, скорее как способ национально-государственного существования. От семьи до государственных институтов в арабском мире укоренены такие негласные нормы, как патернализм и консенсусное принятие решений по принципу «ни победителей, ни побежденных», что не укладывается в русло строго регламентированных демократических процедур.
Как бы ни сужались возможности внешнего воздействия на стихийные процессы в регионе, их интернационализация уже произошла. Причем в немалой степени по инициативе самих арабских государств. Какие-то уроки из ливийского, йеменского, бахрейнского и особенно сирийского кризисов уже можно извлечь. В первую очередь это касается характера вмешательства извне. Силовой способ решения деликатных внутренних проблем значительно осложняет проведение реформ на переходном этапе. Внешнее воздействие, пусть и по просьбе самих государств региона, имеющих свои особые интересы, должно быть направлено на поиск разумных компромиссов, на достижение общенационального примирения. Без этого накопившуюся протестную энергию арабов трудно направить в русло конструктивных программных действий по реализации их справедливых чаяний.
А.Г. Аксенёнок – кандидат юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат, арабист, долго работавший во многих арабских странах, в том числе в качестве посла России в Алжире, а также спецпредставителем на Балканах и послом Российской Федерации в Словакии.

Будущее американо-китайских отношений
Конфликт – это выбор, а не необходимость
Резюме: США и Китай должны быть готовы воспринимать деятельность друг друга как естественную часть международной жизни, а не повод для беспокойства. Неизбежная тенденция к столкновению не должна приравниваться к сознательному стремлению сдерживать или доминировать.
Это эссе – адаптированное послесловие к готовящейся к изданию в мягкой обложке его последней книге «О Китае» (Penguin, 2012). Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
19 января 2011 г. президент США Барак Обама и председатель КНР Ху Цзиньтао представили заявление по итогам визита китайского лидера в Вашингтон. В нем декларировалась совместная приверженность развитию «позитивных и всеобъемлющих отношений Соединенных Штатов и Китая». Касаясь основных вопросов, стороны заверили друг друга, что «США приветствуют сильный, процветающий и успешный Китай, играющий более заметную роль в мировых делах. Китай приветствует Соединенные Штаты как азиатско-тихоокеанскую державу, способствующую миру, стабильности и процветанию региона».
С этого момента оба правительства приступили к реализации обозначенных целей. Высокопоставленные официальные лица обменивались визитами и институционализировали обмен мнениями по ключевым стратегическим и экономическим вопросам. Возобновились военные контакты, открыв важный канал для коммуникаций. На неофициальном уровне специальные группы изучали возможности эволюции отношений.
Однако одновременно с увеличением сотрудничества обострились и противоречия. Значительное число людей в обоих государствах заявляли, что борьба за превосходство между КНР и США неизбежна и, возможно, уже началась. В этом контексте призывы к американо-китайскому сотрудничеству выглядят устаревшими и даже наивными.
Взаимные обвинения обусловлены различным, хотя и параллельным анализом ситуации, который делают в каждой из стран. Некоторые американские стратеги заявляют, что Пекин преследует две долгосрочные цели: вытеснить Соединенные Штаты как доминирующую силу из западного Тихоокеанского региона и консолидировать Азию в эксклюзивный блок, действующий в соответствии с экономическими и внешнеполитическими интересами Китая. Согласно этой концепции, Пекин может представлять неприемлемый риск в случае конфликта с Вашингтоном, хотя абсолютный военный потенциал КНР формально не равен американскому, и, кроме того, Китай разрабатывает усовершенствованные средства, которые позволят лишить США традиционных преимуществ. Неуязвимый потенциал нанесения ответного ядерного удара в конечном итоге будет дополнен противокорабельными баллистическими ракетами увеличенной дальности и асимметричными возможностями в таких новых сферах, как киберпространство и космос. Некоторые опасаются, что Китай обеспечит себе доминирующее положение на море благодаря грядам отдаленных островов. Если это произойдет, соседям, которые зависят от торговли с КНР, но не уверены в способности Америки реагировать, возможно, придется приспосабливать свою политику к предпочтениям Пекина. В конечном итоге возникнет китайскоцентричный азиатский блок, который будет доминировать в западном Тихоокеанском регионе. Последний доклад об оборонной стратегии Соединенных Штатов отражает (по крайней мере косвенно) некоторые из этих опасений.
Ни один официальный представитель китайского правительства никогда не декларировал подобную стратегию как фактическую политику. На самом деле они провозглашают совершенно противоположный курс. Однако в околоофициальной китайской прессе и исследовательских институтах собрано достаточно материалов в поддержку теории о том, что отношения идут, скорее, к конфронтации, а не к сотрудничеству.
Стратегические опасения Соединенных Штатов усугубляются их идеологической предрасположенностью вести борьбу со всем недемократическим миром. Авторитарные режимы, считают некоторые, по своей сути нестабильны и вынуждены обеспечивать поддержку внутри страны на основе национализма и экспансионизма – как в риторике, так и на практике. Согласно этим теориям (варианты которых пользуются популярностью в определенных кругах американских и левых, и правых), напряженность и конфликт с Китаем обусловлены его внутренней структурой. Мир во всем мире, гласят упомянутые теории, наступит благодаря глобальному триумфу демократии, а не призывам к сотрудничеству. Политолог Аарон Фридберг пишет, например, что «у либерально-демократического Китая не будет причин бояться своих демократических коллег, тем более применять против них силу». Поэтому «без всякой дипломатической деликатности, конечной целью американской стратегии должно быть ускорение революции, хотя и мирной, в результате которой в Китае будет разрушено однопартийное авторитарное государство, а на его месте появится либеральная демократия».
Конфронтационные интерпретации в Китае следуют противоположной логике. Они рассматривают США как уязвленную супердержаву, намеренную помешать подъему любого соперника, КНР же выглядит самым реальным из них. Независимо от того, насколько активно Пекин стремится к сотрудничеству, заявляют некоторые китайцы, блокирование растущего Китая посредством размещения военных сил или договорных обязательств будет неизменной целью Вашингтона, дабы помешать КНР играть историческую роль Срединной империи. С этой точки зрения любое устойчивое сотрудничество с Соединенными Штатами равносильно самоубийству, поскольку оно будет служить лишь первостепенной американской задаче по нейтрализации Китая. Считается, что системный антагонизм даже стал неотъемлемой частью американского культурного и технологического влияния, которое иногда рассматривается как форма планомерного давления, направленного на подрыв внутреннего консенсуса и традиционных ценностей. Самые решительные голоса твердят о том, что Пекин был чересчур пассивным на фоне антагонистических тенденций. КНР должна (например, по территориальным вопросам в Южно-Китайском море) вступать в конфронтацию с теми соседями, к кому у него есть территориальные претензии, чтобы затем, по словам аналитика Лон Тао, «аргументировать, продумывать свои действия и наносить удар первым, пока ситуация не вышла из-под контроля, развязывая мелкие битвы, которые позволят не допустить провокаций в дальнейшем».
Прошлое не должно быть прологом
В таком случае есть ли смысл стремиться к сотрудничеству в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем? Разумеется, в истории подъем держав не раз приводил к конфликтам со странами, уже занимавшими ведущие позиции. Но условия изменились. Вряд ли лидеры, которые столь беспечно вступили в мировую войну в 1914 г., сделали это, зная, как изменится мир к ее концу. У современных руководителей нет подобных иллюзий. Крупная война между развитыми ядерными державами принесет жертвы и потрясения, несопоставимые с просчитанными целями. Превентивный удар практически исключен, в особенности для плюралистической демократии, такой как США.
Столкнувшись с вызовом, Соединенные Штаты сделают все необходимое для защиты собственной безопасности. Однако не следует использовать конфронтацию как предпочтительную стратегию. В лице Китая американцы столкнутся с противником, за многие века мастерски овладевшим стратегией пролонгированного конфликта, особое место в доктрине которого занимает психологическое изматывание оппонента. В реальном конфликте обе стороны обладают возможностями и умением нанести друг другу катастрофический ущерб. К моменту окончания подобного гипотетического столкновения все его участники будут обессилены и истощены. Тогда им снова придется решать задачу, стоящую перед ними сегодня: строительство международного порядка, значимыми элементами которого будут обе страны.
Стратегии сдерживания, разработанные на основе опыта холодной войны, когда обе стороны противостояли экспансионизму Советского Союза, в нынешних условиях не подходят. Экономика СССР была слабой (кроме военного производства) и не оказывала влияния на глобальную экономику. С тех пор как Китай разорвал связи и отправил домой советских консультантов, немногие страны, кроме принудительно включенных в орбиту Москвы, были в значительной степени связаны экономически с Советским Союзом. Современный Китай, напротив, является динамичным экономическим фактором. Это ключевой торговый партнер всех соседних стран и большинства индустриальных государств, в том числе США. Длительная конфронтация между Пекином и Вашингтоном изменит мировую экономику, и последствия будут негативными для всех.
Вряд ли и сам Китай будет считать подходящей для конфронтации с Соединенными Штатами стратегию, использованную им в конфликте с Советским Союзом. Лишь немногие страны – и ни одна в Азии – станут воспринимать американское присутствие в этой части мира как «пальцы», которые нужно «отрубить» (по яркому высказыванию Дэн Сяопина о советских передовых позициях). Даже те азиатские государства, которые не входят в альянсы с США, стремятся получить заверения их политического присутствия в регионе и наличия американских сил в близлежащих морях как гаранта мира, к которому они привыкли. Общий подход выразил, обращаясь к своему американскому коллеге, высокопоставленный индонезийский чиновник: «Не оставляйте нас, но не заставляйте нас выбирать».
Наращивание военной мощи, происходящее в последнее время в КНР, само по себе не является чем-то неожиданным: наоборот, было бы странно, если бы вторая по величине экономика мира и крупнейший импортер природных ресурсов не преобразовывал свою экономическую мощь в военный потенциал. Вопрос в том, ограничено ли это наращивание какими-либо сроками и для каких целей оно проводится. Если Соединенные Штаты будут воспринимать любое совершенствование военного потенциала Китая как враждебный шаг, они быстро окажутся вовлеченными в бесконечную череду споров о тайных целях. Но Пекин, опираясь на свой исторический опыт, должен осознавать, где проходит тонкая грань между оборонительным и наступательным потенциалом и какими могут быть последствия безудержной гонки вооружений.
У китайских лидеров будут весомые причины отвергать раздающиеся в стране призывы к антагонистическому подходу – как они и заявляли публично. Исторически имперская экспансия Китая достигалась путем постепенного проникновения, а не завоевания, или через обращение в свою культуру завоевателей, которые затем присоединяли свои владения к китайской территории. Военное доминирование в Азии стало бы очень сложным начинанием. Советский Союз во время холодной войны граничил с целой группой слабых стран, истощенных войной и оккупацией и зависящих от американских обязательств по их обороне. Сегодня Китай окружают Россия на севере, Япония и Южная Корея, имеющие военные альянсы с США, на востоке, Вьетнам и Индия на юге, неподалеку Индонезия и Малайзия. Такой расклад отнюдь не благоприятствует завоеваниям. Скорее он напоминает окружение и может внушать опасения. Каждая из этих стран имеет давние военные традиции и станет серьезным препятствием, если под угрозой окажется ее территория или способность проводить независимую политику. Милитаризация внешней политики КНР укрепит сотрудничество между всеми или по крайней мере некоторыми из этих государств, пробудив старые страхи Китая, как это случилось в 2009–2010 годах.
Вести дела с новым Китаем
Еще одна причина сдержанности Китая, по крайней мере в среднесрочной перспективе, – это проблема внутренней адаптации, которая стоит перед страной. Идея Ху Цзиньтао о «гармоничном обществе» кажется обязывающей и одновременно труднодостижимой из-за разрыва между развитыми прибрежными районами и неразвитыми западными провинциями. Проблему осложняют культурные изменения. Ближайшие десятилетия в полном объеме продемонстрируют, как политика «одного ребенка» повлияет на взрослое китайское общество. Изменятся культурные модели, поскольку большие семьи традиционно заботились о пожилых и больных. А когда две пары бабушек и дедушек борются за внимание одного ребенка и вкладывают в него все свои устремления, раньше распределявшиеся между многочисленными внуками, может возникнуть новая ситуация настойчивой тяги к достижениям и огромных, вероятно неоправданных, ожиданий.
Все эти аспекты усугубят проблемы реформирования органов власти, которое начиная с 2012 г. затронет институт председателя и вице-председателя КНР; произойдет существенное обновление состава Политбюро КПК, Госсовета, Центрального военного совета; тысячи других ключевых постов на национальном и региональном уровне займут новые люди. Группа новых руководителей в значительной степени будет состоять из представителей первого за 150 лет китайского поколения, жившего в мирное время. Главной проблемой станет поиск путей взаимодействия с обществом, которое революционизируется на фоне меняющихся экономических условий, беспрецедентных и быстро распространяющихся коммуникационных технологий, нестабильной глобальной экономики и миграции сотен миллионов людей из сельской местности в города. Новая модель управления, вероятно, окажется синтезом современных идей и традиционных китайских политических и культурных концепций, и стремление к синтезу обеспечит продолжение драматической эволюции страны.
В Вашингтоне за этими социальными и политическими преобразованиями должны следить с интересом и надеждой. Прямое американское вмешательство не станет мудрым или продуктивным шагом. Соединенным Штатам следует по-прежнему оглашать свою позицию по вопросам прав человека и конкретным ситуациям. Таким образом, повседневное поведение США будет отражать национальную приверженность демократическим принципам. Но системный проект трансформации китайских институтов посредством дипломатического давления и экономических санкций может иметь негативные последствия и привести к изоляции либералов, для содействия которым он изначально предназначался. В КНР это будет интерпретироваться подавляющим большинством через призму национализма и воспоминаний о предыдущих периодах иностранного вмешательства.
Такая ситуация побуждает не к отказу от американских ценностей, а к осознанию разницы между осуществимым и абсолютным. Американо-китайские отношения не должны рассматриваться как игра с нулевой суммой, а само по себе появление процветающего и мощного Китая не может восприниматься как стратегическое поражение Соединенных Штатов.
Подход, основанный на сотрудничестве, бросает вызов предубеждениям, существующим с обеих сторон. В национальной истории США было лишь несколько примеров отношений со страной, сопоставимой по размеру, уверенности в себе, экономическим достижениям и международному влиянию, и при этом с совершенно иной культурой и политической системой. В китайской истории тоже нет опыта отношений с равной великой державой, имеющей постоянное присутствие в Азии, представление об универсальных идеалах, не совпадающее с китайскими концепциями, и альянсы с несколькими соседями Китая. До Соединенных Штатов подобная позиция какой-либо страны предшествовала попытке взять Китай под свой контроль.
Самый простой подход к стратегии – настаивать на подавлении потенциальных противников с помощью превосходящей ресурсной и материально-технической базы. Но в современном мире это вряд ли возможно. КНР и США продолжат существовать друг для друга как неизбежная реальность. Ни та, ни другая страна не может доверить свою безопасность оппоненту – ни одна великая держава не сделает такого надолго или навсегда, – и каждая по-прежнему будет преследовать собственные интересы, иногда в некоторой степени за счет другого. Но оба государства должны учитывать страхи друг друга и осознавать, что риторика, так же как и фактическая политика одного, может подпитывать подозрения другого.
Главный стратегический страх Китая – это внешняя сила или силы, которые разместят военные контингенты вокруг китайских границ, окажутся способны проникнуть на территорию КНР или вмешаться во внутреннюю ситуацию. Когда Пекин осознавал подобную угрозу в прошлом, он прибегал к войне, не рискуя дожидаться результата того, что рассматривалось им как усиливающиеся тенденции, – в Корее в 1950 г., против Индии в 1962 г., на северной границе с СССР в 1969 г., против Вьетнама в 1979 году.
Страх США, иногда выражаемый только косвенно, – быть вытесненными из Азии ограничительным блоком. Соединенные Штаты участвовали в мировой войне против Германии и Японии, чтобы не допустить подобного исхода, и при администрациях обеих политических партий использовали наиболее действенные методы дипломатии холодной войны против Советского Союза. Стоит отметить, что в обоих случаях значительные совместные усилия США и Китая были направлены против осознаваемой угрозы гегемонии.
Другие азиатские страны будут настаивать на прерогативе развития своего потенциала в собственных национальных интересах, а не в рамках соперничества двух внешних сил. Они не пойдут добровольно на возвращение к подчиненному положению. Кроме того, они не воспринимают себя как элементы американской политики сдерживания или американского проекта изменения внутренних институтов Китая. Они стремятся к хорошим отношениям и с Пекином, и с Вашингтоном и будут сопротивляться любому давлению, вынуждающему их сделать выбор.
Можно ли как-то смягчить страх перед гегемонией и боязнь военного окружения? Можно ли найти пространство, в котором обе стороны смогут достичь своих главных целей, не милитаризируя стратегии? Где находится грань между конфликтом и отказом от своих прав для великих держав с глобальными возможностями и различными, отчасти противоборствующими устремлениями?
То, что Китай сохранит значительное влияние в прилегающих регионах, обусловлено его географией, ценностями и историей. Однако пределы воздействия формируются обстоятельствами и политическими решениями. Именно они будут определять, превратится ли неизбежное стремление к влиянию в намерение блокировать или сводить на нет другие независимые источники силы.
На протяжении почти двух поколений американская стратегия опиралась на локальный и региональный потенциал наземных сил США – в основном чтобы избежать катастрофических последствий ядерной войны. В последние десятилетия конгрессмены и общественное мнение заставили положить конец подобным обязательствам во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Сегодня финансовый аспект еще больше ограничил возможности использования этого подхода. Приоритет американской стратегии сместился с защиты территории на угрозу неотвратимого наказания для потенциальных агрессоров. Для этого требуются мобильные силы быстрого развертывания, а не базы вдоль границ Китая. Чего Вашингтон не должен делать, так это сочетать оборонную политику, основанную на бюджетных ограничениях, с дипломатией, ориентированной на неограниченные идеологические цели.
В то время как китайское влияние в соседних странах вызывает опасения в связи с угрозой доминирования, усилия по продвижению традиционных американских национальных интересов также могут восприниматься как форма военного окружения. Оба государства должны понимать нюансы, при которых вполне традиционный и разумный курс способен серьезно обеспокоить другую сторону. Им следует постараться определить сферу, которой ограничивается их мирное соперничество. Если это удастся сделать, военной конфронтации из-за угрозы доминирования можно избежать; если же нет – эскалация напряженности неминуема. Задача дипломатии – обнаружить это пространство, по возможности его расширить и не допустить, чтобы отношения были подчинены тактическим и внутриполитическим императивам.
Сообщество или конфликт
Нынешний мировой порядок был построен в основном без китайского участия, поэтому иногда Пекин ощущает себя менее связанным его правилами, чем другие. Там, где порядок не соответствует предпочтениям Китая, он устанавливает альтернативные правила, как, например, отдельные валютные каналы с Бразилией, Японией и другими странами. Если схема станет привычной и получит распространение во многих сферах деятельности, возникнут конкурирующие мировые порядки. При отсутствии общих целей и согласованных ограничительных норм институционализированное соперничество способно выйти далеко за рамки планов и расчетов его инициаторов. В эпоху беспрецедентного развития наступательных потенциалов и технологий вторжения наказание за такой курс может быть радикальным и даже необратимым.
Кризисного менеджмента недостаточно, чтобы поддерживать отношения настолько глобальные и находящиеся под воздействием многочисленных факторов внутри и между двумя странами, поэтому я выступаю за концепцию Тихоокеанского сообщества и выражаю надежду, что Китай и США смогут выработать чувство общей цели, по крайней мере по вопросам глобального значения. Но целей такого сообщества невозможно достичь, если одна из сторон рассматривает проект как более эффективный способ нанести поражение или подорвать силы оппонента. Ни Пекин, ни Вашингтон не в состоянии систематически подвергаться вызовам и при этом их не замечать; если подобный вызов замечен, он вызовет сопротивление. Обеим сторонам необходимо взять на себя обязательства по реальному сотрудничеству и найти способы поддерживать контакт и доводить свою точку зрения до сведения друг друга и всего мира.
Пробные шаги уже предприняты. Например, Соединенные Штаты присоединились к нескольким другим странам, начавшим переговоры о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), пакте о свободной торговле, связывающем Северную и Южную Америку с Азией. Такое соглашение может стать шагом к Тихоокеанскому сообществу, поскольку снизит торговые барьеры между наиболее производительными, динамичными и богатыми ресурсами экономиками мира и свяжет две стороны океана общими проектами.
Обама пригласил КНР присоединиться к ТТП. Однако некоторые условия, представленные американскими экспертами, как показалось, требуют фундаментальных изменений во внутренней структуре Китая. Поэтому на данном этапе ТТП может рассматриваться Пекином как часть стратегии изоляции. В свою очередь, Китай продвигает сопоставимые альтернативные предложения. Он ведет переговоры о торговом пакте с АСЕАН и начал обсуждение соглашения о торговле в Северо-Восточной Азии с Японией и Южной Кореей.
Важные внутриполитические факторы влияют на всех участников. Но если Китай и США будут воспринимать стремление друг друга заключить торговые пакты как элементы стратегии изоляции, Азиатско-Тихоокеанский регион превратится в зону соперничества антагонистических блоков. Как ни парадоксально, особая проблема возникнет, если Китай удовлетворит часто раздающиеся призывы Соединенных Штатов перейти от экономики, основанной на экспорте, к экономике, стимулируемой потреблением, как позволяет предположить последний пятилетний план. Такая ситуация чревата сокращением доли КНР на экспортном рынке США, при этом другие азиатские страны будут еще больше ориентировать свою экономику на Китай.
Ключевые решения, принять которые предстоит Пекину и Вашингтону, – двигаться ли к реальному сотрудничеству или скатиться к новой версии старых моделей международного соперничества. Обе страны используют риторику партнерства. Они даже создали для этого форум высокого уровня – Стратегический и экономический диалог, который проводится дважды в год. Он оказался продуктивным при решении актуальных вопросов, однако путь к реализации основной задачи по созданию действительно глобального экономического и политического порядка только начат. И если глобальный порядок не появится в экономической сфере, преграды для достижения прогресса по более эмоциональным вопросам и проблемам с менее положительной суммой, таким как территория и безопасность, могут оказаться непреодолимыми.
Риски риторики
Двигаясь по этому пути, оба государства должны осознать влияние риторики на восприятие и расчеты. Американские лидеры периодически выступают с потоком антикитайской пропаганды, включающей предложения по антагонистическому курсу, когда этого требует внутриполитическая ситуация. Это происходит даже – или в особенности – когда основным намерением является умеренная политика. Темой являются не конкретные вопросы, с которыми необходимо разобраться по существу, а атаки на основополагающие побудительные мотивы китайской политики, например, объявление Китая стратегическим противником. Цель этих атак – выяснить, потребуют ли рано или поздно заявления о враждебности, обусловленные внутриполитическими императивами, враждебных действий. Аналогичным образом угрожающие заявления Пекина, в том числе в полуофициальной прессе, должны интерпретироваться с точки зрения подразумевающихся действий, а не внутренних факторов и намерений, которые их вызвали.
В американских дебатах представители обеих партий часто называют Китай «поднимающейся державой», которой нужно «достичь зрелости» и научиться играть ответственную роль на мировой арене. Однако Китай видит себя как возвращающуюся державу, которая занимала доминирующее положение в регионе на протяжении двух тысячелетий, но временно утратила этот статус из-за колониальных эксплуататоров, воспользовавшихся внутренними конфликтами и упадком в стране. Перспектива мощного Китая, пользующегося влиянием в экономической, культурной, политической и военной сферах, рассматривается скорее как возвращение к норме, а не как необычный вызов мировому порядку. Американцам не обязательно соглашаться с каждым аспектом китайской аналитики, чтобы понять, что лекции о необходимости «повзрослеть» и вести себя «ответственно» вызывают в стране с многотысячелетней историей совершенно ненужное раздражение.
Заявления на государственном и неофициальном уровне о намерении «возродить китайскую нацию» и вернуть ей традиционно высокое положение может иметь различный подтекст внутри Китая и за границей. Пекин по праву гордится успехами в возрождении национальной идеи после столетия, которое принято считать периодом унижения. Однако немногие азиатские страны ностальгируют по эпохе, когда они были вассалами китайских правителей. Как ветераны антиколониальной борьбы многие азиатские государства очень трепетно относятся к сохранению независимости и свободы действий перед лицом какой-либо внешней силы, неважно, западной или азиатской. Они стараются участвовать как можно в большем количестве пересекающихся структур в экономической и политической сфере; они приветствуют американскую роль в регионе, но стремятся к равновесию, а не к крестовым походам или конфронтации.
Подъем Китая в меньшей степени является результатом увеличения его военной мощи. Скорее он обусловлен постепенной утратой США своей конкурентной позиции под воздействием таких факторов, как устаревшая инфраструктура, недостаточное внимание к исследованиям и разработкам и разлаженный процесс государственного управления. Соединенным Штатам следует активно и решительно заняться этими проблемами, а не винить во всем мнимого противника. Нужно постараться не повторять в политике в отношении Китая схем конфликтов, которые начинались при огромной поддержке общества и с масштабными целями, а заканчивались, когда американский политический процесс требовал перейти к стратегии выпутывания, предполагающей в конечном итоге отказ от заявленных целей или их полный пересмотр.
Пекин может черпать уверенность в истории своей стойкости и терпения, а также в том факте, что ни одна американская администрация никогда не стремилась изменить реалии Китая как одной из ключевых мировых стран, экономик и цивилизаций. Американцам стоит помнить, что даже когда ВВП Китая сравняется с американским, он будет распределяться между населением, которое в четыре раза больше, старше и переживает сложные внутренние трансформации, связанные с ростом страны и урбанизацией. Практическое следствие этого заключается в том, что энергия Китая по-прежнему в значительной степени будет направлена на внутренние нужды.
Обе стороны должны быть готовы воспринимать деятельность друг друга как естественную часть международной жизни, а не повод для беспокойства. Неизбежная тенденция к столкновению не должна приравниваться к сознательному стремлению сдерживать или доминировать, пока стороны способны разграничивать эти понятия и соответствующим образом соизмерять свои действия. Китаю и США не обязательно удастся выйти за рамки обычного процесса соперничества великих держав. Но ради самих себя и ради мира они должны хотя бы попытаться это сделать.
Генри Киссинджер – глава Kissinger Associates, бывший госсекретарь США и помощник по национальной безопасности.

Мирное столкновение
США и КНР: за какой моделью будущее?
Резюме: В ближайшие годы, примерно до начала 2020-х, Китай будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, в следующем десятилетии США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить КНР.
Когда-то император Наполеон назвал Китай «спящим гигантом» и предупредил, что когда гигант проснется, то он потрясет мир. Похоже, что предсказание сбывается. В начале XXI века Китай всерьез претендует на роль «индустриальной мастерской мира», а Соединенные Штаты предлагают ему совместно управлять миром в рамках G2. И хотя Пекин отказывается от формата «Большой двойки», он постепенно усиливает свое экономическое и политическое влияние во многих странах.
В 2010 г. Китай располагал государственными облигациями США на сумму более чем 800 млрд долларов, являясь их крупнейшим кредитором, а недавно пообещал скупать государственные облигации Греции, Ирландии, Португалии и других проблемных стран ЕС. В мире все больше говорят и пишут о китайском вызове, о возможностях и перспективах китайской модели экономического и социально-политического развития. При этом оценки и прогнозы будущей роли Китая радикально расходятся. Одни авторы прочат ему через 10–20 лет статус самой мощной экономической и политической державы мира. Другие полагают, что Китай в 2020-е гг. (а возможно, и раньше) ожидают крупные социальные и политические потрясения, которые его серьезно ослабят.
Существует распространенная точка зрения, согласно которой Китай быстро эволюционирует в направлении либеральной демократии. Но даже если это так, китайская модель развития, основанная на конфуцианстве и уникальном трехтысячелетнем опыте государственного строительства, еще долгое время будет существенно отличаться от американской или европейской. И это затруднит взаимодействие между КНР и США, Китаем и Евросоюзом по некоторым важным вопросам. Следует также учитывать, что Соединенные Штаты и Китай принадлежат к двум разным цивилизациям – западной и дальневосточной (конфуцианской). У них разные традиции, ценности и институты. Однако процессы финансовой, экономической, информационной глобализации вынуждают воспринимать одни и те же технологии, технические инновации, формы организации финансов, производства и торговли. Кроме того, Китай, как и Америка, развивает рыночную экономику, а наличие преимущественно мусульманского Синьцзян-Уйгурского автономного района с его сепаратистскими тенденциями заставляет Пекин выступать против исламского фундаментализма и международного терроризма. Поэтому наиболее вероятным сценарием является не лобовое «столкновение цивилизаций» по Самюэлю Хантингтону, а их интенсивное взаимодействие, которое вовсе не исключает достаточно острой конкуренции и борьбы за сферы влияния и даже столкновения интересов Вашингтона и Пекина, которое уже проявляется в подходах ко многим политическим и экономическим проблемам. Тайвань, конфликт на Корейском полуострове, статус Тибета, иранская ядерная программа, отношения между Китаем и Индией, обменный курс юаня, свободный доступ иностранных фирм на китайский рынок, экспорт технологий и эмбарго на поставки оружия в целый ряд стран, программа КНР по строительству авианосцев, которая может нарушить монополию США на море... Список можно продолжить.
Старый завет Дэн Сяопина китайскому руководству «не высовываться» уже не работает. Важным фактором является также значительный рост военного бюджета Китая на протяжении последних 20 лет. В стране сформировался мощный военно-промышленный комплекс, который имеет собственные интересы и активно участвует в формировании внешней и внутренней политики.
Какая модель – американская или китайская – окажется в ближайшие десятилетия более динамичной, гибкой и в конечном счете более перспективной? От ответа на этот вопрос зависит многое, в том числе перспективы развития Европейского союза и России, их экономическая и внешнеполитическая ориентация. Попробуем подойти к ответу на этот вопрос по возможности непредвзято, научно и объективно, основываясь на фактах, а не на идеологических суждениях и ценностных предпочтениях. Прежде всего необходимо определить основные преимущества и недостатки каждой из моделей, взвесить их сильные и слабые стороны. В нашу задачу не входит детальный разбор американской и китайской моделей как таковых, нас интересует сопоставление их возможностей и оценка перспектив будущего развития.
Сильные и слабые стороны американской модели
В таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 приведены важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 году. Очевидно, что пока Соединенные Штаты намного опережают КНР по размерам ВВП, хотя темпы роста ВВП Китая значительно превосходят темпы роста ВВП США на протяжении длительного периода времени. В то же время по размерам инвестиций Китай почти догнал США, а норма накопления в Китае значительно выше.
Таблица1. Важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Таблица 2. Важнейшие инновационные и социально-экономические показатели США и Китая в 2008 г.
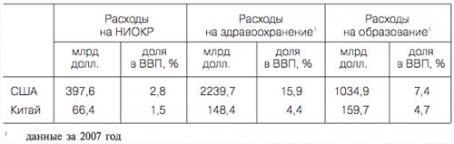
Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Рисунок 1. Темпы годового прироста ВВП США и Китая в 1990–2010 гг., %
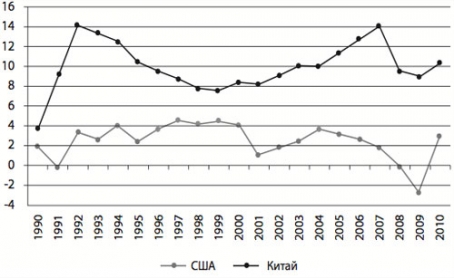
Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Значительный интерес представляют данные об уровне и распределении доходов среди различных групп населения (таблица 3). I дециль соответствует 10% населения с наиболее низкими доходами, а X дециль – 10% населения с наиболее высокими доходами. Приведенные данные показывают, что степень имущественного расслоения (соотношение X и I дециля) в США и в Китае примерно одинаковая, но при этом доходы самых богатых 10% населения КНР лишь ненамного превышают доходы самых бедных 10% населения США. Правда, при этом следует также учитывать уровень цен, который в Китае в целом заметно ниже, чем в США.
Как известно, после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза в 1991 г. Соединенные Штаты являются мировым финансовым, экономическим, политическим и военным лидером. Как бы ни относиться к внешней и внутренней политике США, следует констатировать, что это положение страна в немалой степени занимает за счет универсализма, гибкости и высокого динамизма своей модели экономического и социально-политического развития. Универсализм проявляется уже в самом формировании американской нации как сообщества эмигрантов из множества стран. Благодаря этому Соединенные Штаты на протяжении многих лет эффективно используют опыт, способности и навыки людей из всех стран мира, разрабатывают и совершенствуют разнообразные технологии, социальные институты, законы, средства воздействия на сознание людей (взять хотя бы кинофильмы, производимые в Голливуде, или американское телевидение). Вместе с тем благодаря присущей Америке философии и практике прагматизма американцы проявляют гибкость и реагируют на многочисленные вызовы, быстро мобилизуя ресурсы для достижения определенных целей и объединяясь для противодействия возникающим угрозам. Стратегическими преимуществами США, которые обеспечивают им особое, исключительное положение, являются огромные вложения в образование, медицину, науку и в НИОКР (см. таблицу 2), сохраняющийся статус доллара как мировой резервной валюты, военная мощь (сейчас они значительно превосходят все остальные страны по силе своей армии и военно-морского флота). Важным элементом является развитая система политических и военных союзов, прежде всего НАТО.
Таблица 3. Распределение ежемесячных доходов на душу населения в 2008 г.по децилям (1), долл. (2)
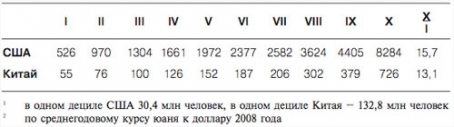
Подсчитано по World Development Indicators 2010.
Гибкость и динамизм американской модели проявились в том, что Соединенные Штаты успешно преодолели такие серьезнейшие испытания, как Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг., мировой кризис и Великая депрессия 1930-х гг., Вторая мировая война, поражение во Вьетнаме и кризисная эпоха 1970-х годов. Во второй половине XX века во многом преодолен раскол американского общества по расовым и этническим признакам. Президент Барак Обама, несмотря на значительное сопротивление, пытается осуществить ряд новых важных реформ. Разумеется, из этого не следует, что США автоматически справятся с сегодняшними и будущими кризисными явлениями в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Это свидетельствует лишь о том, что американская экономическая и политическая система до сих пор обладала высокой способностью привлекать и мобилизовать ресурсы (прежде всего интеллектуальные и финансовые) для преодоления возникающих кризисов и потрясений.
В чем слабые стороны американской модели? Как это нередко бывает, некоторые недостатки являются продолжением достоинств. Открытое для эмигрантов из разных стран американское общество вынуждено бороться с массовой нелегальной иммиграцией, особенно из Мексики и других стран Латинской Америки. Вдоль границы с Мексикой пришлось даже построить «великую американскую стену». В результате массовой миграции из стран Латинской Америки и снижения рождаемости среди белого населения происходят значительные демографические, социальные и культурные изменения, которые быстро меняют структуру и идентичность американского общества. Другая проблема – соблазн преодолевать возникающие экономические трудности за счет различных манипуляций на финансовых рынках (например, за счет выпуска деривативов) и печатания долларов, такая тактика ведет к надуванию различного рода финансовых пузырей. На протяжении многих лет Америка гораздо больше импортирует, чем экспортирует, а возникающее отрицательное сальдо компенсирует за счет эмиссии долларов и привлечения капиталов со всего мира. Но вряд ли так может продолжаться до бесконечности: необходимость реформы финансовой системы и сокращения бюджетного дефицита США признают многие, в том числе президент Обама.
Однако более серьезной проблемой является размежевание, даже поляризация американского общества. При этом, как отмечают американские специалисты, линии разлома проходят не только по социальному или партийно-политическому признаку, но и по географическому (Север против Юга, центр против периферии). К тому же в последние годы политическая элита и более широкие слои общества разделены на радикальных неоконсерваторов («неоконов») и сторонников более умеренного и взвешенного курса. Массовое движение «чайников», телевизионные программы бывшего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Сары Пейлин, растущее недовольство линией Барака Обамы служат тревожными признаками усиливающейся социально-политической поляризации. По мнению некоторых историков и социологов, подобные явления свидетельствуют о неоднократно наблюдавшихся в прошлом «перепроизводстве» элит и образовании враждующих элитных группировок, конкурирующих за власть и ресурсы.
Вместе с тем в истории страны подобные явления уже происходили, например, в 1920-е и в 1970-е годы. И каждый раз американская политическая и экономическая система менялась, но в целом оказывалась достаточно прочной. По-видимому, в течение 10–15 лет американская система в очередной раз изменится, но вряд ли произойдет ее крушение. Наиболее серьезные испытания ожидают социально-политическую систему в середине XXI века – где-то в 2040–2050-е гг., когда заметно изменится этнический состав нации и в мире произойдут значительные демографические, экономические и политические сдвиги.
Сильные и слабые стороны китайской модели
Китайская модель экономического и социально-политического развития имеет целый ряд крупных преимуществ. Это огромные ресурсы дешевой рабочей силы, высокие и относительно стабильные темпы роста (см. рисунок 1), хороший инвестиционный климат, наличие во многих странах китайской диаспоры (хуацяо), играющей значительную роль в экономической жизни азиатских стран, растущая и потенциально очень большая емкость внутреннего рынка с числом жителей около 1,3 млрд человек. Более того, с 1 января 2010 г. Китай участвует в зоне свободной торговли, охватывающей всю Восточную Азию, активно проникает на рынки США, ЕС, Латинской Америки, Австралии и Африки. Пекин расширяет свое экономическое присутствие и в странах СНГ, особенно в России (в 2010 г. Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером России, потеснив с первого места Германию) и в странах Центральной Азии. В частности, КНР осваивает природные богатства Восточной Сибири и российского Дальнего Востока, а также Казахстана и Туркмении.
Еще одним важным преимуществом Китая является наличие мощного государства, которое способно переживать самые драматические события, включая даже временный распад страны. В истории было множество ситуаций, когда единая империя распадалась на несколько враждующих друг с другом государств. Тем не менее затем единое государство восстанавливалось, причем его территория, как правило, увеличивалась. Происходило это во многом благодаря способности государства эффективно взаимодействовать с обществом и вместе с тем воспринимать важные нововведения, сохраняя при этом традиции и преемственность.
Следует, однако, учитывать, что современный Китай начал свое бурное экономическое развитие с весьма низкой отметки, и до сих пор уровень жизни большинства китайцев (а следовательно, и емкость внутреннего рынка) остается не слишком высокой (см. таблицу 3). В последние годы в этом отношении происходят сдвиги, формируется китайский средний класс, численность которого составляет, по некоторым оценкам, не менее 200–300 млн человек. Для Европы или Соединенных Штатов это очень много, но для КНР мало. В целом же Китай похож на велосипедиста, который крутит педали изо всех сил, но любая остановка или серьезное препятствие грозит падением.
Слабые стороны китайской модели обнаруживаются в недостаточной способности создавать принципиально новые технологии. Китайцы искусно копируют и успешно дорабатывают заимствованные технику и технологии, но сами пока не в состоянии создать действительно новые, оригинальные технологии. Это обстоятельство способно заставить КНР развиваться по пути «догоняющей модернизации» и повторить судьбу Японии. Как известно, Япония бурно развивалась в 1950–1970-е гг., но затем «споткнулась». Причиной пробуксовки японской экономики в 1990-е и 2000-е гг., наряду с другими факторами, стала недостаточная способность генерировать принципиально новые идеи, которые легли бы в основу разработки новых технологий и, соответственно, принципиально новых товаров и услуг. Одной из причин такого положения стала японская система воспитания, которая не терпит «выделяющихся» и не поощряет индивидуальное новаторство. Китай отчасти находится в таком же положении, хотя китайская система образования и воспитания проявляет большую гибкость, чем японская. КНР уже сейчас вкладывает огромные средства в науку, образование и НИОКР. Так, по расходам на НИОКР страна уже вышла на второе место в мире после США и поставила перед собой весьма амбициозные задачи. Можно сказать, что Китай предпринимает отчаянную попытку технологической модернизации за счет экономии на социальных расходах (в том числе пенсионных), которую не могут себе позволить развитые страны с высоким уровнем социальной защиты.
Кроме того, внутри самого Китая существуют значительные диспропорции в уровне доходов между различными слоями населения, между городом и деревней, а также между более развитыми восточными провинциями и менее развитыми западными. Политика ограничения рождаемости создала проблему значительной гендерной асимметрии. Хотя китайское государство осуществляет политику, направленную на ускоренное развитие наиболее отсталых провинций, разрыв в уровне жизни и в экономическом развитии продолжает сохраняться. Еще одной, пожалуй, наиболее серьезной и острой проблемой остается экологическая ситуация. Загрязнение атмосферы, которое вызывает рост болезней дыхательных путей, является в КНР самым значительным в мире. К этому добавляется загрязнение воды и почв. В последние годы регулярно происходят аварии на химических предприятиях, которые приводят к выбросу огромного количества вредных, токсичных для человека и животных веществ.
К тому же одна из главных проблем Китая в перспективе – сырьевые ресурсы. Чтобы обогнать Соединенные Штаты и обеспечить высокий уровень потребления хотя бы половине своего огромного населения, КНР могут потребоваться ресурсы всей планеты. Уже в первом пятилетии XXI века зависимость Китая от импорта составляла по железной руде и бокситам – 50%, по меди – 60%, по нефти – 34%. По ряду прогнозов, если не переломить существующие тенденции, в ближайшие 30 лет сырьевые и топливные потребности Китая в несколько раз превысят возможности собственного производства. Таким образом, дальнейший рост возможен только за счет природных ресурсов всего мира. Но выдержит ли это планета? И захотят ли все страны мира обеспечивать Китай своими ресурсами?
Перспективы США и Китая: наиболее вероятные сценарии
Итак, и американская, и китайская модели развития имеют свои сильные и слабые стороны. Каков будет баланс сил и какая модель окажется наиболее перспективной в ближайшие десятилетия? Как уже отмечалось в начале статьи, разные авторы, даже в самих Соединенных Штатах, по-разному отвечают на этот вопрос.
Во-первых, существует несколько возможных вариантов трансформации как американской, так и китайской модели. Во-вторых, само экономическое и политическое развитие двух стран в ближайшие десятилетия, скорее всего, будет неравномерным и нелинейным, включающим колебания и зигзаги. В результате на одном временном отрезке более динамично может развиваться одна модель, а на другом – вторая. В-третьих, и США, и Китай в разное время могут столкнуться с различными внутренними и внешними кризисами. Все это делает задачу определения перспектив американской и китайской модели весьма сложной.
Однако задача несколько упрощается, поскольку нас интересует не развитие Америки и Китая как таковых, а сравнительная динамика моделей. Иными словами, в данном случае важны не детали внутреннего развития Соединенных Штатов и КНР или отношений между ними, а то, какая из двух держав сможет более эффективно внедрить новейшие технологии, обеспечивающие мировое лидерство. В то же время весьма вероятно, что в ближайшие годы бурное экономическое развитие Китая почти наверняка продолжится, поскольку страна располагает достаточными людскими и материальными ресурсами. Кроме того, необходимо учесть, что период 2010–2020-х гг. имеет сходные черты с кризисным периодом 1970-х годов. А в такие времена развивающиеся экономики растут более динамично, чем развитые. Отсюда число наиболее вероятных сценариев резко уменьшается. Выбор остается всего лишь между двумя сценариями.
Суть первого сценария заключается в том, что в ближайшие десятилетия Китай, несмотря на отдельные экономические и социальные потрясения, в целом будет развиваться более высокими темпами, постепенно догоняя США по производству ВВП (но не по производству ВВП на душу населения и не по вложениям в науку, образование, медицину). В этом случае Соединенные Штаты вплоть до 2030–2040-х гг. сохранят свое финансовое, технологическое, политическое и военное лидерство, но будут вынуждены все больше считаться с растущей экономической и политической мощью Китая. Более того, в кризисный период 2008–2020 гг. США, вероятнее всего, будут в большей степени, чем Китай, испытывать финансовые и экономические трудности. Такая ситуация может подтолкнуть Пекин к широкой экономической и политической экспансии в различных регионах мира, прежде всего в стратегически важном для мировой экономики и политики регионе Восточной Азии. Однако после 2020 г. в результате внедрения новейших технологий Соединенные Штаты снова получат преимущество над Китаем, и их развитие станет более быстрым и динамичным. При этом КНР в 2020-х гг., а возможно и раньше, вероятно, столкнется с рядом внутренних социальных потрясений (некоторые признаки проявляются уже сейчас), которые способны ослабить его и несколько замедлить его развитие. США же серьезные социальные и демографические проблемы ожидают позже, где-то в 2040–2050-е годы.
Согласно второму сценарию, Америку уже в ближайшие десятилетия подстерегает целый ряд внутренних социальных и политических проблем, связанных с упомянутым выше «перепроизводством элит», а также с внутренними политическими расколами и размежеваниями. Это даст возможность Китаю конкурировать с Соединенными Штатами в области внедрения новейших технологий и даже превзойти их в отдельных важных отраслях. Более того, при определенных условиях США придется отчасти «поделиться» с Китаем своим мировым лидерством. В таком случае возможен новый вариант биполярного мира, но без холодной войны. Соединенные Штаты и КНР будут не только конкурировать, но и тесно взаимодействовать, сотрудничать во многих областях экономики, финансов и политики.
Если взвесить все рассмотренные сильные и слабые стороны американской и китайской модели, более вероятным все же представляется первый сценарий. Роль ключевых факторов здесь выполняют способность разрабатывать и внедрять принципиально новые технологии, а также широкая система экономических, политических и военных союзов. Преимущество США и в том и в другом случае очевидно. Однако еще раз обратим внимание, что в ближайшее десятилетие, т.е. примерно до 2020 г., Китай, скорее всего, будет развиваться более динамично. Это создает видимость того, что Китай догоняет и обгоняет Америку в экономике, политике и военной сфере. Иными словами, развитие двух стран в ближайшие десятилетия (до 2040-х гг.) будет нелинейным и неравномерным, то ускоряющимся, то замедляющимся. Это создаст трудности как для оценки перспектив мирового развития, так и для осуществления разными странами их политического и экономического курса.
Выводы для Европы и России
Таким образом, наиболее вероятным выглядит сценарий, согласно которому в ближайшие годы (примерно до начала 2020-х гг.) Китай, несмотря на отдельные социальные и экономические потрясения, будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, после 2020-х гг. США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить Китай, который к тому же, скорее всего, будет сталкиваться с целым рядом внутренних проблем, в том числе с социальными и экологическими кризисами.
Однако в любом случае в ближайшие годы и десятилетия страны Европейского союза и Россия вынуждены будут считаться с растущей финансовой, экономической и политической мощью Китая. При этом особенный напор Китая наиболее вероятен в период до начала 2020-х годов. В настоящее время Китай уже осваивает природные богатства России – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Экономика Германии, ведущей страны ЕС, уже сейчас во многом зависит от заказов из Китая, китайские товары все больше завоевывают европейский рынок, а в недалеком будущем Китай, скупающий государственные облигации «неблагополучных» европейских стран, может стать фактическим кредитором объединенной Европы. Последствия такого «тихого» проникновения КНР в экономику Евросоюза и России пока трудно оценить в полной мере. Ясно лишь, что чрезмерная экономическая зависимость от Китая чревата деградацией многих предприятий и отраслей, а также утратой возможности принимать стратегические решения в сфере экономики и политики.
Кроме того, в перспективе (в начале 2020-х гг.) чрезмерная зависимость экономики европейских стран и России от Китая может привести к тому, что они будут испытывать негативные последствия социальных и экономических потрясений в самом Китае. Иными словами, не исключена ситуация, при котором ЕС и Россия, будучи привязанными к экономике Китая, окажутся не в состоянии в полной мере внедрить новейшие технологии, которые появятся в Соединенных Штатах или в других странах. Пока что это выглядит фантастикой, но мир быстро меняется, и то, что еще вчера казалось невероятным, сегодня становится реальностью.
Наиболее серьезным испытанием станет период до 2020 года. Прежний мировой порядок будет стремительно меняться благодаря переходу к новым технологиям, изменению ситуации на Большом Ближнем Востоке, крупным потрясениям в Азии, Африке и Латинской Америке, изменениям в международных экономических и политических институтах (в МВФ, Всемирном банке, НАТО, ООН и др.). Еще одним фактором станет сильный напор Китая и ряда других азиатских стран. В переходный период вероятны многочисленные вызовы. Это кризисные явления в зоне евро, нестабильная экономическая ситуация в России из-за колебания цен на энергоносители, дальнейшие революции и перевороты на Ближнем Востоке, дестабилизация в Центральной Азии, усугубление положения в Афганистане и Пакистане, рост исламского фундаментализма и международного терроризма, социальные конфликты в странах Африки и Латинской Америки.
Отсюда следует вывод: странам Европейского союза и России придется проявлять большую гибкость и высокий динамизм, адаптируясь к быстро меняющейся ситуации. Период 2012–2020 гг., скорее всего, станет ярко выраженной «эпохой турбулентности». Важную роль будет играть согласованность внешней политики ЕС и России, акцент не на взаимных претензиях и различиях в ценностях, а на общих интересах. Основная проблема заключается в том, что в условиях стремительного роста двух гигантов – США и Китая – объединенной Европе и России придется мобилизовать все силы и ресурсы для сохранения своих экономических и политических позиций в мире, обеспечения самостоятельного и стабильного развития. Достижение этой цели требует координации действий между европейскими странами, имеющими развитые технологии, и Россией, обладающей значительными природными ресурсами. С этой целью России и странам Евросоюза стоило бы создать специальные инструменты и институты, обеспечивающие более быстрое, согласованное и эффективное решение многочисленных экономических и политических проблем современной эпохи. К сожалению, и в России, и на уровне ЕС бюрократия часто работает не слишком быстро и эффективно. Поэтому необходимы новые формальные и неформальные каналы взаимодействия политических лидеров, государственных и надгосударственных институтов, а также бизнеса, научных структур и других неправительственных организаций. В противном случае все может потонуть в бюрократической волоките, мелких взаимных претензиях, а необходимые решения, как это неоднократно бывало в прошлом, не будут своевременно воплощаться в жизнь.
Александр Дынкин, Владимир Пантин
Обама взял в предвыборный штаб Бен Ладена
Президент США отчитался об афганских успехах
Игорь Крючков
Президент США Барак Обама совершил вчера неожиданный визит в Афганистан. Обама подписал со своим афганским коллегой Хамидом Карзаем соглашение о стратегическом партнерстве между США и Афганистаном. Не факт, что подписанное стратегическое соглашение будет ратифицировано. Однако можно сказать наверняка, что афганская поездка заставит американских избирателей вспомнить за полгода до президентских выборов успехи Обамы в деле борьбы с терроризмом.
Не объявленное заранее появление Обамы в Афганистане было эффектным. Помимо подписанного с Карзаем долгожданного соглашения, переговоры о котором шли 7 лет, президент США выступил с программной речью. В ней Обама объяснил, как он в принципе видит американскую миссию в Афганистане.
Визит состоялся в годовщину уничтожения главы «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена, который организовал нью-йоркские теракты 11 сентября 2001 года. Афганская кампания США началась как глобальный акт возмездия международным террористам за совершенное злодеяние.
«Мы прожили более чем десятилетие под мрачным облаком войны, — торжественно говорил Обама американским военнослужащим на базе в Баграме. — Но теперь в предрассветных афганских сумерках мы видим на горизонте свет нового дня».
По словам Обамы, его стремление вывести контингент США из Афганистана в 2014 году остается неизменным и твердым. Однако выводить солдат слишком рано было бы безответственным, считает президент США.
«Обама в этом смысле находится между двух огней. С одной стороны, вывода войск из Афганистана требуют и американский, и афганский народы. Кроме того, это развяжет США руки в конфликте с Ираном и ближневосточными режимами «арабской весны», — заявил «МН» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. — С другой стороны, остаться в Афганистане на более долгий срок США вынуждают региональные политические проблемы. Не только внутри страны, но и в Пакистане, и Индии».
Стратегическое соглашение с Афганистаном открывало возможность для Вашингтона не сжигать мосты в этой стране после 2014 года, считает заведующий сектором Афганистана ИВ РАН Виктор Коргун. Документ позволит оставаться некоторым подразделениям ВС США на афганских базах после 2014 года. Виды и численность этих войск должны быть определены другими, еще не заключенными договорами.
«Подписанный текст стратегического соглашения до сих пор можно называть только проектом документа, — заявил Коргун в интервью «МН». — Дело в том, что теперь этот текст необходимо принять в афганском парламенте, и далеко не факт, что он его примет в нынешнем виде».
По словам эксперта, Карзай использует свое влияние в парламенте, чтобы ратифицировать соглашение. «Для ратификации в афганском парламенте есть большинство, но это большинство шаткое. Четких фракций нет, и каждый депутат может передумать в последний момент», — считает Коргун.
Владимир Евсеев считает, что расплывчатость текста подписанного соглашения подчеркивает, что нынешний афганский визит был важнее для Обамы в предвыборном смысле.
«Перед президентскими выборами в США Обаме нужно вселить уверенность в электорат. И видимость успехов на внешнеполитической арене сейчас очень важно для политика», — считает эксперт.
Предвыборный штаб Обамы сделал все, чтобы годовщина уничтожения Усамы Бен Ладена дала возможность американским СМИ поговорить об успехах нынешней администрации США на афганском направлении.
За неделю до визита Обамы в Афганистан в интернете появился ролик, рассказывающий о победе над «Аль-Каидой». Видео длиной 1,5 минуты убеждает зрителя, что Обама принял тяжелое и правильное решение, приказав спецназу высадиться 2 мая прошлого года в пакистанском военном городе Абботабад и штурмовать здание, где, по оперативным данным, скрывался Бен Ладен. Одна из важнейших боевых задач армии США — устранение террориста номер один — была выполнена, утверждают авторы видео.
Не каждый президент решился бы отдать такой приказ, вторит этой мысли бывший президент и демократ Билл Клинтон, который появляется в ролике. В конце агитационного видео появляются цитаты из прошлых речей Ромни, осуждающих политику Обамы на Ближнем Востоке, а также его призывы забыть о поисках Бен Ладена. Умение принимать решение — именно ради этого качества американцы выбирают своего президента, убеждает Билл Клинтон в финале ролика.
Видео вызвало противоречивые чувства среди американского электората. Часть СМИ, в том числе ряд либеральных, оценили ролик как слишком нескромный. Арианна Хаффингтон, владелец ведущего либерального интернет-издания Huffington Post, заявила, что президент не должен спекулировать своими полномочиями верховного главнокомандующего ВС США в ходе предвыборной кампании.
Республиканский национальный комитет, осуществляющий руководство партией на федеральном уровне, опубликовал в качестве официальной реакции на ролик заявление сенатора от штата Аризона Джона Маккейна. «Бараку Обаме должно быть стыдно за то, что он посмеялся над трагедией 11 сентября и уничтожением Усамы Бен Ладена, используя их как дешевую политическую агитку, — гласил текст. — Никто не сомневается, что президент заслуживает уважения за приказ начать операцию (по уничтожению Бен Ладена. — «МН»), но политизировать ее — это верх двуличности».
Впрочем, заявление Маккейна позволило СМИ обвинить в двуличности самих республиканцев. Так, интернет-блог Slate, принадлежащий изданию The Washington Post, вспомнил о том, что в 2004 году, когда Джорджу Бушу на президентских выборах в США противостоял демократ Джон Керри, республиканская администрация использовала тот же прием. Поводом была война не в Афганистане, а в Ираке, развязанная Бушем в 2003 году.
Вашингтон надеется сохранить «Манас» в Киргизии
Посол США в Киргизии заявила, что США намерены оставить центр транзитных перевозок в Бишкеке после 2014 года
Аркадий Дубнов
США и Киргизия начали переговоры относительно перспектив размещения американского центра транзитных перевозок «Манас» в аэропорту Бишкека после 2014 года, когда истекает срок действующего соглашения о дислокации этой инфраструктуры на киргизской территории. Об этом сообщила на днях посол США в Киргизии Памела Спратлен. Она дала понять, что Вашингтон надеется на продолжение функционирования центра и после 2014 года, а также на то, что в международном сотрудничестве по стабилизации в Афганистане и Центральной Азии будет заинтересована и Россия.
Памела Спратлен изложила позицию Вашингтона по широкому спектру отношений с Бишкеком в интервью киргизскому интернет-сайту «Баракелде». Значительная его часть касалась будущего центра транзитных перевозок, который до 2009 года именовался военно-воздушной базой США. По словам посла, «ежемесячно около 45 тыс. солдат из Соединенных Штатов и стран коалиции прибывают и выбывают из транзитного центра» и президент США Барак Обама «очень высоко ценит такую поддержку» Киргизии.
Что касается обещания президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о том, что в 2014 году «Манас» будет выведен с территории его страны, то Памела Спратлен заметила, что «сейчас рановато начинать говорить о будущем». При этом она подчеркнула: «Атамбаев высказался ясно, и мы услышали его концепцию». Посол США заявила, что самыми важными для США являются два пункта из позиции президента: центр продолжит свою деятельность до 2014 года, и вопрос о его будущем станет предметом переговоров. Посол Спратлен сообщила, что такие обсуждения уже начались, в начале третьей декады апреля в Киргизии уже побывала группа американских экспертов. «Я думаю, — сказала она, — что мы будем продолжать обсуждение условий и требований каждой из сторон».
Наблюдатели в Киргизии не слишком сомневаются в том, что Вашингтон и Бишкек в конце концов придут к взаимоприемлемому компромиссу об условиях размещения американского транзитного центра и после 2014 года.
Что касается утверждений о заинтересованности России в выводе «Манаса» из Киргизии, то подобное мнение может быть изменено, заметила Памела Спратлен, «если ознакомиться с недавними высказываниями министра иностранных дел России». Впрочем, какие конкретно высказывания Сергея Лаврова имеет в виду американский посол, она не уточнила.
Между тем в Киргизии обращают внимание на планы размещения в самой России, в Ульяновске, логистической инфраструктуры для оказания содействия США и их союзникам по НАТО в процессе вывода военного контингента из Афганистана. В Бишкеке задаются вопросом, почему Москва возражает против функционирования подобной гражданской структуры в Киргизии.
Одним из требований Бишкека на переговорах с США по будущему «Манаса», по сведениям «МН», станет отсутствие там американских военных после 2014 года. Однако, как заметил нашей газете информированный дипломатический источник в Вашингтоне, это условие будет трудновыполнимым для американцев: им потребуется заменить военных равноценным гражданским персоналом, а это является непростой задачей.
В среду в Кабуле министр торговли и промышленности Афганистана Анвар уль-Хак Ахади и посол Ирана Абольфазл Зохреванд подписали соглашение об использовании иранского порта Чабахар для транзита афганских товаров.
Стоит отметить, что Чабахар является единственным портом ИРИ, имеющим доступ к морю. Благодаря данной особенности Афганистан получит новые возможности развития внешнего рынка своих товаров, сообщает телеканал «Толо».
Как сообщил прессе Анвар уль-Хак Ахади, первая стадия выполнения соглашения предполагает создание неподалёку от порта перевалочного пункта для афганских товаров. Под строительство зданий выделена территория площадью 50 гектаров. Ожидается, что афганские предприниматели смогут использовать пункт в течение года.
«Результат данного соглашения не только благоприятно сказывается на отношениях между Афганистаном и Ираном, – отметил, в свою очередь, Абольфазл Зохреванд. – Мы также ожидаем, что это поспособствует сотрудничеству афганских и иранских предпринимателей в деле освоения рынков Среднего Востока и Азии».
Как отмечают афганские обозреватели, в последнее время в отношениях между Ираном и Афганистаном намечается потепление, что проявилось также в недавнем заключении соглашения об экстрадиции заключённых.
Военная операция в Афганистане близится к завершению. Близок ли мир?
Визит Барака Обамы в Афганистан завершился подписанием Соглашения о стратегическом партнерстве (Strategic partnership agreement) между США и Афганистаном. Соглашение касается взаимоотношений между двумя государствами после выхода войск НАТО в 2014 году и передачи всей полноты власти над Афганистаном в руки афганского правительства. В результате долгих переговоров стороны договорились о том, что США будет оказывать помощь Афганистану в течение 10 лет после выхода начала вывода войск.
Очень важно отметить, что подписание Соглашения о стратегическом партнерстве произошло до саммита НАТО, который пройдет в Чикаго 20-21 мая этого года. На саммите планируется принять решения о том, какие государства возьмут на себя обязательства оказывать поддержку Афганистану в ближайшие годы после окончания военной операции, а также о размере и характере этой помощи.
Учитывая поведение американских военных в Афганистане в последнее время (сжигание Корана, расстрел 16 мирных афганцев, глумление над телами мертвых талибов и пр.), подписание такого важного документа, как Соглашение о стратегическом партнерстве, можно считать успехом. Кроме того, появление Соглашения в определенной степени снимает опасения мирного афганского населения относительно того, что после ухода западных военных, в стране начнется хаос. Также документ дает ясный сигнал соседнему Пакистану, где талибы всегда пользовались поддержкой, о том, что Афганистан не превратится в заброшенную и всеми забытую территорию, как только солдаты покинут ее границы, а наоборот, будет идти по пути восстановления и развития при поддержке западных государств. По крайней мере, это то, что американцы пытаются донести до сознания всего мира.
Однако, как в самом Афганистане, так и в Пакистане, понимают, что Хамид Карзай, который подписал документ как глава афганского правительства, явно непопулярен. Его воспринимают как фигуру, умело управляемую из Вашингтона, при этом коррупция в стране при Х. Карзае достигла небывалого размаха. Очевидно, что упование на Соглашение при слабом, не пользующимся поддержкой, президенте, не решит проблему послевоенного развития Афганистана и вряд ли сумеет устрашить талибов, на каких бы прилегающих к Афганистану территориях они ни находились.
В декабре 2009 года, выступая перед курсантами Военной Академии США в Вест-Поинте, Б. Обама представил стратегию по Афганистану, в соответствии с которой присутствие американского военного контингента в Афганистане в 2010 году было увеличено на 30000 человек. В основу данной стратегии было положено несколько основных факторов развития Афганистана, один из которых касался перехвата инициативы у талибов, обучения афганских сил безопасности, а также передачи всей полноты власти афганскому правительству и постепенного вывод войск из Афганистана.
1 мая 2012 года, во время своего визита в Афганистан, выступая перед военнослужащими на авиабазе в Баграме, Б. Обама заявил о том, что за последние три года ситуация изменилась и США удалось перехватить инициативу у Талибана. В своем обращении президент США также заявил, что к переговорам по послевоенному устройству Афганистана привлечено не только афганское руководство, но и представители талибов. Целью американцев также является полное уничтожение аль-Каиды и возвращение мира на афганскую землю.
Однако практически сразу же после завершения визита американского президента, Талибан произвел несколько взрывов в Кабуле, в результате которого погибло несколько человек.
Вряд ли теракты являются недовольством Талибана Соглашением о стратегическом партнерстве, тем более, что взрывы происходили и происходят постоянно. Очевидно, и это очень тревожно, что инициатива все же находится в руках у талибов, которые не собираются сдавать позиции. Команда Х. Карзая и афганские национальные силы безопасности, в руки которых американцы передают ответственность за поддержание мира в стране, не способны обеспечивать безопасность при том, что американские военные еще находятся в стране и миссия не окончена.
Обсуждение деталей передачи власти афганскому народу, а также технические аспекты завершения операции в Афганистане еще будут обсуждаться и подписание новых документов вскоре последует. Однако, со всей очевидностью уже сегодня можно говорить о том, что талибы не сломлены и контроль над рядом регионов Афганистана сосредоточен в их руках. Заявления американского президента о переломе ситуации преждевременны. Это вовсе не означает, что переговоры с Талибаном бесперспективны. Однако, несмотря на внешнее согласие некоторых представителей талибов сложить оружие и договариваться, бездействие и коррумпированность действующей власти в Афганистане сводит на нет все попытки привести Афганистан к миру.
У США еще есть время до 2014 года переломить ход событий. Представляется, что для улучшения ситуации на первом этапе необходимо проведение политической реформы, отстранение от власти наименее благонадежных политиков и включение в команду Хамида Карзая представителей, заслуживающих доверие населения. Смена состава действующего правительства путем перевода близких к президенту лиц с ключевых постов на менее ответственные должности и назначение вместо них честных и перспективных политиков, а также лиц, не покровительствующих талибам, поможет улучшить отношение местного населения к действующему президенту. Это снизит уровень коррупции и восстановит репутацию действующей власти, которая перестанет ассоциироваться с талибами. Очевидно, что, действуя только таким образом, Хамид Карзай и Барак Обама через два года смогут заявить о переломе ситуации и перехвате инициативы у талибов.
Мария Александровна Небольсина, научный сотрудник Центра Евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО (У) МИД России.
Губернатор провинции Хорасане-Резави Махмуд Салахи на совещании с участием глав представительств Ирана в странах Западной Азии (Пакистан и Афганистан) заявил, что провинция готова активизировать торговлю с Пакистаном и Афганистаном, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».
Губернатор подчеркнул необходимость укрепления связей со странами Западной Азии в области политики, экономики и культуры.
Махмуд Салахи заявил о том, что следует расширять экспортные поставки необходимых названным странам товаров из провинции Хорасане-Резави, а также увеличивать импорт товаров из этих стран.
По словам губернатора, в повестку дня необходимо также включить вопрос о возобновлении деятельности приграничного рынка Догарун и об организации транзитных и экспортных поставок.
Далее Махмуд Салахи отметил, что из мешхедского аэропорта «Хашеминежад» уже совершаются международные авиарейсы в 25 пунктов назначения по всему миру и необходимо организовать воздушное сообщение между Мешхедом и Гератом, Кандагаром и Кветтой.

Постсоветский интеграционный прорыв
Почему Таможенный союз имеет больше шансов, чем его предшественники
Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.
А.М. Либман – доктор экономических наук, профессор международной политэкономии Франкфуртской школы финансов и менеджмента и старший научный сотрудник Института экономики РАН.
Резюме За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены.
После распада СССР прошло два десятилетия, за которые между бывшими союзными республиками подписано огромное число соглашений, договоров и инициатив. Все они, однако, продемонстрировали неспособность «постсоветской интеграции» обеспечить реальное сотрудничество государств региона. Факт достаточно очевидный всем и в первую очередь самим участникам процесса. Тем более неожиданным для сторонних наблюдателей стало кардинальное изменение ситуации в последние три года. Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, запущенный в 2010 г., стал первой интеграционной группировкой, в рамках которой партнеры выполняют взятые на себя обязательства, не считаясь со значительными затратами. Намерение создать Евразийский экономический союз к 2015 г., обнародованное в ноябре прошлого года, представляется намного более реалистичным, чем большинство подобных постановлений, принятых ранее. Что изменилось на постсоветском пространстве, чтобы подобные проекты стали осуществимыми? Стоит ли рассчитывать на устойчивость новых инициатив? И, с другой стороны, достаточны ли их цели в контексте проблем, стоящих перед постсоветскими странами, и возможностей экономического развития, которыми грех не воспользоваться?
На пути к реальной интеграции
Прежде всего кратко напомним хронологию появления нового поколения интеграционных структур на постсоветском пространстве. Первые призывы к бЧльшему «прагматизму» в сфере интеграции и отказу от нереалистичной риторики прозвучали еще в начале 2000-х годов. Тем не менее вплоть до недавнего времени настоящее сотрудничество наблюдалось лишь в отдельных областях, где нужно решать вопросы общей инфраструктуры, созданной еще в советский период – например, железнодорожных путей или электроэнергетики. Попытки вдохнуть жизнь в существующие структуры сопровождались лишь ростом противоречий. Первыми ласточками изменений можно считать две организации, созданные в 2006 г. – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В отличие от предыдущих инициатив, целью новых стала поддержка конкретных проектов (либо в вопросах развития инфраструктуры и экономики, как банк, либо в начинаниях в сфере культуры и образования, как фонд), а не общие нормы и координация политики. Четкая ориентация на конкретные прикладные задачи сотрудничества позволила избежать превращения этих организаций в очередные бумажные структуры.
Однако подлинный прорыв принесло, казалось бы, неожиданное обстоятельство – мировой экономический кризис 2007–2009 годов. Вместо того чтобы принимать все более жесткие односторонние протекционистские меры (как это нередко бывает в условиях глобальных потрясений), постсоветские государства, напротив, попытались наладить более эффективное сотрудничество. Крупным решением, напрямую связанным с кризисом, стало создание в 2009 г. Антикризисного фонда ЕврАзЭС с капиталом в 8,513 млрд долларов. На фонд возложена двойная функция: во-первых, предоставлять стабилизационные кредиты, исполняя функции своего рода «регионального МВФ», компенсировать дефициты платежного баланса и бюджета, а также поддерживать национальную валюту, и, во-вторых, укреплять региональное сотрудничество в качестве кредитора крупных инвестиционных проектов. На данный момент займы фонда предоставлены Таджикистану и Белоруссии. Постсоветская интеграция стала финансово привлекательной, по крайней мере для некоторых стран.
В 2010 г., как упомянуто выше, вступил в силу ТС – самое впечатляющее на сегодняшний день достижение постсоветской интеграции. Главные элементы – это общие пошлины по отношению к третьим странам и общий таможенный кодекс, регулирующий большинство торговых вопросов стран-участниц. Таможенный союз действует по схеме пропорционального голосования, но до сих пор все решения принимались на основе консенсуса. Участникам пришлось внести серьезные изменения во внешнеэкономическое регулирование. Казахстан, например, повысил 45% таможенных тарифов и снизил 10%. Помимо отношений с третьими странами, ТС повысил возможности и для взаимодействия между странами-участницами, причем не только в сфере торговли: в приграничных районах некоторые российские компании рассматривают вариант перехода под юрисдикцию Казахстана с более низким налоговым бременем.
Однако еще больший эффект от либерализации инвестиционных потоков можно ожидать в связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. пакета соглашений о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). В настоящий момент ЕЭП уже включает 17 соглашений, еще 55 находятся в стадии подготовки. Они касаются свободы передвижения капитала и труда, общей политики конкуренции (включая естественные монополии, закупки и субсидии), координирования макроэкономической политики, торговли услугами, технических стандартов, а также доступа к газо- и нефтепроводам, электросетям и железнодорожным сетям. Для координации ЕЭП в феврале 2012 г. создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный орган с широкими полномочиями. Интересно, что «нижняя палата» ЕЭК – коллегия – построена по образцу комиссии ЕС и состоит из чиновников, отвечающих за конкретные функциональные направления интеграции, а не выступающих исключительно в роли представителей своих стран. К последующим мерам, направленным на создание Евразийского экономического союза, относятся, к примеру, утверждение с 2013 г. единого железнодорожного тарифа на грузы и национальный режим государственных закупок для всех компаний трех стран-участниц, начиная с 2014 года.
«Интеграция снизу» и глобальный кризис
Успех ТС и ЕЭП представляется тем более неожиданным, что он, казалось бы, противоречит логике развития постсоветского пространства. Двадцать лет назад бывшие республики СССР были гораздо более тесно связаны между собой с экономической точки зрения – а их интеграция (в том числе и в форме рублевой зоны) полностью провалилась. Достижения постсоветской интеграции последних лет, вероятно, связаны с двумя обстоятельствами – ростом реальной интеграции «снизу» в 2000-е гг. и глобальным экономическим кризисом.
Во-первых, описывать все двадцатилетие после распада СССР как период постоянно углубляющейся фрагментации было бы некорректно. Действительно, многие старые «советские» связи оказались разорваны – однако с начала 2000-х гг. им на смену пришли новые формы взаимозависимости. Экономический рост России и Казахстана с 1999–2000 гг. резко увеличил аппетиты нарождающихся транснациональных корпораций этих стран, приступивших к интенсивному освоению постсоветского пространства. Уже сегодня российский бизнес, например, доминирует в сфере мобильной сотовой связи в большинстве стран СНГ; российские компании играют важную роль и во многих других отраслях. Казахстан являлся лидером в инвестициях в банковском секторе стран СНГ до 2008 года. Другая форма новой взаимозависимости – трудовая миграция. Если в 1990-е гг. миграционные потоки в СНГ носили преимущественно характер постоянного переселения и были связаны, например, с оттоком русскоязычного населения из новых независимых государств, то в последнее десятилетие наблюдался экспоненциальный рост временной миграции, основанной на преимущественно экономических факторах. В результате денежные переводы трудовых мигрантов стали в некоторых странах СНГ основой экономического роста. В России же трудовые мигранты производят, по оценкам экспертов, около 6% ВВП страны.
Представление о безусловном росте взаимозависимости постсоветских стран было бы, конечно, тоже большим упрощением. Процессы регионализации по-разному проявляются в различных сферах взаимодействия (они, например, гораздо менее затратны в сфере взаимной торговли) и в неравной степени затрагивают разные страны. По оценкам Системы индикаторов евразийской интеграции ЕАБР – набора показателей, характеризующих экономическую взаимозависимость постсоветских стран за последнее десятилетие – можно говорить о формировании своеобразного интеграционного ядра России, Белоруссии и Казахстана уже с 2004–2005 гг., «интеграция снизу» шла быстрыми темами. Возможно, создание ТС во многом и стало следствием роста взаимосвязей в пределах этого ядра.
Во-вторых, то обстоятельство, что ТС и ЕЭП возникли вскоре после того как постсоветское пространство накрыла волна глобального кризиса – больше чем совпадение. Логика регионализма здесь в корне отличается от «стандартной», хорошо изученной в мировой литературе. Как правило, стартовой площадкой интеграции служит существование нескольких обособленных в экономическом плане стран, для которых интеграционные процессы, как минимум в краткосрочной перспективе, связаны со значительными издержками: региональная интеграция требует изменений в законодательстве и адаптации к новым стандартам, она сопровождается ростом конкуренции. Неудивительно, что политики скорее склонны поддерживать региональную интеграцию в более благополучные периоды (когда эти издержки не столь заметны) и в гораздо меньшей степени склонны затевать интеграционные проекты в момент кризиса – достаточно вспомнить период стагнации в развитии европейской интеграции в 1970-е годы.
На постсоветском пространстве ситуация противоположная. Между странами сохраняется взаимозависимость, унаследованная от советского периода. Поэтому выбор дезинтеграционного курса, для чего требуется создание новых отраслей промышленности и поиск других способов интеграции в глобальное разделение труда, зачастую обходится дороже. Поэтому именно в периоды кризисов региональная интеграция представляется более приемлемой альтернативой – в «тучные годы» страны, напротив, могут экспериментировать с различными вариантами политики автаркии или с поиском новых партнеров. Иначе говоря, шок от глобальной нестабильности (нанесший болезненный удар и по Казахстану, первым на постсоветском пространстве ощутившему волну кризиса уже в 2007 г., и по Белоруссии, двумя годами позже вынужденной пойти на масштабную девальвацию своей валюты, и по России) сблизил постсоветские страны.
Проблемы и противоречия
Реальная ситуация, конечно, не столь безоблачна. ЕЭП и ТС сталкиваются с рядом серьезных проблем, решение которых и определит будущее этих организаций. В краткосрочной перспективе главные сложности носят технический характер. Нормы таможенного кодекса ТС нередко, хотя и лишь отчасти, противоречат нормам национального законодательства, далеко не всегда отработан порядок их правоприменения. Для ЕЭП механизмы реализации базовых соглашений еще только предстоит создать. Подобного рода проблемы неизбежны при осуществлении столь крупных проектов, но способны оказаться фатальными, особенно в условиях неэффективной бюрократии, делая интеграционную структуру непривлекательной для бизнес-структур. Необходимо отметить, что комиссия ТС приняла целый ряд важных мер, призванных исправить положение дел в этой области.
Трудности связаны прежде всего с дисбалансом преимуществ и издержек между странами ЕЭП. Для Казахстана и Белоруссии ТС предполагает значительное увеличение пошлин на импорт, и как следствие – рост цен и искажение структуры торговых связей. Для России неясно, например, каким образом фитосанитарные стандарты, принятые властями отдельных стран, будут реализовываться и контролироваться на территории ТС. В принципе, по существующим оценкам (а на сегодняшний день крупные исследования, посвященные ТС и ЕЭП, опубликованы Всемирным банком и Центром интеграционных исследований ЕАБР), новые интеграционные структуры способны содействовать росту своих членов за счет большей емкости внутреннего рынка и интенсивной конкуренции, но лишь при реализации ряда условий, и в первую очередь устранении нетарифных барьеров. Пока что процесс установления общих технических и фитосанитарных норм на территории ТС идет медленно.
В среднесрочной перспективе перед ЕЭП встает хорошо известная по европейскому опыту дилемма «расширения или углубления». Одна из причин успеха ТС заключается в том, что, в отличие от предыдущих проектов региональной интеграции с нереалистичными амбициозными программами, Таможенный союз сосредоточился на четко очерченной и достаточно узкой цели. При этом членство в ТС намного более однородно, чем во многих других региональных соглашениях бывшего Советского Союза, и в данном конкретном случае круг участников подобран удачно (в отличие от других проектов). Способен ли союз «тройки» выйти за пределы первоначальной повестки дня? Вступление в силу пакета соглашений ЕЭП показывает, что да. Но тут же правомерен следующий вопрос: не представляет ли столь быстрое движение всего за два года (переход от формата ТС с не полностью еще разрешенными техническими проблемами к ЕЭП) значительный риск с точки зрения перспектив углубления интеграции? Неудачи способны подорвать доверие к ЕЭП со стороны населения и бизнеса, а государственный аппарат может попросту не справиться с заданным темпом. Однако особенность постсоветского пространства (в отличие, скажем, от европейского опыта) состоит в том, что взаимосвязи в области движения факторов производства (для стран ТС речь идет о капитале, а для других стран СНГ и ТС – рабочей силе) развиваются гораздо более динамично, чем в сфере торговли. С этой точки зрения останавливаться на формате ТС нецелесообразно – он лишь косвенно затрагивает взаимодействие в областях, где «интеграция снизу» идет действительно интенсивно. Парадоксальным образом в постсоветском мире (как, возможно, и в ряде других группировок развивающихся стран) реального успеха может добиться лишь достаточно глубокая форма интеграции.
Вопрос расширения ТС в настоящее время активно обсуждается в первую очередь в связи с двумя странами: Украиной и Киргизией. Членство Украины в ЕЭП – вопрос довольно проблематичный, несмотря на все усилия «тройки» (особенно России) и тесные экономические связи. Вхождение Украины в ЕЭП с последующим технологическим сближением, по экспертным оценкам, обеспечит в долгосрочной перспективе положительный эффект до 6% ВВП (таков результат совместного проекта ЕАБР с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономической политики НАНУ). Однако чрезвычайно сильны политические факторы, препятствующие интеграции. Даже такой нейтральный и не требующий принципиального выбора вопрос, как вступление Украины в акционеры ЕАБР, пробуксовывает, несмотря на очевидные выгоды для Киева.
Что касается Киргизии, то вхождение в состав ЕЭП и ТС весьма вероятно, что, впрочем, связано с уязвимым экономическим положением страны. Киргизская экономика в последние годы росла прежде всего за счет превращения в перевалочную базу реэкспорта китайских потребительских товаров в страны СНГ и Центральной Азии, что стало возможным по причине крайне либерального внешнеторгового регулирования. Оказавшись вне пределов ТС, Бишкек больше не в состоянии обеспечивать эту роль в связи с ростом таможенных барьеров на границе с Казахстаном, куда и направляются китайские товары; вступив в Таможенный союз, Киргизия будет вынуждена ужесточить свой внешнеторговый режим, что также частично закроет «окно» для торговли с Китаем. Расчеты разных коллективов (Центр интеграционных исследований ЕАБР, НИСИ Кыргызстана) показывают, что баланс преимуществ и недостатков – в пользу вступления в Таможенный союз. Еще одной проблемой является членство Киргизии в ВТО: вступление в ТС предусматривает повышение тарифов, причем некоторых из них – до уровня, противоречащего требованиям ВТО. Безусловно, ожидаемое вступление России и Казахстана в эту организацию облегчит решение данной проблемы.
В долгосрочной перспективе, наконец, существует ряд факторов, сдерживающих развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, с которыми раньше или позже придется столкнуться и Евразийскому экономическому союзу. Во-первых, доминирование ресурсного сектора в экономике двух из трех государств ЕЭП делает ограниченной отдачу от интеграционного взаимодействия – ключевые нефтегазовые отрасли России и Казахстана все равно ориентированы на внешние рынки. Следовательно, успех интеграции требует диверсификации экономики и сокращения сырьевой зависимости – задача, примеров успешного решения которой в мире практически нет. Во-вторых, прогресс постсоветской интеграции зависит и от успехов в области модернизации институтов и общества постсоветских стран – еще одна крайне сложная задача.
От постсоветской к евразийской интеграции
Проблемы, однако, не ограничиваются взаимодействием, собственно, постсоветских стран, они затрагивают и характер их отношений с остальным миром. Для многих (в том числе и для России) ЕС является более важным торговым партнером, чем ближайшие соседи. В Центральной Азии, а в последние годы – в Белоруссии и Украине медленно, но верно растет роль Китая как источника инвестиций и займов. И игроки, и наблюдатели, похоже, едины в том, что постсоветская интеграция и европейский интеграционный вектор принципиально несовместимы, и страны Восточной Европы – Украина, Белоруссия, Молдавия – должны сделать однозначный выбор в пользу того или иного направления. Мы вправе усомниться, насколько такое представление соответствует действительности, но пока оно доминирует и оказывает ярко выраженное негативное воздействие на динамику интеграции в Северной Евразии. Поэтому особенно важно еще раз подчеркнуть – потенциал интеграционных проектов на постсоветском пространстве сможет полностью реализоваться, только если они будут осуществлены как часть более широкой трансконтинентальной интеграции с участием внешних игроков.
Прежде всего это касается инфраструктурных сетей. Географическое положение постсоветских стран между Европой и Азией позволяет государствам СНГ извлекать большую выгоду из своего транспортного потенциала – но только если он увязан с трансграничными транспортными проектами, реализуемыми в других частях Евразии, например, Евросоюзом или Азиатским банком развития. В области электроэнергии общий рынок бывшего Советского Союза, главным образом унаследованный от объединенных энергосистем СССР, был бы более эффективен, будь он замкнут и на энергетические рынки других стран, например, ЕС, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая. Точно так же преимущества открытых границ с внешними игроками относятся к торговле и инвестициям, где подобный «открытый регионализм» позволяет избежать конфликтов между интеграционными проектами. Вообще при конструировании новых интеграционных проектов необязательно жестко следовать границам бывшего СССР – напротив, нет ничего более естественного, чем поиск новых партнеров за их пределами, особенно в Европе и Восточной Азии.
Способ организации взаимодействия с внешними игроками различается на западном и восточном флангах постсоветского пространства. На западе приоритетом можно считать структурирование Евразийского экономического союза таким образом, чтобы участие в нем совмещалось с сотрудничеством с ЕС. Например, унификация стандартов, технических и фитосанитарных норм. Конечно, речь идет не об одномоментном решении. Унификация связана со значительными издержками, но оптимальный вариант развития – это принципиальный поиск решений, совместимых с европейскими. В торговой сфере это, вероятно, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) ТС и ЕС, учитывающая не только торговые аспекты как таковые, но и единые стандарты, защиту инвестиций, вопросы миграции и визового режима. Говорить о таком сценарии можно и нужно, даже если сегодня он сложнореализуем. В условиях кризиса модели объединения Евросоюз может стать более автаркичным, понадобится время на то, чтобы решить внутренние проблемы фискальной интеграции.
В Азии ситуация, казалось бы, несколько проще – интеграционные проекты носят более гибкий характер и затрагивают ограниченный круг вопросов, так что конкуренция интеграционных инициатив отсутствует, и вовлечение игроков во взаимодействие с постсоветской интеграционной группировкой связано с меньшими институциональными сложностями. Но и здесь немало проблем.
Во-первых, крайне важно избежать превращения постсоветских соглашений в гигантские структуры, включающие огромное количество часто несовместимых игроков – стоит вспомнить опыт АТЭС, оказавшегося жертвой собственного успеха (последовательное применение принципа открытого регионализма привело к росту числа членов организации и их разнородности и в конечном счете значительно снизило дееспособность организации). Во-вторых, и в Азии заметен дефицит доверия – тот же Китай вызывает немалые опасения у элит и населения постсоветских стран (хотя порой это скорее результат мифотворчества, а не реальных рисков). Поэтому в идеале взаимодействие Евразийского экономического союза с азиатскими странами могло бы опираться на ряд комплексных двусторонних зон свободной торговли (желательно включая дополнительные соглашения по безвизовому перемещению и миграции рабочей силы), а также на «функциональные» проекты по эффективному объединению транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур.
* * *
За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций, к которым отдельные страны прибегали для нужд внутренней политики, превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены. С одной стороны, именно текущий формат, сосредоточенный на небольшой группе стран и преследующий конкретную цель (торгово-экономическое сближение), стал основой успеха ТС. С другой стороны, действительно крупного успеха можно добиться, только переступив через нынешние границы – как географические, например, за счет углубления взаимодействия с Китаем и Европейским союзом, так и функциональные – охватив вопросы движения факторов производства, обеспечив единые правила игры (техническое регулирование, доступ к услугам монополий) и гарантировав координацию макроэкономической политики. Наконец, постсоветский регионализм ни в коем случае не является альтернативой глобальной интеграции, например, в рамках Всемирной торговой организации (как порой утверждается). Преимущества от членства в ВТО для стран ЕЭП значительны, поэтому региональный проект должен рассматриваться как процесс, параллельный с глобальной экономической интеграцией.
Постсоветский интеграционный прорыв
Почему Таможенный союз имеет больше шансов, чем его предшественники
Резюме: За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены.
После распада СССР прошло два десятилетия, за которые между бывшими союзными республиками подписано огромное число соглашений, договоров и инициатив. Все они, однако, продемонстрировали неспособность «постсоветской интеграции» обеспечить реальное сотрудничество государств региона. Факт достаточно очевидный всем и в первую очередь самим участникам процесса. Тем более неожиданным для сторонних наблюдателей стало кардинальное изменение ситуации в последние три года. Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, запущенный в 2010 г., стал первой интеграционной группировкой, в рамках которой партнеры выполняют взятые на себя обязательства, не считаясь со значительными затратами. Намерение создать Евразийский экономический союз к 2015 г., обнародованное в ноябре прошлого года, представляется намного более реалистичным, чем большинство подобных постановлений, принятых ранее. Что изменилось на постсоветском пространстве, чтобы подобные проекты стали осуществимыми? Стоит ли рассчитывать на устойчивость новых инициатив? И, с другой стороны, достаточны ли их цели в контексте проблем, стоящих перед постсоветскими странами, и возможностей экономического развития, которыми грех не воспользоваться?
На пути к реальной интеграции
Прежде всего кратко напомним хронологию появления нового поколения интеграционных структур на постсоветском пространстве. Первые призывы к бЧльшему «прагматизму» в сфере интеграции и отказу от нереалистичной риторики прозвучали еще в начале 2000-х годов. Тем не менее вплоть до недавнего времени настоящее сотрудничество наблюдалось лишь в отдельных областях, где нужно решать вопросы общей инфраструктуры, созданной еще в советский период – например, железнодорожных путей или электроэнергетики. Попытки вдохнуть жизнь в существующие структуры сопровождались лишь ростом противоречий. Первыми ласточками изменений можно считать две организации, созданные в 2006 г. – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В отличие от предыдущих инициатив, целью новых стала поддержка конкретных проектов (либо в вопросах развития инфраструктуры и экономики, как банк, либо в начинаниях в сфере культуры и образования, как фонд), а не общие нормы и координация политики. Четкая ориентация на конкретные прикладные задачи сотрудничества позволила избежать превращения этих организаций в очередные бумажные структуры.
Однако подлинный прорыв принесло, казалось бы, неожиданное обстоятельство – мировой экономический кризис 2007–2009 годов. Вместо того чтобы принимать все более жесткие односторонние протекционистские меры (как это нередко бывает в условиях глобальных потрясений), постсоветские государства, напротив, попытались наладить более эффективное сотрудничество. Крупным решением, напрямую связанным с кризисом, стало создание в 2009 г. Антикризисного фонда ЕврАзЭС с капиталом в 8,513 млрд долларов. На фонд возложена двойная функция: во-первых, предоставлять стабилизационные кредиты, исполняя функции своего рода «регионального МВФ», компенсировать дефициты платежного баланса и бюджета, а также поддерживать национальную валюту, и, во-вторых, укреплять региональное сотрудничество в качестве кредитора крупных инвестиционных проектов. На данный момент займы фонда предоставлены Таджикистану и Белоруссии. Постсоветская интеграция стала финансово привлекательной, по крайней мере для некоторых стран.
В 2010 г., как упомянуто выше, вступил в силу ТС – самое впечатляющее на сегодняшний день достижение постсоветской интеграции. Главные элементы – это общие пошлины по отношению к третьим странам и общий таможенный кодекс, регулирующий большинство торговых вопросов стран-участниц. Таможенный союз действует по схеме пропорционального голосования, но до сих пор все решения принимались на основе консенсуса. Участникам пришлось внести серьезные изменения во внешнеэкономическое регулирование. Казахстан, например, повысил 45% таможенных тарифов и снизил 10%. Помимо отношений с третьими странами, ТС повысил возможности и для взаимодействия между странами-участницами, причем не только в сфере торговли: в приграничных районах некоторые российские компании рассматривают вариант перехода под юрисдикцию Казахстана с более низким налоговым бременем.
Однако еще больший эффект от либерализации инвестиционных потоков можно ожидать в связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. пакета соглашений о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). В настоящий момент ЕЭП уже включает 17 соглашений, еще 55 находятся в стадии подготовки. Они касаются свободы передвижения капитала и труда, общей политики конкуренции (включая естественные монополии, закупки и субсидии), координирования макроэкономической политики, торговли услугами, технических стандартов, а также доступа к газо- и нефтепроводам, электросетям и железнодорожным сетям. Для координации ЕЭП в феврале 2012 г. создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный орган с широкими полномочиями. Интересно, что «нижняя палата» ЕЭК – коллегия – построена по образцу комиссии ЕС и состоит из чиновников, отвечающих за конкретные функциональные направления интеграции, а не выступающих исключительно в роли представителей своих стран. К последующим мерам, направленным на создание Евразийского экономического союза, относятся, к примеру, утверждение с 2013 г. единого железнодорожного тарифа на грузы и национальный режим государственных закупок для всех компаний трех стран-участниц, начиная с 2014 года.
«Интеграция снизу» и глобальный кризис
Успех ТС и ЕЭП представляется тем более неожиданным, что он, казалось бы, противоречит логике развития постсоветского пространства. Двадцать лет назад бывшие республики СССР были гораздо более тесно связаны между собой с экономической точки зрения – а их интеграция (в том числе и в форме рублевой зоны) полностью провалилась. Достижения постсоветской интеграции последних лет, вероятно, связаны с двумя обстоятельствами – ростом реальной интеграции «снизу» в 2000-е гг. и глобальным экономическим кризисом.
Во-первых, описывать все двадцатилетие после распада СССР как период постоянно углубляющейся фрагментации было бы некорректно. Действительно, многие старые «советские» связи оказались разорваны – однако с начала 2000-х гг. им на смену пришли новые формы взаимозависимости. Экономический рост России и Казахстана с 1999–2000 гг. резко увеличил аппетиты нарождающихся транснациональных корпораций этих стран, приступивших к интенсивному освоению постсоветского пространства. Уже сегодня российский бизнес, например, доминирует в сфере мобильной сотовой связи в большинстве стран СНГ; российские компании играют важную роль и во многих других отраслях. Казахстан являлся лидером в инвестициях в банковском секторе стран СНГ до 2008 года. Другая форма новой взаимозависимости – трудовая миграция. Если в 1990-е гг. миграционные потоки в СНГ носили преимущественно характер постоянного переселения и были связаны, например, с оттоком русскоязычного населения из новых независимых государств, то в последнее десятилетие наблюдался экспоненциальный рост временной миграции, основанной на преимущественно экономических факторах. В результате денежные переводы трудовых мигрантов стали в некоторых странах СНГ основой экономического роста. В России же трудовые мигранты производят, по оценкам экспертов, около 6% ВВП страны.
Представление о безусловном росте взаимозависимости постсоветских стран было бы, конечно, тоже большим упрощением. Процессы регионализации по-разному проявляются в различных сферах взаимодействия (они, например, гораздо менее затратны в сфере взаимной торговли) и в неравной степени затрагивают разные страны. По оценкам Системы индикаторов евразийской интеграции ЕАБР – набора показателей, характеризующих экономическую взаимозависимость постсоветских стран за последнее десятилетие – можно говорить о формировании своеобразного интеграционного ядра России, Белоруссии и Казахстана уже с 2004–2005 гг., «интеграция снизу» шла быстрыми темами. Возможно, создание ТС во многом и стало следствием роста взаимосвязей в пределах этого ядра.
Во-вторых, то обстоятельство, что ТС и ЕЭП возникли вскоре после того как постсоветское пространство накрыла волна глобального кризиса – больше чем совпадение. Логика регионализма здесь в корне отличается от «стандартной», хорошо изученной в мировой литературе. Как правило, стартовой площадкой интеграции служит существование нескольких обособленных в экономическом плане стран, для которых интеграционные процессы, как минимум в краткосрочной перспективе, связаны со значительными издержками: региональная интеграция требует изменений в законодательстве и адаптации к новым стандартам, она сопровождается ростом конкуренции. Неудивительно, что политики скорее склонны поддерживать региональную интеграцию в более благополучные периоды (когда эти издержки не столь заметны) и в гораздо меньшей степени склонны затевать интеграционные проекты в момент кризиса – достаточно вспомнить период стагнации в развитии европейской интеграции в 1970-е годы.
На постсоветском пространстве ситуация противоположная. Между странами сохраняется взаимозависимость, унаследованная от советского периода. Поэтому выбор дезинтеграционного курса, для чего требуется создание новых отраслей промышленности и поиск других способов интеграции в глобальное разделение труда, зачастую обходится дороже. Поэтому именно в периоды кризисов региональная интеграция представляется более приемлемой альтернативой – в «тучные годы» страны, напротив, могут экспериментировать с различными вариантами политики автаркии или с поиском новых партнеров. Иначе говоря, шок от глобальной нестабильности (нанесший болезненный удар и по Казахстану, первым на постсоветском пространстве ощутившему волну кризиса уже в 2007 г., и по Белоруссии, двумя годами позже вынужденной пойти на масштабную девальвацию своей валюты, и по России) сблизил постсоветские страны.
Проблемы и противоречия
Реальная ситуация, конечно, не столь безоблачна. ЕЭП и ТС сталкиваются с рядом серьезных проблем, решение которых и определит будущее этих организаций. В краткосрочной перспективе главные сложности носят технический характер. Нормы таможенного кодекса ТС нередко, хотя и лишь отчасти, противоречат нормам национального законодательства, далеко не всегда отработан порядок их правоприменения. Для ЕЭП механизмы реализации базовых соглашений еще только предстоит создать. Подобного рода проблемы неизбежны при осуществлении столь крупных проектов, но способны оказаться фатальными, особенно в условиях неэффективной бюрократии, делая интеграционную структуру непривлекательной для бизнес-структур. Необходимо отметить, что комиссия ТС приняла целый ряд важных мер, призванных исправить положение дел в этой области.
Трудности связаны прежде всего с дисбалансом преимуществ и издержек между странами ЕЭП. Для Казахстана и Белоруссии ТС предполагает значительное увеличение пошлин на импорт, и как следствие – рост цен и искажение структуры торговых связей. Для России неясно, например, каким образом фитосанитарные стандарты, принятые властями отдельных стран, будут реализовываться и контролироваться на территории ТС. В принципе, по существующим оценкам (а на сегодняшний день крупные исследования, посвященные ТС и ЕЭП, опубликованы Всемирным банком и Центром интеграционных исследований ЕАБР), новые интеграционные структуры способны содействовать росту своих членов за счет большей емкости внутреннего рынка и интенсивной конкуренции, но лишь при реализации ряда условий, и в первую очередь устранении нетарифных барьеров. Пока что процесс установления общих технических и фитосанитарных норм на территории ТС идет медленно.
В среднесрочной перспективе перед ЕЭП встает хорошо известная по европейскому опыту дилемма «расширения или углубления». Одна из причин успеха ТС заключается в том, что, в отличие от предыдущих проектов региональной интеграции с нереалистичными амбициозными программами, Таможенный союз сосредоточился на четко очерченной и достаточно узкой цели. При этом членство в ТС намного более однородно, чем во многих других региональных соглашениях бывшего Советского Союза, и в данном конкретном случае круг участников подобран удачно (в отличие от других проектов). Способен ли союз «тройки» выйти за пределы первоначальной повестки дня? Вступление в силу пакета соглашений ЕЭП показывает, что да. Но тут же правомерен следующий вопрос: не представляет ли столь быстрое движение всего за два года (переход от формата ТС с не полностью еще разрешенными техническими проблемами к ЕЭП) значительный риск с точки зрения перспектив углубления интеграции? Неудачи способны подорвать доверие к ЕЭП со стороны населения и бизнеса, а государственный аппарат может попросту не справиться с заданным темпом. Однако особенность постсоветского пространства (в отличие, скажем, от европейского опыта) состоит в том, что взаимосвязи в области движения факторов производства (для стран ТС речь идет о капитале, а для других стран СНГ и ТС – рабочей силе) развиваются гораздо более динамично, чем в сфере торговли. С этой точки зрения останавливаться на формате ТС нецелесообразно – он лишь косвенно затрагивает взаимодействие в областях, где «интеграция снизу» идет действительно интенсивно. Парадоксальным образом в постсоветском мире (как, возможно, и в ряде других группировок развивающихся стран) реального успеха может добиться лишь достаточно глубокая форма интеграции.
Вопрос расширения ТС в настоящее время активно обсуждается в первую очередь в связи с двумя странами: Украиной и Киргизией. Членство Украины в ЕЭП – вопрос довольно проблематичный, несмотря на все усилия «тройки» (особенно России) и тесные экономические связи. Вхождение Украины в ЕЭП с последующим технологическим сближением, по экспертным оценкам, обеспечит в долгосрочной перспективе положительный эффект до 6% ВВП (таков результат совместного проекта ЕАБР с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономической политики НАНУ). Однако чрезвычайно сильны политические факторы, препятствующие интеграции. Даже такой нейтральный и не требующий принципиального выбора вопрос, как вступление Украины в акционеры ЕАБР, пробуксовывает, несмотря на очевидные выгоды для Киева.
Что касается Киргизии, то вхождение в состав ЕЭП и ТС весьма вероятно, что, впрочем, связано с уязвимым экономическим положением страны. Киргизская экономика в последние годы росла прежде всего за счет превращения в перевалочную базу реэкспорта китайских потребительских товаров в страны СНГ и Центральной Азии, что стало возможным по причине крайне либерального внешнеторгового регулирования. Оказавшись вне пределов ТС, Бишкек больше не в состоянии обеспечивать эту роль в связи с ростом таможенных барьеров на границе с Казахстаном, куда и направляются китайские товары; вступив в Таможенный союз, Киргизия будет вынуждена ужесточить свой внешнеторговый режим, что также частично закроет «окно» для торговли с Китаем. Расчеты разных коллективов (Центр интеграционных исследований ЕАБР, НИСИ Кыргызстана) показывают, что баланс преимуществ и недостатков – в пользу вступления в Таможенный союз. Еще одной проблемой является членство Киргизии в ВТО: вступление в ТС предусматривает повышение тарифов, причем некоторых из них – до уровня, противоречащего требованиям ВТО. Безусловно, ожидаемое вступление России и Казахстана в эту организацию облегчит решение данной проблемы.
В долгосрочной перспективе, наконец, существует ряд факторов, сдерживающих развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, с которыми раньше или позже придется столкнуться и Евразийскому экономическому союзу. Во-первых, доминирование ресурсного сектора в экономике двух из трех государств ЕЭП делает ограниченной отдачу от интеграционного взаимодействия – ключевые нефтегазовые отрасли России и Казахстана все равно ориентированы на внешние рынки. Следовательно, успех интеграции требует диверсификации экономики и сокращения сырьевой зависимости – задача, примеров успешного решения которой в мире практически нет. Во-вторых, прогресс постсоветской интеграции зависит и от успехов в области модернизации институтов и общества постсоветских стран – еще одна крайне сложная задача.
От постсоветской к евразийской интеграции
Проблемы, однако, не ограничиваются взаимодействием, собственно, постсоветских стран, они затрагивают и характер их отношений с остальным миром. Для многих (в том числе и для России) ЕС является более важным торговым партнером, чем ближайшие соседи. В Центральной Азии, а в последние годы – в Белоруссии и Украине медленно, но верно растет роль Китая как источника инвестиций и займов. И игроки, и наблюдатели, похоже, едины в том, что постсоветская интеграция и европейский интеграционный вектор принципиально несовместимы, и страны Восточной Европы – Украина, Белоруссия, Молдавия – должны сделать однозначный выбор в пользу того или иного направления. Мы вправе усомниться, насколько такое представление соответствует действительности, но пока оно доминирует и оказывает ярко выраженное негативное воздействие на динамику интеграции в Северной Евразии. Поэтому особенно важно еще раз подчеркнуть – потенциал интеграционных проектов на постсоветском пространстве сможет полностью реализоваться, только если они будут осуществлены как часть более широкой трансконтинентальной интеграции с участием внешних игроков.
Прежде всего это касается инфраструктурных сетей. Географическое положение постсоветских стран между Европой и Азией позволяет государствам СНГ извлекать большую выгоду из своего транспортного потенциала – но только если он увязан с трансграничными транспортными проектами, реализуемыми в других частях Евразии, например, Евросоюзом или Азиатским банком развития. В области электроэнергии общий рынок бывшего Советского Союза, главным образом унаследованный от объединенных энергосистем СССР, был бы более эффективен, будь он замкнут и на энергетические рынки других стран, например, ЕС, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая. Точно так же преимущества открытых границ с внешними игроками относятся к торговле и инвестициям, где подобный «открытый регионализм» позволяет избежать конфликтов между интеграционными проектами. Вообще при конструировании новых интеграционных проектов необязательно жестко следовать границам бывшего СССР – напротив, нет ничего более естественного, чем поиск новых партнеров за их пределами, особенно в Европе и Восточной Азии.
Способ организации взаимодействия с внешними игроками различается на западном и восточном флангах постсоветского пространства. На западе приоритетом можно считать структурирование Евразийского экономического союза таким образом, чтобы участие в нем совмещалось с сотрудничеством с ЕС. Например, унификация стандартов, технических и фитосанитарных норм. Конечно, речь идет не об одномоментном решении. Унификация связана со значительными издержками, но оптимальный вариант развития – это принципиальный поиск решений, совместимых с европейскими. В торговой сфере это, вероятно, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) ТС и ЕС, учитывающая не только торговые аспекты как таковые, но и единые стандарты, защиту инвестиций, вопросы миграции и визового режима. Говорить о таком сценарии можно и нужно, даже если сегодня он сложнореализуем. В условиях кризиса модели объединения Евросоюз может стать более автаркичным, понадобится время на то, чтобы решить внутренние проблемы фискальной интеграции.
В Азии ситуация, казалось бы, несколько проще – интеграционные проекты носят более гибкий характер и затрагивают ограниченный круг вопросов, так что конкуренция интеграционных инициатив отсутствует, и вовлечение игроков во взаимодействие с постсоветской интеграционной группировкой связано с меньшими институциональными сложностями. Но и здесь немало проблем.
Во-первых, крайне важно избежать превращения постсоветских соглашений в гигантские структуры, включающие огромное количество часто несовместимых игроков – стоит вспомнить опыт АТЭС, оказавшегося жертвой собственного успеха (последовательное применение принципа открытого регионализма привело к росту числа членов организации и их разнородности и в конечном счете значительно снизило дееспособность организации). Во-вторых, и в Азии заметен дефицит доверия – тот же Китай вызывает немалые опасения у элит и населения постсоветских стран (хотя порой это скорее результат мифотворчества, а не реальных рисков). Поэтому в идеале взаимодействие Евразийского экономического союза с азиатскими странами могло бы опираться на ряд комплексных двусторонних зон свободной торговли (желательно включая дополнительные соглашения по безвизовому перемещению и миграции рабочей силы), а также на «функциональные» проекты по эффективному объединению транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур.
* * *
За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций, к которым отдельные страны прибегали для нужд внутренней политики, превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены. С одной стороны, именно текущий формат, сосредоточенный на небольшой группе стран и преследующий конкретную цель (торгово-экономическое сближение), стал основой успеха ТС. С другой стороны, действительно крупного успеха можно добиться, только переступив через нынешние границы – как географические, например, за счет углубления взаимодействия с Китаем и Европейским союзом, так и функциональные – охватив вопросы движения факторов производства, обеспечив единые правила игры (техническое регулирование, доступ к услугам монополий) и гарантировав координацию макроэкономической политики. Наконец, постсоветский регионализм ни в коем случае не является альтернативой глобальной интеграции, например, в рамках Всемирной торговой организации (как порой утверждается). Преимущества от членства в ВТО для стран ЕЭП значительны, поэтому региональный проект должен рассматриваться как процесс, параллельный с глобальной экономической интеграцией.
Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.
А.М. Либман – доктор экономических наук, профессор международной политэкономии Франкфуртской школы финансов и менеджмента и старший научный сотрудник Института экономики РАН.
Не в демократии дело
Какой будет внешняя политика демократической России
Резюме: Определение сходств и различий внешней политики будущей демократической России и нынешнего курса Путина/Медведева поможет разграничить глубинное и конъюнктурное. В чем состоят ключевые внешнеполитические интересы, не зависящие от правящего режима, а в чем особые интересы авторитарной власти.
Статья опубликована в журнале New Zealand International Review.
Если бы Россия стала по-настоящему демократической страной, какова была бы ее внешняя политика? Отличалась ли бы она от той, что мы видим сегодня? Совпадала бы в большей степени с внешнеполитическим курсом США? Станет ли новая Россия разделять ценности, которых придерживается Евросоюз в отношениях с другими странами? Или серьезные разногласия с Западом сохранятся?
Сама по себе постановка таких вопросов предполагает, что Россия может стать и станет когда-нибудь полноценной демократией. Многие немедленно возразят, что это маловероятно и даже невозможно. Но ни одна страна не являлась демократией изначально. Сначала все государства были авторитарными. Утверждение, будто кто-либо, например Россия, не будет (или, что еще хуже, не может быть) демократическим государством, гораздо более сомнительно, чем предположение, что это когда-нибудь произойдет. При этом очень сложно предсказать, как и когда это случится. Быстро и неожиданно в результате «цветной революции». Или в ходе эволюционного процесса, который продлится несколько лет или даже десятилетий.
Внутренняя политика администрации Путина/Медведева и курс демократической России будут существенно различаться. Но насколько изменится внешняя политика? Она, вероятно, не во всем будет совпадать с нынешним курсом, однако в целом, скорее, останется прежней. В конце концов, не все демократии солидарны с американской линией. Франция, в частности, демонстрировала это неоднократно. У демократической России тоже могут быть разногласия с Вашингтоном, Парижем, Евросоюзом в целом.
Определение сходств и различий внешней политики демократической России и курса Путина/Медведева поможет разграничить ключевые внешнеполитические интересы – вне зависимости от правящего режима – и особые интересы авторитарной власти, которые могут измениться в процессе демократизации.
Надо ли России в ЕС?
Некоторые вопросы, осложняющие сегодня российско-европейские отношения, могут стать менее значимыми или вообще исчезнуть. Хотя ряд разногласий, скорее всего, сохранится, а некоторые обострятся. Нынешняя озабоченность Европы по поводу недемократичности России просто исчезнет, вопросы защиты прав граждан и необходимости верховенства закона потеряют актуальность (хотя споры по поводу расхождения достижения этих целей останутся). Тем не менее никуда не денутся серьезные споры, касающиеся отношений России и Европейского союза (связи России и НАТО также могут оказаться источником проблем, но об этом ниже).
Неизбежно возникнет следующий вопрос: должна ли Россия присоединиться к Евросоюзу? Плюсы включают возможность для россиян свободно путешествовать, учиться и работать в странах ЕС. Минусы будут связаны с тем, что России придется не только разрешить европейским корпорациям свободу торговли и инвестиций на своей территории, но и обеспечивать защиту прав, несмотря на возражения их российских конкурентов и общественное мнение. Хотя приобретение европейскими фирмами с качественным менеджментом плохо управляемых российских компаний, замена их руководства и полная реорганизация отвечают долгосрочным интересам страны, это, несомненно, окажется очень болезненным для некоторых категорий россиян (особенно высокопоставленных управленцев). Демократической России придется решить для себя: превышают ли выгоды от вступления в Евросоюз вероятные издержки?
Но даже если демократическая Россия захочет присоединиться к ЕС, это не означает, что Европейский союз согласится. Те, кто выступает против принятия Турции и Украины, не желая распространять блага объединения на две эти густонаселенные, но довольно бедные страны, будут возражать и против вступления России. Латентный страх перед Москвой сохраняется в некоторых странах Восточной Европы, поэтому они будут стремиться блокировать интеграцию. Разумеется, более влиятельные западноевропейцы, которые сегодня не обращают особого внимания на восточноевропейские страхи по поводу авторитарной России, тем более проигнорируют их, когда дело будет касаться России демократической. Однако даже для Западной Европы основная выгода обсуждения с Москвой перспектив интеграции заключается в том, что это станет наилучшим способом изменить ее поведение в сторону соответствия европейским нормам.
Так, Евросоюз, вероятно, будет ожидать от демократической России, стремящейся вступить в ЕС, поддержки демократических преобразований в Белоруссии; сокращения военного присутствия в Калининграде и вывода войск из Приднестровья; усилий, направленных на разрешение приднестровской проблемы и воссоединение региона с Молдавией; содействия признанию Сербией независимости Косово и нормализации отношений между ними; отказа от идеи особой зоны российского влияния, включающей бывшие западные советские республики (Прибалтика, Белоруссия, Украина и Молдавия).
Европейский союз можно рассматривать как клуб. Правила в клубах устанавливают те, кто вступил первым. Присоединившиеся позже могут изменить эти нормы (если им удастся убедить в необходимости этого других членов), но чтобы получить право войти, им придется принять существующий устав. Клубы не меняют свои правила ради удовлетворения тех, кто стремится вступить. Разумеется, отнюдь не факт, что даже демократическая Россия захочет принять условия участия, которые, без сомнения, выдвинет Евросоюз. Однако совершенно очевидно, что ЕС не изменит существующие нормы, чтобы выполнить пожелания Москвы.
Между Ираном и Израилем
Нынешняя внешняя политика России на Ближнем Востоке уже достаточно сложна. Курс демократической России, вероятно, будет еще более многослойным.
При Путине и Медведеве Москва укрепила связи практически со всеми крупными игроками в регионе – Ираном, Израилем, консервативными и радикальными арабскими правительствами и даже с ХАМАС и «Хезболлой». В целом у Москвы хорошие отношения со всеми, кроме «Аль-Каиды» и ее подразделений – поскольку с ними, разумеется, не ладит никто.
Даже сейчас в России существуют сторонники строительства и поддержания хороших отношений с некоторыми специфическими ближневосточными государствами. Нефтяная индустрия России, например, заинтересована в улучшении российско-иранских связей, дабы увеличить свою долю в прибыльном иранском нефтяном секторе. Российская оборонная промышленность также хотела бы экспортировать больше оружия в Иран. Разумеется, обе эти отрасли хотят сотрудничать и с другими ближневосточными государствами, у многих из которых скверные отношения с Тегераном.
Министерство обороны России – за улучшение российско-израильских отношений, поскольку Израиль превратился в важный источник военных технологий. Их использование поможет расширить экспорт российских вооружений в некоторые страны, поэтому у российского оборонного комплекса существует мощный стимул для укрепления связей с израильтянами.
До сих пор российское общественное мнение мало влияло на отношения Москвы с Ближним Востоком. Если Россия станет демократической, она, вероятно, будет играть важную роль в формировании внешней политики в этом регионе – как это происходит с другими демократиями. Однако, как и там, общественность может быть расколота по поводу Ближнего Востока. Так, значительное мусульманское население будет настроено в поддержку палестинцев и против Израиля – как оно настроено в других, преимущественно немусульманских странах. Поскольку мусульманское меньшинство в России достаточно велико (около одной восьмой от населения страны) и численность мусульман существенно превышает численность евреев, у правительства появятся серьезные мотивы, чтобы пойти навстречу пожеланиям этой части электората. Однако в силу враждебности между русскими и мусульманами, а также страха перед исламским радикализмом внутри страны многие избиратели будут рассматривать Израиль как союзника в борьбе с общим исламским противником. Обширные культурные, торговые и туристические связи, укрепляющиеся между Россией и Израилем, могут содействовать появлению влиятельного израильского лобби (на самом деле оно уже существует).
Как и в других демократических странах, правительство будущей России может столкнуться с давлением противоборствующих групп при формулировании ближневосточной политики. Вероятно, Москва будет стремиться поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами палестино-израильского и других конфликтов.
Наконец, можно уверенно прогнозировать, что, как и другие демократии, Россия опасается роста исламского радикализма в результате попыток демократизации на Ближнем Востоке (как это происходит сейчас). И, возможно, появится гораздо больше оснований для беспокойства по поводу внутренних последствий роста исламского радикализма на Ближнем Востоке, чем у других демократических стран.
Вокруг Китая
У демократической России, скорее всего, останутся те же интересы в отношении Азии, как и при Путине/Медведеве. Демократическая или авторитарная Москва одинаково озабочена ростом Китая. Стремясь к хорошим отношениям с поднимающимся Китаем, любая Россия будет рассматривать дружбу с Индией как противовес Пекину. И считать Пакистан, который продолжает поддерживать «Талибан» и другие радикальные исламистские группировки, серьезной угрозой национальным интересам.
В самом деле, если американские войска покинут Афганистан, соперничество за эту страну между Пакистаном, с одной стороны, и авторитарной либо демократической Россией – с другой, вполне может возобновиться. Если Исламабад поддержит стремление преимущественно пуштунского «Талибана» вернуться к власти, то Москва – независимо от типа режима – скорее всего, встанет на сторону сопротивляющихся этому узбеков и таджиков северного Афганистана, как уже было в 1990-е годы. Естественными союзниками демократической или авторитарной России в этих усилиях окажутся США (которые, вероятно, продолжат предоставлять военную помощь Кабулу даже после вывода войск), Индия и, возможно, даже Иран (который тоже опасается антишиитского «Талибана»).
Внешняя политика в Азии может быть схожа с нынешней еще по двум вопросам. Так, демократическая Россия вряд ли окажется склонна к уступкам Японии по вопросу о Курилах. На самом деле общественное мнение, настроенное против любых территориальных компромиссов, может сделать разрешение спора вокруг «северных территорий» еще более сложным. Точно так же демократическая Россия вряд ли будет готова больше, чем ныне, оказывать давление на КНДР в вопросе о ее ядерной программе, поскольку не захочет навлекать на себя гневные проклятия вспыльчивых северокорейских руководителей. Наконец, так же как и при Путине/Медведеве, демократическая Россия сосредоточится на продвижении коммерческих интересов Москвы в Азии.
Пожалуй, в одном азиатская политика будет отличаться от нынешнего курса – она может оказаться более чувствительной к любым проявлениям страхов российского общества относительно роста Китая, посягающего как на российские интересы, так и на сферу российского влияния в Центральной Азии. Эти опасения способны подтолкнуть Москву к более тесному сотрудничеству с другими странами, обеспокоенными подъемом Китая, – в особенности с Индией, Соединенными Штатами и даже Японией. Но, как и режим Путина/Медведева сегодня, правительство демократической России не захочет ухудшения отношений с Пекином, чтобы не лишать его стимулов к поддержанию тесных связей с Москвой.
Демократическая трансформация – ни за, ни против
В отношении Латинской Америки и Африки будущая Россия, вероятно, сохранит нынешний курс. Как и сейчас, интересы там будут в первую очередь коммерческими. Москва сосредоточится на укреплении экономических отношений с более богатыми государствами, в особенности с Мексикой, Бразилией, Чили, ЮАР и, возможно, Нигерией. Учитывая исторические связи, а также значительные нефтяные ресурсы, Москва, вероятно, продолжит развивать контакты с Анголой.
В отличие от сегодняшнего дня, демократическая Россия, наверное, станет меньше поддерживать антиамериканские режимы в Латинской Америке: Кубу, Венесуэлу, Боливию, Эквадор и Никарагуа. Однако пока это приносит прибыль, деловые интересы (особенно в нефтяной сфере и в области вооружений) будут направлены на торговлю с ними и инвестиции в эти страны. Кроме того, даже демократическая Россия может увидеть определенные преимущества в сохранении антагонистических отношений между Соединенными Штатами, с одной стороны, и левыми режимами Латинской Америки – с другой. Если американские корпорации не хотят или не могут (из-за санкций Вашингтона) торговать с этими странами и инвестировать в их экономики, это дает больше возможностей компаниям из России (а также из других государств). Но если какой-либо из левых режимов Латинской Америки попытается захватить активы или в одностороннем порядке ограничить деятельность российских фирм (как Уго Чавес поступил с западными корпорациями), демократическая Россия поддержит свои компании – так же, как и при Путине/Медведеве.
Однако в отличие от нынешнего правительства Россия в будущем вряд ли станет возражать против демократической трансформации любого из антиамериканских авторитарных (или квазиавторитарных) режимов в Латинской Америке и Африке. Но не будет активно содействовать этому процессу – также как нынешнее правительство Путина/Медведева не предпринимает активных шагов, чтобы его предотвратить. Как сейчас, так и в будущем Латинская Америка и Африка вряд ли окажутся приоритетом для России.
Отказ от нулевой суммы
Демократическая Россия, несомненно, захочет сохранить влияние в бывших советских республиках. И точно так же, как при Путине/Медведеве (а возможно, даже больше), Москва будет озабочена положением русских. Однако этих целей, наверное, станут добиваться иначе, нежели сейчас.
Демократическая Россия может использовать более грамотный подход для сохранения влияния в ближнем зарубежье. Правительство Путина/Медведева рассматривает этот вопрос с точки зрения игры с нулевой суммой: увеличение западного влияния означает уменьшение российского и поэтому вызывает сопротивление. Другая Россия, напротив, может осознать, что рост западного влияния послужит ее собственным интересам. Если такое влияние поможет сделать эти страны более процветающими, объем их торговли с Россией возрастет. А если воздействие Запада поможет им стать более стабильными, это будет выгоднее для Москвы, чем нестабильность.
Сейчас у России часто возникают споры с тремя прибалтийскими государствами (членами ЕС и НАТО), но демократическая Россия может посчитать хорошие отношения с ними важным аспектом укрепления связей с США и Евросоюзом. Она также не будет опасаться демократизации на Украине или в Белоруссии, как это происходит сейчас. И вряд ли станет считать значимым сохранение войск в Приднестровье, как и поддержку авторитарного режима в Тирасполе.
В отношениях с преимущественно мусульманскими бывшими советскими республиками (четыре государства Центральной Азии плюс Азербайджан) будущая Россия не поддержит попытки демократизации, которые могут привести к появлению там радикальных исламистских режимов. Разумеется, этого сегодня опасается не только правительство Путина/Медведева, но и Запад. Раз уж Соединенные Штаты и другие демократии посчитали разумным поддержать авторитарные режимы в преимущественно мусульманских постсоветских республиках, неудивительно, если Москва поступит так же.
Скорее всего, общественное мнение продолжит поддержку православной Армении в длительном конфликте с мусульманским Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. Проблемой останется Грузия, над которой российские войска взяли верх в ходе блицкрига в августе 2008 г., завершившегося признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Хотя Тбилиси продолжит требовать возвращения территорий, как добиться этого на демократической основе – неясно. С другой стороны, демократическая Россия вряд ли вновь вступит в войну с Грузией, как это случилось при Путине/Медведеве. Разве что в случае вспышки нового кризиса, если Москва будет рассматривать правительство Грузии как авторитарное и агрессивное.
Россия как Франция
Отношения с Соединенными Штатами, вероятно, улучшатся, но не будут абсолютно гладкими. Скорее стоит прогнозировать подобие модели США–Франция (по крайней мере до прихода Саркози). Как и Франция, демократическая Россия, считая себя великой державой, будет сопротивляться американским попыткам продиктовать другим демократиям внешнеполитическую повестку дня. Будущее НАТО окажется даже более спорным вопросом, чем при нынешнем режиме. Потому что если Россия станет по-настоящему демократической, она не будет представлять угрозу для Европы или Америки, какие цели останутся у НАТО? С другой стороны, демократическая Россия, все больше опасающаяся мощного и по-прежнему авторитарного Китая, сама может захотеть присоединиться к альянсу. Однако вступление России в НАТО – сложный и противоречивый процесс. В то время как Соединенные Штаты способны поддержать такой шаг, страны Восточной Европы и Балтии, которые в прошлом были оккупированы Советским Союзом и до сих пор боятся России, отнесутся к такой идее без энтузиазма. Сохраняющаяся напряженность между Москвой и Тбилиси также явится препятствием на пути России в НАТО (как сейчас это мешает вступлению туда Грузии). Наконец, так же как некоторые западноевропейские страны, стремясь к хорошим отношениям с Москвой, не особенно прислушивались к опасениям восточноевропейцев, государства и Западной, и Восточной Европы, стремясь к хорошим отношениям с Пекином, могут не прислушаться к опасениям России по поводу Китая.
Один путь, по которому может пойти внешняя политика демократической России, – это союз с Францией и Германией, чтобы попытаться ограничить действия США, как это было в 2002–2003 гг. перед американским вторжением в Ирак. Однако такая возможность пропадает, если Россия стремится к вступлению в Евросоюз, а Франция и Германия выступают против этой идеи или относятся к ней без энтузиазма. Еще один путь – взаимодействие демократической России и Соединенных Штатов ради нейтрализации усилий ЕС по ограничению действия обеих держав. Третий и, видимо, наиболее вероятный путь – сотрудничество демократической России в большей или меньшей степени и с Америкой, и с другими западными странами, но значительно более активное, чем в настоящее время, хотя разногласия по различным вопросам сохранятся.
* * *
Все эти предварительные прогнозы позволяют предположить, что внешняя политика демократической России во многом будет похожа на нынешний курс. Разногласия, имеющиеся сейчас между западными демократиями и правительством Путина/Медведева, вероятно, сохранятся и после демократических преобразований. Если два этих наблюдения верны, можно сделать следующие выводы:
Надежды Запада на то, что демократическая Россия будет проводить значительно более гибкую внешнюю политику, следуя примеру Соединенных Штатов и/или Евросоюза, вряд ли сбудутся.Как между Вашингтоном и Парижем часто вспыхивали споры, так и в отношениях между США и Евросоюзом, с одной стороны, и демократической Россией – с другой, могут возникнуть острые противоречия.Если внешняя политика демократической России действительно будет похожа на нынешний курс, значит, внешнеполитический курс Путина/Медведева в целом отражает общественное мнение в России.В этом случае правительство Путина/Медведева окажется невосприимчивым к американским и европейским попыткам изменить российскую внешнюю политику, если это вступит в серьезное противоречие с настроениями общества.По иронии, именно потому, что режим Путина/Медведева опасается демократизации и приложит все усилия, чтобы избежать перемен, российские вожди вряд ли будут проводить внешнюю политику, которая может вызвать внутреннюю оппозицию в России, несмотря на любые призывы Америки и Евросоюза.
Марк Катц – профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона (Фэрфакс, Вирджиния, США). Среди его книг: «Третий мир в советской военной мысли» (1982), «Россия и Аравия: советская внешняя политика на Аравийском полуострове» (1986), «Уйти без потерь: война с терроризмом после Ирака и Афганистана». Ссылки на многие его статьи по российской внешней политике и другим темам можно найти на сайте www.marknkatz.com.
Накануне с не объявленным заранее визитом в Афганистан прибыл президент США Барак Обама. Целью поездки главы государства является подписание афгано-американского стратегического соглашения.
Самолёт президента совершил посадку на территории авиабазы Баграм, откуда американский лидер был доставлен в Кабул. В афганской столице Барак Обама встретится с президентом ИРА Хамидом Карзаем, передаёт информационное агентство “Associated Press”.
Ожидается, что по окончании церемонии подписания соглашения о долговременном стратегическом сотрудничестве, в 4 часа утра по местному времени, Обама обратится к гражданам своей страны в телевыступлении.
В соответствии с условиями партнёрства, США будут оказывать военную помощь Афганистану по меньшей мере до 2024 года, при этом территорию ИРА нельзя будет использовать для нанесения ударов по соседним странам.
Министр связи и информационных технологий Афганистана заявил, что цена за мегабит в течение последнего года упала с 900 до 300 долларов.
Новые тарифы на интернет у государственной компании «Афган-Телеком» вступят в силу в течение этого месяца, сообщил Амирзай Сангин на пресс-конференции в Кабуле. «Мы стараемся предоставить потребителям дешёвый интернет, чтобы они могли быстро получать информацию и общаться с людьми со всего мира», – отметил он.
В прошлом году стоимость за мегабит снизилась сначала с 4 до 1,5 тысяч долларов, а затем – до 900 долларов. Дальнейшее понижение цен планируется в течение следующих шести месяцев, когда будет окончен проект прокладки оптоволокна Нури, сообщает телеканал «Лемар».
Проект прокладки оптоволокна начался в 2007 году. Кабель общей протяжённостью 3,3 тысячи километров соединил Кабул с провинциями Парван, Балх, Фарьяб, Герат и Кандагар. Согласно данным министерства, проект уже приносит порядка 60 млн. долларов в год.
В настоящее время услуги интернет-кафе в Афганистане стоят порядка 40-50 афгани (0,8 – 1 доллар) в час, и их стоимость также будет постепенно снижаться. Об этом сообщил журналистам директор «Афганской Кибер-компании» Сами Хашими.
Напомним, что в марте правительство Афганистана выдало первую в стране лицензию на предоставление услуг 3G-связи компании «Этисалат».
США и Афганистан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам предоставления афганским беженцам, возвращающимся в страну, медицинских страховок.
Документ был подписан помощником главы Бюро Госдепартамента США по делам народонаселения, беженцев и миграции Энн Ричард и министром здравоохранения Афганистана доктором Сорайей Далил. Соглашение позволит вернувшимся в Афганистан беженцам пользоваться услугами здравоохранения в государственных и финансируемых международным сообществом поликлиниках.
Услуги здравоохранения беженцам будут оказывать 26 приграничных клиник, сообщила Энн Ричард, и добавила, что в Афганистане за последние годы снизилась младенческая и материнская смертность.
«Мы существенно снизили смертность среди простых афганцев, особенно младенческую и детскую», – цитирует слова Сорайи Далил на торжественной церемонии информационное агентство «Бахтар».
В ходе своего визита в Вашингтон доктор Сорайя Далил также посетила саммит, посвящённый материнскому здоровью, и получила почётную грамоту от Афгано-американского Женского совета за усилия по улучшению условий жизни матерей и детей. Также она получила награду АМР США как министр здравоохранения одной из четырёх стран, где была существенно снижена детско-материнская смертность. Аналогичную награду получили представители Руанды, Доминиканской Республики и Камбоджи.
Сорайя Далил отметила, что положение женщин в Афганистане существенно улучшилось. Сейчас 40% всех школьников страны – девочки, а более четверти парламентариев Волуси Джирги – женщины. За период с 2002 до 2010 года материнская смертность снизилась с 1600 до 327 смертей на 100 тысяч рожениц, а детская смертность в возрасте до 5 лет – с 172 до 97 смертей на тысячу. По данным исследования 2010 года, ожидаемая продолжительность жизни у взрослых жителей Афганистана возросла с 42 до 62 лет.
Иранские власти заявляют об удвоении годового экспорта бензина в 2011 году, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars.
По данным издания TH, которое ссылается на заявление заместителя министра нефти Исламской республики Алирезы Зейгами (Alireza Zeighami), в течение прошлого года Иран экспортировал в другие государства около 132 тысяч тонн бензина, что обогатило бюджет страны на 134 миллиона долларов.
Как отмечает Fars, основным экспортером иранского бензина является Афганистан. Одна только эта страна принесла Ирану в 2011 году 51,6 миллиона долларов. В конце минувшего года сообщалось о том, что Тегеран и Кабул подписали соглашение о ежегодных поставках в Афганистан 1 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе бензина и авиационного топлива.
В качестве других экспортеров иранского бензина названы Армения, ОАЭ, Ирак и Оман.
Иран приступил к экспорту бензина в сентябре 2010 года. До этого времени Исламская республика, являющаяся одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, не только не поставляла бензин за рубеж, но даже была вынуждена закупать горючее в других странах из-за недостатка в стране нефтеперерабатывающих мощностей.
Иран является четвертым экспортером нефти в мире и вторым в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добывая свыше четырех миллионов баррелей нефти в день. Нефтяная и газовая отрасли Ирана находятся под полным контролем государства.
В 2010 года США и ЕС в одностороннем порядке ввели в отношении Исламской Республики дополнительные ограничительные меры, в частности, затрагивающие нефтегазовый сектор Ирана. В рамках этих мер ряд крупных компаний, в частности, англо-голландский концерн Royal Dutch Shell, голландско-швейцарские трейдеры Vitol Holding и Trafigura, а также швейцарский сырьевой трейдер Glencore приостановили поставки бензина в эту страну. В апреле того же года их примеру последовала крупнейшая частная нефтяная компания России ЛУКОЙЛ.
Новый водопровод сдан в эксплуатацию в провинции Нангархар, сообщают официальные источники.
Проект стоимостью 2 млн. долларов реализован при финансовой поддержке Японии в районе Ганда Чема города Джелалабад. Об этом сообщил глава «ООН-Хабитат» в регионе Ниаматулла Рахими информационному агентству «Пажвок».
Благодаря новому проекту доступ к питьевой воде получит около 2 тысяч семей. Водопровод оборудован генератором, который позволяет автоматически регулировать температуру и уровень воды, добавил он.
Начальник департамента ирригации Парвиз Алишингай сообщил, что ведомство может обеспечить питьевой водой 38% жителей Джелалабада, и обвинил министерство финансов в недостаточном внимании к отрасли.
Жители Джелалабада обычно испытывают сложности с питьевой водой в летний период, когда потребление воды возрастает.
Россия заняла 172-е место в ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом международной правозащитной организацией Freedom House. Доклад Freedom of the Press 2012 опубликован 1 мая на сайте Freedom House. Всего в списке - 197 государств.
Россия, как и прежде, остается в категории "несвободные СМИ". К этому типу стран относятся 59 государств (30% от общей численности). В категорию "частично свободные" входят 72 страны (36,5%), свободными считаются 66 стран (33,5%). Лишь 14,5% человечества проживает в странах со свободной прессой. 45% довольствуются частично свободными СМИ, 40,5% живут в государствами с несвободными СМИ.
Россия делит 172 место с Зимбабве и Азербайджаном. Не имеют свободных СМИ такие страны, как Северная Корея (самое последнее место), Иран, Узбекистан, Туркмения, Белоруссия, Эритрея, Иран, Куба, Саудовская Аравия, Венесуэла и Афганистан. Частично свободными СМИ располагают Ливия, Египет, Турция, Молдавия, Грузия, Кения, Никарагуа, Босния и Герцеговина, Хорватия, Румыния, Болгария, Италия и другие страны. Полностью свободными СМИ наслаждаются Финляндия, Норвегия, Швеция (все три страны делят первое место), Ирландия, Германия, Новая Зеландия, Маршалловы острова, Эстония, США, Чехия, Белиз, Австрия, Микронезия, Великобритания, Япония, Польша и другие.
Авторы доклада отмечают, что события, произошедшие в 2011 году в таких странах как Египет и Россия, показали, что хотя СМИ могут быть весьма эффективными в распространении новостей о нарушениях со стороны государства и при "мобилизации гражданского протеста против нелиберальных режимов", они играют значительно меньшую роль в построении демократических учреждений (особенно в обществах, где большая часть населения по-прежнему получает информацию от контролируемых государством СМИ).
В число стран, вызывающих особые опасения экспертов Freedom House, входят Россия, Азербайджан и Казахстан. "Медиа-среда в России характеризуется использованием хорошо приспосабливающейся судебной системы для преследования независимых журналистов, избежания наказания при физическом преследовании и убийстве журналистов, а также для сохранения контроля государства и влияния на почти все традиционные СМИ, - говорится в докладе. - Это отчасти смягчено ростом использования Интернета, социальных сетей и спутникового телевидения для распространения и доступа к новостям и информации, особенно во время декабрьских парламентских выборов и последующих протестов. Тем не менее, новые пользователи СМИ еще не совершили настоящего прорыва в достижения широкой общественности в России, и ведут тяжелую борьбу с рядом политических, экономических, правовых и внесудебных инструментов режима".
На выставке KDAEX-2012, которая пройдет 3-6 мая в Астане, компания Eurocopter представит вертолет EC725 Cougar, а также макеты многоцелевого вертолета EC145 и боевого вертолета Tiger.
В Казахстане совместная компания Eurocopter Kazakhstan Engineering поставила первые шесть вертолетов EC145 для Минобороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана в рамках контракта на сборку в Астане 45 этих двухмоторных средних вертолетов. Сборка последней машины по данному контракту запланировано на 2016 год. Eurocopter Kazakhstan Engineering также будет развивать местное обслуживание и обучение персонала по эксплуатации EC145 в стране, а также в региональном Таможенного союзе и по всей Центральной Азии.
На сегодняшний день странами Европы, Латинской и Южной Америки, Азии заказаны 117 многоцелевых вертолетов семейства EC725/EC225 . Вертолет может использоваться в военных и спасательных операциях. Кроме того, он хорошо подходит для военно-морских миссий. Эффективность EC725 в версии Caracal французской армии была четко продемонстрирована во время операций в Афганистане.
На выставке KADEX-2012 компания Eurocopter также представит масштабную модель ударного вертолета Tiger. Вертолет состоит на вооружении армий Франции, Германии, Испании и Австралии. Также использовались в боевых действиях в Афганистане.
В течение ближайших трёх лет Всемирный Банк предоставит Афганистану 1 млрд. долларов, сообщают официальные источники.
Об этой инициативе объявила вице-президент банка по Южной Азии Изабель Герреро на форуме Всемирного Банка и МВФ в Вашингтоне, сообщил журналистам пресс-секретарь Всемирного Банка в Кабуле Абдул Рауф Зия. По его словам, эти средства будут выделены на проведение административных реформ, укрепление частного сектора и создание новых рабочих мест.
В пресс-релизе представительства Всемирного Банка в Кабуле отмечается, что помощь этой международной финансовой структуры будет оказана в сферах образования, здравоохранения, обучения, управления, строительства и других. Изабель Герреро заверила, что банк продолжит помогать Афганистану с учётом национальных приоритетов.
Представители министерства образования Афганистана сообщают, что 80% из 450 тысяч слепых и глухих жителей Афганистана не могут получить образование.
Заместитель министра образования Мохаммад Асиф Нанг сообщил, что в стране проживает 400 тысяч слепых и 50 тысяч глухих людей. Они могут обучаться лишь у 250 учителей провинций Кабул, Балх и Герат. Министерство планирует открыть в Афганистане ещё 8 школ для слепых и глухих, а также по одному классу для страдающих от проблем со слухом и зрением детей в 14 тысячах школ, сообщает телеканал «ATV».
Для открытия 8 новых школ требуется около 20 млн. долларов, а общая стоимость проекта составит около 100 млн. долларов. На недавнем семинаре в Кабуле, посвящённом этой проблеме, заместитель главы ассоциации слепых Мохаммад Минди запросил помощи в реализации проекта у международного сообщества. Детлеф Хансманн, представитель Ассоциации международного развития Германии, сообщил, что Германия может помочь министерству в подготовке кадров.
Согласно официальным данным, 2,7% жителей Афганистана имеют ограниченные возможности.
Италия собирается продолжать участие в действиях НАТО в Афганистане после вывода основного контингента иностранных войск из страны в 2014 году.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Италии Марио Монти после переговоров с Андерсом Фог Расмуссеном, генеральным секретарём НАТО. Как пояснил премьер-министр, Италия сохранит в Афганистане контингент инструкторов, которые осуществляют подготовку афганских сил безопасности, цитирует его слова информационный портал «AGI.it». Также на встрече обсуждались ситуация на Балканах и реформа НАТО, которую Италия, по словам Марио Монти, «полностью поддерживает».
В ходе визита в Италию Андерс Фог Расмуссен также встретился с президентом Италии Джорджо Наполитано и министром обороны Джанмпаоло Ди Паола. Со своей стороны Италия выступила за необходимость чёткого определения задач НАТО в Афганистане после завершения основной части миссии.
Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что сообщения о возобновлении переговоров группировки «Талибан» и правительства США беспочвенно.
О возобновлении переговоров сообщил Четвёртый канал телевидения Великобритании. Эта новость вызвала возмущение среди руководства «Талибана». Представитель радикальной группировки Забиулла Муджахид сообщил афганским СМИ, что боевики не выходили на контакт с правительством США и не собираются вести переговоры до тех пор, пока США не выполнят свои предыдущие обещания.
Пресс-секретарь МИД Афганистана Джанан Мусазай также опроверг сообщение о возобновлении переговоров. По его словам, США никогда не пойдут на переговоры с боевиками, не проинформировав об этом правительство Афганистана.
Ранее сообщалось, что делегация «Талибана» провела переговоры с представителями США в Катаре.
На днях делегация от Торгово-промышленной палаты провинции Нангархар во главе с Наджибуллой Сахибзадой встретилась с вице-президентом ТПП пакистанской провинции Сархад (ТППС) Зия-уль Хаком Сархади.
Представители Афганистана выразили глубокую озабоченность поддельными лекарствами, наводнившими Афганистан, и предложили учредить Комитет по контролю качества продукции. Вице-президент ТППС выразил надежду, что эта мера поможет решить проблемы бизнесменов по обе стороны афгано-пакистанской границы. Он также выступил с инициативой проведения встречи в Кабуле для выработки долгосрочной стратегии по этому вопросу. Кроме того, сообщает «Pakistan Observer», он предложил приложить усилия для увеличения торгового оборота между провинциями.
Глава афганской делегации сообщил, что продукция нескольких скомпрометировавших себя фармацевтических предприятий нелегально поставляется в Афганистан, что может повредить бизнесу честных производителей. Он предложил создать «белый список» честных фармацевтических компаний для поддержки их продукции на рынках Афганистана, а также пригласил делегацию из ТППС нанести ответный визит в Афганистан.
Напомним, что в Афганистане регулярно уничтожаются изъятые партии поддельных и просроченных лекарственных препаратов.
Первый частный медицинский университет открылся в столице провинции Хост в субботу, сообщают официальные источники.
На торжественной церемонии открытия института Ахмад Шах Баба присутствовали губернатор провинции, старейшины, представители религиозных организаций, преподаватели и студенты провинции.
Ректор университета доктор Падшах Раз сообщил, что здание оборудовано в соответствии с современными требованиями. Также наряду с афганцами в университете будут преподавать приглашённые из-за рубежа лекторы, сообщает Национальное телевидение Афганистана.
В институт уже приняты 105 человек, однако число учащихся в скором времени будет увеличено, выразил надежду ректор.
Согласно другому сообщению, на днях генерал-губернатор Австралии встретился с австралийскими солдатами, несущими службу в провинции Урузган, и пообещал содействие образованию в провинции со стороны Австралии.
Квентин Брис и посол Австралии в Афганистане встретились с губернатором провинции Амир Мохаммадом Ахунзадой в Таринкоте. Губернатор сообщил журналистам, что в ходе переговоров обсуждались различные вопросы, в частности, безопасность и восстановление провинции.
Квентин Брис посетил школу для девочек в Таринкоте и пообещал ученицам и учителям, что его страна увеличит финансирование образовательного сектора провинции.
В настоящее время контингент австралийских войск в Афганистане составляет 1,6 тысяч солдат.
Проект водоснабжения в провинции Парван стоимостью 1,25 млн. долларов, начатый три года назад, всё ещё не окончен.
Жители столицы провинции, города Чарикар, страдают из-за отсутствия чистой питьевой воды. Работы по бурению четырёх скважин прекращены. Проект, финансируемый США, всё ещё не закончен, сообщили на днях журналистам местные жители. 30 литров питьевой воды стоят 80 афгани (1,6 доллара). Жители столицы обвиняют департамент водоснабжения в игнорировании нужд народа.
Губернатор провинции Абдул Басир Саланги, однако, сообщил журналистам, что проблема связана с тем, что подрядчик задержал выполнение работ. На данный момент уже подписан контракт с другой фирмой, поэтому окончание проекта ожидается в течение двух месяцев.
Глава департамента водоснабжения Мохаммад Касим Парвани заявил, что скважины готовы, и назвал причиной задержки проекта перебои с электричеством, которые не позволяют ввести в эксплуатацию помпы, сообщает телеканал «ATV». После того, как к скважинам подведут дополнительные линии электропередач, две скважины будут введены в эксплуатацию, заверил он.
Трёхдневная кампания по вакцинации детей прошла в провинции Кандагар, где в прошлом году было выявлено три случая заболевания полиомиелитом.
Начальник департамента здравоохранения провинции доктор Абдул Каюм Пахла заявил, что всего в ходе кампании вакцинировано около 1,365 млн. детей в возрасте до пяти лет. В прошлом году заболевание было выявлено в уездах Хакрез и Данд. Также два ребёнка заболели полиомиелитом в соседней провинции Гельманд, сообщил он.
По словам начальника департамента, сотрудникам сферы здравоохранения часто мешают работать проблемы с безопасностью в провинции. Также, по его мнению, 36 имеющихся в провинции центров здравоохранения слишком мало, чтобы удовлетворить потребности населения.
Источник также добавил, что с министерством здравоохранения страны в настоящее время обсуждается план, который позволит обеспечить доступ к поликлиникам всему населению провинции, а также снизить цены на медицинские услуги, сообщает радиостанция «Салам Ватандар».
Бизнесмены Афганистана вынуждены продавать свежие фрукты по низким ценам из-за нарушений Афгано-пакистанского транзитного соглашения, сообщают бизнесмены.
Действующее соглашение позволяет Афганистану экспортировать фрукты в Индию через территорию Пакистана, а пакистанским грузовикам, соответственно, пересекать территорию Афганистана на пути в Иран, Турцию и страны Центральной Азии. Заместитель главы ТППА Хан Джан Алокозай заявил, что ранее 80% фруктов из Афганистана попадали в Индию через Пакистан. Однако в настоящее время этому препятствуют пограничники на территории Пакистана. Из-за этого 55% фруктов портятся либо продаются по низким ценам. Как сообщает информационное агентство «Пажвок», Алокозай потребовал у правительства Пакистана разобраться с проблемой.
В прошлом году совокупные потери Афганистана из-за проблем с транзитом через территорию Пакистана составили 100 млн. долларов, заявил представитель ТПП Афганистана.
Афганские бизнесмены считают, что власти Пакистана намеренно создают им проблемы, и требуют у афганского правительства принять срочные меры по урегулированию вопроса, поскольку в Афганистане начинается фруктовый сезон.
Пресс-секретарь министерства торговли и промышленности Афганистана Вахидулла Газихейл сообщил, что с пакистанскими властями уже ведутся переговоры.
Специальные исследования по строительству второго тоннеля сквозь перевал Саланг закончатся в течение шести месяцев, сообщают официальные источники.
Министерство общественных работ Афганистана объявило, что Агентство международного развития США начало специальное исследование по проекту строительства второго тоннеля сквозь перевал Саланг. Об этом сообщили средства массовой информации Афганистана со ссылкой на министра общественных работ Наджибуллу Ожана.
Как отмечают афганские СМИ со ссылкой на чиновников, заинтересованность в финансировании проекта уже выказал Всемирный Банк. По словам министра, второй тоннель разгрузит трассу через перевал Саланг, по которой ежедневно проезжает до 7 тысяч автомобилей. «Также новый тоннель снизит опасность попадания автомобилей под лавины», – отметил высокопоставленный чиновник.
Новый тоннель будет длиннее, чем старый, построенный ещё СССР, однако общая протяжённость пути через перевал по новому маршруту будет на 30-40 километров меньше. Согласно плану проекта, тоннель соединит районы Оланг провинции Парван и Дошах провинции Баглан.
Тоннель через перевал, построенный СССР, нуждается в ремонте, добавил министр.
Стоит отметить, что вопрос о возможном участии российской стороны в реконструкции и модернизации тоннеля Саланг обсуждается уже несколько лет. Однако, из-за нерешенности вопросов, связанных с финансированием данного проекта, до начала его практического выполнения дело так и не дошло.
В прошлом году объем экспорта иранского бензина в стоимостном выражении превысил 134,8 млн. долларов, сообщает агентство ИСНА.
По данным Таможенной администрации Ирана, в прошлом году объем экспорта иранского бензина в стоимостном выражении вырос на 127% и в весовом – на 108,5% (132 тыс. т) по сравнению с показателями предыдущего года.
Иранский бензин, в основном, поставлялся в Армению, Афганистан, ОАЭ, Ирак и Оман.
Наибольшее количество иранского бензина было поставлено в Афганистан (51,6 млн. долларов). Затем следуют ОАЭ (46,6 млн. долларов), Ирак (27,1 млн. долларов) и Оман (6,6 млн. долларов). Замыкает список Армения, в которую было экспортировано 382 тыс. т бензина.
За последние два года никаких статистических данных об импорте бензина в Иран не приводится. Это свидетельствует о том, что импорт данного вида топлива практически сведен к нулю и Иран стал экспортером бензина. Таким образом, план по введению запрета на поставки бензина в Иран полностью провалился.
Лекарство от американской амнезии
Джо Байден поддержал политику Обамы в отношении России
Мария Ефимова
Российская тема не уходит из американской предвыборной кампании, снова став полем битвы главных кандидатов — демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. Соратник Обамы вице-президент Джо Байден выступил против Ромни, назвавшего Россию «врагом номер один». Американцы считают, что Обама лучше разбирается во внешней политике, чем его конкурент. В случае победы республиканца отношения Москвы и Вашингтона ожидает откат назад.
Вице-президент Джо Байден заявил с трибуны Нью-Йоркского университета, что антироссийские высказывания Митта Ромни рискуют вернуть отношения двух стран на 60 лет назад в состояние холодной войны. По мнению Байдена, экс-губернатор Массачусетса искажает факты, «рассчитывая на коллективную амнезию американцев». В конце марта Митт Ромни в интервью CNN заявил, что главный геополитический враг Вашингтона — Москва, которая «всегда поддерживает худших в мире», подразумевая Сирию, КНДР и Иран.
Почти одновременно с Ромни сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, которого прочат в вице-президенты в случае поражения Обамы, резко высказался в адрес нового президента России. Рубио заявил, что Путин тверд лишь в своей риторике, но «сам знает, что на самом деле слаб». По версии американца, Путин из-за страха потерять власть разжигает антизападные настроения в российском обществе, игнорируя реальные угрозы — напор Китая с востока и исламистов с юга.
Митт Ромни пытается найти козыри для критики Обамы в той сфере, где внешняя политика президента выглядит наиболее успешной, тем самым кандидат-республиканец демонстрирует собственную неопытность во внешней политике. «Он делал это заявление не потому, что не любит Россию, а потому что ему нужно было что-то противопоставить Обаме. Но его заявление действительно выглядит для большинства американских граждан как голос из прошлого, поэтому его критика беззуба и неконструктивна», — заявил «МН» заведующий сектором США ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
«Внешняя политика демонстрирует сильные стороны президента Обамы — баланс взвешенности и решительности — и подчеркивает недостатки Ромни, который вместе со своим окружением может нас втянуть в неприятности своей крайне правой позицией», — заявил газете The Los Angeles Times Том Перрилло, бывший конгрессмен-демократ от Виргинии и аналитик либерального Центра американского прогресса.
Американский электорат пока не подпал под обаяние антироссийских выпадов республиканского кандидата. Опрос общественного мнения, проведенный агентством Ipsos в апреле, показывает, что избиратели считают Обаму сильнее Ромни в вопросах национальной безопасности и внешней политики. Исход выборов, в один голос утверждают наблюдатели, будет зависеть от более насущных проблем, прежде всего финансовых. Рейтинг Барака Обамы, по апрельскому соцопросу CNN, составляет 52%, что на 9% выше рейтинга Митта Ромни (43%).
«Перезагрузка» вместе с сотрудничеством в Афганистане и договором о ПРО — реальный внешнеполитический успех Обамы после плачевного для двусторонних отношений президентства Буша. Поэтому на его стороне симпатии не только избирателей, но и американского бизнеса, который получил при нем выгодные контракты, облегченный доступ к российскому рынку, добычу полезных ископаемых на арктическом шельфе», — напомнил гн Войтоловский.
По словам собеседника «МН», важность российско-американского сотрудничества для международной безопасности и вопросов регионального и глобального характера понимают не только в штабе демократов. И все же некоторого отката назад не избежать, в том числе в сложном вопросе ПРО. Это признал сам Обама в марте во время переговоров с Дмитрием Медведевым в Сеуле. Он попросил российского лидера о своеобразной «отсрочке» в переговорах по ПРО до завершения в США президентских выборов. По словам американского президента, после выборов он «будет обладать большей гибкостью». Слова Обамы вызвали много критики со стороны политических оппонентов.
Республиканцы надеются, что их выпады в адрес Москвы, Тегерана и Пхеньяна могут сработать, если до ноябрьских выборов на международной арене произойдет что-то экстраординарное. И все же победа Ромни на выборах еще не означает начало второй холодной войны, полагают эксперты. «Исторически в американскую предвыборную кампанию включалась тема отношений с Москвой — и во времена противостояния с СССР, и после него. Как правило, поначалу они высказывались гораздо жестче, чем после того, как приходили на пост», — отметил Федор Войтоловский.
В прошлом году экспорт иранских ковров ручной работы вырос менее чем на 1%, и его объем составил не многим более 560 млн. долларов, сообщает агентство ИСНА.
По последним данным Таможенной администрации Ирана, в прошлом году экспорт названной продукции в стоимостном выражении вырос на 0,8%, и при этом в весовом выражении сократился на 15,4% (6 тыс. 972 т).
Иранские ковры ручной работы экспортируются в 80 стран. Наибольшее их количество было поставлено в Германию (107,9 млн. долларов). За ней следуют ОАЭ (102 млн. долларов) и Италия (29,9 млн. долларов).
Среди других рынков, на которые поставлялись иранские ковры ручной работы, можно назвать такие страны, как Пакистан, Япония, Англия, Бразилия, Дания, Швеция, Катар, Канада, Ливан, Китай, Южная Африка, Австрия, Австралия, Испания, Афганистан, Турция, Сингапур, Ирак, Саудовская Аравия, Оман, Франция и Малайзия.
В позапрошлом году ковры ручной работы входили в первую десятку в списке основных видов поставляемой на экспорт иранской продукции. В прошлом году они заняли 13-ое место в этом списке.
Сегодня в Исламабаде состоялось открытие шестого заседания совместной целевой группы Афганистана, Пакистана и США по процессу примирения. Переговоры дипломатических представителей трёх стран рассчитаны на два дня.
Афганскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Джавид Лудин, пакистанскую – секретарь МИД Джалиль Аббас Джилани, американскую – спецпредставитель по Афганистану и Пакистану Марк Гроссман.
Около 7 месяцев назад целевая группа по процессу примирения прекратила свою работу после гибели председателя Высшего совета мира Бурхануддина Раббани. В прошлом месяце её деятельность была возобновлена в ходе встречи дипломатов в Душанбе.
Помимо программы примирения и реинтеграции повстанцев в мирное афганское общество, в ходе текущего заседания планируется обсудить проблемы борьбы с наркотрафиком и возвращения афганских беженцев на родину, а также вопросы регионального сотрудничества, в том числе в экономической сфере.
На полях мероприятия пакистанские власти также собираются провести двусторонние переговоры с представителями США и Афганистана, сообщает телеканал «Толо» со ссылкой на МИД ИРП.

Интервью российским телеканалам.
Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов российских телевизионных каналов «Первый», «Россия», НТВ, «Дождь» и РЕН ТВ.
М.МАКСИМОВСКАЯ:Добрый день!Дмитрий Анатольевич, спасибо за возможность провести это интервью в прямом эфире – и последнее в Вашем президентском сроке. Надеемся, всем будет интересно.
Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый день, спасибо. Я всех приветствую: вас всех приветствую и наших телезрителей.
Давайте начнём.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Дмитрий Анатольевич, весь Ваш президентский срок Вы отличались абсолютно либеральной лексикой, говорили, что «свобода лучше, чем несвобода», и написали, по сути, либеральный манифест – статью «Россия, вперёд!»
Хочу спросить Вас о делах: Вы сделали то, что хотели? Как Вы думаете, при Вас Россия стала более свободной страной?
Д.МЕДВЕДЕВ: Свобода – это такое уникальное чувство, которое каждый человек понимает по-своему. Знаете, конечно, в свободе всегда есть и часть чего-то объективного, но вообще-то это наши ощущения. Я как-то в одной из программ или, точнее, в одном из выступлений сказал буквально следующее, что мы являемся свободными только в том случае, если можем сказать о себе: я – свободен. Давайте посмотрим, что происходило в последние годы. Я считаю, что мы действительно продвинулись в плане развития гражданских свобод. Да, кому-то это движение кажется робким, кому-то, наоборот, запредельным, типа не надо так далеко идти, и так всё хорошо было. Но, на мой взгляд, мы продвинулись – и продвинулись серьёзно. Не буду апеллировать к каким-то ранним годам – скажу лишь о событиях. которые состоялись несколько месяцев назад.
Давайте спросим у людей, которые выходили на разные площади, свободные они или нет, – неважно, за кого они: за «белых», за «красных», за «синих». Я абсолютно уверен, что подавляющее большинство из них скажет: «Да, я свободен, потому что я стою здесь, у меня есть своя позиция, мне многое не нравится». Или наоборот: «Мне практически всё нравится, не смейте это трогать. Но я свободен».
Свобода – это самоощущение. И в этом смысле мы сделали немало.
А.ПИВОВАРОВ: Если можно, Дмитрий Анатольевич, я хотел бы свести этот философский общий вопрос к экономике. На экономических, так сказать, знамёнах Вашего президентства было начертано: «Модернизация и конкурентоспособность», мы помним. Вы довольны, как Вы пронесли эти знамёна? Могу даже сузить этот вопрос: Россия за время Вашего президентства стала менее зависима от углеводородов или больше?
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, это, конечно, для нас очень важная тема, потому что один из основных рисков, который обычно упоминается в связи с Россией, – это наша зависимость от углеводородов. И до сих пор, если говорить о различных оценках – рисков, как правило, упоминается два: демография и избыточная зависимость от поставок сырья на экспорт.
Откровенно скажу, я не вполне доволен тем, что мы сделали за эти годы. У меня не было никаких иллюзий, что мы за четыре года откажемся от экспорта нефти, газа, да это и неправильно. Просто потому, что мы действительно крупнейшая сырьевая страна, мы поставляем углеводороды в огромное количество государств. Но нам нужно было диверсифицировать экономику. Мы двигались по этому пути – и двигались в целом не очень медленно.
Я могу вам сказать, что за последние четыре года производство промышленных товаров, производство средств производства, производство основных областей промышленности выросло приблизительно на 50 процентов. Если говорить о производстве радиоэлектронных средств, они выросли приблизительно процентов на 30. Это неплохо. Тем не менее если говорить о нашем экспортном балансе, то 70 процентов нашего экспорта – это углеводороды (так приблизительно и было), и лишь 5 процентов – это поставка продукции машинотехнического характера. Поэтому работа по диверсификации должна быть продолжена. Именно на это, кстати, и нацелена программа модернизации нашей экономики.
Напомню, что она включает в себя пять элементов: и космос, и IT, и атомную промышленность, и массу других очень важных направлений – включая, кстати, производство лекарств. Если мы сумеем за ближайшие годы двинуть процесс модернизации по этим пяти ключевым направлениям и по некоторым другим, мы действительно сможем диверсифицировать экономику (слово тяжёлое, трудно произносить).
Если говорить как раз о макроэкономике, то этому способствует та ситуация, которая есть на сегодня, потому что у нас впервые, может быть, за всю историю нашей страны, 20-летнюю, самая небольшая инфляция. Вы знаете, что в прошлом году она была 6 процентов, в этом году (месяц к месяцу) за 12 месяцев это 4 процента. У нас очень хорошее соотношение между долгом и валовым внутренним продуктом, самое низкое практически во всех развитых странах: около 10 процентов.
При таких макроэкономических условиях мы можем диверсифицировать нашу экономику, у меня сомнений нет. Это задача на ближайшие годы. Это задача для нового Правительства.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Я про реформы.
Д.МЕДВЕДЕВ: Пожалуйста.
А.ВЕРНИЦКИЙ: При Вас милиция стала полицией. Новая форма, а содержание всё ещё старое, хотя сотрудники переаттестованы. Садисты из УВД «Дальний» – всем известные в стране. Такие сообщения об избиении задержанных приходят практически каждый день: вчера пришло из Волгограда такое же сообщение. Пора уже реформировать и полицию тоже?
Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, я считаю, что никто не должен ожидать, что за полгода в результате административных преобразований у нас возникнет новая полиция или новый орган МВД, потому что структура носит частично новое название, но люди-то там прежние работают. Да, конечно, часть людей была неаттестована, довольно значительная. Мы же 200 тысяч человек убрали из органов внутренних дел. Но это не значит, что все остальные стали моментально другими. Это первое.
Второе. Конечно, нельзя судить об общем уровне законности, правопорядка по действиям отдельных мерзавцев. Им дана принципиальная оценка. Во всех таких случаях возбуждаются уголовные дела, и соответственно сотрудники правоохранительных органов просто заключаются под стражу. Не скроем, что это и за границей происходит.
Но мы находимся только в начале пути. Это непростая задача. Мы не такая, извините, фитюлька, не малюсенькое государство, которое мне иногда приводят в пример и говорят, знаете: давайте всех полицейских выгоним и наберём новых. Вы пойдёте в полицию работать?
А.ШНАЙДЕР: Это Вы Грузию имеете в виду?
Д.МЕДВЕДЕВ: Я ничего не имею в виду – это вы говорите.
Я говорю, что мы не маленькая страна, в которой можно сделать подобную вещь. Мы – большая страна. У нас сотрудников полиции вместе с гражданским персоналом под два миллиона, это огромная армия. И для того, чтобы обеспечивать правопорядок на всей территории в условиях большой федеральной структуры, в условиях федеративного устройства государства, требуется большое количество людей. Их невозможно поменять никакими распоряжениями – их нужно воспитывать. И, вы знаете, я в том, что сейчас все эти случаи становятся публичными, прозрачными, вижу большой смысл. Ведь что скрывать, мы с вами тоже не первый год по земле ходим, такие проблемы были и раньше. О них не знали. Почему? Во-первых, общество к этому относилось более спокойно; во-вторых, не было таких средств коммуникации. А сейчас о любом проступке, не говоря уже о преступлении, через несколько часов знают все. Ну и хорошо, бояться будут совершать. А те, кто совершил, будут сидеть.
А.ШНАЙДЕР: А можно как раз в продолжение темы по поводу «будут сидеть»? Я хотела бы спросить про персональную ответственность чиновников, тот же Министр Нургалиев: какова его личная ответственность за реформы в МВД, за то, что происходит на конкретных полицейских участках? Что Вы отвечаете на призывы отправить Министра Нургалиева в отставку?
Нургалиев – это просто как пример, потому что есть ощущение, что, когда в стране происходит какое-то крупное ЧП, теракт, техногенная какая-то катастрофа, ответственность всегда несут руководители среднего и низшего звена, а то и не руководители вовсе – и никогда не высокопоставленные чиновники.
Если говорить как раз о макроэкономике, то этому способствует та ситуация, которая есть на сегодня, потому что у нас впервые, может быть, за всю историю нашей страны, 20-летнюю, самая небольшая инфляция. Вы знаете, что в прошлом году она была 6 процентов, в этом году (месяц к месяцу) за 12 месяцев это 4 процента. У нас очень хорошее соотношение между долгом и валовым внутренним продуктом, самое низкое практически во всех развитых странах: около 10 процентов.
При таких макроэкономических условиях мы можем диверсифицировать нашу экономику, у меня сомнений нет. Это задача на ближайшие годы. Это задача для нового Правительства.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Я про реформы.
Д.МЕДВЕДЕВ: Пожалуйста.
А.ВЕРНИЦКИЙ: При Вас милиция стала полицией. Новая форма, а содержание всё ещё старое, хотя сотрудники переаттестованы. Садисты из УВД «Дальний» – всем известные в стране. Такие сообщения об избиении задержанных приходят практически каждый день: вчера пришло из Волгограда такое же сообщение. Пора уже реформировать и полицию тоже?
Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, я считаю, что никто не должен ожидать, что за полгода в результате административных преобразований у нас возникнет новая полиция или новый орган МВД, потому что структура носит частично новое название, но люди-то там прежние работают. Да, конечно, часть людей была неаттестована, довольно значительная. Мы же 200 тысяч человек убрали из органов внутренних дел. Но это не значит, что все остальные стали моментально другими. Это первое.
Второе. Конечно, нельзя судить об общем уровне законности, правопорядка по действиям отдельных мерзавцев. Им дана принципиальная оценка. Во всех таких случаях возбуждаются уголовные дела, и соответственно сотрудники правоохранительных органов просто заключаются под стражу. Не скроем, что это и за границей происходит.
Но мы находимся только в начале пути. Это непростая задача. Мы не такая, извините, фитюлька, не малюсенькое государство, которое мне иногда приводят в пример и говорят, знаете: давайте всех полицейских выгоним и наберём новых. Вы пойдёте в полицию работать?
А.ШНАЙДЕР: Это Вы Грузию имеете в виду?
Д.МЕДВЕДЕВ: Я ничего не имею в виду – это вы говорите.
Я говорю, что мы не маленькая страна, в которой можно сделать подобную вещь. Мы – большая страна. У нас сотрудников полиции вместе с гражданским персоналом под два миллиона, это огромная армия. И для того, чтобы обеспечивать правопорядок на всей территории в условиях большой федеральной структуры, в условиях федеративного устройства государства, требуется большое количество людей. Их невозможно поменять никакими распоряжениями – их нужно воспитывать. И, вы знаете, я в том, что сейчас все эти случаи становятся публичными, прозрачными, вижу большой смысл. Ведь что скрывать, мы с вами тоже не первый год по земле ходим, такие проблемы были и раньше. О них не знали. Почему? Во-первых, общество к этому относилось более спокойно; во-вторых, не было таких средств коммуникации. А сейчас о любом проступке, не говоря уже о преступлении, через несколько часов знают все. Ну и хорошо, бояться будут совершать. А те, кто совершил, будут сидеть.
А.ШНАЙДЕР: А можно как раз в продолжение темы по поводу «будут сидеть»? Я хотела бы спросить про персональную ответственность чиновников, тот же Министр Нургалиев: какова его личная ответственность за реформы в МВД, за то, что происходит на конкретных полицейских участках? Что Вы отвечаете на призывы отправить Министра Нургалиева в отставку?
Нургалиев – это просто как пример, потому что есть ощущение, что, когда в стране происходит какое-то крупное ЧП, теракт, техногенная какая-то катастрофа, ответственность всегда несут руководители среднего и низшего звена, а то и не руководители вовсе – и никогда не высокопоставленные чиновники.
Д.МЕДВЕДЕВ:Я с этим не полностью соглашусь, потому что в целом ряде случаев при совершении преступлений отвечали люди уровня замминистра, в некоторых случаях и на другом уровне ответственность происходила.Что же касается ответственности Министра внутренних дел, он, конечно, несёт полную ответственность за состояние дел в МВД, и он это прекрасно понимает. Он отвечает и за проведение реформы, как и я отвечаю – как Президент страны, как Верховный Главнокомандующий.
И если говорить о судьбе министров, то их судьба понятна – 7 мая все министры подадут в отставку. Вот так.
А.ШНАЙДЕР: Но это же не следствие – это только отставка. Что, отставка является самым большим возможным наказанием?
А.ПИВОВАРОВ: И то плановая, извините, отставка.
А.ШНАЙДЕР: Да, тем более плановая отставка.
Д.МЕДВЕДЕВ: Это действительно плановое мероприятие. Я скажу такую вещь. Если за любое событие отправлять министра в отставку, то мы никогда не наберём нормальной команды, потому что мы с вами знаем, в каких условиях работает страна, мы знаем и проблемы нашей политической системы, экономического состояния. Поэтому если за каждый проступок отправлять в отставку министра, система упрётся в коллапс.
Я всё-таки закончу эту мысль: действительно, это плановое мероприятие. Но если Вы меня спрашиваете в отношении того, является ли отставка самым страшным наказанием, то я Вам могу сказать так: для многих чиновников отставка страшнее, чем ответственность. Поэтому я считаю, что и отставки тоже должны быть мерой реагирования государства на те или иные проблемы.
Напомню, за время моей работы у нас сменилось 50 процентов руководителей субъектов Федерации. Вот вы мне назовите хоть какой-нибудь иной период в нашей истории, когда так быстро происходила ротация. Кто-то уходил, потому что у него заканчивались полномочия; кто-то уходил, скажем так, по доброй воле, потому что считал, что у него не идёт; чего скрывать, даже в некоторых случаях, когда люди писали заявления, они делали это не добровольно – они делали это потому, что мне приходилось им говорить: «Извините, ребята, у вас не получается – до свиданья». Я уж не говорю о некоторых случаях, когда главы субъектов Федерации у нас находятся под следствием, об этом не следует забывать.
М.ЗЫГАРЬ: Дмитрий Анатольевич, как раз по поводу того, что отставка кажется самым страшным наказанием для чиновника, потому что такое ощущение, что борьба с коррупцией ведётся в основном только на словах. Мы очень много слышим подозрений и даже иногда обвинений в адрес очень высокопоставленных госчиновников. Бывший глава Вашей Администрации [Сергей] Нарышкин говорил, что при Юрии Михайловиче Лужкове в Москве был запредельный уровень коррупции, и что? Никаких последствий в отношении Юрия Михайловича. Это не единственный случай опять же, Лужков – это такой яркий пример. Мы все знаем много примеров и губернаторов, и других высших госчиновников, в отношении которых есть большое предубеждение, недоверие в обществе. Однако никакой реакции у власти на эти настроения в обществе совершенно нет. Это дело касается не только коррупции – дело касается этичности поведения, возможно. Но репутация никак не влияет на политическое будущее. Волгоградский губернатор [Сергей] Боженов ославился на всю страну своим вояжем в Италии. И мы не сомневаемся, что его репутация никак не повлияет на его блестящую в будущем политическую карьеру.
Почему не происходит никакой реакции на запрос общества? Почему нет реальных результатов борьбы с коррупцией?
Д.МЕДВЕДЕВ: Михаил, знаете, я понимаю долг СМИ в том, чтобы категорически формулировать свою позицию, это правильно. Но эта позиция не вполне точная.
Я Вам только что сказал, что вынужден был отправить в отставку 50 процентов губернаторов. Часть из них ушла именно потому, что, допустим, не было достаточных доказательств совершения преступления. У нас презумпцию невиновности никто не отменял, она действует. С другой стороны, по самым разным причинам (и Следственный комитет мне докладывал, и другие материалы были) мне приходилось принимать такое решение – просто вызывать соответствующего коллегу и говорить: «Знаете, Вы сами уходите, иначе будет хуже». Это первое.
Второе. По целому ряду бывших губернаторов идут уголовные дела. Ошибкой было бы считать, что никаких уголовных дел нет. Это неправда, они есть. Я не буду вмешиваться в прерогативы следственных органов. Если хотите, поднимите информацию, это всё есть в прессе.
Третье. Если говорить о количестве коррупционных преступлений: их число, и зарегистрированных, и расследуемых, с каждым годом растёт. Сейчас в производстве Следственного комитета 17 тысяч преступлений коррупционной направленности, по которым проходят чиновники. Но это не значит, конечно, что они все должны обязательно висеть в интернете. Хотя, кстати, такое предложение мне поступило во время одной из сессий «Открытого правительства». Мне говорят: давайте так – вот как только возбуждается уголовное дело по какому-то факту, сразу конкретного чиновника вывешиваем и пишем, что в отношении него ведётся такое разбирательство. Но это спорная вещь.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Но зерно в этом есть какое-то.
Д.МЕДВЕДЕВ: Зерно в этом есть, чтобы люди знали. С другой стороны, ещё раз говорю, есть презумпция невиновности. Вполне вероятно, что это ничем не закончится, и тогда будет нехорошо.
У нас только в результате действий Следственного комитета установлены 53 организованные группы, которые совершали преступления коррупционной направленности. Поэтому считать, что ничего не делается, было бы большим преувеличением.
Но если говорить о результатах, то здесь я с вами соглашусь: результаты пока скромные. Почему? Скажем откровенно, потому что чиновники – это корпорация, они тоже не очень хотят, чтобы в их дела вмешивались. Это не значит, что они преступники. Наоборот, чиновники такие же люди, такие же граждане, как и мы. Но мы должны ставить государственный аппарат в такие условия, когда у него не будет возможности повернуть ни вправо, ни влево, когда его поведение будет регламентировано от и до соответствующими правилами: и законом о государственной службе, и должностными регламентами, – и приучать к определённой культуре. Ведь когда мы рассуждаем о коррупции, уважаемые коллеги, обратите внимание, что в так называемых странах с развитой экономикой (так называемых, потому что мы тоже уже страна с развитой экономикой – у нас проблем, может, побольше) уровень коррупции очень разный. Сравните уровень коррупции, например, в скандинавских странах и в южных странах Европы. Почему так (а уровень жизни где-то близкий): привычки разные, история разная, ментальность разная.
Поэтому коррупция – это ещё и набор схем, стереотипов, и с коррупцией нужно бороться и на ментальном уровне. Совершение коррупционного преступления должно быть не только страшным – оно должно вызывать другие эмоции: это должно быть неприличным. Вот только в этом случае можно побороть коррупцию.
М.ЗЫГАРЬ: Я предположу, что было бы логично, чтобы начинали на ментальном уровне бороться не рядовые граждане, а, возможно, высшие представители государственной власти. Вы говорите, что результаты борьбы с коррупцией есть, просто их не очень заметно, и даже сами объясняете, что это потому, что чиновники – это корпорация. Другими словами, они не сдают своих, они как могут если не саботируют, то по крайней мере как-то антикоррупционные меры тормозят.
Д.МЕДВЕДЕВ: Извините, Миша, но не только чиновники. Потому что мы специально разделили коррупцию на большую, когда речь идёт о начальниках, – она, конечно, больше всего людей раздражает: вот, зажрались…
М.ЗЫГАРЬ: Она просто в огромных масштабах.
Д.МЕДВЕДЕВ: Она в больших масштабах. Но у нас в ещё больших масштабах бытовая коррупция. Вот давайте о ней не забывать. Когда речь идёт о коррупционных проступках, которые совершаются преподавателями, когда речь идёт о коррупции во врачебной среде, честное слово, это тоже не менее опасно для общества. Только к ней-то мы привыкли, и деньги преподавателю и врачу вообще практически дают без зазрения совести – в тех случаях, конечно, когда эти деньги вымогаются. А коррупция чиновников – она раздражает. Я просто к тому, что не только корпорация чиновников покрывает самоё себя – нет, корпоративная среда есть и в других местах.
М.ЗЫГАРЬ:Просто о коррупции бытовой мы знаем.Д.МЕДВЕДЕВ: Но не боремся.
М.ЗЫГАРЬ: Знаете, каждый по-своему. Есть люди, которые борются и которые начинают с себя, но просто хочется, чтобы все начинали с себя.
Д.МЕДВЕДЕВ: Миша, Вы даёте взятки гаишникам?
М.ЗЫГАРЬ: Нет, ни разу в жизни этого не делал.
Д.МЕДВЕДЕВ: Значит, Вы боретесь. Вот так и нужно поступать.
М.ЗЫГАРЬ: Так вот по поводу борьбы: просто есть люди, мы всех их знаем, которые, я предположу, заинтересованы в борьбе с коррупцией много больше, чем чиновники, потому что трудно бороться с собой. Может быть, стоило Вам с самого начала сделать ставку в борьбе на тех людей, которые публикуют в интернете разоблачительные материалы (мы все знаем их имена)? Может быть, стоило Алексея Навального того же назначить каким-то главой антикоррупционного комитета, и, может быть, тогда не изнутри борьба с коррупцией, а извне пошла бы эффективнее.
А.ПИВОВАРОВ: Или, например, назначать расследование по его публикациям, поскольку его имя действительно на слуху.
М.ЗЫГАРЬ: Да, как-то реагировать хотя бы на те публикации, которые появляются.
Д.МЕДВЕДЕВ: У меня только просьба: давайте исходить из того, что ни у кого нет патента на борьбу с коррупцией. В этом заинтересованы все мы, и, кстати, все мы в этом смысле – гражданские активисты, во всяком случае сидящие за этим столом. У многих здесь, наверное, есть и свои страницы в социальных сетях, или во всяком случае вы смотрите за ними, это в принципе положительная вещь. Мы говорили о ситуации в МВД и сказали, что огромное количество теперь случаев выплывает наружу. С чем это связано: с новым информационным пространством в том числе. То же самое с коррупцией. Сейчас о ней гораздо проще рассуждать, потому что любой такой случай можно легко поднять наверх. Это не значит, правда, что всё, о чём пишут в социальных сетях, соответствует истине, потому что вы знаете, как легко накручивают настроения. Это отдельная технология и, кстати, вполне управляемая. Но опираться на социальных активистов и можно, и нужно.
Только я бы ни в коем случае не рекомендовал из кого-либо делать икону, потому что кто-то из таких активистов – это реальные борцы с коррупцией, которые движимы абсолютно альтруистическими побуждениями, а для кого-то это политическая программа, иногда даже, по сути, политическая авантюра, когда за антикоррупционной риторикой стоит желание просто создать свой политический капитал. Я, кстати, даже за это не осуждаю, потому что это и есть политическая борьба. Но это не филантропия – это политическая борьба, и к ней так и надо относиться.
Общее отношение простое: чем больше в сети фактов коррупционных проступков, тем лучше для дела борьбы с коррупцией, потому что, что бы там ни говорили, власть на самом разном уровне вынуждена на это реагировать, даже если ей это не нравится. И на факты о закупках, и на факты о коррупционном поведении каких-либо тех или иных лиц. Поэтому в принципе это хорошо.
Но борьбу с коррупцией должно вести государство, так во всём мире. А мы, как граждане, должны государству в этом способствовать.
М.МАКСИМОВСКАЯ:Дмитрий Анатольевич, позвольте я сужу тему широчайшую борьбы с коррупцией до конкретной сферы, потому что действительно вся страна по понятиям живёт, мы это все знаем.Д.МЕДВЕДЕВ: Марианна, и Вы по понятиям живёте?
М.МАКСИМОВСКАЯ: Вся страна, и я как гражданин страны, в общем, ну а как?
А.ПИВОВАРОВ: Только Михаил не даёт взяток.
Д.МЕДВЕДЕВ: Ну да, он святой.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Наверное.
М.ЗЫГАРЬ: Нет, ну что Вы.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Не святой.
Вы неоднократно критиковали судебную систему и что-то критическое говорили даже о деле Михаила Ходорковского – правда, это ничем не закончилось: Михаил Ходорковский не помилован, его дело не пересмотрено, он на свободу не вышел.
Смотрите, Вы подняли зарплату судьям, Вы смягчили наказание по экономическим статьям, но никто, я уверена, не назовёт нашу судебную систему независимой. С помощью судей самые различные структуры решают свои самые различные вопросы. Простые люди не верят в то, что они могут в суде добиться правды. Такая судебная система всё тормозит: и экономику, и политику. Почему Вы не приступили к кардинальной реформе судебной системы – Вам не хватило четырёх лет или существуют какие-то обстоятельства, по которым провести такую кардинальную реформу судебной системы, сделать суды независимыми сейчас просто невозможно?
Д.МЕДВЕДЕВ: Я попробую дать ответ. Конечно, четыре года – не такой большой срок. Действительно, за четыре года не так много можно сделать, тем не менее преобразования в судебной системе были, есть и будут. Мы, на мой взгляд, улучшили в целом дисциплину в судебной системе, создали так называемое Дисциплинарное судебное присутствие, сейчас дисциплинарные коллегии создаются для того, чтобы следить за поведением самих судей.
Но, уважаемые друзья, коллеги, вы поймите, когда говорят о реформе суда, это тоже нельзя понимать очень примитивно. Что такое реформа суда – выгнать судей? Но суд – это непрерывное производство. Отправление правосудия должно происходить каждый день. Выгонять нельзя, тем более что есть огромное количество людей, абсолютно безупречных. Во-вторых, откуда брать других?
Поэтому реформа суда – это не увольнение всех судей, но это создание таких условий, когда поведение судей определяется только буквой и духом закона – и ничем другим; когда судья, если звонит телефон, не бежит его брать и не говорит: «Хорошо, мы сделаем таким образом», – а сообщает об этом факте наверх: «Мне звонил такой-то чиновник и говорил о том, что соответствующее дело должно быть рассмотрено таким образом». Так во всём мире, кстати, происходит. Если кто-то выходит на судью, судья сразу же пишет донос: на меня выходил либо чиновник (но у них это вообще почти невозможно), либо (у них тоже пытаются это делать) какой-либо из адвокатов. После этого адвоката выгоняют из коллегии, а про чиновника даже не говорю.
Нужно вменить это в обязанность судьям, но сделать это так, чтобы они следовали этой модели, чтобы они не боялись докладывать, что им позвонили или с регионального уровня, или с федерального, или ещё откуда-то, или коммерсанты зашли, деньги предложили, это тоже бывает. Поэтому это набор условий.
М.МАКСИМОВСКАЯ:Дмитрий Анатольевич, позвольте я сужу тему широчайшую борьбы с коррупцией до конкретной сферы, потому что действительно вся страна по понятиям живёт, мы это все знаем.Д.МЕДВЕДЕВ: Марианна, и Вы по понятиям живёте?
М.МАКСИМОВСКАЯ: Вся страна, и я как гражданин страны, в общем, ну а как?
А.ПИВОВАРОВ: Только Михаил не даёт взяток.
Д.МЕДВЕДЕВ: Ну да, он святой.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Наверное.
М.ЗЫГАРЬ: Нет, ну что Вы.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Не святой.
Вы неоднократно критиковали судебную систему и что-то критическое говорили даже о деле Михаила Ходорковского – правда, это ничем не закончилось: Михаил Ходорковский не помилован, его дело не пересмотрено, он на свободу не вышел.
Смотрите, Вы подняли зарплату судьям, Вы смягчили наказание по экономическим статьям, но никто, я уверена, не назовёт нашу судебную систему независимой. С помощью судей самые различные структуры решают свои самые различные вопросы. Простые люди не верят в то, что они могут в суде добиться правды. Такая судебная система всё тормозит: и экономику, и политику. Почему Вы не приступили к кардинальной реформе судебной системы – Вам не хватило четырёх лет или существуют какие-то обстоятельства, по которым провести такую кардинальную реформу судебной системы, сделать суды независимыми сейчас просто невозможно?
Д.МЕДВЕДЕВ: Я попробую дать ответ. Конечно, четыре года – не такой большой срок. Действительно, за четыре года не так много можно сделать, тем не менее преобразования в судебной системе были, есть и будут. Мы, на мой взгляд, улучшили в целом дисциплину в судебной системе, создали так называемое Дисциплинарное судебное присутствие, сейчас дисциплинарные коллегии создаются для того, чтобы следить за поведением самих судей.
Но, уважаемые друзья, коллеги, вы поймите, когда говорят о реформе суда, это тоже нельзя понимать очень примитивно. Что такое реформа суда – выгнать судей? Но суд – это непрерывное производство. Отправление правосудия должно происходить каждый день. Выгонять нельзя, тем более что есть огромное количество людей, абсолютно безупречных. Во-вторых, откуда брать других?
Поэтому реформа суда – это не увольнение всех судей, но это создание таких условий, когда поведение судей определяется только буквой и духом закона – и ничем другим; когда судья, если звонит телефон, не бежит его брать и не говорит: «Хорошо, мы сделаем таким образом», – а сообщает об этом факте наверх: «Мне звонил такой-то чиновник и говорил о том, что соответствующее дело должно быть рассмотрено таким образом». Так во всём мире, кстати, происходит. Если кто-то выходит на судью, судья сразу же пишет донос: на меня выходил либо чиновник (но у них это вообще почти невозможно), либо (у них тоже пытаются это делать) какой-либо из адвокатов. После этого адвоката выгоняют из коллегии, а про чиновника даже не говорю.
Нужно вменить это в обязанность судьям, но сделать это так, чтобы они следовали этой модели, чтобы они не боялись докладывать, что им позвонили или с регионального уровня, или с федерального, или ещё откуда-то, или коммерсанты зашли, деньги предложили, это тоже бывает. Поэтому это набор условий.
Понимаете, это на самом деле очень глубоко сидит. Я надеюсь, что у нас с каждым годом будет становиться всё больше и больше оправдательных приговоров, потому что это абсолютно правильно. Не надо стесняться их выносить. Это не признак некачественной работы следствия – это признак другого: что судья не постеснялся поставить точку, сказал – недостаточно доказательств, чтобы признать виновным. Или судья, или коллегия присяжных. Эта проблема есть.
А.ПИВОВАРОВ: Я бы хотел продолжить. Вот Марианна упомянула фамилию Ходорковского. Не так давно президентский Совет по правам человека выносил заключение, что необязателен факт подачи прошения о помиловании – для помилования. Вот Вы на этой неделе помиловали Сергея Мохнаткина, вчера он вышел из колонии. Он писал Вам прошение о помиловании, хотя не признал себя виновным, и мы знаем, что он объявил, что будет бороться за отмену приговора.
Михаил Ходорковский не раз говорил, что не будет писать прошение о помиловании. Понятно, что, наверное, без прошения помилования быть не может. Но я немного по-другому хочу повернуть этот вопрос. А Вы вообще не считаете, что вот такое длительное нахождение Ходорковского и Лебедева в заключении составляет какую-то проблему для страны – может быть, действительно можно помиловать их и без прошения?
Д.МЕДВЕДЕВ: Алексей, Вы сами сначала сказали, что это делать нельзя, а потом говорите – может быть, можно?
М.ЗЫГАРЬ: Совет [по правам человека] сказал, что можно.
А.ПИВОВАРОВ: Как Президент, Вы могли бы...
М.МАКСИМОВСКАЯ: В Конституции…
Д.МЕДВЕДЕВ: Правильно, Марианна.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Конституция здесь-то важнее.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да. У нас есть статья 50 Конституции, в которой написано, что каждый осуждённый вправе просить о помиловании. Это Конституция. То есть обязательно должно быть прошение. Более того, в той же самой статье говорится о том, что осуждённый вправе добиваться пересмотра приговора, но это же не означает, что сам суд должен без ходатайства осуждённого начинать эти процессы. Это всегда стимулируется самим человеком во всём мире. И при всём моем уважении к некоторым коллегам, которые подписали соответствующие бумаги, эти бумаги не основаны ни на букве Конституции, ни на духе закона. Говорить о милосердии можно, но это милосердие должно быть всё-таки связано с волей лица, которое подверглось ответственности, с волей осуждённого.
Заберусь сейчас в юридические дебри, но мне это интересно, поэтому всё-таки сделаю это. Вот представим себе: если Президент возьмёт и помилует кого-то без обращения к нему, а в этот момент осуждённый добивается полной реабилитации, то есть признания невиновным, – что произойдёт: Президент помиловал, но фактически пятно осталось. И в этом случае получится, что тем самым Президент нарушил желание человека добиться полного оправдания – если он сам, конечно, об этом не написал. То есть Президент вклинился в процесс доказательства человеком своей полной невиновности. Поэтому, на мой взгляд, это ни юридически, ни фактически несостоятельная позиция.
Но, возвращаясь к Ходорковскому, к некоторым другим людям, которые находятся в местах лишения свободы, я могу сказать одну вещь. Понимаете, мы вообще должны задаться вопросом, почему у нас такое количество людей находится на зоне. Надо ли нам, чтобы в современных условиях, в ХХI веке, такое количество людей осуждалось к лишению свободы? Вот я когда начинал свою работу в качестве Президента, у нас было около одного миллиона лиц, находящихся в местах отбытия наказания, – миллион человек. За то время, пока я работал, их количество уменьшилось на одну пятую часть: сейчас – около 800 тысяч.
Вы знаете, когда мне приносят материалы на помилование (я, кстати, помиловал не только одного гражданина, о котором Вы сказали, – там большее количество людей), я иногда просто удивляюсь: украл мобильный телефон – два года лишения свободы; выловил в пруду, на самом деле реальное дело, семь карпов – полтора года. Какой в этом смысл? Человек, который действительно совершил, по сути, что-то среднее между административным проступком и уголовным преступлением погружается на год, на два в места не столь отдалённые и выходит уже вполне закоренелым преступником с уголовной лексикой и с уголовными мозгами.
А.ПИВОВАРОВ: Который точно не верит в систему правосудия.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, это проблема системы правосудия. И потом ещё мы тратим деньги на его социализацию: устраиваем его на работу, объясняем ему, что можно как-то пытаться жить по-другому. Поэтому это действительно государственная проблема, и касается она не только Ходорковского, Лебедева или каких-либо других людей – она касается огромного количества людей, которые отбывают наказание.
Но если говорить о конкретном деле, чтобы не получилось так, что чего-то наговорил и не ответил по конкретному вопросу, – ответ на вопрос про Ходорковского и других коренится собственно в ответе на предыдущий вопрос: без обращения не может быть рассмотрения, это моя твёрдая позиция.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Дмитрий Анатольевич, здесь такая очень важная юридическая вещь. По существующей практике Президент милует (кстати, это и УДО так же касается) только тех, кто признаёт свою вину. Вот сейчас с Сергеем Мохнаткиным Вы же сами создали прецедент: Сергей Мохнаткин не признал свою вину – так же, как не признаёт свою вину Михаил Ходорковский. То есть по существующей практике Ходорковского вроде как нельзя было помиловать, потому что он не признаёт свою вину. Но сейчас помиловали Мохнаткина, то есть прецедент создан.
Д.МЕДВЕДЕВ: Я объясню эту позицию чуть более подробно, раз она всех так волнует. Надеюсь, она волнует и тех людей, которые сегодня нас смотрят. Вопрос о прошении основан на статье 50 Конституции, и Президент не может выйти за рамки Конституции. Это, я думаю, абсолютно всем очевидно.
Если говорить о признании или непризнании вины, то этот факт основан на Указе Президента. И в этом смысле я всегда говорил, что Президент вправе отступить от собственного Указа в том случае, когда считает это правильным. Если говорить о конкретном деле, там были достаточно серьёзные аргументы, которые можно рассматривать и как косвенное признание вины, но дело даже не в этом.
Это находится в руках Президента. Вопрос о том, нужно ли признавать вину или не признавать, относится к компетенции Президента и связан с тем Указом, который в настоящий момент действует, вот собственно ответ.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Тогда про другое: про реформы в армии.
Д.МЕДВЕДЕВ: Пожалуйста.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Видел недавно последние отчёты Министерства обороны, вот такие толстенные. Там сказано, что дедовщина у нас коренным образом изменилась: она уменьшилась. Мы знаем, что денежное содержание военнослужащих растёт. В программе «Время» делаем сюжеты про то, как решается квартирный вопрос военнослужащих.
Вы как Президент всегда отстаивали (и позавчерашнее Ваше выступление) высокие траты на армию: 20 триллионов закладывается у нас?
Д.МЕДВЕДЕВ: Даже больше 20, но до 2020 года.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Но всё равно огромные траты.
Вы как будущий премьер так же жёстко будете разговаривать с будущим Министром финансов и доказывать ему, что траты на армию предпочтительнее, чем траты на науку, образование, медицину?
Д.МЕДВЕДЕВ: Ещё жёстче буду разговаривать – просто душить буду, добиваться от него, вытаскивать деньги. (Смех.)
Вы знаете, Антон, я никогда не говорил, что армия приоритетнее образования или, наоборот, образование приоритетнее, чем армия, это просто несерьёзный разговор, – я лишь говорил об одном: что мы обязаны реформировать наши Вооружённые Силы, чтобы они были мощные, боеспособные, чтобы там служили люди, хорошо мотивированные, чтобы эти люди любили свою страну и понимали, ради чего они поступают на службу в армию. Вот ради этого и запланированы такие большие деньги.
Кроме того, мы с вами понимаем, что вооружение у нас не менялось практически до последнего времени с советского периода. И я как Верховный Главнокомандующий в этом убеждался неоднократно. Кстати, и конфликт, который был развязан Грузией, это продемонстрировал. Нам пришлось быстро менять наше вооружение.
И сейчас перед нами стоит задача: к 2020 году от 50 до 70 процентов вооружения просто поменять, чтобы появились новые ракеты, новые бронетранспортёры, новая связь и всё, что необходимо для обеспечения обороны и безопасности.
Но эти траты не должны быть бездумными – они должны быть ориентированы на нашу промышленность, которая должна, во-первых, нам предоставлять качественный товар, и, во-вторых, она должна справиться с этими деньгами. Если мы почувствуем по каким-то причинам, что есть проблема, значит, мы к этому вопросу вернёмся.
Что же касается образования, то это не меньший приоритет, чем затраты на оборону. Вот Вы сказали – 20 триллионов. Я напомню, 20 триллионов с лишним – до 2020 года. А ежегодный консолидированный бюджет образования – два триллиона рублей, каждый год. То есть это сопоставимые деньги. И, кстати сказать, тоже позволившие нам за последние годы всё-таки кое-что, на мой взгляд, по важным вопросам в системе образования поменять.
Но оборона и безопасность всегда будут в числе приоритетов государства – и моих приоритетов, если мне доведётся дальше работать на соответствующих должностях.
А.ШНАЙДЕР: Дмитрий Анатольевич, а можно про армию и про образование – через личное? Насколько я понимаю, Вашему сыну Илье летом исполняется 17...
Д.МЕДВЕДЕВ: Правильно понимаете.
А.ШНАЙДЕР: А значит, вопросы армии и образования Вас должны интересовать не только как главу государства, но и как нормального родителя. Считаете ли Вы, что любой молодой человек в России должен идти в армию? И что касается сына: какую профессию, какой вуз он выбрал, что он говорит? А что Вы как родитель думаете про ЕГЭ и про реформу образования в целом?
Д.МЕДВЕДЕВ: Сначала про службу в армии, потому что это серьёзный вопрос. В соответствии с нашей Конституции опять же это долг и обязанность гражданина Российской Федерации – вопрос в том, каким образом этот долг исполнять. У нас сейчас происходят изменения в системе комплектации армии – и я считаю, что правильные изменения. Смысл их вот в чём: где-то через шесть лет мы должны выйти на такой уровень комплектации, когда 85 % тех, кто служит в армии, – это лица, принятые по контракту, а 15 % – это призывники.
А.ШНАЙДЕР: А сейчас какое соотношение?
Д.МЕДВЕДЕВ: Сейчас просто несопоставимо. Конечно, в основном это люди, которые служат по призыву, хотя и контрактников уже немало становится.
Мы должны выйти на профессиональную армию, это абсолютно нормальное требование современной жизни. При этом сохранить частичную возможность призыва, чтобы у нас были резервисты и те, кто хочет посвятить свою жизнь служению Отчизне в Вооружённых Силах, чтобы потом из них, например, из этих контрактников, офицеры появлялись или они ещё как-то устраивали свою жизнь в связи с обеспечением безопасности. Поэтому это, безусловно, конституционный долг.
Но у нас есть высшие учебные заведения, по которым существует правило, что тот, кто туда поступил, должен иметь возможность доучиться, не прерывая образования. По этому поводу существует две полярные позиции: студенты, естественно, их родители и многие другие считают, что это правильно, – часть военачальников и некоторых других лиц считают, что это не вполне правильно.
Моя позиция простая. Я считаю, что нам нужны качественные специалисты. И в ряде случаев разрыв в обучении носит губительный характер. Но только в ряде случаев. Потому что если говорить о системе высшего образования в нашей стране, то она у нас, скажем аккуратненько, избыточная: у нас больше 1150, по-моему, университетов. Я напомню, что в советские времена на весь 300-миллионный Советский Союз было 600 университетов. Я не призываю немедленно что-то закрывать, но это повод для того, чтобы подумать о судьбе высшего образования в целом и качественным его сделать.
В том, что касается ЕГЭ, возвращаюсь к этой теме. Я обсуждал со своим сыном ситуацию с ЕГЭ. Не могу сказать, что мне показались убедительными его доводы. Почему? Потому что он ничего другого не знает. Я знаю, потому что я сдавал экзамены и такие, и сякие. Он сказал буквально следующее: «Это какой-то кошмар: столько нужно заниматься!» Но это нормальные эмоции.
А я-то знаю, что была такая система, а сейчас другая система. Моё отношение к ЕГЭ буквально следующее. Я считаю, что это в целом вполне современный и разумный тест, но он не может быть абсолютно исключительным. То есть, иными словами, только единый госэкзамен – это неправильно. Он должен дополняться другими испытаниями, особенно когда речь идёт о конкретных специальностях, где ЕГЭ не способен продемонстрировать, что называется, товар лицом.
А.ШНАЙДЕР: Гуманитарные…
Д.МЕДВЕДЕВ: Гуманитарные те же самые профессии. Потому что надо понять, как человек мыслит, как он говорит и так далее. Поэтому ЕГЭ – это магистральный путь. Кстати, все учителя, с которыми я разговаривал тихо, без камер, в коридорах, где угодно, – все мне на ухо говорили: ЕГЭ – хорошо, особенно в провинции. Говорят: «Вы знаете, наши дети поступают в столичные вузы, а раньше это сделать было почти невозможно: или блат, или какие-то другие формы для того, чтобы поступить и сдать эти самые экзамены». Поэтому ЕГЭ надо развивать, совершенствовать, в то же время в ряде случаев дополнять его новыми испытаниями.
А.ШНАЙДЕР: Илья-то куда поступает в итоге?
Д.МЕДВЕДЕВ: Мы сейчас этот вопрос с ним обсуждаем. У него есть несколько задумок. Не скрою, он, конечно, интересуется и тем, чем я занимался в прежней своей жизни.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Юриспруденция?
Д.МЕДВЕДЕВ: И юриспруденция, его интересует и экономика – в общем, сейчас он в процессе выбора.
А.ПИВОВАРОВ: Дмитрий Анатольевич, Вы сегодня много говорите о том, что предстоит сделать, о делах, которые пока ещё не завершены, о будущем. Тем не менее 24 сентября прошлого года Вы объявили о решении оставить пост Президента. Мы помним, что было потом: потом были парламентские выборы в декабре, которые многие не признали честными, и самые массовые акции протеста за последнее десятилетие. Я хочу Вас спросить, как Вы относитесь к людям, которые вышли на Болотную [площадь] и на проспект Сахарова. Считаете ли Вы, что до сентября многие из них были если не Вашими избирателями, то по крайней мере сочувствующими Вашей риторике? Возможна ли ситуация, при которой, если бы Вы знали заранее, сколько людей выйдет на Болотную и на проспект Сахарова, Ваше сентябрьское решение могло быть иным?
Д.МЕДВЕДЕВ: Алексей, я не говорил в сентябре, что я собираюсь оставить пост. Я сказал о другом: что с учётом текущих политических реалий мне представляется более правильной другая конструкция, которая была реализована. И что бы там о ней ни говорили (она, может быть, кому-то симпатична, кому-то весьма несимпатична, это вопрос как раз выбора, это, собственно, и есть демократия), эта конструкция выдержала проверку на прочность, потому что мы добились того политического результата, на который рассчитывали, и получили поддержку большинства граждан.
Теперь в отношении тех, кто выходил на Болотную, на Сахарова, на другие площади. Во-первых, как Президент я ко всем гражданам нашей страны отношусь хорошо: это наши люди со своей позицией. Если говорить о людях, которые протестовали против, допустим, позиции власти или ещё чего-то, – я уважаю их право, это абсолютно нормально. Я не вполне согласен с некоторыми вещами, которые говорили, например, со сцены, потому что у меня другая политическая позиция, но те люди, которые вышли для того, чтобы продемонстрировать свою позицию, заслуживают уважения. Абсолютное большинство из них вело себя как законопослушные граждане: они вышли, сказали всё, что думают. Они и потом выходили, это их право. Потом выходили другие люди, которые говорили, что нам не нравится позиция тех людей, и это тоже нормально.
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, я считаю, что те решения, которые были озвучены в сентябре, подтверждены политической практикой, а она, как известно, критерий истины. Мы всё это придумали не ради того, чтобы «согреться», а для того, чтобы получить конкретный политический результат, – мы его получили: получили мандатное управление.
Да, мнение меньшинства заслуживает максимального уважения, но есть ещё и конструкция большинства. И во всём мире демократия – это и есть решения, которые принимаются большинством, которые носят общий и обязательный характер для всей страны.
А.ПИВОВАРОВ: А количество этого меньшинства на конкретных площадях Вас впечатлило?
Д.МЕДВЕДЕВ: Впечатлило.
М.МАКСИМОВСКАЯ: И его качество?
Д.МЕДВЕДЕВ: И количество, и качество впечатлило, ничего не могу сказать. Впечатлило просто потому, что это за последние годы был такой массовый выход людей с тем, чтобы озвучить свою позицию. А это означает, что власть не имеет права уклоняться от этой позиции – она должна на неё реагировать. И я считаю, что реакция на это была в самых разных направлениях. И она будет.
М.ЗЫГАРЬ: Дмитрий Анатольевич, в самом начале Вы сказали, что те люди, которые выходили на площади, каждый из них, по Вашему мнению, мог сказать: я свободен. У меня было ощущение, что люди выходили на площадь именно потому, что они почувствовали, что они несвободны в своём праве выбирать, они говорили, что у них украли их голоса. Они говорили, что выборы были нечестными.
Более того, потом мы увидели, что недовольство выборами и сомнение в чистоте выборов – это не только болезнь, которая существует внутри МКАДа. Мы видели, что и в других регионах России многие люди готовы идти на крайние меры. В Лермонтове была голодовка, которая завершилась успехом. В Астрахани тоже люди пошли на крайние меры – голодали. Я бы хотел спросить, понимаете ли Вы чувства этих людей, которые готовы идти на самые крайние меры, которые доведены до отчаяния? И второй вопрос: Вам за последние годы доводилось испытывать чувство отчаяния?
Д.МЕДВЕДЕВ: Мне – нет. Я Президент и не имею права поддаваться эмоциям. У меня бывает плохое настроение, очень плохое настроение, но отчаяния не бывает никогда. Когда у меня бывает плохое настроение, я иду и занимаюсь спортом, и оно стабилизируется. А потом принимаю решения – самые неприятные, может быть.
Теперь в отношении выборов. Действительно, отношение к выборам изменилось. Люди изменились, общий уровень политической культуры повысился, появились новые информационные средства. Власть не имеет права на это не реагировать.
Очень хорошо, что всё это произошло. Это означает, что должно меняться всё: начиная от технологий проведения выборов и заканчивая технологиями предъявления их результатов, чтобы не было подозрений, что власть кого-то обманула.
Скажу сразу: я считаю, что в масштабах страны никакие существенные фальсификации невозможны. Есть просто закон больших чисел, и поэтому тот результат, который достигается, всегда отражает волю народа. Но даже мелкие нарушения досадны, даже ситуации, когда на одном участке украли один голос, – это уже раздражает. Раньше такого не было, в 90-е годы этого не происходило, это где-то копилось внутри, а сейчас это есть. Поэтому мы должны и законодательство менять, и использовать технологические средства.
Я некоторое время назад принимал решение о том, чтобы оснастить участки этими самыми специальными цифровыми машинами для считывания голосов, КОИБами. Покаюсь, ещё до выборов под влиянием аргументов, связанных с кризисом, я разрешил Минфину отсрочить оснащение этих участков до 2015 года, хотя мог настоять на этом. Это большие деньги – честно говоря, большие деньги: десятки миллиардов рублей. Решили израсходовать их на другие нужды, на социальные нужды. Но, может быть, если бы мы это сделали, вопросов было бы меньше, потому что как ни крути, но эти цифровые технологии обработки – это уже другое дело. Может быть, стоило ускорить этот процесс. Но мы сделаем это сейчас, как и камеры, и всё остальное.Теперь в отношении людей, которые протестуют. Во-первых, они имеют на это право. Вопрос в том, что есть искренний протест, а есть хорошо просчитанная политическая позиция. Сразу хочу сказать: я тоже никого не осуждаю. Но «Голодные игры» – напомню, довольно посредственный голливудский блокбастер – я не знаю, смотрели вы или нет, а я посмотрел. И тот, кто этим занимается, очень часто преследует вполне очевидную политическую цель. На мой взгляд, сейчас все цели достигнуты, все с аппетитом едят и готовятся к заседанию Государственной Думы, готовятся к тому, чтобы получить мандат депутата. Всё это нормально, если это находится в русле решений, соответствующих закону. Вот моя позиция.
М.ЗЫГАРЬ: Вот Вы не верите в крупные фальсификации, но в той же Астрахани именно КОИБы стали причиной такого казуса: на участках, где были КОИБы, победил один кандидат, а на участках, где не было КОИБов и можно вбросить легче, победил другой.
А.ПИВОВАРОВ: Причём там огромная разница в цифрах.
Д.МЕДВЕДЕВ: Это, собственно, иллюстрация того, о чём я говорил. Я же не говорю, что там не было нарушений – в Астрахани или в других местах.
М.ЗЫГАРЬ: И это не один голос.
Д.МЕДВЕДЕВ: Я ещё раз хотел бы сказать: выборы, если говорить о современных выборах, о крупных выборах, – их украсть невозможно, потому что всегда есть экзит-поллы, которые или «бьются», или не «бьются». Невозможно себе представить ситуацию, когда, например, у кандидата 50 процентов по экзит-поллам, а он получает 20, а другой – получает 70. Это невозможно, эта манипуляция ни у кого не пройдёт.
Но Вы правы, как раз эта ситуация иллюстрирует то, что я сказал: с КОИБами манипуляции в гораздо меньшей степени возможны, чем с обычными ящиками. Поэтому мы должны все участки оснастить ими. И вообще это задача для государства, для Президента, для парламента на ближайшие годы – создать такую конструкцию, когда количество сомнений будет минимальным.
Мы с вами понимаем, что очень часто эти сомнения, ещё раз говорю, имеют характер политической технологии. Потому что, если исходить из разумных предположений, человек сначала идёт в суд. В суде, например, его требования не удовлетворяют. Потом он начинает голодать. Это для меня понятная вещь. Но, когда люди сначала начинают голодать, а потом уже собираются обращаться в суд, это похоже на политическую программу.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Дмитрий Анатольевич, тогда отчасти продолжение этой митинговой темы, заданной Михаилом.
Д.МЕДВЕДЕВ: У нас с вами абсолютно политический разговор получается.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Так Вы у нас политик номер один в стране – как же, о чём же ещё?
Д.МЕДВЕДЕВ: Экономика, социальная сфера, которая, наверное, людей интересует.
А.ВЕРНИЦКИЙ:Я думаю, потом перейдём.М.МАКСИМОВСКАЯ: Перейдём.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Возвращение прямых выборов губернаторов, упрощение выборов в Госдуму, упрощение регистрации партий – все эти предложения Вы озвучили в своём Послании Федеральному Собранию буквально через несколько дней после того, что произошло на Болотной площади. Как и когда появились у Вас эти решения и связаны ли они всё-таки с выступлениями на Болотной?
Д.МЕДВЕДЕВ: Я ещё в самом первом Послании начал реформирование политической системы – и делал это каждый год. И каждый год слышал приблизительно одно и то же. Кто-то мне говорил: «Это слишком робко, что-то он там возится, волнуется, а надо в лоб – и сразу всё поменять». Кто-то, наоборот, говорил: «Не трогайте, всё в порядке, не расшатывайте конструкцию».
Это была моя позиция изначально: я каждый год менял правила, относящиеся к политической системе – напомню, это и доступ к средствам массовой информации политическим партиям, это и понижение барьера для выборов в Государственную Думу, и порядок наделения полномочиями губернаторов (не новый, а тот, который сейчас действует, когда мы перешли к партийному характеру такого рода процедуры), и масса других вещей. Их много, кстати: каждый раз я называл практически по 10 позиций.
В какой-то момент (это было, наверное, где-то год назад) я почувствовал, что завершающий аккорд должен быть более мощным, потому что система созрела. Я же откровенно говорил года два назад, что я против возвращения выборов губернаторов. Почему? Я так считал. Я считал, что в условиях большой страны, очень сложной страны с массой противоречий, действительно есть опасности. Они и сейчас сохраняются. Но в какой-то момент я понял: люди хотят выбирать начальников. Думаю – и отлично, потому что мы тем самым снимем эту ответственность с верховной власти. Пусть люди сами прочувствуют и научаться отличать ответственных руководителей от демагогов; людей, которые способны проводить собственную политику, от тех, кто будет плестись в хвосте проблем.
И сейчас эта модель будет реализована именно потому, что общество созрело – созрело на новом этапе. Почему я сегодня говорю об этом и говорил несколько дней назад? Нынешнее форсированное движение в сторону демократии не приведёт к хаосу, я уверен, потому что изменилось общество. Оно в 90-е годы было другим.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Дмитрий Анатольевич, по поводу верховной власти.
У Вас новая рокировка с Путиным.
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы в шахматных терминах это определяете.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Так принято говорить о том, как вы обмениваетесь постами, которые вы занимаете. Теперь Владимир Путин передаёт Вам как будущему премьер-министру свой нынешний пост лидера «Единой России». Путин, очевидно, таким образом освобождается от груза непопулярной партии. Но зачем это Вам?
И ещё. Вы так же, как он, возглавите партию, но в неё как-то так стыдливо не вступите – или: и возглавите, и вступите, и ещё что-то там внутри поменяете?
А.ПИВОВАРОВ: Или вступите, но не возглавите?
М.ЗЫГАРЬ: Или вступите, но не стыдливо?
Д.МЕДВЕДЕВ: Можно продолжить этот ряд.
Мы не обмениваемся постами. Я, конечно, понимаю, что для целей политологии и журналистики эта конструкция нормальная. Но для того, чтобы чем-либо обменяться, надо сначала это получить. Так вот, пост Президента Путин завоевал в борьбе и получил весьма весомую поддержку людей. Если бы люди ему отказали, то ни о какой рокировке, как Вы говорите, речи бы идти не могло. То же самое касается поста Председателя Правительства. Его ещё нужно заслужить и добиться того, чтобы Государственная Дума за него проголосовала. Не скрою, конечно, «Единая Россия» – это сила, с которой я связан, которой я симпатизировал, которая, надеюсь, симпатизировала мне.
Теперь в отношении того, что будет происходить на партийных флангах и в партийном центре. Я абсолютно не могу понять, когда говорят, что «Единая Россия» – непопулярная партия. Слушайте, если у неё 50 процентов голосов в Государственной Думе, что подтверждается всякими социологическими опросами, у неё сейчас текущий рейтинг поддержки 45–47 процентов, по некоторым другим [оценкам] – 52–53, – какая партия популярнее? Все остальные-то явно менее популярны. Это первое.
Это самая большая партия. Я не говорю о том, что это самая совершенная партия. У неё полно недостатков, как у всякой партии. Тем не менее эту партию тоже можно и нужно менять. Поэтому перспективы «Единой России» я рассматриваю как перспективы сильной центристской консервативной силы, которая должна быть в такой стране, как наша.
У нас, например, скажу откровенно, социал-демократов пока таких нет. А плохо, потому что весь мир, как правило, развивается между двумя флангами: с одной стороны – консервативные центристские силы, с другой стороны – социал-демократы. Но это, может быть, будет ликвидировано в ходе новой политической реформы, в процессе развития партийной системы.
Поэтому для меня совершенно очевидно, что в нашей стране была, есть и будет центристская сила, консервативная сила, которая отвечает чаяниям огромного количества людей. Другие люди могут её не любить, ненавидеть, не принимать, это нормально, это и есть демократия: есть абсолютно правые силы, есть левые силы – это нормально.
Что же касается меня лично, если предложение возглавить партию ко мне поступит (а действующий председатель его озвучил), я от него отказываться не буду.
И ещё. Я считаю, что любой руководитель партии должен быть с ней. Если он в неё по каким-то причинам не вступит, он в определённый момент начнёт разделять себя и партию. Это возможно для каких-то должностей, например президентских, но в принципе это неправильно. Поэтому я считаю, что председатель партии должен быть членом партии.
М.МАКСИМОВСКАЯ: То есть у нас с Вами сейчас такая маленькая политическая сенсация. Фактически мы можем говорить о том, что Вы вступите в партию «Единая Россия» и станете партийным премьер-министром.
Д.МЕДВЕДЕВ: При наличии тех предварительных условий, о которых я сказал. Для этого я должен получить предложение – и партия меня должна поддержать.
А.ПИВОВАРОВ: Но в этом мало сомнений, честно сказать.
Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, политическая жизнь – это сложная штука.
М.ЗЫГАРЬ: Будем держать кулаки.
Д.МЕДВЕДЕВ: Хорошо, на это вся надежда. (Смех.)
А.ШНАЙДЕР: Чтобы уже, наверное, заканчивать действительно с политической темой. Вот один из самых обсуждаемых моментов, связанный с политической реформой, это так называемые (извините, Дмитрий Анатольевич, тоже слово такое журналистское) фильтры: президентский и вот теперь ещё муниципальный. Вы только что говорили, что Вам показалось, что общество уже готово к возвращению прямых выборов. Но вот эти самые фильтры – особенно то, что Вас касается, президентский, – не кажется ли Вам, что это сводит на нет саму идею прямых выборов? И зачем, как Вы для себя объясняете? Почему не работают другие механизмы: Уголовный, Административный кодексы, – которые тоже могут позволить отсеивать плохих людей?
Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, политическая конструкция всегда носит конкретный характер. Не бывает абстрактной демократии. Демократия, это моё глубочайшее убеждение, должна быть привязана к определённой национальной почве и к сложившейся политической культуре. Вот она у нас такая, как есть. Она сейчас выше, чем в 90-е годы, никаких сомнений. Но, на мой взгляд, она всё-таки пониже, чем в некоторых других странах. Я думаю, что вы со мной тоже согласитесь.
Теперь в отношении фильтров. Никаких фильтров (в понимании барьеров) в этих законопроектах, в том числе в законе о выборах губернаторов, нет. Но есть квалификационные условия, точнее – одно из них. Какое? Что кандидат в губернаторы должен заручиться поддержкой муниципальных депутатов. Это не мы придумали. Я напомню, сейчас у наших французских друзей идут президентские выборы. Это как раз, по сути, французская конструкция. Причём речь идёт о выборах даже Президента страны, когда кандидат должен доказать, что всё-таки его кто-то воспринимает, что его воспринимают депутаты, лидеры муниципальных образований, что он не абсолютно случайная фигура. Потому что, вы это тоже знаете, давайте вспомним, кого и как избирали в 90-е годы, печальная история иногда была.
Поэтому подтвердить свой авторитет, получив от 5 до 10 % (это была идея муниципалитетов), мне кажется, ничего плохого в этом нет. И, если говорить откровенно, я не вижу никаких проблем большинству серьёзных партий этого добиться – разными способами. Дальше не комментирую.
А.ШНАЙДЕР: А президентский фильтр?
Д.МЕДВЕДЕВ: Теперь президентский фильтр. Никакого президентского фильтра в законе нет. Там лишь говорится о том, что Президент может, но не должен проводить консультации в порядке, установленном соответствующим Указом. Будет ли будущий Президент этим пользоваться, я не знаю. Вполне вероятно, что не будет. Это первое.
И второе. Результат этих квалификаций и консультаций, которые проведёт Президент, – вовсе необязательно, что эти консультации должны кого-то отсекать. Наоборот, по смыслу законопроекта это лишь консультации.
М.ЗЫГАРЬ: Дмитрий Анатольевич, я бы хотел, может быть, в соответствии с Вашим пожеланием, немножко от политики начать отходить. Вы недавно подписали Указ.
Д.МЕДВЕДЕВ: Нет, я ничего не желаю. Хотите – давайте о политике говорить. Я просто не знаю, хотят ли этого наши зрители.
М.ЗЫГАРЬ: Я думаю, что сейчас зрителям будет интересно, потому что это их напрямую коснётся.
Вы подписали недавно Указ о создании общественного телевидения.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Недалеко ушёл от политики.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, это правда.
М.ЗЫГАРЬ: Означает ли это, что существующие государственные телеканалы не справляются с возложенными на них функциями, не могут информировать граждан; средства, которые тратит государство на их финансирование, уходят в пустоту? Может быть, тогда не нужно налогоплательщикам тратить свои деньги на финансирование госканалов? И, может быть, после создания общественного телевидения госканалы будут приватизированы?
Д.МЕДВЕДЕВ: Михаил, хорошо так рассуждать, работая на частном канале. Вот если бы мне коллеги с государственного канала задали бы соответствующие вопросы, это было бы интереснее.
М.ЗЫГАРЬ: Они тоже как налогоплательщики платят деньги.
Д.МЕДВЕДЕВ: Платят. Согласен.
По поводу общественного телевидения. Я неоднократно говорил – у меня никогда нет застывшей позиции, мне кажется, это нормально. Тот, кто говорит: «Я придерживаюсь этой позиции с момента окончания университета», – тот врёт.
У меня позиция по отношению к общественному телевидению тоже менялась. В какой-то момент мне казалось, что государственных возможностей, которые есть... У нас вообще собственно государственный холдинг только один: это ВГТРК. Есть Первый канал, контрольным акционером которого выступает государство, но с точки зрения правовой вообще-то это всё-таки акционерное общество. Это несколько другая история. Поэтому госфинансирование напрямую получает только ВГТРК. Так вот, мне казалось, что этого достаточно, хотя меня убеждали: давайте сделаем общественное телевидение. Но потом я по разным причинам начал думать о чём: ведь государство – это такой же собственник, как и частный собственник, например собственник Вашего канала (обращаясь к М.Зыгарю), Вашего канала (обращаясь к А.Верницкому), Вашего канала (обращаясь к А.Пивоварову), хотя у вас собственник такой большой, но он тоже собственник. Так вот, государство – самый-самый большой собственник, и у собственника всегда есть своя воля.Я думаю, что вряд ли вы будете со мной спорить, собственник всегда свою волю проявляет: в России, в Америке, во Франции. Иногда он это делает жёстко (наверное, для средств массовой информации, это неправильно), иногда он это делает тихо, корректно. И так делается во всём мире.
Так вот, общественное телевидение, в отличие от телевидения, которое принадлежит конкретному собственнику или собственникам, – это как раз единственный ресурс, который никому не принадлежит, потому что он независим от государственных источников.
Вот мы что хотим сделать? Мы хотим подтолкнуть этот ресурс, чтобы он потом начал жить на свои деньги, создать фонд целевого капитала, который будет приносить доход. И в этом случае руководство общественного телевидения не будет приходить в кабинеты Правительства или в Кремль и говорить: пожалуйста, увеличьте нам финансирование. Потому что они будут жить на свои деньги. Это создаёт совершенно другую степень независимости – простите, я скажу такую вещь: большую, чем даже на частном канале.
М.ЗЫГАРЬ: Но назначает-то генерального директора всё равно Президент. Значит, источник легитимности всё равно государство.
Д.МЕДВЕДЕВ: Не так, потому что Президент во всём мире – это консолидирующая фигура. Она может нравиться, не нравиться, но это консолидирующая фигура, это гарант Конституции. Во Франции руководителя общественного телевидения назначает Президент, в Великобритании, если я правильно помню, – Премьер-министр. Никто же не возмущается и не говорит: это посягательство на наши права. Он целиком и полностью аккумулирует различные ощущения, различные ожидания людей. Мне кажется, это нормально.
При этом деньги в этом случае всё равно получаются от других источников, а ни на государственных, ни на частных каналах это невозможно. Думаю, что именно поэтому общественное телевидение нужно создать.
Теперь о судьбе государственных каналов. Я считаю, что после перехода на цифровое вещание (а это совсем уже скоро) государству на всех уровнях нужно будет окончательно определиться с количеством государственных средств массовой информации. На мой взгляд, их много, и необходима реорганизация государственной сети. Часть этих каналов должна быть продана, а часть присоединена к существующим государственным структурам. Определённые сигналы, напомню, я даже регионам давал. Не скрою, мне не очень нравится, как эти сигналы прошли, потому что каждый региональный руководитель хочет иметь, конечно, свой информационный ресурс.
А.ПИВОВАРОВ: Извините, я не могу здесь не вступить, Дмитрий Анатольевич. Понятно, что есть различные формы собственности, есть государственные телеканалы, такие как ВГТРК, есть каналы вроде бы частные, но на самом деле мы все понимаем, что есть так называемые федеральные телеканалы, где, в общем, рука государства очевидна в том, что касается контроля за редакционной политикой.
Я хочу в этой связи привлечь наше общее внимание к тому, что среди нас находится уважаемый коллега Михаил Зыгарь – казалось бы, со стороны: «Дождь» – телеканал очень маленький в сравнении с федеральными, с их огромными финансовыми возможностями. Однако же совершенно логично, что здесь находится Михаил. «Дождь» действительно на слуху; туда с удовольствием ходят ньюсмейкеры; Вы туда ходили, Дмитрий Анатольевич. Чаще они туда ходят гораздо охотнее, чем на большие федеральные каналы. Почему вообще так происходит? Спросите любого, ответ будет простой: на «Дожде» нет цензуры. Журналисты «Дождя» ограничены только своими журналистскими представлениями о том, какие новости интересны, какие нет, каких гостей звать, каких нет.
Я буду говорить только за себя, поскольку это такой вопрос, касающийся меня и моих коллег на НТВ. Я как журналист федерального канала сталкиваюсь регулярно с ограничениями, которые не позволяют мне в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности, конкурировать с тем же «Дождём». Ограничения эти связаны с тем, что принято называть политической целесообразностью – вы знаете: «Не время сейчас, старик».Помимо искусственного ограничения конкуренции это действительно ещё и, как мне кажется, ограничение моей журналистской возможности осуществлять профессиональный долг, информируя зрителей о происходящих событиях. Хотелось бы узнать, как Вы относитесь к этой ситуации, Дмитрий Анатольевич?
Д.МЕДВЕДЕВ: Несколько иначе, чем Вы, потому что я не журналист. Но, конечно, я прокомментирую то, что Вы говорите. Я был на канале «Дождь». Современный, хороший, относительно пока небольшой канал. Я не верю тому, что у руководства «Дождя» нет своей политической позиции. Она есть; другой вопрос, ещё раз говорю, в какой форме она предъявляется. Эта политическая позиция всегда есть у любого СМИ, и она довольно легко читается. Вот, может быть, общественное телевидение, если мы его правильно запустим, оно будет таким уж совсем нейтральным, хотя полностью нейтральной среды не бывает. Есть политическая позиция и у «Дождя». Это первое.
Второе. Почему ньюсмейкеры, как Вы сказали, с охотой ходят, например, к нашим уважаемым коллегам на «Дождь» и реже появляются в ваших эфирах? Не потому что там где-то есть цензура, где-то нет цензуры, хотя, наверное, политическое влияние, безусловно, на крупных каналах выше, это естественно. По другим причинам. Потому что не зовёте, а они зовут. Вот как только позовёте, они с удовольствием придут – по другой причине: потому что охват федеральных каналов всё равно пока выше, чем у «Дождя», несмотря на то, что у «Дождя» есть очень хорошая, я бы даже сказал, для будущего премиальная аудитория: это молодёжь, которая смотрит «Дождь» и с использованием кабельной сети, и с использованием спутников, и с использованием интернета. Тем не менее всё равно федеральные каналы пока покруче будут. И зазвать любого политика к вам, на мой взгляд, гораздо проще. Давайте ему пространство.
А.ПИВОВАРОВ: Мы Вас зовём.
А.ШНАЙДЕР: Приходите, Дмитрий Анатольевич.
Д.МЕДВЕДЕВ: Я пришёл. (Смех.)
И последнее. Вы знаете, конечно, вопрос о политической целесообразности – это очень тонкая вещь. Цензура, напомню, у нас Конституцией запрещена, и, если она где-либо появляется, это повод для государственного вмешательства.
Что же касается вопросов целесообразности, то это действительно вопрос ответственности руководства того или иного средства массовой информации, попадания в мейнстрим и, если хотите, вопрос внутренней химии отношений между руководством средства массовой информации, журналистским коллективом и, конечно, потребителями телевизионного продукта. Вот эти вещи должны быть в гармонии. Как она достигается? Это уже вопрос не ко мне, а к руководителям соответствующего СМИ.
А.ПИВОВАРОВ: Придётся задать.
Д.МЕДВЕДЕВ: Уже задали. Я думаю, они услышали.
М.МАКСИМОВСКАЯ: И не только они.
Продолжая тему телевидения, цензуры или – хорошо, давайте воспользуемся этой формулировкой – политической целесообразности: Вы как-то сами не так давно заметили, как различается информационная повестка дня в интернете и на телеканалах, вот возникли как будто две параллельные реальности. Те, кто не пользуются интернетом, не знают, в общем, почти ничего о том, какие жестокие споры ведутся вокруг, допустим, ареста участниц Pussy Riot и реакции церкви на это событие, практически не в курсе скандалов вокруг церкви и имущества её иерархов и так далее, этот список можно продолжать очень долго. Вот Вы сами обращаетесь к интернету или к телевидению, когда хотите узнать новости?
Д.МЕДВЕДЕВ: Откровенно скажу, я в большей степени, конечно, обращаюсь к интернету – не потому, что я телевидение не люблю, а просто потому, что интернет мне зачастую удобнее. Я сижу перед компьютером, один раз кликнул и попал на сайт любого из представленных здесь каналов или просто посмотрел на ленту новостей. Но Вы задали правильный вопрос в отношении повестки дня, меня это тоже волнует. Какие у меня ощущения?
Действительно, существует разная повестка дня. Но я попытаюсь подойти к этому с другой стороны: а так ли это плохо? Вопрос в том, что кому интересно. Вот вы назвали несколько тем. Часть из них интересует всё общество, часть из них интересует довольно небольшое количество людей. Я неоднократно обращал внимание на то, что в заголовки новостей, в наиболее обсуждаемые в блогосфере темы, в так называемые хэштеги «Твиттера» попадают вещи, которые никакого отношения к темам, которые волнуют 95 % людей, не имеют. Но из этого возникает огромная волна, событие просто вселенского масштаба. Если исходить из того, что это единая реальность, нужно срочно бежать к руководству телеканала и говорить: так, вот это срочно надо ставить в эфир, об этом говорит блогосфера. Я не уверен, что нужно так поступать.
Но, с другой стороны, Марианна, Вы правы, не должно быть глухой стены. Иногда такие вещи случались – сейчас, на мой взгляд, этих вещей просто нет, когда в одном мире – одно (допустим, в мире интернет-событий), а в мире телевизионных событий – другое, потому что даже событие, которое волнует относительно небольшое количество людей, но является знаковым, оно всё-таки должно тоже попадать и в телевизионный эфир. Поэтому возможны различные реальности, но не должно быть разной повестки дня, вот я так скажу.
А.ШНАЙДЕР: Марианна вспомнила группу Pussy Riot. Так как мы все здесь активные пользователи интернета, нас эта тема тоже очень волнует. Вы следите за процессом – что Вы думаете об этом деле как глава государства, как юрист, как воцерковленный человек, в конце концов?
И вот ещё какой, на мой взгляд, очень важный момент: выступление в храме Христа Спасителя сами девочки называли реакцией на участие РПЦ в предвыборной кампании. Как, по-Вашему, сегодня должны строиться отношения между властью светской и властью религиозной – с учётом, конечно, того, что в нашей стране есть регионы, где преобладает не православие, а ислам, например, и там эта тема совершенно по-другому звучит?
Д.МЕДВЕДЕВ: Это вообще очень тонкая тема, к которой все мы должны относиться весьма и весьма бережно. Наша страна сверхсложная, наша страна многоконфессиональная, в нашей стране совершаются преступления по мотивам религиозной розни, в нашей стране убивают иногда за религию. Я хотел бы, чтобы об этом задумались все, абсолютно все, независимо от конфессиональной принадлежности. Это чудовищно, но это происходит. И поэтому тот хрупкий мир, который нам удаётся сохранять последние годы, его во что бы то ни стало необходимо беречь. Во что бы то ни стало. Потому что последствия для нашей страны могут быть просто катастрофические.
Но мы же с вами знаем, нет ни одной страны в мире, где бы федерация была построена по национальному признаку. А мы такую федерацию имеем. Мы – единственная страна в этом смысле. И поэтому для нас вопрос гражданского мира, религиозной веротерпимости просто критически важный.
Я делал всё, чтобы оберегать мир в этой сфере. Я уверен, что и дальше власти страны так будут поступать. Это вопрос выживания государства.
Если говорить о конкретном вопросе, о той теме, которая сейчас обсуждается, я скажу так. Как глава государства я не буду комментировать юридическую сторону, потому что идёт следствие. И я всегда старался избегать юридических комментариев до той поры, пока во всяком случае нет обвинительного или оправдательного приговора.
Если говорить о моей позиции, как Вы сказали, воцерковленного человека, я скажу очень аккуратно, просто чтобы никого не обижать: на мой взгляд, участники того, что было сделано, получили ровно то, на что рассчитывали.
А.ПИВОВАРОВ: Тюремное заключение?
Д.МЕДВЕДЕВ: Популярность.
М.ЗЫГАРЬ: Дмитрий Анатольевич, Вы же сами говорили, приводили примеры про украденных карпов...
А.ПИВОВАРОВ: Вряд ли они рассчитывали на то, что будут сидеть в СИЗО.
М.ЗЫГАРЬ: Про то, что приобщение человека, который не представляет угрозы для общества, вот к этой уголовной культуре – это такая системная ошибка: неужели Вы считаете, что эти девушки представляют угрозу для общества такую, чтобы несколько месяцев сидеть в СИЗО?
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, ещё раз говорю, не я принимал решение, а судья. Если я сейчас начну комментировать решение судьи (даже по резонансным вопросам) – откровенно говоря, это и есть вмешательство в правосудие. Я, в конце концов, Президент. Это, знаете, и есть сигнал, типа держите, не выпускайте – или немедленно выпустить. Поэтому я ещё раз скажу, как глава государства, как Президент я не комментирую конкретные ситуации до момента вступления приговора в силу. И здесь Вы меня вряд ли сможете в чём-то уличить. Вот я, например, когда комментировал приговор по одному из дел, я посещал журналистский факультет [МГУ], там одну женщину осудили.
РЕПЛИКА: Таисию Осипову.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да. Но в тот момент уже был обвинительный приговор. Я сказал, что полагаю, что это слишком суровый приговор. Если Вы обратили внимание, правоохранительная система, прокурорская на это среагировала. Почему я об этом говорю? Поэтому Президент должен очень экономно произносить слова такого рода. Но это не отменяет того, о чём я говорил: тюрьма ещё никого не перевоспитывала до такой степени, чтобы человек оттуда выходил другим, это правда.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Сменю тему тогда, разрешите. Социальные сети в интернете, мягко говоря, в том числе и поспособствовали той самой «арабской весне» в арабском мире, революции, прокатившейся по всему арабскому миру. Как, по-Вашему, закончится «арабская весна», что будет с позицией России в том регионе и какое политическое время года наступит у нас в стране?
Д.МЕДВЕДЕВ: «Арабская весна» закончится холодной «арабской осенью». У нас наступила весна, с чем я всех и поздравляю, – весна и в прямом, и в переносном смысле этого слова.
А.ШНАЙДЕР: Послезавтра похолодание обещают.
Д.МЕДВЕДЕВ: Это временное явление, так бывало в нашей истории.
А.ШНАЙДЕР: Вот, кстати, если говорить про Ближний Восток, про «арабскую весну»: мы очень часто говорили, что внешняя политика должна быть прагматичной, – бизнес-интересы России в связи с событиями на Ближнем Востоке изменились или нет? То есть мы, например, стали больше ориентироваться на Китай? Что Россия получила в результате событий на Ближнем Востоке?
А.ПИВОВАРОВ:Потеряли ли мы деньги в результате «арабской весны»?Д.МЕДВЕДЕВ: Мы, конечно, со всеми хотим дружить, со всеми хотим торговать, это абсолютно нормально, это наши внешнеполитические интересы, и это правильно.
Что касается ситуации в арабском мире, то, несмотря на короткие формулировки, которые я дал, конечно, там ситуация весьма неустойчивая. К власти в целом ряде стран рвутся радикалы, и работать с ними будет гораздо тяжелее, это медицинский факт. Я об этом говорил всем: и нашим американским партнёрам, и европейским партнёрам, – что целью любых преобразований, даже самых лучших, всё-таки не должна быть передача власти экстремистам. А такая угроза существует. Но будем надеяться, что люди сделают во всех этих странах правильный выбор.
У нас есть там интересы, мы хотим дружить с этими государствами, хотим с ними торговать – торговать и обычными продуктами, так сказать, хотим торговать оружием, хотим торговать тем, чем, собственно, славится наша страна. И мы это будем делать по мере возможности. Никакой переориентации пока не произошло. Но мы, конечно, учитываем геополитические реалии; конечно, в ряде случаев мы просто приостановили какие-то поставки.
М.ЗЫГАРЬ: Если говорить про внешнеполитические интересы, то мы все помним, что в начале Вашего президентского срока у нас началась «перезагрузка», был подписан договор об СНВ. Ну а в конце президентского срока особенных прорывов в последнее время, в том числе экономических, да и политических тоже, с Америкой не видно. И возникает ощущение, что всё это из-за того, что неудобно одновременно одной рукой продвигать отношения с Америкой и в тот же момент обвинять «вашингтонский обком» в том, что он провоцирует и финансирует протесты на московских улицах.
Д.МЕДВЕДЕВ: Мы с американцами сделали немало за последнее время – с учётом того, что наши отношения никогда не были идеальными и в советский период, и в постсоветский период. Я уже говорил об этом, готов повторить это и сейчас прямо в студии. Я считаю, что последние 4 года были лучшими за всю историю российско-американских отношений, просто лучшими. Это первое.
Второе. Это не означает, что у нас исчезли темы для обсуждения. Это не означает, что мы обо всём договорились. Вы всё знаете не хуже меня. Есть противоракетная оборона, по вопросу которой мы с нашими американскими коллегами разошлись. Мы убеждаем их в том, чтобы они не взламывали стратегический паритет. Они нам говорят: да-да-да, мы будем учитывать ваши интересы, – тем не менее продвигают свою позицию.
С ними, кстати, далеко не во всём согласны европейцы – их партнёры по Североатлантическому альянсу. Вопрос не закрыт, он должен быть решён. Надеюсь, что мы сможем двигаться по нему в ближайшие годы, ещё есть пять–семь лет для принятия окончательных решений. Если ничего не получится, будем размещать ракеты, никуда от этого не уйти – жизнь есть жизнь.
Теперь в отношении «вашингтонского обкома»: «обком» действует. Скоро выборы «первого секретаря обкома». У меня есть определённые симпатии к одному из кандидатов, но это моё личное дело. Я рассчитываю, что именно он и продолжит славное дело руководства «обкома».
М.ЗЫГАРЬ: То есть рука «обкома» всё-таки дотягивается до московских улиц?
Д.МЕДВЕДЕВ: Рука «обкома» на то и рука «обкома», что эта рука появляется в разных местах.
Если говорить о ситуации в нашей стране, знаете, американцев не нужно демонизировать и уж тем более бессмысленно говорить о том, что американцы какими-то крупными политическими процессами рулят в нашей стране.
Мы – большая суверенная страна, и никто к нам залезть не может, это всем понятно. Но то, что они пытаются влиять на какие-то политические процессы, это справедливо, как справедливо и другое – мы тоже пытаемся влиять на какие-то политические процессы.
Вопрос, Вы знаете, скорее, в такой моральной оценке этих вещей и в тактичности. Нам далеко не безразлично, что происходит в Америке, это правда. У нас, правда, и возможностей поменьше, чем у американцев пока, это тоже правда. И им, наверное, не безразлично, что происходит у нас. Но нужно вести себя тактично.
При этом я никогда не придерживался позиции, что люди, которые выходят куда бы то ни было, настроены «обкомом», «горкомом» или еще кем-то. Это несерьёзно, потому что можно настроить 2–3–5 человек, 25, 500, но невозможно настроить большее количество людей, касается ли это людей, которые протестуют против власти или выходят голосовать и поддерживать власть.
А.ШНАЙДЕР: А что касается людей, которые выходят, например, на улицы в Ульяновске? Это тоже такая международная тема. Что там происходит? Что это всё-таки будет, Дмитрий Анатольевич?
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы имеете в виду логистический центр?
А.ШНАЙДЕР: «Площадка для подскока», как её называли, или всё-таки полноценная военная база?
Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно, это именно «площадка для подскока», как Вы назвали. Это всего-навсего лишь возможность помочь в выполнении миротворческим контингентом той миссии, которая проводится в Афганистане. Мы все заинтересованы в том, чтобы Афганистан был мирным, чтобы оттуда не исходила угроза, чтобы терроризма там было меньше. Поэтому это наша открытая позиция.
Да, мы с НАТО периодически спорим, но в том, что касается Афганистана, мы всегда поддерживали соответствующую миротворческую операцию. И будем её поддерживать. В Ульяновске не появится ни одного военного, ни одного гражданского лица оттуда. Это просто техническая операция. Разговоры об этом – это нормальная вещь, это политическая борьба.
Некоторые политические силы, естественно, решили эту тему поэксплуатировать, потому что у нас есть люди, которые крайне не любят Америку. И эти настроения тоже можно периодически раздувать. Соответствующие политические силы этим воспользовались. Ничего в этом особенного нет. В Америке тоже есть люди, которые не любят Россию, и некоторые политические деятели там тоже периодически нагнетают антироссийскую истерию.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Дмитрий Анатольевич, ещё недавно отношения России практически со всеми ближайшими соседями, казалось, были безнадёжно испорчены. Смотрите, с Украиной – «холодная война», с Грузией – самая настоящая война, с Белоруссией – война слов, с Прибалтикой – информационная война.
Как Вам кажется, за годы Вашего президентства изменились отношения с соседями в лучшую сторону?
Д.МЕДВЕДЕВ: Так это я испортил – с Украиной, с Белоруссией, с Грузией и с Прибалтикой?
А.ПИВОВАРОВ: И церковь XVI века – тоже Вы. (Смех.)
Д.МЕДВЕДЕВ: Я тоже об этом подумал. Это, простите, тоже я разрушил? (Смех.)
М.МАКСИМОВСКАЯ: Я-то спросила, как изменились [отношения] за годы Вашего президентства.
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы правы, они изменились. Они были неодинаковыми. С Украиной всё начиналось в ситуации, когда отношения были действительно очень сложными, и отношения с президентом Ющенко были весьма и весьма тяжёлые. А сейчас отношения другие, несмотря на определённые противоречия, споры, которые мы с украинскими партнёрами ведём, но это всё-таки партнёрские, товарищеские отношения.
Я надеюсь, что и украинскому истеблишменту, и Президенту Януковичу при принятии решений удастся, во-первых, преодолеть некоторые стереотипы, которые довлеют над ними, и просто руководствоваться большим прагматизмом, в большей степени учитывать украинские же интересы.
В том, что касается Грузии, здесь история гораздо более печальная. Это был вооружённый конфликт, нападение на маленькие бывшие части Грузинского государства, который закончился известно чем. Им надавали по голове, и мы вынуждены были признать Абхазию и Южную Осетию в качестве самостоятельных субъектов международного права.У нас – у меня лично, у моих друзей, партнёров, товарищей, – как, уверен, у всего нашего народа нет никакой антипатии к Грузии. Наоборот, Грузия – близкая нам страна, грузинский народ нам близок и дорог. И мы его, кстати, спасали неоднократно, что бы там ни говорили отдельные политиканы в Грузии.
Поэтому Саакашвили – пустое место, ноль. Он рано или поздно уйдёт из политической истории, а любой другой лидер страны, который там появится, мы готовы с ним выстраивать отношения, восстанавливать дипломатические отношения, и идти так далеко, как они будут готовы.
Белоруссия: тоже там от любви до ненависти и так далее. Тем не менее у нас особые отношения, у нас Союзное государство. Мы, не скрою, часто спорили с Президентом Лукашенко, он человек непростой, эмоциональный. Но знаете, я могу сказать одно: он принял важные для себя решения, посмотрел в разные стороны и принял важные для себя решения.
Он был одним из инициаторов подписания Соглашения о Таможенном союзе, сейчас является одним из активных двигателей реализации идеи Евразийского экономического союза. Мне кажется, это достойная позиция, и мы будем, естественно, развивать все возможные отношения с Белоруссией.
С Прибалтикой более сложная история. Не скрою, я неоднократно думал о том, чтобы приехать к ним в гости. И как ни дам поручение кому-то из помощников, говорю: давайте посмотрим… Обязательно какую-нибудь гадость выкинут. Нельзя так себя вести. Мы, конечно, большие, они маленькие, но это не значит, что нужно хамить до такой степени или нацистов поддерживать.
Поэтому всё в руках у руководителей этих государств. Если они будут занимать более трезвую позицию, не будут на каждом углу говорить: «Русские идут! Вот-вот танки придут, немедленно ракету нам поставьте!» – всё будет нормально. Мы исторически связаны, мы экономически очень сильно связаны. Я уверен, что контакты на высоком и на высшем уровне между Россией и Прибалтийскими государствами возобновятся. Только не нужно видеть в России страшного медведя, который в любой момент готов разорвать эти государства на части.
А.ПИВОВАРОВ: Давайте, с Вашего позволения, вернёмся к внутрироссийским делам. Тут, наверное, стоило бы употребить клише «в случае если Вы станете премьер-министром», но мы понимаем, что Вы станете премьер-министром. Вы не могли бы пояснить роль этого образования под названием «открытое» или «большое правительство»? Вот Вы стали премьером, у Вас есть настоящее Правительство...
РЕПЛИКА: Закрытое.
Д.МЕДВЕДЕВ: Застёгнутое на все пуговицы.
А.ПИВОВАРОВ: Из министров.
РЕПЛИКА: ЗАО.
Д.МЕДВЕДЕВ: ЗАО больше не существует, точнее, не будет существовать после изменений в ГК.
А.ПИВОВАРОВ: Так вот Вы – премьер-министр, у вас Правительство. Это «открытое» или «большое правительство», моё искреннее личное ощущение, наверное, я ошибаюсь, что это будет такой очередной орган вроде Общественной палаты, где заседают уважаемые люди, вполне приличные, которых интересно послушать, но чьи полномочия совершенно непонятны, чьи инициативы, непонятно, то ли уходят в песок, непонятно кем поддерживаются, чей круг ответственности никак не прописан. Зачем нужен ещё один такой орган?
Д.МЕДВЕДЕВ:Алексей, думаю, что Вы понимаете «открытое правительство», которые вначале зачем-то назвали «большим», всех испугали, что мало того, что и так куча нахлебников в обычном Правительстве, так ещё и какое-то «большое», вообще просто кошмар.Так вот это самое «открытое правительство» – конечно, это экспертная площадка. «Открытое правительство» не будет и не может принимать решения за Правительство, наделённое полномочиями, иное было бы просто смешным.
В то же время я с Вами не могу согласиться, что это будет ординарная площадка для обсуждения каких-то актуальных вопросов.
Моё намерение сейчас, если я получу мандат доверия, заключается в следующем. Я хочу практически все ключевые социально-экономические решения пропускать через эту экспертную площадку. Это первое.
И если они мне укажут на всякого рода проблемы, связанные с реализацией этих решений, я их просто не буду принимать. Вот в этом смысл. Кстати, Общественная палата тоже неплохое место, не надо к ней критично относиться.
А.ПИВОВАРОВ: Я же сказал, это очень интересные люди, их всегда интересно слушать.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да-да, но дело даже не только в этом: они реально оказывают влияние на разные процессы.
А.ПИВОВАРОВ: Полномочий не хватает.
Д.МЕДВЕДЕВ: У общественных структур не может быть иных полномочий, кроме как сказать: «Уважаемые власти (или не очень уважаемые), вот наша позиция, и если вы примете это решение, будет беда». Вот это их главная ответственность. Они же не могут водить за меня ручкой, они не могут сказать: «Мы блокируем это». Это невозможно.
Но вторая вещь, которая, на мой взгляд, так же важна. Вот это самое «открытое правительство», – кстати, эта тема очень важная во всём мире, сейчас даже есть конвенция на эту тему, – «открытое правительство» – это карьерный лифт для большого количества разумных людей, которых можно вытащить из экспертной среды, а самое главное, из среды уже действующих состоявшихся руководителей: менеджеров бизнеса, менеджеров среднего звена, в региональных структурах. Я сделаю это, не сомневайтесь.
И, наконец, третье, что, на мой взгляд, не менее важно. Всякое «открытое правительство» – это всё равно информационная среда. Но мы же сейчас с вами практически уже 1 час 35 минут говорим о том, что общество изменилось, информационные технологии таковы, что как только что-то происходит, это становится известно всем. Поэтому это среда общения с органами власти.
Долгое время смеялись над губернаторами, говорили: «Вот они, извините, срисовали с Президента всякие блоги, Твиттер, ещё что-то». Но в этом есть плюс, потому что я видел и знаю, когда губернатора начинают «бомбить» какими-то сообщениями: «Откликнитесь на это», – ему от этого уже не увернуться.
Он в какой-то другой ситуации сказал бы: «Так, ладно, на недельке зайдёте, разберёмся». Допустим, ему говорят: «Немедленно обратите внимание – прорвало канализацию». Всё, он вынужден на это реагировать. Это очень важно. Так это и есть «открытое правительство». Поэтому считаю, что ресурс полезный. Надеюсь, заработает в полную силу.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Если Вы получаете, как Вы сказали, мандат доверия, всё-таки каким будет состав вашего Правительства? Вы уже знаете? Готов записывать, кто в него войдёт, кто там точно останется, кого точно не будет.
Д.МЕДВЕДЕВ: Антон, записывайте. Так, вице-премьеры – 7 штук. (Смех.)
М.МАКСИМОВСКАЯ:Это все начинают записывать. Так-так.Д.МЕДВЕДЕВ: Давайте ещё немножко интригу сохраним.
Я могу сказать только одно. Это моё намерение, оно абсолютно совпадает с намерениями избранного Президента Владимира Путина – весьма существенным образом обновить действующий состав Правительства.
Мы неоднократно с ним об этом говорили. Мы, сейчас чего скрывать, действительно встречаемся, квадратики какие-то рисуем, обсуждаем, какая схема лучше, кто лучше какими делами будет заниматься. Здесь всё очень, на мой взгляд, очевидно. Нужен мощнейший импульс новых людей.
В то же время я не могу прийти в Правительство (если меня поддержат) и сказать: «Давайте, ребята, месяцок здесь порисуем чего-нибудь, пока нас не трогайте, и мы создадим оптимальную конструкцию, в рамках которой будем принимать решения». Мы обязаны сразу же начать практическую работу. Она не может прерываться ни на один день. Это же очевидно.
Поэтому там должны быть люди, подчёркиваю, которые обеспечат преемственность. Может, не на всё время. Может, на год, на два – не знаю. Вот этот баланс между тем, кто обеспечивает преемственность, и притоком новых людей и будет новым правительством.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Много будет новых?
Д.МЕДВЕДЕВ: Ой, много.
М.ЗЫГАРЬ: Дмитрий Анатольевич, как будущему премьеру Вам достаётся очень тяжёлое наследство, потому что все кругом говорят, что в следующем году в России (может, не только в России) может начаться очень серьёзный экономический кризис.
К примеру, бывший министр финансов Алексей Кудрин говорит, что это может быть такой силы кризис, что может привести едва ли не к смене режима, если только Правительство не проведёт очень болезненные, очень непопулярные реформы. Вы как будущий премьер готовы к таким болезненным и непопулярным реформам, которые, в общем, могут теоретически означать Ваше политическое самоубийство? Вы готовы к самопожертвованию?
Д.МЕДВЕДЕВ: Во-первых, ради интересов страны любой политик должен быть готов пожертвовать своей политической карьерой. Говорю Вам абсолютно серьёзно. Это первое.
Второе. Насчёт тяжёлого наследства. Я с этим не согласен. Наследство абсолютно нормальное. Если бы мы сейчас были в 2009 году, Вы были бы правы, ситуация была сверхтяжёлая. Правительство – молодцы, они с этим справлялись, у них всё получилось, наша страна с наименьшими, подчёркиваю, наименьшими проблемами вышла из кризиса. Это абсолютно точный факт.
Четыре процента инфляции, накопленные за 12 месяцев, – это тяжёлое наследство? Напомню, четыре года назад у нас была 12 или 13 % инфляция. Кстати, с тем же составом, между прочим, Министерства финансов. 10 процентов соотношение долга к ВВП – это тяжёлое наследство? По-моему, в целом всё абсолютно нормально. Но это не значит, что ситуация не может дестабилизироваться.
В мире продолжается экономическая рецессия. Мы должны быть во всеоружии. Что касается прогнозов, их, конечно, всегда удобнее делать, находясь вовне, хотя, если Вы упомянули бывшего министра финансов, то он всё-таки не Ванга и не Нострадамус, чтобы делать такие предсказания. Пусть лучше занимается своей будущей карьерой, это, мне кажется, более благодатная тема.
А.ШНАЙДЕР: Вам уже понятно, какие макроэкономические задачи стоят перед Правительством? Какие Вы будете ставить для своего Правительства?
Д.МЕДВЕДЕВ: Задачи те же стоят: удержать макроэкономические параметры в том состоянии, в котором они есть, и по возможности их улучшить. Если говорить о темпах роста ВВП, они у нас отстабилизировались на уровне 4 процентов. Неплохо, если сравнивать с Америкой или с Евросоюзом, но для нас маловато, нам бы процентов 6 или 7, было бы идеально, как в Китае или в Индии. Это первое.
Инфляция. Я сказал про 4 накопленных процента. Супер просто! На самом деле это то что надо. Если бы удалось удержать в рамках 4–5 процентов, вы знаете, мы тогда сможем развязать очень многие проблемы, в том числе ипотечные. Потому что 4 процента при ипотечном кредите при соответствующей ставке рефинансирования Центрального банка превращаются уже не в 12 или в 11, а всё-таки могут превратиться, допустим, в 7 или в 8 процентов. Это уже реальные цифры. И так далее.
Поэтому задача развивать страну, сохраняя те макроэкономические условия, которые сложились, и по возможности их улучшая.
М.ЗЫГАРЬ: Пенсионный возраст не повысите?
Д.МЕДВЕДЕВ: Мне кажется, у нас существует набор страшилок…
М.ЗЫГАРЬ: Да-да-да, есть, конечно, – символ болезненных реформ.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, да, символ болезненных реформ, который на самом деле не имеет абсолютно никакого прямого отношения к пенсионной реформе.
Пенсионная реформа, уважаемые дамы и господа, она, правда, к вам имеет пока достаточно дальнее отношение, вы все люди молодые, вообще не связана в полной мере с пенсионным возрастом. Да, это одна из тем, которая требует обсуждения. Но можно провести пенсионную реформу, не трогая пенсионный возраст, и создать принципиально другую пенсионную систему.
Можно обсудить и вопрос пенсионного возраста. Но вопрос о пенсионном возрасте не должен заслонять другого, а он со всей очевидность встал. Наша пенсионная система – это что, это просто пособие по старости, которое платит государство, или это деньги, которые компенсируют утрату заработка? Это разные модели. Пособие – это пособие, государство дало, скажи спасибо, 100 рублей, 200 рублей, 10 тысяч, 20 тысяч, ни больше ни меньше. А если это система компенсации утраченного заработка – это другая модель.
В мире, подчёркиваю, есть и та, и другая модели, но они, как правило, в смешанном виде действуют. Даже в той же самой Америке, где была абсолютно частная система пенсионного обеспечения, и то сейчас наметился крен в несколько другую сторону. В других странах это происходит.
То есть нам нужно выбрать оптимальную модель развития нашей пенсионной системы. Здесь никаких потрясений не будет. И по всем вопросам, я хотел бы, чтобы меня прежде всего услышали наши люди, мы будем консультироваться именно с народом Российской Федерации, с нашими людьми.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Ваше президентство заканчивается, но всем, конечно, интересна судьба тандема. Раз уж Вы снова меняетесь местами с Владимиром Путиным, хочу спросить, тандем – это теперь постоянная величина в российской политике? Кто на кого будет влиять при принятии решений и насколько вообще, по-вашему, эффективна такая форма управления, как тандем?
Д.МЕДВЕДЕВ: Словечки все эти меня сначала как-то раздражали, а потом я уже к ним привык. Я хочу сказать, что нас с Владимиром Путиным связывает не только политическое взаимодействие, но и просто человеческая дружба – 20 лет. Это первое.
Второе. Я вообще считаю, что неплохо, когда судьба страны, когда политические процессы зависят не только от усмотрения одного человека (как ему в голову что-то взбрело, он так и поступает), а когда всякие решения принимаются в процессе обсуждения, когда в стране есть несколько человек, которые влияют на политический процесс. Мне кажется, это нормально, это и есть движение в сторону демократии.
Два человека таких, три, пять, семь, десять, в принципе, если хотите, это некая подстраховка для государства. Но это же не мы выдумали и не мы придумали, что в Конституции есть люди, которые при определённых обстоятельствах обязаны друг друга замещать (это европейский опыт, американский опыт), эти люди должны находиться во взаимодействии, должны доверять друг другу, быть политическими партнёрами. Так что в этом ничего особенного нет.
Что же касается перспектив работы, мы определённые перспективы назвали, поэтому, мне кажется, что всем пора расслабиться, это всё надолго.
А.ПИВОВАРОВ: Если позволите, я задам вообще неполитический вопрос.
Д.МЕДВЕДЕВ: Пожалуйста.
А.ПИВОВАРОВ: Тема, которая касается абсолютно каждого гражданина Российской Федерации. В ходе предвыборной президентской кампании не раз звучали призывы отменить Ваше решение об отмене летнего (зимнего) времени.
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы и сами не знаете какое.
А.ПИВОВАРОВ: Все запутались, по крайней мере я запутался. О том, чтобы не переводить часы весной и осенью. Вы готовы к тому, что это решение может быть пересмотрено? Считаете ли Вы его достойным пересмотрения? Готовы ли Вы вернуться к этой теме и к прочим решениям?
Д.МЕДВЕДЕВ: Сам Ваш вопрос, Алексей, о чём свидетельствует? Вам когда труднее: сейчас, когда время единое или когда нужно каждый раз подкручивать часы? Вот Вы говорите: отмена такого или сякого времени. Сейчас не надо ничего менять. Вам как удобней?
А.ПИВОВАРОВ: Я не показатель, Дмитрий Анатольевич.
Д.МЕДВЕДЕВ: Скажите всё равно.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Айфоны, которые вы так любите, они сами меняют время.
А.ПИВОВАРОВ: Мне привычнее как было, потому что все гаджеты автоматически перескакивают, и их нужно потом менять обратно.
Д.МЕДВЕДЕВ: Понятно. Это справедливо, я тоже пользуюсь электронными устройствами, и, действительно, их приходится менять. Но дело ведь не только в этих электронных устройствах, а в удобстве. Когда это решение принималось (это же не кому-то в голову взбрело), мы провели консультации и с учёными, и с людьми, и с разными слоями нашего населения, и с разными регионами.
Большинство высказалось за то, чтобы уйти от летнего времени, так, как это существует в очень многих странах, кстати. Часть людей, естественно, говорила: нет, мы с Европой связаны генетически, поэтому они перескакивают, и мы должны перескакивать. Кто сейчас выступает против этого решения? Выступают те, кто часто ездит. Это объяснимая вещь абсолютно, потому что в период, когда действует так называемое зимнее время, приходится большее количество часов планировать, допустим, когда ты добираешься до Европы и некоторых других стран. И, скажем откровенно, те, кто смотрит футбол.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Футбольные болельщики, глубокой ночью матчи…
Д.МЕДВЕДЕВ: Я не отношусь к первой категории, я не так часто езжу. Но отношусь ко второй категории: действительно, смотреть иногда неудобно. Смотришь: там в 12 ночи только все начинается. Но есть люди, их большое количество, которые говорят, что им очень удобно. Это люди, которые живут на селе. Это люди, которые живут в обычных наших средних городах, небольших городах. Им так удобнее. Они занимаются своим делом, никаких проблем не возникает.
Короче, это вопрос выбора и целесообразности. Если большинство людей будет выступать за то, чтобы эту систему снова поменять, это можно сделать. Здесь нет никаких амбиций, потому что я вижу плюсы и в том решении, и в другом.
М.ЗЫГАРЬ: Неужели референдум?
А.ШНАЙДЕР: Да, я тоже хотела сказать: может быть, референдум?
М.МАКСИМОВСКАЯ: С которыми, кстати, проблема, потому что сколько у нас уже не было референдумов вообще ни по какой теме.
Д.МЕДВЕДЕВ: Насчет референдумов согласен, что их надо периодически проводить, причём нужно стремиться к новым формам референдумов. Потому что все эти прежние референдумы, когда готовятся огромные процессы, готовятся бюллетени, в конечном счёте должны быть заменены электронными референдумами.
Что, мне кажется, можно сделать, например, по этому самому вопросу времени? Провести электронное голосование в целом ряде регионов. То есть сделать репрезентативную выборку, может быть, не везде, но как минимум электронное голосование провести и почувствовать настроение. Если оно покажет, что людям всё-таки хочется прежнего перескока туда-обратно, значит, это можно сделать.
А.ВЕРНИЦКИЙ: Владельцы гаджетов проголосуют.
Д.МЕДВЕДЕВ: Несомненно.
М.МАКСИМОВСКАЯ: Против только коровы, которым хорошо доиться в более раннее время.
Д.МЕДВЕДЕВ: Нет, не только.
М.ЗЫГАРЬ: Но они в электронном голосовании не примут участия.
Д.МЕДВЕДЕВ: Не только коровы. Будут люди, которые будут против.
Мы уточнили, я разговаривал на эту тему, кстати, и с Владимиром Владимировичем Путиным, он говорит: «Я получил данные, приблизительно пятьдесят на пятьдесят распределяются предпочтения». То есть это вопрос выбора.
А.ШНАЙДЕР: А какие-то другие, Дмитрий Анатольевич, решения: ноль промилле, ТО, которое вроде как забирали, потом тоже говорят, что могут вернуть.
А.ПИВОВАРОВ: Промилле тоже говорят, что, может быть, отменят.
Д.МЕДВЕДЕВ: Я могу высказать свою позицию. В конце концов, слушайте, это вопрос согласованности действий властей и вопрос ответственности.
Если говорить про ноль промилле. Я считаю, что это правильное решение, и здесь у меня как раз нет того отношения, как по первому, предыдущему, вопросу, что «как договоримся». Я скажу просто: наша страна пока не созрела для того, чтобы разрешать употребление алкогольных напитков за рулём.
Пусть на меня автомобилисты обижаются, но я считаю, что этого делать пока нельзя. И если не говорить о всякой ерунде типа того, что всё равно будет что-то показывать, если проверять употребление на кефир, – всё это чушь, то я считаю, что это абсолютно оправданная в наших условиях тема.
Точно так же у меня есть весьма твёрдая позиция по другому вопросу. Я считаю, что в нашей стране нельзя разрешать свободный оборот оружия. Американцы пусть упражняются в остроумии, борются за это оружие или, наоборот, против него. У нас этого устраивать нельзя по разным причинам.
М.МАКСИМОВСКАЯ: То есть эти вопросы даже не выносить на референдум?
Д.МЕДВЕДЕВ: Это моя позиция.
М.МАКСИМОВСКАЯ: А если референдумы будут, то кто будет считать итоги референдума? Чуров? Он, волшебник, конечно…
Д.МЕДВЕДЕВ: Если говорить о больших референдумах – пока Председатель ЦИК Чуров, он должен в этом принимать участие. Если говорить о региональных референдумах, это соответствующие избирательные комиссии территорий. Мне кажется, не нужно демонизировать участников этих избирательных комиссий. Они счётчики.
Если говорить о проблемах избирательной системы, то, возвращаясь, закольцовывая эту тему, проблемы-то возникают именно в тех местах, где голосуют, а не там, где считают, хотя один из классиков марксизма-ленинизма придерживался другой позиции. Помните, да? Не важно, как голосуют, главное то, как считают.
А.ПИВОВАРОВ: Говорил товарищ Сталин.
Д.МЕДВЕДЕВ: Помните, да. В данном случае это не о нас. Технологии изменились.
А.ШНАЙДЕР: Наверное, уже в конце нашей беседы, Дмитрий Анатольевич…
Д.МЕДВЕДЕВ: 1 час 50.
А.ШНАЙДЕР: Как раз в оставшиеся минуты снова к нашему первому такому философскому вопросу. Свобода лучше, чем несвобода. Вы говорили об этом четыре года назад, Вы говорили об этом два дня назад, на итоговом заседании Госсовета.
Когда Вы отвечали на первый Марианнин вопрос, Вы говорили про прошедшие четыре года, а я Вас хочу спросить с прицелом на будущее. Как Вы считаете, что лично Вы, что Правительство под Вашим руководством должны сделать, чтобы у каждого человека в России в ближайшее время свободы стало больше? Так, философски.
Д.МЕДВЕДЕВ: Если мы с этого начинали, давайте на этом и завершать. Я действительно искренне считаю, что свобода лучше, чем несвобода. Я думаю, что все присутствующие это разделяют. Сколько бы нас ни упрекали в том, что это просто философия, что это оторванная от жизни фраза, но это правда.
И мы все привыкли жить в свободной стране, даже если мы не до конца это осознаём или если мы очень недовольны тем, что происходит. Это счастье просто – жить в свободной стране. Говорю об этом абсолютно ответственно как человек, который 20 с лишним лет жил в других условиях.
Второе. Что нам делать? Нам нужно выполнить все наши обещания или постараться их исполнить. В социальной сфере… У нас бедность большая, к сожалению. Да, мы увеличили доходы, у нас многие категории существенно выросли в доходах, но, к сожалению, уровень бедности остаётся значимым, его нужно максимально снизить. Это важнейшая задача.
Безработица. То же самое. У нас приемлемые цифры по безработице, если сравнивать с другими европейскими странами. Но мы можем сделать их еще ниже, вывести ниже 5 процентов. Это касается огромного количества людей.
В экономике нужно, наконец, реализовать то, что мы обещаем и до конца не можем довести, – существенно улучшить инвестиционный климат и создать систему защиты права собственности. Мы движемся в этом направлении. Я не сторонник драматических оценок, но у нас точно в этом смысле лучше, чем было. Я-то бизнесом занимался 10 лет, я всё знаю. Не надо идеализировать 90-е годы, всё было крайне сложно. Но наше движение медленное, и я этим недоволен, неоднократно об этом говорил. Нужно обязательно этим заниматься.
В политической сфере. Здесь всё понятно, надо реализовать ту политическую реформу, которая сейчас уже, по сути, принята. Если мы её реализуем, у нас будет скачок в политическом развитии – мы получим новое качество российской демократии.
И, может быть, самое последнее. Я готов этим заниматься, я буду этим заниматься, если так сложится моя судьба. Но я один ничего не сделаю, этим должны заниматься все мы, вся наша страна, только тогда будет успех.
А.ШНАЙДЕР: Спасибо.
Д.МЕДВЕДЕВ: Пожалуйста.
А.ШНАЙДЕР: Дмитрий Анатольевич, большое Вам спасибо, что ответили на [вопросы] интервью. Я думаю, что мы все с удовольствием поймали Вас на слове, что Вы не против приходить на интервью в прямой эфир как к нам всем вместе взятым, так и к каждому отдельно. Так что приходите к нам, пожалуйста, в эфир. Спасибо.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо.
Вы знаете, я считаю, что в этом смысле нам всем нужно немножко менять модель поведения. Конечно, большие руководители – это большие руководители, но они должны появляться в прямом эфире и на больших каналах, и на более маленьких каналах. Это просто освежает, показывает нашу жизнь такой, какая она есть, и, самое главное, не даёт оторваться от этой жизни.
А.ШНАЙДЕР: Спасибо. Удачи Вам!
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо большое.
Накануне в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Одной из ключевых тем на повестке мероприятия стали вопросы сотрудничества по Афганистану.
В частности, в ходе заседания была рассмотрена перспектива вывоза грузов Международных сил содействия безопасности из ИРА в связи с завершением военной миссии.
«Сегодня на совете НАТО обсуждался вопрос о транзите техники НАТО из Афганистана, – сообщил по итогам мероприятия начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Николай Макаров. – Проблема эта политическая, и решаться она должна в этом году».
Напомним, что планы создания перевалочного пункта для грузов НАТО в Ульяновске вызвали беспокойство российской оппозиции. Руководство МИД РФ и вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин отмечали в своих заявлениях, что через Ульяновск будут вывозиться только невоенные грузы и создание в городе базы НАТО не предполагается.
Тем не менее, недавно в западной прессе появились сообщения о том, что в ходе заседания Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел стороны рассмотрели возможность транзита военных грузов и персонала МССБ через Ульяновск, и по данному вопросу между сторонами не возникло сильных разногласий.
Кроме того, в среду начальники генеральных штабов обсудили вопросы развития ситуации в Афганистане, возможности проведения учений тыла и конференций по разминированию, сообщает информационно-аналитический портал «Евразия».
Иранские ковры, сотканные на автоматизированных фабриках, вытесняют с рынков афганские ковры ручной работы, сообщают продавцы.
Исмаил Теморзада, владелец магазина ковров с 20-летней историей, сообщил журналистам, что рынки наводнили дешёвые иранские ковры, произведённые на автоматизированных фабриках. Из-за этого спрос на ковры афганского производства ручной работы резко упал, цитирует его слова информационное агентство «AFP».
По словам источника, иранские ковры неоригинальны и выглядят более грубо, однако из-за их большей доступности продажи афганских ковров ручной работы за последний год сократились на 70%. Лучшие ковры из города Андхой провинции Фарьяб не находят покупателей даже при стоимости около 1300 долларов.
«Недавно президент Хамид Карзай заявил на встрече с производителями, что если Афганистан запретит ввоз иранских ковров, то Иран прекратит любые поставки продукции в Афганистан. Но если мы не можем запретить их ввоз, то должны хотя бы повысить таможенные пошлины с 10 до 100 долларов за штуку, иначе производители ковров в Афганистане разорятся», – предупредил он.
Также, по словам бизнесмена, правительство должно помочь афганцам наладить поставки продукции на международные рынки. В настоящее время из-за проблем с транзитом афганские ковры везут в соседний Пакистан, после чего перепродают как пакистанские.
В производстве ковров в Афганистане так или иначе заняты около 6 млн. человек или 20% населения, однако их количество резко сокращается.
Мохаммад Зариф Ядгари, заместитель главы Афганской ассоциации продавцов ковров, отметил, что отрасль полностью зависима от выхода на международные рынки. Общий объём продаж сократился с 262 млн. долларов в 2007 году до 149 млн. в 2008. По данным ТППА, в 2009 было продано около 400 квадратных метров общей стоимостью 48 млн. долларов, а в 2011 году – в два раза меньше.
Правительство Афганистана прилагает усилия для поддержки индустрии. Так, заместитель министра торговли и промышленности Мотасил Комаки, сообщил о строительстве промышленных центров для производителей в провинциях Фарьяб, Балх, Герат и Джаузджан.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























