Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Ширится круг операторов «Пэтриот-3».
Компания Lockheed Martin выиграла новый контракт на сумму 1,1 млрд долл США на поставку противоракет Patriot Advanced Capability-3 для армии США, Саудовской Аравии, Катара и Южной Кореи, сообщает defensenews.com 14 декабря.
Армия США закупит обе версии противоракет - PAC-3 и PAC-3MSE (Missile Segment Enhanced), Саудовкая Аравия, Южная Корея и Катар приобретут РАС-3, пусковые установки, сопутствующее оборудование и запчасти через линию иностранных военных продаж правительства США (по данным Военного Паритета, произведено более 10 тыс ракет всех вариантов ЗРК Patriot).
В настоящее время шесть стран имеют комплекты РАС-3 — США, Нидерланды, Германия, Япония, ОАЭ и Тайвань, поставки осуществляются в Катар (ЗРК базовой версии Patriot имеют на вооружении 16 стран — прим. Военный Паритет).
Монголия и Китай – лучший период взаимоотношений
Марк Гольман
Председатель КНР Си Цзиньпин, торжественно встречая 10 ноября 2015 г. в Пекине в Доме народных собраний президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа, совершавшего по его приглашению государственный визит в Китай, в своей приветственной речи, характеризуя современное состояние китайско-монгольских отношений, заявил, что они «…сегодня находятся на самой хорошей фазе» в истории. И продолжил: «Мой визит в Монголию в 2014 г. имел историческое значение. Установление всеобъемлющего стратегического партнерства открыло новую эру в двусторонних отношениях. Китайская сторона готова наращивать межправительственные, межпарламентские и межпартийные связи, непрерывно углублять взаимное доверие и прагматическое сотрудничество в различных областях».
В свою очередь президент Ц. Элбэгдорж подтвердил свое удовлетворение неуклонным развитием взаимоотношений в экономике, культуре, образовании, в гуманитарной деятельности и выразил надежду, что его визит послужит «толчком к углублению полноценного стратегического партнерства между Монголией и Китаем».
Отметим, что к стратегическому партнерству обе страны шли начиная с 1990 г., с победы демократической революции в Монголии, послужившей началом стремительного развития монголо-китайских отношений.
Важной вехой на этом пути стал Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1994 г. Опираясь на положения этого договора, Китай уже к концу ХХ века стал главным торгово-экономическим и стратегическим партнером Монголии. А совместная Декларация об установлении Комплексного стратегического партнерства, принятая по итогам визита Си Цзиньпина в Улан-Баторе в 2014 г., по его справедливой оценке «положила начало качественно новым двусторонним взаимоотношениям». Сразу резко возросли контакты между монголами и китайцами, причем не только между гражданами обеих стран в рамках гуманитарных обменов, но и на высоком и высшем уровнях. Достаточно сказать, что Ц. Элбэгдорж в 2014 г. контактировал с Си Цзиньпином 5 раз, а в 2015 г. – 3 раза.
Летом 2015 г. в Хух-Хото – столице автономного района Внутренняя Монголия – успешно прошла первая в истории совместная торгово-экономическая выставка. Во время ее работы между хозяйственными единицами были заключены 166 соглашений на общую сумму 1485,9 юаней.
Успешно прошли в 2015 г. и первые совместные учения по борьбе с терроризмом и достигнута договоренность на их продолжение.
Китайская сторона очень торжественно принимала президента Монголии. Положительные результаты встречи нашли отражение в «Заявлении Монголии и Китая об углублении комплексного стратегического партнерства». Было еще раз подтверждено, что «развитие дружественных отношений и сотрудничества является приоритетом внешней политики и одним из стратегических направлений обеих стран». Монголия подтвердила, что она соблюдает политику «Один Китай» и поддерживает китайские позиции в отношении Тайваня, Тибета и Синьцзяна.
Важным пунктом указанного документа стало подтверждение целесообразности активного развития сотрудничества в оборонной сфере, в области военной техники и подготовки кадров, проведении совместных антитеррористических учений. Относительно новым моментом в политических взаимоотношениях стала договоренность об активном использовании «механизма» стратегического межмидовского диалога, идею которого особенно настойчиво продвигала монгольская сторона.
Вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере заняли большую часть «Заявления», и здесь наиболее важными и новыми договоренностями являются решения о подготовке межправительственного соглашения о стыковке монгольского инфраструктурного проекта «Степной путь» и китайского «Одна зона – один путь», ранее известного как проект «Шелкового пути», об активизации сотрудничества в области сельского хозяйства и создания условий для увеличения экспорта монгольского мяса и мясной продукции в Китай. Стороны договорились об ускорении реализации таких совместных проектов, как освоение угольных месторождений Таван-Толгой и строительства энергетического комплекса Шивээ-Овоо, гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол, железной дороги в южном направлении мясокомбината в приграничной зоне и др. Стороны приняли предложение Ц. Элбэгдоржа и поставили цель довести товарооборот между двумя странами до 10 млрд долл. к 2020 году.
Кроме того, в «Заявлении» высказана безусловная поддержка сотрудничеству двух стран в региональных и межрегиональных делах, дана позитивная оценка второй трехсторонней встречи лидеров трех стран в Уфе, подчеркнута важность регулярного проведения трехсторонних саммитов и, главное, заявлена готовность в ближайшее время окончательно договориться по программе создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай.
В результате переговоров было подписано 10 межправительственных и межотраслевых соглашений, поднимающих уровень комплексного стратегического партнерства на новую высоту. Были также подписаны 2 кредитных соглашения о строительстве двух новых и ремонте одного старого мостов в Улан-Баторе.
В силу всего вышесказанного государственный визит президента Монголии Ц. Элбэгдоржа в КНР в ноябре 2015 г. по праву можно считать выдающимся событием в истории взаимоотношений Монголии и Китая, новым шагом вперед по реализации и углублению полноценного комплексного партнерства.
«Панамская болезнь» продолжает угрожать мировому производству бананов
Грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense или «панамская болезнь» уже нанес ущерб банановым плантациям в Тайване, Индонезии и Малайзии, где инфекция уничтожила большую часть растений.
Теперь мировой лидер поставок бананов – Латинская Америка – готовится к нашествию грибка и распространению заболевания, которое рано или поздно произойдет.
Специалисты университета Wageningen в Нидерландах точно установили, что «панамская болезнь» зародилась на юго-востоке Азии. В мире наиболее распространен сорт бананов «Кавендиш» (обеспечивает около 47% мировой урожайности), и для него особенно опасен клон грибка TR4.
По прогнозу исследователей, установивших, что «панамская болезнь» уже распространилась на Пакистан, Ливан, Иорданию, Оман, Мозамбик, в будущем она может захватить до 100 тысяч гектаров.
МСХ США снизило прогнозы экспорта кукурузы из США, Индии и ЮАР.
МСХ США уменьшило прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2015/2016 на 1,0 млн. т до 973,9 млн. т. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. Недостаток осадков в период муссонов ухудшил перспективы урожая кукурузы в Индии. Сев кукурузы в ЮАР значительно отстает от графика из-за недостатка влаги в октябре-ноябре, что приведет к снижению урожайности. В сторону повышения пересмотрена оценка урожая кукурузы в Канаде – до 13,6 млн. т (+1,3 млн. т к ноябрьской оценке).
Прогноз мирового потребления кукурузы снижен на 1,0 млн. т до 970,2 млн. т, главным образом, за счет Индии и Тайваня. В ЕС и Чили потребление будет больше, чем ожидалось месяц назад.
Мировой экспорт кукурузы оценивается в 117,7 млн. т (-1,6 млн. т). Прогноз экспорта кукурузы из США снижен до 44,45 млн. т (-1,27 млн. т) из-за низких текущих темпов экспорта и улучшением экспортных перспектив бразильской и канадской кукурузы. Если прогноз оправдается, экспорт будет самым низким за последние три сезона. Экспортный потенциал южноафриканской и индийской кукурузы также пересмотрен в сторону понижения. Бразилия может экспортировать рекордные 32,0 млн. т (+1,0) млн. т кукурузы. Больше кукурузы экспортирует и Канада.
Оценка мировых конечных запасов кукурузы почти не изменилась – 211,9 млн. т, поскольку увеличение прогноза для США и Канады было уравновешено снижением для Бразилии и ЕС. Прогноз конечных запасов кукурузы в США был повышен с 44,7 млн. т до 45,34 млн. т, что превосходит ожидания аналитиков.
Экспортные продажи пшеницы США ниже нижнего.
И снова провальный результат экспортных продаж пшеницы США. Ниже нижней границы ожиданий трейдеров и экспертов 250-500 тыс. тонн.
Общий объем продаж всей пшеницы США с начала сезона уже на 15% хуже, чем год назад.
Крупнейшими покупателями недели стали: Японии (68 500 тонн), Нигерия (65 000), Тайвань (44 700), Эквадор (30 300), Мексика (25 400), Кипр (24 000) и Южно-Африканская Республика (19 800). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: неназванный покупатель (87 400 тонн), Барбадос (1 000) и Подветренные острова (600).
Крупнейшими получателями недели стали: Тайвань (44 700 тонн), Мексика (40 700), Эквадор (31 300), Нигерия (24 000), Япония (24 000) и ЮАР (19 800).
|
Экспорт пшеницы США сезон 2014/15 (тыс. тонн) на 03.12.15. |
|||||||
|
дата |
отгрузки за неделю |
отгрузки всего |
продажи за неделю |
продажи всего |
выполнение плана продаж сезона (%) |
реальные темпы выполнения плана отгрузок (%) |
необходимые средние темпы выполнения плана отгрузок (%) |
|
05.11.15. |
239,27 |
8952,46 |
226,74 |
13061,70 |
60,00 |
41,12 |
44,23 |
|
12.11.15. |
347,02 |
9299,48 |
721,94 |
13783,60 |
63,31 |
42,72 |
46,15 |
|
19.11.15. |
258,47 |
9558,12 |
303,71 |
14087,30 |
64,71 |
43,91 |
48,08 |
|
26.11.15. |
399,04 |
9957,00 |
392,18 |
14479,50 |
66,51 |
45,74 |
50,00 |
|
03.12.15. |
215,03 |
10172,19 |
225,13 |
14704,60 |
67,55 |
46,73 |
51,92 |
|
изменение за неделю (%) |
-46,11 |
-42,60 |
|||||
|
изменение сред. за 4 недели (%) |
-30,85 |
-45,24 |
|||||
|
Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн) |
|||||
|
тип пшеницы |
отгрузки |
измене-ние (%) |
экспорт-ные продажи |
изменение (%) |
|
|
твердозерная краснозерная озимая |
HRW |
76,11 |
47,81 |
74,14 |
-29,14 |
|
мягкозерная краснозерная озимая |
SRW |
84,65 |
68,53 |
76,20 |
-17,80 |
|
твердозерная краснозерная яровая |
HRS |
53,28 |
-76,86 |
54,09 |
-50,03 |
|
белозерная |
W |
0,99 |
-98,53 |
20,70 |
-76,10 |
|
твердая пшеница |
Durum |
0,00 |
|
0,00 |
|
США возобновляют поставки вооружений Тайваню?
Владимир Терехов
25 ноября с.г. издание View компании Bloomberg опубликовало статью колумниста Джоша Рогина “США готовят продажу новой партии вооружений Тайваню”.
Bloomberg пользуется репутацией солидной компании, издания которой до сих пор не были замечены в погоне за дешёвыми сенсациями и распространении недостоверной информации, не заслуживающей серьёзного внимания.
Видимо, поэтому на статью последовала немедленная официальная (и негативная) реакция со стороны министерства обороны КНР. Хотя текст Дж. Рогина сопровождался необходимой в таких случаях припиской о том, что редакция издания, сама компания Bloomberg, а также её владельцы “необязательно” разделяют мнение автора статьи.
Заслуживающим доверия изданием затронута слишком серьёзная для КНР проблема статуса Тайваня де-юре и де-факто. Едва ли будет преувеличением сравнить её с многолетней кровоточащей раной, которая только с 2008 г., когда к власти вернулась партия Гоминьдан, стала постепенно покрываться “болячкой” и несколько ушла в тень других актуальных проблем Китая.
Сейчас на слуху ситуация в Южно-Китайском море (ЮКМ), для которого, впрочем, тот же Тайвань является северной “окантовкой”. На фоне обостряющегося противостояния в ЮКМ двух ведущих мировых держав, Тайвань и Тайваньский пролив выглядели в последние годы почти тихой заводью. Нынешний президент Тайваня Ма Инцзю и возглавляемая им партия Гоминьдан соблюдают хотя бы внешние приличия в отношениях с “мейнлендом”, не претендуя на статус независимого государства де-юре (и удовлетворяясь независимостью де-факто), что пока устраивает Пекин.
Однако на предстоящих 16 января следующего года президентских выборах почти определённо победит нынешний лидер оппозиционной Демократической прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь, которая пока ничего не говорила о намерении продолжить соблюдение упомянутых “приличий” в отношениях с “мейнлендом”.
Поэтому в поле зрения наблюдателей за развитием ситуации в районе новых “Балкан” современного мироустройства (которые сегодня включают в себя также Корейский полуостров, острова Сенкаку/Дяоюйдао и ЮКМ) начинает перемещаться Тайвань. Этому поспособствует и упомянутая выше статья, в которой затрагивается наиболее чувствительный аспект тайваньской проблемы, обусловленный американо-тайваньским военно-техническим сотрудничеством. Следуя за эволюцией отношений между США и КНР, его формат и объём менялись во времени.
Вплоть до начала 70-х годов прошлого века, то есть в период наиболее острого американо-китайского противостояния, Тайвань играл роль непотопляемого авианосца США, а гоминьдановские вооружённые силы находились на полном американском обеспечении. В процессе реализации в 70-е годы стратегии Г. Киссенджера по использованию советско-китайских противоречий в американских интересах, США пришлось пойти на важные уступки КНР относительно тайваньской проблемы. В 1979 г. между Вашингтоном и Пекином были установлены дипломатические отношения, но и Тайвань американцами не был брошен на произвол судьбы.
В том же 1979 г. Конгресс США принял основополагающий документ (Taiwan Relations Act, TRA-1979), который с некоторыми дополнениями до сих пор регулирует формат отношений Вашингтона с островом. Помимо прочего, указанным документом предусматривается возможность поставок на Тайвань американских вооружений “оборонительного” плана.
Этой возможностью США пользовались не раз, что, наряду с быстро растущими возможностями собственной промышленности, позволяет оснащать современным оружием тайваньские вооружённые силы.
По некоторым оценкам, последние пока сохраняют потенциал для решения стоящей перед ними ограниченной задачи обеспечения в течение двух-трёх недель (до подхода американской, а возможно, и японской помощи) военного сопротивления гипотетическому вторжению НОАК на остров. Если Пекин решит, что ждать от Тайбэя “позитива” в решении тайваньской проблемы больше не имеет смысла и пора переходить к “не мирным” методам.
Однако в последние годы в США и на Тайване всё громче раздаются голоса о том, что на фоне быстрого совершенствования НОАК надёжность тайваньского оборонного потенциала вызывает сомнения, а для его поддержания необходимо возобновить поставки на остров американских вооружений.
Две последние американо-тайваньские оружейные сделки пришлись на период 2010-2011 гг. Их общая сумма превысила 12 млрд долл. Это была одна из крупнейших американских акций по продаже оружия союзникам. И хотя список тайваньского запроса на поставку американских вооружений был удовлетворён тогда далеко не полностью (с тем, чтобы окончательно не рассориться с КНР, было отказано в поставках 66 истребителей F-16 самых последних модификаций), перечень предоставленных Тайваню услуг оставил сильное впечатление. Особенно, видимо, в Пекине. Среди них особого внимания заслуживали поставки нескольких батарей систем тактической ПРО Patriot PAC-3, а также проведение модернизации имеющегося у Тайваня парка истребителей F-16 “почти до уровня”, соответствующего последним модификациям.
Указанные сделки были заключены тогда, когда окончательно рухнули иллюзии относительно возможности формирования согласованного американо-китайского курса по управлению мировыми делами (в рамках так называемой “концепции G-2”), а политические отношения между двумя ведущими глобальными державами начали приобретать отчётливо конкурентный (мягко выражаясь) характер.
И вот теперь, в период обострения американо-китайских отношений в связи с ситуацией в ЮКМ, автор статьи в BloombergView, ссылаясь на безымянного “официального источника”, сообщает, что администрацией президента Б. Обамы уже принято принципиальное решение о продаже (впервые за последние четыре года) американских вооружений Тайваню на сумму в 1 млрд долл. Ою этом якобы будет объявлено во второй половине декабря с.г. Дата официального опубликования данного решения была, видимо, выбрана таким образом, чтобы не создавать излишних проблем президенту США на конференции по проблемам климатических изменений в Париже, на которой присутствовал и его китайский коллега Си Цзиньпинь. Кроме того, эта дата не должна быть и слишком близкой ко дню предстоящих выборов на Тайване, чтобы указанное американское решение не выглядело как косвенная поддержка какого-либо из кандидатов.
Свидетельством же того, что опубликованные в упомянутой выше статье сведения не являются досужими домыслами автора, является письмо сенаторов Бена Гардина и Джона Маккейна на имя президента США, опубликованное 19 ноября, в котором предлагалось обсудить вопросы повышения потенциала “самообороны Тайваня, в том числе путём продажи вооружений”. При этом сенаторы ссылаются на соответствующие положения TRA-1979.
Наконец, интересен и предполагаемый перечень вооружений, который может стать предметом будущей сделки. Точнее, того, чего в списке, скорее всего, не окажется. В статье BloombergView говорится, что в оружейном “меню”, которое США предложат Тайваню, опять не будут присутствовать истребители F-16 новейших модификаций. Вопрос об их потенциальной продаже Тайваню представляет собой важный элемент той “красной линии” в системе американо-китайских отношений, переход которой рассматривается Пекином в качестве признака необратимости процесса деградации отношений с США.
Между тем, традицией внешней политики Вашингтона является предоставление возможности геополитическому оппоненту сделать “последний шаг” в этом процессе (как было, например, накануне Второй мировой войны). А самому остаться в “белых одеждах”. Правда, не более чем в имидживо-пропагандистском плане.
Если верен обозначенный выше формат предстоящей американо-тайваньской оружейной сделки, то он не выпадет из этой традиции.
По словам научных работников, в портовом городе Гаосюн, а также в юго-западном муниципалитете Тайвань зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по уровню заболеваемости лихорадкой денге. Эксперты утверждают, что в истории Тайваня еще не было отмечено столь серьезной вспышки тропической инфекции. Число парней и девушек, столкнувшихся с этим видом вируса, превысило 40,5 тысяч человек. Из них, 184 скончались.
Число пациентов, заразившихся лихорадкой денге в Тайване, превысило 40 тыс. человек
В настоящее время команда исследователей выявила около 2 сотен новых случаев возникновения болезни. Врачи заявляют о высокой степени риска дальнейшего распространения недуга. Из-за того, что начало зимы в Тайване выдалось сырым и теплым, вероятность ухудшения ситуации возросла в несколько раз.
Подобные погодные условия способствуют размножению комаров — возбудителей болезни. Напомним, что лихорадка денге – это вирусный недуг, который передается через укусы москитов. В большинстве случаев заболевание диагностируется у жителей субтропических и тропических регионов.
Симптомами инфекции считаются высокая температура, тошнота, головные и поясничные боли, а также сыпь.
Бананы оказались под угрозой исчезновения
Многими любимые фрукты могут исчезнуть с прилавков. Об этом предупредили нидерландские ученые, подтвердившие, что бананы страдают от так называемой панамской болезни.
Фрукты поражает патоген, устойчивый к удобрениям, борющимся с грибковыми болезнями растений. Панамская болезнь уже уничтожила урожай бананов в Юго-Восточной Азии и распространилась на плантациях Африки, Ближнего Востока и Австралии.
Ботаники полагают, что очаг болезни, вызываемой штаммом Tropical Race 4 (TR4), находится в Индонезии, где болезнь «дремала» в почве в течение 30 лет. Найдя хозяина, такой грибок повреждает проводящие ткани, в результате растение засыхает и погибает.
Изначально болезнь перекинулась на плантации на Тайване, затем в Китае, после чего охватила всю Юго-Восточную Азию. Учитывая рост числа зараженных плантаций, штамм, по мнению исследователей, неизбежно дойдет до Южной Америки, где сегодня выращивается 82 процента от мирового объема бананов наиболее распространенного сорта «кавендиш».
Этот сорт был устойчив к другим штаммам панамской болезни, но к TR4 оказался чрезвычайно восприимчив. Ботаники советуют как можно скорее изучить новый штамм и создать средство борьбы с ним, а также ввести карантин на ряде плантаций.
Ботаники напоминают, что вспышка панамской болезни в 1960-х годах уничтожила другой популярный и продаваемый сорт бананов — «гро-мишель».
Отметим, что бананы считаются самыми распространенными и довольно полезными фруктами. Недавно международная группа ученых обнаружила, что содержащиеся в бананах вещества не просто улучшают общее состояние здоровья, но и способны бороться с гриппом и другими вирусами.
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире за ноябрь 2015 г.
По данным Международного Эпизоотического Бюро в ноябре 2015 г. страны сообщили о 410 вспышках особо опасных болезней животных.
Так, в России зафиксированы:
— африканская чума свиней — в Брянской (1), Калужской (1), Московской (1), Рязанской (4), Саратовской (1) областях и в Краснодарском крае (1);
— оспа овец и коз — в Республике Калмыкия (2) и Республике Дагестан (1).
О вспышках африканской чумы свиней сообщили ветеринарные службы Латвии (55), Литвы (10), Польши (1), Украины (6) и Эстонии (98).
Высокопатогенный грипп птиц выявлен во Вьетнаме (6), Гане (2), Гонконге (1), Кот-д’Ивуаре (6), Нигерии (7), Тайване (5), Южной Корее (12).
Повторно зарегистрирован блютанг в Венгрии (7), Румынии (2), Турции (1), Франции (39).
Болезнь Ньюкасла (17) и эпизоотическая геморрагическая болезнь (36) официально подтверждены в Израиле. Очаги контагиозной плевропневмонии КРС (1) и лихорадки долины Рифт (4) отмечены в Мавритании.
Ящур повторно выявлен в Турции (3). Очаги нодулярного дерматита зарегистрированы в Греции (17). Оспа овец и коз зафиксирована в Монголии (10). Грипп лошадей отмечен в Малайзии (1). Вспышки инфекционной анемии лошадей произошли в Германии (3). Повторно выявлены: лихорадка Западного Нила во Франции (8), сибирская язва в Македонии (1), слабопатогенный грипп птиц в Тайване (5) и ЮАР (12).
На территории ранее благополучных стран отмечены следующие заболевания:
— бешенство — Литва (2);
— блютанг — Австрия (3), Словения (1);
— высокопатогенный грипп птиц — Камбоджа (2), Франция (1);
— ящур — Израиль (1), Марокко (6);
— бруцеллёз — Уругвай (1);
— геморрагическая болезнь кроликов — Бенин (4);
— лихорадка Западного Нила — Тунис (1).
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди диких и сельскохозяйственных животных.
Белый дом работает с конгрессом по изменениям в безвизовом режиме с рядом стран, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.
"Мы хотим добиться того, чтобы реформы не были настолько тяжелыми, чтобы мешать нашему участию в международной экономике. Но, разумеется, интересы национальной безопасности стоят на первом месте", — сказал Эрнест.
Ранее США заявили, что намерены в целях противостояния терроризму пересмотреть ряд положений программы безвизового въезда граждан ряда стран на территорию США на срок до 90 дней. В настоящее время в программе участвуют 38 государств. В основном это страны ЕС, а также Южная Корея, Сингапур, Австралия, Бруней, Норвегия, Швейцария и Тайвань.
Алексей Богдановский.
По отчетам, поступившим от предприятий число лиц, уехавших на работу за границу в октябре с.г. составило 8857 человек, из них 2878 женщин. При этом на Тайвань уехало на работу 4415 чел., в Японию – 2112 человек, Южную Корею – 843 чел., Малайзию – 838 чел., Саудовскую Аравию – 302 чел., Макао – 40 чел. Таким образом, общее количество граждан Вьетнама, уехавших на работу за рубеж за 10 месяцев 2015г. составило 99415 чел (31772 женщин), что уже превысило план 2015г. на 4,65% и составило 109,1% к аналогичному периоду прошлого года. Министерство труда и социальной защиты Вьетнама сообщило, что многие государства принимают меры по выдворению незаконных трудовых мигрантов из своих стран. Это делает рынок труда более прозрачным и регулируемым. Наряду с этим власти на местах тоже пытаются заинтересовать людей для сохранения рабочей силы на своих территориях.
Kinh Te, 10.11.2015
Авиационная компания Viet Jet Air недавно подписала новое соглашение с Airbus о покупке 30 самолетов А321 нового поколения с технологиями экономии топлива на сумму 3,6 млрд. долл. Поставка предполагается в период с 2016 по 2020 гг. ежегодно по 8-12 лайнеров. В 2014 г. Viet Jet Air подписала соглашение с Airbus о покупке 100 самолетов на сумму 9,1 млрд. долл. В июне 2015 г. был подписан еще один контракт на покупку 6 самолетов А321 на сумму 682 млн. долл. 8 октября компания получила 10-й самолет по подписанным ранее контрактам на лизинг и покупку. В настоящее время Viet Jet Air имеет в своем составе 29 самолетов А320 и А321, совершает ежедневно 190 рейсов. Услугами этой авиакомпании воспользовались более 18 млн. пассажиров. Налажены международные рейсы в Сингапур, Южную Корею, Тайвань, КНР, Таиланд и Мьянму.
Kinh te Sai Gon, № 47-2015, 19.11.2015
Дмитрий Панышев выступил на открытии семинаров АТЭС в НИИ Радио
30 ноября на площадке НИИ Радио проходят семинары Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) «Индикаторы развития информационного общества в регионе АТЭС» и «Программа кооперации по созданию единого интероперабельного подхода к повышению эффективности существующих систем обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях на базе современных информационно-коммуникационных технологий». Семинары проводятся в рамках реализации в Рабочей группе по телекоммуникациям и информации АТЭС одноименных проектов, разработанных при активном участии специалистови НИИР. В семинарах принимают участие представители России, КНР, Тайваня, Вьетнама, Филиппин.
На торжественном открытии присутствовали заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов, заместитель руководителя Федерального агентства связи Дмитрий Панышев, генеральный директор ФГУП НИИР Валерий Бутенко, советник министра связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Муханов, заместитель директора департамента международного сотрудничества Минкомсвязи РФ Кирилл Опарин, руководитель Зонального отделения Международного Союза Электросвязи для стран СНГ Орозобек Кайыков, сотрудник Зонального отделения Международного Союза Электросвязи для стран СНГ Андрей Унтилла.
Основными целями семинаров является изучение и обобщение опыта экономик стран АТЭС по созданию концепции индивидуализированного управления спасением людей при чрезвычайных ситуациях с использованием современных ИКТ, разработка показателей развития информационного общества, как во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в отдельных экономиках АТЭС - наличие такого набора показателей позволит обеспечить руководящие органы экономик количественной информацией о состоянии информационного общества и повысить эффективность принятия решений в области ИКТ.
В своей приветственной речи Рашид Исмаилов подчеркнул роль ФГУП НИИР как площадки-организатора семинаров: «Особо стоит отметить, что мероприятия проходят в Научно-исследовательском институте радио – одной из ведущих организаций телекоммуникационной отрасли. На прошедшей в Женеве Всемирной конференции радиосвязи специалисты из НИИ радио были одними из самых продуктивных и активных в работе конференции и отстаивании интересов России».
Далее к участникам обратился замруководителя Россвязи Дмитрий Панышев. Он выразил надежду, что семинары должны ознаменовать собой новый этап в дальнейшем развитии стратегических подходов к построению эффективного информационного общества и повышению качества жизни населения в целом, решению проблем уменьшения опасности при ЧС на глобальном, региональном и национальном уровнях.
0
В своем докладе Дмитрий Олегович рассказал о Федеральной целевой программе «Информационное общество (2011–2020)», часть полномочий по реализации которой возложена на Федеральное агентство связи, в том числе управление развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества и услугами, оказываемыми на ее основе. Он подробно остановился на проекте универсального доступа к услугам связи - «внедрение механизма данных услуг учитывает интересы всех слоев населения, но, прежде всего, направлено на обеспечение доступности телекоммуникационных услуг для людей, проживающих в сельской местности, в удаленных и труднодоступных районах».
Дмитрий Панышев также осветил деятельность Россвязи по выполнению мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях, обратившись к актуальному примеру полного отключения электроэнергии, поступающей на территорию Крымского Федерального округа со стороны Украины. «В связи со сложившейся ЧС в Крымском ФО Агентством были приняты все необходимые меры по поддержанию в рабочем состоянии сетей электрической и почтовой связи в этом регионе. Эта работа продолжается», - отметил Дмитрий Олегович.
«В рамках сегодняшнего сотрудничества должен быть разработан единый интероперабельный подход к повышению эффективности существующих систем обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях на базе современных ИКТ, объединяющий передовой опыт экономик АТЭС, в том числе Российской Федерации. На его основе могут быть созданы руководящие указания по управлению в условиях ЧС для экономик АТЭС, а также перечень показателей для оценки эффективности информационных систем. Это позволит экономикам АТЭС проанализировать возможности собственной ИКТ-инфраструктуры для массового оповещения, борьбы со стихийными бедствиями, смягчения последствий ЧС и восстановления», - заключил Дмитрий Олегович.
Генеральный директор ФГУП НИИР Валерий Бутенко в своем выступлении представил основные направления деятельности НИИ радио и пожелал участникам семинаров плодотворной работы: «Я надеюсь, что пребывание в стенах нашего института будет комфортным и все вопросы, которые выносятся на рассмотрение семинаров, будут рассмотрены. Значение этих вопросов трудно переоценить – ведь они затрагивают интересы не только Российской Федерации, но и всего мирового сообщества».
Азиатские форумы и развитие ситуации в ЮВА
Владимир Терехов
Вслед за саммитом “Большой двадцатки”, прошедшим 15-16 ноября в Турции и вызвавшим особое внимание в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и в Европе, 17-20 ноября в столице Филиппин Маниле на высшем уровне прошло заседание форума стран-участниц АТЭС.
А уже 21 ноября лидеры ведущих мировых держав переехали из Манилы в столицу Малайзии Куала-Лумпур с целью проведения нескольких форумов на полях очередного саммита стран-участниц субрегиональной Ассоциации АСЕАН, объединяющей 10 стран Юго-Восточной Азии (ЮВА).
Тремя основными партнёрами этой Ассоциации являются Китай, Япония и Южная Корея, с участием которых в Куала-Лумпуре прошли общий и отдельные форумы в форматах АСЕАН+3 и АСЕАН+1, соответственно.
Кроме того, состоялся форум АСЕАН+6 (АСЕАН+3+Индия, Австралия и Новая Зеландия), на котором констатировалась невозможность до конца текущего года заключить соглашение о создании в данной конфигурации зоны свободной торговли и продлении переговорного процесса ещё на год.
Все эти мероприятия прошли на фоне сложной (а в последнее время и просто тревожной) ситуации в морской полосе, прилегающей к побережью Китая. Но прежде чем говорить о влиянии на неё последних региональных форумов, необходимо кратко остановиться на их месте и роли в современных международных делах.
АТЭС давно потерял ту значимость в интеграционных процессах в АТР, для стимулирования которых он создавался на рубеже 80-90-х годов. Притом что сама по себе идея создания такого форума соответствовала условиям заявленного тогда “конца истории”, когда все политические проблемы должны были уйти в небытие, а “мировому сообществу” предоставлялась возможность воспользоваться “благами мира”.
Проблема, однако, заключалась в том, что история отказалась отвечать на шаманские заклинания о своей кончине и продолжила вполне традиционное существование в форме (столь же традиционных) расколов “мирового сообщества” с противопоставлением интересов отдельных его кусков.
Сегодня просматриваются несколько таких линий раскола и среди них пока главной остаётся американо-китайская. Она наметилась ещё во второй половине 90-х годов и с тех пор только углубляется и расширяется.
Конкурентное позиционирование в АТР (ныне главной сцене мирового политического действа) двух ведущих мировых держав предопределило бесперспективность единого регионального интеграционного проекта, а следовательно, и второстепенность структуры, призванной к его идеологическому сопровождению.
Польза от её дальнейшего существования теперь видится, скорее, в том, что она становится важной площадкой для контактов между лидерами региональной игры, каковыми являются США, Китай, Япония и Индия. К которым (на вторых ролях) присоединяются Южная Корея, Австралия, Тайвань. Последний обозначается в списках членов АТЭС примечательным эвфемизмом “Китайский Тайбэй”.
Поэтому каждый из проводимых саммитов АТЭС теперь интересен не итоговым документом – продуктом бюрократического творчества, а набором исходящих от них месседжей. Наибольший интерес представляет вопрос, кто и с кем встречался (или старательно избегал встреч) на полях форума и что говорил на пленарном заседании, а также в ходе различных двусторонних контактов.
Как уже не раз отмечалось в статьях НВО, по мере развития тенденции к повышению влияния японо-китайских отношений на процесс формирования ситуации в ЮВА (и в АТР в целом) всё большую актуальность приобретает вопрос о том, через какой оптический прибор сегодня рассматривают друг друга Пекин и Токио.
Вплоть до ноября 2014 г. ответ на этот вопрос не внушал никакого оптимизма. Но именно на полях предпоследнего форума АТЭС, состоявшегося тогда в Пекине, прошла первая за три предшествующих года встреча лидеров КНР и Японии Си Цзиньпина и Синдзо Абэ (а также последнего с президентом Южной Кореи Пак Кын Хэ), дававшая надежду на запуск процесса размораживания отношений между ведущими азиатскими державами.
Однако пока он протекает крайне неторопливо или вообще просматривается с трудом. Одним из редких позитивных моментов последнего времени стал трёхсторонний (с участием КНР, Японии и Южной Кореи) саммит в Сеуле, состоявшийся 1 ноября с.г.
Но и это мероприятие прошло без участия высшего должностного лица КНР, что лишний раз засвидетельствовало далёкое от благополучного состояния японо-китайских отношений. А двумя месяцами ранее С. Абэ почему-то не присутствовал в Пекине на торжествах по случаю 70-летия завершения войны на Тихом океане. Хотя ещё за месяц до них об этом говорилось как о вполне позитивно решённом вопросе.
Не поговорили оба лидера и на саммитах “Большой двадцатки”, а затем АТЭС. При этом осталось неясным, как им удавалось расходиться в коридорах и залах, где эти мероприятия проводились.
Что касается форумов в Куала-Лумпуре, то проблема (как бы лидерам двух ведущих азиатских держав нечаянно не встретиться друг с другом) была решена радикальным образом. Также как и месяцем ранее в Сеуле, в малайзийской столице КНР представлял не президент страны, а премьер-министр Ли Кэцян.
Хотя со стороны кажется, что чрезвычайная важность для Китая проблемы снятия политических разногласий с южными соседями вполне заслуживала присутствия на этих форумах первого лица страны.
Всё вышесказанное позволяет выделить основную проблему и АСЕАН, а также форумов, созданных на базе Ассоциации. Эта проблема носит тот же характер, что у АТЭС, то есть сводится к фундаментальному влиянию фактора раскола политического пространства АТР (и мира в целом) на эффективность работы (а следовательно, и на значимость) АСЕАН, а также аффилированных с Ассоциацией форумов.
Некоторые из стран-участниц АСЕАН буквально работают “на разрыв”, участвуя в переговорном процессе двух конкурирующих интеграционных проектов, каковыми являются Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) и АСЕАН+6.
Иллюстрацией реальности мирового раскола стала встреча в Маниле на полях АТЭС С. Абэ с президентом США Б. Обамой, которая состоялась, повторим, на фоне неудач последнего времени по организации контактов между лидерами КНР и Японии.
Из комментариев японской прессы следовало, что очередная в этом году встреча лидеров США и Японии носила характер демонстрации укрепления позиций двустороннего альянса в Южно-Китайском море (ЮКМ), то есть в наиболее проблемном районе АТР.
В ходе встречи американский президент выразил удовлетворение фактом принятия японским парламентом пакета новых законов в сфере обороны, а японский премьер – завершением переговорного процесса по созданию ТТП.
Ещё одно заявление С. Абэ привлекло внимание в Китае и потребовало разъяснения со стороны руководителя аппарата правительства Японии Ё. Суги. Речь идёт о словах о том, что Токио рассматривает возможность отправки подразделений “Японских сил самообороны” (ЯССО) в ЮКМ, исходя из соображений как собственной безопасности, так и обязательств в рамках американо-японского альянса.
В ответ на немедленную реакцию МИД КНР, связавшего нынешнее поведение Японии в ЮКМ с её агрессией во Второй мировой войне, Ё. Суга пояснил, что “в настоящее время ЯССО не проводят непрерывного наблюдения за ситуацией в ЮКМ и у нас нет подобных планов, также как и планов участия в американских операциях по обеспечению свободы судоходства” в этом море.
Хотя процедура разъяснения “истинного смысла” неких слов, сказанных ответственными политиками в ходе живой речи и при этом “ляпнувших лишнее”, носит вполне обычный характер, следует напомнить, что в реальной политике (при всей важности слов, а также их последующих “разъяснений”) гораздо большую значимость имеют дела.
А таким “делом” становится процесс укрепления всесторонних связей Японии как с отдельными странами ЮВА (например, с Филиппинами и Вьетнамом, находящихся в сложных отношениях с КНР), так и с АСЕАН в целом. И характер участия японского премьер-министра в прошедших региональных форумах свидетельствует о развитии этого процесса.
В заключение можно в очередной раз констатировать, что всё более конкурентное позиционирование Японии и Китая в АТР в целом и в ЮВА, в особенности, остаётся пока одним из главных препятствий на пути позитивного развития ситуации в регионе, а также продуктивной работы действующих здесь форумов.

Новый порядок в АТР
Японский взгляд на экономические процессы
Томоо Кикучи – cтарший научный сотрудник Центра Азии и глобализации, Школа публичной политики им. Ли Куан Ю, Национальный Университет Сингапура.
Резюме Когда-нибудь проекты Транстихоокеанского партнерства и Восточноазиатского регионального экономического партнерства объединятся, поскольку дополняют друг друга. ТТП – единые нормы и регламенты, ВРЭП – большой потенциал роста.
Данная статья представляет собой несколько сокращенную версию его материала, опубликованного в серии «Валдайских записок» в октябре 2015 года. Полный вариант на русском и английском с научным аппаратом можно найти по адресу: http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/valdai-paper-30-the-prospects-of-international-economic-order-in-asia-pacific-japan-s-perspective/
Центр мирового экономического развития перемещается в Азию, и основной движущей силой выступает Китай. Он действительно стал крупнейшей экономикой мира по размеру ВВП в пересчете по паритету покупательной способности (ППС), но не по номинальному ВВП в американских долларах. Кроме того, Китай потеснил Соединенные Штаты как крупнейшего торгового партнера почти всех азиатских стран. Нет сомнений и в том, что соотношение сил в регионе меняется коренным образом.
Являемся ли мы свидетелями перехода лидерства от одной крупнейшей экономики к другой? Если да, то странно, с каким олимпийским спокойствием мировое сообщество воспринимает эту трансформацию. Мне кажется, что до наступления переломного момента еще далеко. Проще говоря, американцы на время сохранят доминирующее положение в мировой экономике благодаря устойчивости собственной валюты. Но здесь кроется и структурная проблема, поскольку бурный рост экономики азиатских стран обусловлен стратегией развития, ориентированной на экспорт. А США обеспечивают их «безопасными» активами. Такая ситуация существует еще со времен формирования Бреттон-Вудской системы, которая по-прежнему играет определяющую роль в финансовом миропорядке. Отсутствие в Азии «безопасного» механизма инвестирования стало причиной оттока капитала в Соединенные Штаты и Европу. Таким образом, накопленные в регионе сбережения не преобразуются в инвестиции, что препятствует устойчивому развитию и приводит к дисбалансам в мировой экономике. В то время как США и другие развитые страны имеют долгосрочное отрицательное сальдо по текущим операциям, в государствах с быстроразвивающейся экономикой, в особенности в азиатских, ситуация обратная.
Азия способна в полной мере реализовать свой потенциал роста только при условии развития региональных рынков и финансовых институтов, которые позволили бы эффективно применять внутренние ресурсы в качестве долгосрочных инвестиций. Но для этого недостаточно просто ослабить контроль государства над рынками капитала и провести их либерализацию. Развитие рыночного потенциала и создание новых институтов должно сопровождаться структурными реформами. Сходство макроэкономической ситуации в современном Китае и в Японии 1980-х гг. поразительно. Так, Япония на собственном опыте убедилась, что либерализация реального сектора экономики должна сопровождаться либерализацией рынков капитала. Учитывая масштабы китайского рынка капитала, такая реформа неизбежно приведет к изменению финансового миропорядка, во главе которого до сих пор стоят Соединенные Штаты.
И США, и Китай, и Япония заинтересованы в региональной экономической интеграции, ход которой будет зависеть от двух знаковых соглашений о свободной торговле: Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Создание ТТП важно для согласования правил и норм торговли и инвестиционной деятельности. В свою очередь, во ВРЭП входят наиболее развитые экономики региона. ТТП подталкивает страны к проведению необходимых структурных реформ, дабы не отставать от других. Реформы в Китае несомненно имели бы ключевое значение для продвижения в АТР системы, основанной на таких правилах. Что касается Японии, то для нее наиболее значимые рынки находятся в странах ВРЭП. Таким образом, Япония заинтересована в том, чтобы сыграть ключевую роль в сближении между ТТП и ВРЭП.
Опыт Японии
Очевидно, что сейчас экономическое влияние Токио в регионе снизилось по сравнению с пиковыми показателями начала 1990-х годов. В качестве крупнейшей региональной экономики ее сменил Китай. Однако причины относительного ослабления позиций Токио не сводятся к экономическому подъему могущественного соседа. Не меньшую роль сыграли и внутренние обстоятельства.
Во-первых, экономическому развитию Японии не способствуют демографические факторы: она стала первой азиатской страной со стареющим населением. Низкий уровень рождаемости в сочетании с одним из самых высоких в мире показателем продолжительности жизни легли тяжелым финансовым бременем на молодое поколение, что во многом объясняет низкий внутренний спрос. Во-вторых, финансовому сектору потребовалось не менее двадцати лет, чтобы урегулировать проблему невозврата кредитов: напомним, в начале 1990-х гг. на смену спекулятивному росту на фондовом рынке пришел резкий спад. Финансовые институты восстановились, но государственный долг превысил 250% ВВП, что намного выше аналогичного показателя других развитых стран. Теперь японская экономика пребывает в состоянии дефляции с избыточным предложением денег и низким внутренним спросом. Примерно половина госбюджета финансируется за счет заимствований. Значительную часть госдолга выкупил Банк Японии, при этом немалая доля государственных облигаций находится у банков. С другой стороны, Япония за последние 23 года стала одной из крупнейших стран-кредиторов, направив на эти цели 3,2 трлн долларов. Одновременное наращивание активов и пассивов свидетельствует о том, что финансовый сектор страны остается достаточно закрытым.
Предпринимаемые Банком Японии усилия по борьбе с дефляцией привели к избытку ликвидности. Куда идут эти деньги? В последние пять лет японские банки заняли в Азии лидирующие позиции по объемам кредитования. Еще более активно инвестируют в регионе японские компании. Этому также способствует деятельность государственных финансовых учреждений, включая пенсионный фонд, а также частных финансовых организаций, которые отдают все большее предпочтение покупке долговых инструментов и акций за рубежом, вместо того чтобы вкладываться в японские государственные облигации. Стремясь выйти за рамки традиционной экспортной стратегии, японские компании расширяют присутствие в других странах за счет приобретения контрольных пакетов акций иностранных компаний и сделок слияний и поглощений.
Стремясь остановить рост курса иены по отношению к доллару, Банк Японии проводит начиная с 1985 г. политику снижения процентных ставок. (Напомним, в 1985 г. пять государств – Великобритания, ФРГ, США, Франция и Япония – договорились стабилизировать свои валютные курсы. Это соглашение было заключено в отеле «Плаза» в Нью-Йорке и известно как Plaza Accord. – Ред.). Теперь мы знаем, что это стало одной из основных причин возникновения «пузыря» на финансовом рынке и привело к известным последствиям в следующие два десятилетия. В течение этого времени Япония так и не смогла сделать иену международной резервной валютой. В результате доля иностранного участия во внутренних активах осталась на очень низком уровне. А доля сбережений при использовании денежных доходов опустилась с 20% до 5% и ниже, причем это снижение не было компенсировано притоком прямых иностранных инвестиций. Недостаток последних привел к замедлению структурных реформ.
Расширяя присутствие на зарубежных рынках, Японии следовало активнее продвигать идею использования иены в качестве резервной валюты. Рост объема иностранных вложений в японские активы заставил бы местные компании заняться повышением собственной эффективности и прозрачности в том, что касается корпоративного управления и управления активами. Кроме того, рост инвестиций в активы, номинированные в иенах, способен помочь японскому бизнесу укрепить позиции на зарубежных рынках, что по мере развития региональной экономической интеграции содействовало бы росту финансовой стабильности в Азии.
Урок для Китая
Поскольку движение капитала в Китае ограниченно, значительные финансовые ресурсы направляются в национальную экономику. Продолжавшаяся десятилетиями политика жесткого контроля привела к появлению избыточного предложения на финансовом рынке. Меры по регулированию процентных ставок и курса валюты способствовали нерациональному использованию капитала и разрастанию теневого банковского сектора, действующего в обход системы надзора. На рынке недвижимости и фондовом рынке надулись «пузыри». Так или иначе, но именно эти внутренние факторы подтолкнули Китай к выходу вовне.
Власти Китая внимательно изучили путь, пройденный Японией после подписания Plaza Accord, что привело к ревальвации иены по отношению к наиболее значимым валютам мира. Последовавшее за этим замедление темпов экономического роста в Японии стало для КНР уроком, побудившим ее перейти к постепенной либерализации процентных ставок, курса валюты и движения капитала. Тем не менее ситуация, сложившаяся на данный момент, напоминает японские восьмидесятые, когда введение финансовых ограничений привело к перегреву экономики. Учитывая, что модель роста, основанная на государственных инвестициях, достигла в Китае определенного предела, страна не может позволить себе не довести до конца начатые структурные реформы. Чтобы китайские рынки стали более открытыми, необходимо обеспечить прозрачность управления и регулирования экономики. Отказ от финансовых ограничений способствовал бы повышению эффективности использования капиталовложений.
Опыт Японии свидетельствует о том, что экспортно-ориентированная модель роста при закрытой финансовой системе приводит к неразумному использованию и неадекватной оценке капитала, и, таким образом, нецелесообразна в долгосрочной перспективе. Это также показывает важность обретения национальной валютой статуса резервной, что способствовало бы реформам государственного управления и управления активами. Без таких реформ страна не сможет в полной мере воспользоваться преимуществами региональной экономической интеграции. Пока неясно, станет ли китайский юань международной валютой в сфере торговли и инвестиций. Рост влияния КНР на международную финансовую систему должен сопровождаться институциональными реформами и многосторонним развитием.
Капитал и инвестиции: проблема взаимосвязи
Исторически сложилось так, что высокий рост накоплений в азиатских экономиках обеспечивает профицит счета текущих операций и высокий уровень золотовалютных резервов. В частности, это относится к резервам в долларах. Китай и Япония с большим отрывом лидируют по объему наличных долларовых резервов, опережая другие страны региона, включая Тайвань, Южную Корею, Индию, Гонконг и Сингапур. Не менее важно и то, что Пекин и Токио являются крупнейшими в мире держателями казначейских облигаций США.
Разбалансирование мировой экономики стало результатом возникновения по всему миру избыточных активов. Речь идет о чистых активах азиатских стран и растущем госдолге Соединенных Штатов. Доллар и казначейские расписки заменили в Азии местные валюты и облигации, в них же размещается существенный объем сбережений. Нет смысла обвинять США в том, что у них самая надежная и ликвидная валюта и государственные облигации. Однако нельзя также не признать, что это представляет проблему с точки зрения финансирования долгосрочных инвестиций в Азии.
Нехватка долгосрочных инвестиций, с одной стороны, и рост объемов торговли – с другой, доказывают, какое благотворное влияние оказало бы использование сбережений в качестве долгосрочных инвестиций. Двойное противоречие между сроками погашения займов и использованием иностранной резервной валюты в полной мере проявилось во время финансового кризиса, который разразился в Азии в 1997 году. Практика осуществления долгосрочных инвестиционных проектов за счет привлечения краткосрочного финансирования на международных рынках сделала азиатские страны уязвимыми перед лицом внешних потрясений. В регионе до сих пор практикуется привлечение краткосрочных долларовых кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов на внутреннем рынке.
По оценкам Азиатского банка развития, для финансирования инфраструктурных проектов в 2010–2020 гг. Азии не хватает 8 трлн долларов. Без дальнейших мер по развитию местного рынка облигаций и фондового рынка на макроуровне привлечение такого объема средств не представляется возможным. Финансирование программ развития должно осуществляться посредством создания фондов национального благосостояния, а также использования средств пенсионных фондов и страховых компаний для долгосрочных инвестиционных проектов.
Необходимо развивать кадровый потенциал в таких сферах, как управление, технологии, право и финансы, а также совершенствовать институты власти. Для начала местным органам власти следует взять под контроль реализацию инфраструктурных проектов. Разработка структуры финансовой сделки и перераспределение рисков подразумевает наличие долгосрочных обязательств и тщательного планирования. Необходимо также задействовать частный сектор для повышения эффективности проектов и привлечения под них соответствующего финансирования на основе частно-государственного партнерства.
Будучи крупнейшими торговыми партнерами и инвесторами в регионе, Китай и Япония должны стремиться к тому, чтобы накопленные в Азии средства инвестировались на местном уровне. Следует активизировать роль в таких многосторонних организациях, как Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Управление макроэкономических исследований АСЕАН+3. Если Азия сможет снизить объемы покупки долларов и американских казначейских расписок, денежно-кредитная политика Федерального резерва США не станет оказывать столь мощного влияния на их финансовые рынки. Мировое господство доллара ослабнет. Более того, укрепление региональных финансовых организаций способствует децентрализации власти Всемирного банка и Международного валютного фонда в рамках мировой финансовой системы. Эти проблемы нужно решить прежде, чем взойдет заря «века Азии».
ТТП против ВРЭП
Двенадцать стран, которые вели переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства, объявили о его заключении в октябре 2015 года. ТТП призвано обеспечить равный доступ на рынок товаров и услуг всем компаниям вне зависимости от страны происхождения, тем самым способствуя наращиванию объемов торговли, устранению торговых барьеров, повышению эффективности и дальнейшему развитию экономик. Некоторые восприняли это как угрозу нормам и практикам, направленным на защиту национальных интересов. Но о чем на самом деле идет речь?
Согласование нормативно-правовых требований призвано создать равные условия для национальных и зарубежных компаний. При таком взаимовыгодном подходе японские корпорации получили бы новые возможности на американском рынке, тогда как компании из США могли бы рассчитывать на аналогичные преимущества в Японии. С этой точки зрения ТТП предоставит вошедшим в него странам и их бизнесу новые возможности, что пойдет на пользу всем.
В чем проблемы? Необходимо признать, что у предприятий из разных государств весьма различные возможности с точки зрения их развития и расширения на внутреннем и внешнем рынках. В этой связи правительства ведут переговоры об уступках и переходных периодах. К примеру, перед такой страной–кандидатом на вступление в ТТП, как Вьетнам, стоит задача по развитию и укреплению институтов в пределах такого-то срока. Для реализации условий ТТП вошедшие в него государства должны будут провести структурные реформы и открыть рынки для новых видов предпринимательства. Некоторые государства могут использовать оказываемое ТТП внешнее давление для получения политической поддержки при проведении реформ, которые позволили бы изменить статус-кво.
Конечно, в результате кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Вопрос в том, какова польза от ТТП в конечном итоге? Например, будет ли приток иностранных инвестиций благоприятствовать передаче технологий, что позволило бы местным компаниям занять более высокое положение в глобальной цепочке поставок? Прямые иностранные инвестиции следует вкладывать в развитие производства, а не в спекуляции. А чтобы ТТП было успешным, деятельность на мировом рынке должна идти на пользу не только транснациональным гигантам, но и средним и малым предприятиям.
В ближайшем будущем может быть также заключено соглашение о создании ВРЭП, однако ему уделяется несколько меньше внимания, нежели ТТП. ВРЭП представляет собой альтернативное соглашение о свободной торговле.
Одно из различий между ТТП и ВРЭП заключается в том, что население стран, ведущих переговоры о вступлении в ВРЭП, в четыре раза больше, чем в ТТП, тогда как средние доходы в ТТП в шесть раз выше, чем в государствах ВРЭП. Дело в том, что в ВРЭП входят Китай и Индия, которые в переговорах по ТТП не участвуют. Соответственно, потенциал роста у ВРЭП гораздо выше за счет двух быстроразвивающихся экономик. Можно было бы подумать, что в силу этого обстоятельства у ВРЭП больше возможностей для региональной экономической интеграции. Ведь во ВРЭП входят все члены АСЕАН, где к концу 2015 г. должно быть создано Экономическое сообщество, а также другие страны, заключившие соглашения о свободной торговле с АСЕАН, включая Южную Корею и Японию. Однако трудно представить появление общего рынка такого масштаба, поскольку даже участники АСЕАН столкнулись с огромными проблемами при согласовании единых норм и регламентов.
А вот ТТП придает новый импульс региональной экономической интеграции за счет введения единых норм и регламентов. Продвигая ТТП, Соединенные Штаты стремятся подчеркнуть значимость Азии и показать местным партнерам свою приверженность этому региону. Однако для оптимизации потенциала роста Азии в рамках этого партнерства следует предусмотреть возможность вступления в него таких новых участников, как Китай, Индия, Южная Корея, не охваченных на данный момент стран АСЕАН, а также Тайваня. Учитывая сложившиеся торговые и коммерческие взаимоотношения, в первую очередь следовало бы начать переговоры о присоединении Южной Кореи и Тайваня. Вступление Китая на данный момент представляется возможным только при условии существенных уступок и реформ, которые потребовали бы либерализации финансовой системы страны и экономики в целом. В конечном счете готовность Пекина к вступлению в ТТП будет зависеть от успеха внутренних преобразований.
Несмотря на всю важность участия Китая в процессах региональной экономической интеграции, он не будет диктовать другим руководящие принципы, так как прочие страны вряд ли смогут воспользоваться его опытом как примером для подражания. Для развития рынка необходимо вводить единые нормы и регламенты. Члены АСЕАН в конечном счете вступят в ТТП, когда цели этого объединения совпадут с их национальными интересами. А пока что ТТП и ВРЭП будут существовать параллельно.
Логично было бы предположить, что когда-нибудь эти два проекта объединятся, поскольку они дополняют друг друга. В рамках ТТП разрабатываются единые нормы и регламенты, тогда как ВРЭП обладает большим потенциалом роста. Конкуренция при освоении передового опыта и эффект масштаба могут дать импульс к заключению между всеми странами АТЭС Соглашения о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако этому могут помешать политические соображения и интересы отдельных государств.
Точка зрения Японии
Снижение внутреннего спроса и хаотичная кредитно-денежная политика Банка Японии вынуждают японские компании активно внедряться на зарубежные рынки. Приобретая все больше новых активов в сделках слияний и поглощений и иными путями, японский бизнес не может не столкнуться с проблемами – хотя бы потому, что его корпоративные структуры и практики слишком глубоко укоренены в национальной культуре. В этом отношении ТТП способно сыграть положительную роль. При наличии единых норм и правил японским компаниям придется искать способы сохранения конкурентоспособности и оставаться привлекательными для коллег по бизнесу в регионе. Для выхода за пределы японского общества придется пересмотреть действующие в стране подходы к корпоративному управлению. Токио также следует продвигать иену в качестве резервной валюты. До сих пор экономика Японии была в значительной мере изолирована от остального мира в том, что касается валютного рынка, облигаций, акций и иных видов активов. Более открытая и совместимая с другими странами система корпоративного управления и управления активами пошла бы Японии только на пользу. В этой связи ТТП может не только сделать японскую экономику более открытой, но и помочь японским компаниям стать настоящими международными корпорациями, а не просто экспортерами.
Вне зависимости от того, будет ли ратифицировано соглашение о ТТП или нет, Японии следует углублять связи с азиатскими странами. Отправной точкой могло бы стать заключение трехстороннего соглашения о зоне свободной торговли с Китаем и Южной Кореей. Это позволило бы трем странам наметить области взаимного интереса с точки зрения региональной экономической интеграции. В то время как японские компании стремятся закрепиться на зарубежных рынках за счет накопленных за последние десятилетия ресурсов, сама страна нуждается в притоке прямых иностранных инвестиций для оживления национальной экономики. Чтобы преуспеть на этих двух направлениях, Япония должна продвигать идею сближения ТТП и ВРЭП и содействовать созданию репрезентативной и прозрачной экономической системы, основанной на четких правилах.
ТТП и ВРЭП (2012)
Источники: МВФ и ВТО

В октябре 2015 г. уровень безработицы на Тайване составил 3,89%. Этот показатель стал самым низким за последние 15 лет, сообщило статистическое ведомство острова.
В октябре текущего года на Тайване насчитывалось 455 000 безработных. При этом уровень безработицы среди людей в возрасте 20-24 лет составил 12,88%. Это на 0,4% меньше, чем месяцем ранее. Аналогичный показатель для людей 25-29 лет достиг 6,78%. Он снизился на 0,01%.
Ранее сообщалось, что к концу июня 2015 г. уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа Китая составил 4,04%. Это на 0,01% ниже, чем в мае текущего года. За январь-июнь 2015 г. в китайских городах и поселках создано 7,18 млн новых рабочих мест. В целом за год в Поднебесной планируется создать 10 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы к 2016 г. не должен превысить 4,5%.
С 2016 г. в Китае официально стартуют мероприятия по ежемесячному монитогингу ресурсов рабочей силы. Однако с июля 2015 г. этот процесс будет идти в опытном порядке. Мониторинг поможет создать более полную базу данных о занятости жителей страны. Сбор данных будет проводиться в крупнейших мегаполисах и всех городах окружного уровня на 120 000 предприятий.
Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провел рабочую встречу с Председателем Национальной администрации туризма Республики Вьетнам г-ном Динь Нгок Дуком. Мероприятие состоялось в рамках официального визита главы Ростуризма в г. Ханой для участия в 18-м заседании межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Стороны обсудили вопросы развития туристического обмена между Россией и Вьетнамом, который наша страна рассматривает в качестве важного партнера в сфере туризма.
Ростуризм уделяет большое внимание развитию сотрудничества с туристическими администрациями и туроператорами государств Азиатско-Тихоокеанского региона, которые рассматриваются в качестве перспективного источника входящего туристского трафика для России.
Федеральное агентство по туризму ведет в странах АТР активную маркетинговую работу. Так, к примеру, недавно состоялось роуд-шоу уникальных российских туристических предложений в Пекине и в Тайбэе (Тайвань).
«Проведение двусторонних переговоров – важная часть работы по развитию туристического обмена. Необходимо находить взаимовыгодные варианты сотрудничества с нашими зарубежными партнерами, памятуя, что и мы и они заинтересованы в развитии въездного туризма в наших странах. России есть, что предложить зарубежным туристам, и мы должны максимально активно продвигать наши уникальные туристические предложения на всех уровнях», – говорит глава Ростуризма Олег Сафонов.

Национальный расчётный депозитарий (НРД) в 2017 году запустит онлайн-систему электронного голосования на собраниях акционеров. Об этом говорится в сообщении НРД.
Платформа e-voting позволит владельцам ценных бумаг дистанционно участвовать как в очных, так и заочных собраниях акционеров: самостоятельно зарегистрироваться для участия в собрании, ознакомиться с материалами собрания и проголосовать в режиме онлайн, заполнив электронный бюллетень на специальном сайте в интернете. Авторизацию в рамках новой платформы планируется осуществлять с помощью используемой на Портале государственных услуг Единой системы авторизации и аутентификации (ЕСИА).
Таким образом, акционеры, которые уже пользуются государственными услугами через портал, смогут получить удобный доступ и к сервису электронного голосования.
Одной из задач при создании платформы является предоставление всем российским эмитентам единой площадки для организации электронного голосования. Это позволит инвесторам, владеющим ценными бумагами различных эмитентов, использовать единый сервис, подчеркиваетсяв сообщении.
"E-voting - революционная платформа не только для российского рынка, но и для большинства зарубежных рынков, включая развитые. Такой способ участия в годовых собраниях и голосовании уже работает в Турции, Индии, Корее, на Тайване и некоторых других рынках, где доказал свою эффективность. E-voting позволил существенно увеличить уровень участия акционеров, в том числе зарубежных, в годовых собраниях, а также повысить привлекательность финансовых рынков соответствующих стран для глобальных инвесторов. Самый большой вызов, стоящий перед нами сейчас, - это создание и внедрение современных надежных технологических решений для реализации проекта", - говорит заместитель председателя правления НРД Мария Краснова, цитируемая в сообщении.
Национальный расчётный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария РФ, входит в группу "Московская Биржа". НРД учреждён 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость ценных бумаг на хранении на 30 июня 2015 года достигла 28.17 трлн руб.

Мегаломания мегаблоков
Транстихоокеанское партнерство как высшая стадия регионализма
Ярослав Лисоволик – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ.
Резюме Неожиданно глобальная экономика оказывается перед парадоксальной реальностью – мир «победившего капитализма» движим прежде всего геополитикой. Действительно, он больше отсылает к Маккиндеру и Хаусхоферу, чем к Кейнсу или Манделлу.
Именно романо-тевтонцы впоследствии плыли по морям;
и именно греко-славяне скакали по степям, покоряя туранские народы.
Так что современная сухопутная держава отличается от морской
уже в источнике своих идеалов, а не в материальных условиях и мобильности.
Х.Дж. Макиндер. «Географическая ось истории»
В начале октября 2015 г. мировая карта торгово-экономических альянсов претерпела беспрецедентную трансформацию в связи с достижением соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Это крупнейшая интеграционная группировка, построенная на основе зоны свободной торговли. По данным ОЭСР, на долю ТТП приходится почти 40% ВВП мира и около четверти мировых экспортных потоков. ТТП – это, выражаясь ленинской терминологией, своего рода «высшая стадия регионализма», так как знаменует создание первой трансконтинентальной интеграционной группировки, которая радикально повлияет на торговые и инвестиционные потоки не только в тихоокеанском бассейне, но и в мировом масштабе.
Партнерство предусматривает не только создание зоны свободной торговли (для Соединенных Штатов это крупнейшее соглашение такого рода), но и улучшение инвестиционного и делового климата, соблюдение трудовых и экологических стандартов. Кроме того, по аналогии с прочими соглашениями США о зонах свободной торговли ТТП включает в себя положения о соблюдении прав на интеллектуальную собственность и либерализацию инвестиционного режима, прежде всего в секторе услуг.
Среди членов ТТП числятся как страны американского континента – Соединенные Штаты, Канада, Мексика, Перу, Чили, – так и Австралия с Новой Зеландией, и такие страны Юго-Восточной Азии, как Сингапур, Бруней, Вьетнам, Малайзия, а также Япония. Предшественником ТТП было соглашение о Транстихоокеанском стратегическом и экономическом партнерстве (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement), основанное Брунеем, Чили, Новой Зеландией и Сингапуром. Заключено в 2006 г., а уже в 2008 г. начались переговоры о его расширении в рамках более масштабного Транстихоокеанского партнерства с участием Соединенных Штатов.
Таким образом, ТТП строилось отнюдь не «с чистого листа». Данное образование – результат уже сложившихся двусторонних и региональных альянсов в регионе. Примечательно, что в числе стран, которые изначально составляли ядро будущего Тихоокеанского партнерства в рамках Транстихоокеанского стратегического экономического партнерства, значатся такие мировые лидеры в выстраивании двусторонних и региональных союзов, как Чили, Новая Зеландия и Сингапур. Все эти государства, будучи лидерами в своих субрегионах (Латинская Америка, Австралия/Новая Зеландия/Полинезия, Юго-Восточная Азия), сумели создать разветвленную сеть двусторонних альянсов, которые нередко выходили за пределы тихоокеанского региона. Присоединение США и Австралии к Тихоокеанскому партнерству еще больше увеличило насыщенность данной группировки двусторонними соглашениями.
ТТП как часть стратегии «конкурентной либерализации США»
ТТП можно подразделить на американскую составляющую, страны ЮВА и Японию, а также Австралию и Новую Зеландию. В ТТП можно выделить региональные группировки – АНЗЕРТА (Австралия и Новая Зеландия), АСЕАН, НАФТА, а также зона свободной торговли между Перу и Чили. Таким образом, члены ТТП могут переводить имеющиеся региональные и двусторонние соглашения на многосторонний уровень, но уже в масштабах всего тихоокеанского бассейна.
Для Вашингтона такой сценарий – логичное следствие проводимой в последние десятилетия стратегии «конкурентной либерализации», в которой сочетание глобализма (многосторонней либерализации), региональной и двусторонней торговой либерализации осуществляется для максимального открытия зарубежных рынков, повышения конкуренции за доступ к американскому рынку и переориентации торговых и инвестиционных потоков в пользу США. При этом по мере ослабления импульсов многосторонней торговой либерализации больший акцент в стратегии внешнеторговой политики Соединенных Штатов делается на оптимальном сочетании региональной и двусторонней торговой либерализации. С этой точки зрения для США создание ТТП – это своего рода mélange от использования двусторонних соглашений (по числу которых Соединенные Штаты являются одними из мировых лидеров) и региональных соглашений (АТЭС, НАФТА).
Страны, принимающие участие в крупном объединении, могут оказаться более ограниченны в построении последующих альянсов, в особенности если данная группировка интегрируется на основе единых регуляторных стандартов, которые могут существенно разниться по регионам. Для государств, являющихся лидерами интеграции в своих регионах, в этих условиях возникает своего рода преимущество первого хода (first mover advantage) – первоочередное заключение торговых соглашений ограничивает пространство для маневра отставшим конкурентам. Результатом становится своего рода «гонка регионализации», когда ведущие мировые державы стремятся первыми охватить своими торговыми правилами и стандартами ключевые регионы, связанные с торговыми потоками и импульсами экономического роста. Именно таким является тихоокеанский регион.
Дальнейшие векторы расширения ТТП указывают прежде всего на Юго-Восточную Азию и государства АСЕАН. Так, среди стран, инициировавших переговоры о возможном присоединении к ТТП, значатся Филиппины (консультации стартовали в сентябре 2010 г.), Таиланд (консультации начались в ноябре 2012 г.),
а также Индонезия (консультации начаты в июне 2013 г., в октябре 2015 г. Джакарта объявила о готовности присоединиться). С включением данных государств в ТТП можно будет говорить о «дружеском поглощении» большей части такой стратегически важной тихоокеанской структуры, как АСЕАН.
Другими важнейшими наблюдателями и потенциальными членами являются Тайвань (переговоры инициированы в сентябре 2013 г.), а также Республика Корея (консультации идут с ноября 2013 г.). Южная Корея является не только одним из наиболее успешных государств региона в области экономической модернизации, но также относится к мировым лидерам в построении диверсифицированной сети двусторонних альянсов на основе ЗСТ. Однако включение этих стран в ТТП может породить дополнительные опасения со стороны Китая относительно изоляции в региональных альянсах, учитывая не только политические трения с Тайванем, но и экономическое соперничество с Южной Кореей.
Наконец, следует отметить заинтересованность Боготы – консультации о присоединении были инициированы колумбийцами в январе 2010 года. Колумбия считается одной из наиболее лояльных США стран – достаточно в этой связи отметить подписание соглашения о зоне свободной торговли между Колумбией и Соединенными Штатами, которое вступило в силу в 2012 г., а также тот факт, что США играют ключевую роль в колумбийской экономике и речь здесь не только о торговле, но и о денежных переводах мигрантов. Для Вашингтона такая мощная региональная группировка, как ТТП, может стать эффективным инструментом укрепления его роли в Латинской Америке, которая в последние десятилетия стала заметно ослабевать.
Аргументы «за» и «против» для мировой экономики
Вслед за ТТП в глобальной цепочке потенциальных альянсов появится второе трансконтинентальное звено – Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, которое объединит рынки Евросоюза и США. В результате в мире возникнут два крупнейших трансконтинентальных торговых блока, ядром которых станут Соединенные Штаты. Выстраивание трансконтинентальных цепочек между Америкой и Азией, а также Европой и Америкой оставит одну зияющую пустоту – а именно евразийское звено между Европой и Азией.
Казалось бы, создание такого мощного альянса в самом сердце наиболее динамичного региона глобальной экономики должно стать именно тем средством, которое поможет вывести мировое хозяйство из периода хронически низких темпов роста. Более того, учитывая, что либерализация в рамках ТТП выходит за рамки стандартного снижения таможенных тарифов и включает в себя также либерализацию инвестиционных потоков, воздействие на экономический рост тихоокеанского региона может оказаться значительным.
Увы, разрастание феномена регионализма до трансконтинентальных масштабов имеет и негативные стороны, связанные в том числе с так называемым эффектом отклонения торговли для тех стран и регионов, которые оказались вне интеграционной группировки. Другими словами, если участники ТТП выиграют от перетягивания на себя торговых и инвестиционных потоков в мировой экономике, то прочие регионы могут эти потоки потерять.
Другим риском, связанным с распространением регионализма, является подрыв роли Всемирной торговой организации (ВТО) в регулировании мировой торговли – появление сотен региональных объединений снижает заинтересованность стран в использовании многосторонней либерализации, открытие рынков становится преференциальным и эксклюзивным. Во многом кризис ВТО в последние несколько десятилетий был связан с активным наступлением регионализма и переходом развитых держав к использованию преференциальных соглашений в условиях более сбалансированного соотношения сил между развитыми и развивающимися участниками ВТО.
Соглашение по ТТП не предполагает торговую либерализацию по отношению к третьим странам, что противоречит принципу «открытости региональных интеграционных группировок» ВТО. Исключение таких крупных игроков, как Китай, без ясной стратегии выстраивания взаимодействия с ним со стороны ТТП создает впечатление, что это объединение носит скорее эксклюзивный, чем инклюзивный характер. В таких условиях вероятно, что позитивное воздействие ТТП на торговлю с третьими странами, а следовательно и на их экономическую динамику, будет умеренным. Чем менее открыта внешнему миру интеграционная группировка, чем больше преференциальная маржа, которую она предоставляет своим членам, тем меньше отдача от создания объединения для экономического роста в мировом хозяйстве.
Помимо обострения противоречий между регионализмом и многосторонним регулированием мировой торговли в рамках ВТО, ТТП может также вызывать трудности, связанные с запуском и выполнением такого масштабного соглашения, в том числе из-за внутриполитического противостояния в соответствующих странах партнерства. Достаточно отметить дебаты в законодательных органах власти США относительно целесообразности создания ТТП. В таких странах, как Япония, Чили или Перу, есть силы, готовые выступить против соглашения, осенью 2015 г. протесты против ТТП имели место в Новой Зеландии. Это же относится и к возможному Трансатлантическому партнерству, против которого прошли массовые демонстрации в Германии и Испании.
Еще одним потенциально негативным фактором ТТП являются единые нормы и стандарты в торговле и экономической деятельности, которые могут входить в противоречие с национальными или затруднять создание прочих альянсов и заключение многосторонних соглашений. Схожий эффект наблюдался в ЕС – страны Восточной Европы (такие как Словакия) высказывали желание создать зону свободной торговли с Россией, но сталкивались с ограничениями.
Возможным «слабым звеном» ТТП является также его крайне неоднородный состав – с одной стороны, в него входят такие высокоразвитые страны, как США и Япония, а с другой – государства с намного более низким уровнем дохода на душу населения, как Вьетнам. Кроме того, у многих стран ТТП есть собственные региональные проекты, прежде всего АСЕАН, а также двусторонние соглашения о свободной торговле с крупными странами – не-членами ТТП. Не исключено, что разнонаправленные политические и экономические импульсы членов такой громоздкой группировки будут в растущей степени влиять на ее политическую и экономическую устойчивость.
Укрупнение региональных интеграционных группировок, отсутствие координации и порождаемая этим «гонка региональных проектов» грозит политизацией процесса глобализации и столкновением интересов ведущих мировых держав, вовлеченных в создание своих региональных блоков. Достаточно вспомнить генезис украинского кризиса и экзистенциальный выбор Украины между Таможенным союзом и западным вектором интеграции с Евросоюзом. В этом отношении создание ТТП может вызвать встречные шаги со стороны Китая, который, не будучи включен в ТТП, попытается создать экономические и политические проекты в Азии, а также на евразийском направлении.
Наконец, появление таких масштабных группировок, как ТТП, может привести не просто к политизации региональной интеграции, но к геополитизации процесса глобализации в целом. Насколько существующая мировая экономика с ее палитрой региональных альянсов отвечает критериям экономической эффективности по сравнению с критериями геополитической целесообразности, еще предстоит изучить – пока же очевидно, что регионализм нередко переходит границы, очерченные исключительно экономикой.
Кто теряет, кто получает дивиденды
Значительные выгоды от создания ТТП получат Соединенные Штаты – причем не только экономические, но и геополитические. Прежде всего США и другие развитые страны будут выигрывать от преференциального открытия для их производителей относительно более закрытых рынков стран ЮВА, таких как Вьетнам, где ставка импортной пошлины достигала почти 6% в 2011 г., в Малайзии она составляла 5% по сравнению с 2% в Соединенных Штатах. Кроме того, инвестиционные соглашения дадут американским компаниям больше возможностей для выхода на перспективные азиатские рынки по сравнению с конкурентами из Европы или Китая.
Улучшение инвестиционного климата в таких странах, как Малайзия и Вьетнам, которое предполагается в рамках реализации ТТП, также будет создавать дополнительные возможности для инвестиционных проектов. Наконец, есть дивиденды, в меньшей степени поддающиеся количественной оценке и связанные с геоэкономическими преимуществами, которые заключаются в создании более разветвленной системы альянсов, позволяющей еще больше перетягивать на себя торговые и инвестиционные потоки. В целом исследование Petri and Plummer (2012) оценивает дивиденды для американского экспорта после формирования ТТП в 124 млрд долларов в год или увеличение экспорта более чем на 4% в год.
Для Канады выгоды оцениваются в 10 млрд долларов в год и рост экспорта на 15,7 млрд долларов. При этом деловые круги Канады отмечают важность ТТП не просто для расширения объема экспорта, но и для диверсификации географии. Одним из ключевых факторов для Канады по укреплению интеграционных связей в АТР за счет ТТП является ограниченное число двусторонних альянсов с азиатскими странами на основе зоны свободной торговли, а также растущая доля мирового среднего класса, сконцентрированная в АТР, – предполагается, что к 2030 г. она возрастет до 66%. Все это означает, что в АТР будет сосредоточен основной потенциал роста не только инвестиций и торговых потоков, но и потребления домохозяйств.
Среди развитых стран наибольшую выгоду от ТТП получает Япония, ее экспорт может вырасти на 14%, а ВВП более чем на 2% в год – во многом здесь отражается то, насколько Япония пока не реализовала потенциал интеграционных проектов в Азии и насколько создание ТТП поможет ей наверстать отставание в интеграционных процессах в АТР.
Среди стран за бортом ТТП наибольшие потери несет Китай – на уровне 0,3 процентных пункта ВВП в год и 1,2 процентных пункта экспорта в год. В числе прочих государств и регионов, которые испытают потери от эффекта отклонения торговли, значатся Европа, Индия и Россия. Размер потерь выглядит скромно на фоне положительных высоких оценок для стран партнерства, в особенности таких как Вьетнам и Малайзия – им исследование Petri and Plummer (2012) сулит рост ВВП к 2025 г. более чем на 6% и 13% соответственно. Хотя либерализация торговли и инвестиций, а также улучшение инвестиционного климата дает определенный положительный эффект для мирового хозяйства в целом, необходимо соизмерять данные дивиденды со сценариями многосторонней торговой либерализации, а также более открытой либерализации, которая распространяет часть открытия рынков того или иного объединения на третьи страны.
Что касается России, то появление ТТП и перспективы потери торговых и инвестиционных потоков, которые будет перетягивать на себя данная группировка, вероятнее всего обострит необходимость активизации евразийской интеграции как со странами ближнего зарубежья, так и с ключевыми игроками в Азии, прежде всего с Китаем. Нужно будет также искать пути оживления западного направления евразийского взаимодействия с Евросоюзом для построения весомого противовеса транстихоокеанской интеграции. Потребуется более решительная торговая и инвестиционная интеграция со странами БРИКС – пока данное направление интеграционной активности со стороны России практически не исследовано.
Москве также придется искать пути налаживания взаимодействия с ТТП и другие форматы в рамках АТР, которые могли бы с течением времени сблизить российские интеграционные процессы с ТТП – одним из таких форумов может стать АТЭС, а другим ориентиром – сближение со странами АСЕАН. В более общем плане необходимо стремиться к созданию альянсов в АТР, которые отвечают нормам ВТО, параллельно проводя в данной организации работу по формулированию правил или, возможно, даже своего рода «кодекса поведения» для региональных объединений. Такого рода «кодекс» мог бы включать в себя требования к региональным интеграционным группировкам соответствовать нормам ВТО относительно открытости, транспарентности переговоров, распространения либерализации на третьи страны.
Мир геополитики вместо экономического миропорядка
Каковы контуры будущей мировой экономики после формирования Транстихоокеанского партнерства? Следующий этап мега-стройки для мирового регионализма будет концентрироваться вокруг трансатлантической оси, которая призвана объединить США и ЕС в Трансатлантическое партнерство на основе зоны свободной торговли. По оценкам ЕС, на данный блок будет приходиться почти 30% мировой торговли товарами, почти 40% торговли услугами и почти 50% мирового ВВП. При этом на европейские инвестиции приходится почти 70% всех прямых зарубежных инвестиций, направляемых в Соединенные Штаты.
Комбинация Трансатлантического и Тихоокеанского партнерств под предводительством США объединит около половины мировых экспортных потоков. Такого рода мощь уже вполне может претендовать на глобальный масштаб, соперничающий с такими мировыми институтами, как ВТО. И пусть доля ВТО составляет более 90% мировой торговли, с точки зрения новых импульсов торговой либерализации действенность организации оказывается под вопросом по сравнению с динамичными региональными мега-образованиями, в компетенцию которых входит не только торговля товарами, но и либерализация инвестиционных потоков.
Другими словами, два трансконтинентальных альянса образуют своего рода ВТО-2, которая может быть дополнена координацией валютной политики, а также созданием совместных институтов развития. В результате регионализм почти достигает своих возможных пределов, соперничая по масштабам с глобальными структурами. Отличием такой системы от современной архитектуры международных институтов является преференциальный характер экономических отношений, а также центральная роль, которую в данной модели регионализма играют США.
Совершенно неожиданно мировая экономика оказывается перед парадоксальной реальностью – мир «победившего капитализма» движим скорее геополитикой, а не экономикой. Действительно, сегодняшний мир больше похож на представления Маккиндера и Хаусхофера, чем Кейнса или Манделла (автора теории оптимальных валютных региональных альянсов):
вместо многосторонней торговой либерализации миром в растущей степени правит протекционизм (в том числе за счет конкурентной девальвации валют), который отстаивали такие классики геополитики, как Хаусхофер;
формирование региональных блоков идет по пути «сфер влияния» и сверхрегионов (pan-regions/Pan-Ideen) Хаусхофера, а не на основе критериев оптимальных валютных зон Манделла;
вместо равномерной торговой либерализации в рамках ВТО или скоординированной эволюции региональных группировок с учетом воздействия на третьи страны (spillover effects) мировая карта современного регионализма удивительно напоминает эскизы Маккиндера – океанические державы Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического партнерства душат в своих объятиях континентальные/сухопутные страны Евразии.
Перефразируя Маккиндера, который говорил, что владеть хартлэндом (а значит и миром) будет та страна, которая контролирует Восточную Европу, в сегодняшних условиях именно тихоокеанский бассейн – это геоэкономический pivot (ось), своего рода ключевой фактор в конкуренции различных региональных проектов в мировой экономике. Неслучайно первый трансконтинентальный проект в области внешнеторговой либерализации создается именно в тихоокеанском регионе.
С образованием ТТП регионализм выходит на новый, трансконтинентальный уровень, превращается в мегарегионализм, который подрывает основы многосторонней либерализации мировой торговли и выдвигает на передний план право сильных и наиболее преуспевающих стран определять векторы экономической интеграции. Такая «мегаломания мегарегионализма» чревата развитием глобальной экономики в направлении однополярного экономического порядка, «нового вашингтонского консенсуса», строительным материалом для которого служат уже не только и не столько институты Бреттон-Вудского мира, сколько крупнейшие региональные интеграционные группировки.
Таблица 1. Рост ВВП и экспорта отдельных стран в связи с созданием ТТП
Источник: http://www.iie.com/publications/pb/pb12-16.pdf
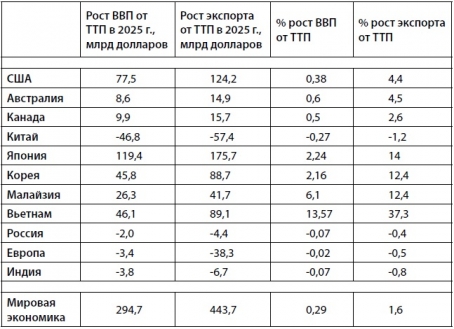

Смысл и назначение воинственности
Что защищает Россия в рамках своей политики
Андрей Яковлев – кандидат экономических наук, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
Резюме Если в 2008–2012 гг. российское правительство являлось реальным центром принятия решений, а в 2012–2013 гг. эту роль выполняла президентская администрация, то с началом конфликта на Украине данная функция перешла к Совету безопасности.
Данная статья основывается на результатах исследований, проводившихся автором в 2015 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
Термин “militant”, предложенный Сильваной Малле для характеристики современной российской политики, имеет латинские корни и означает активность в отстаивании определенных идей и принципов (в логике выражений «воинствующий материализм» или «воинствующая церковь»). На мой взгляд, своей концепцией Сильвана Малле пытается объяснить явления, для описания которых в российских СМИ и социальных сетях часто используется образ «Россия, встающая с колен». Большой вопрос, однако, заключается в том, что именно пытается отстоять Россия своей политикой, которая многими в мире воспринимается сегодня как агрессия.
Предыстория «разворота» в отношениях России с Западом
На первый взгляд может показаться, что радикальное изменение внешней и внутренней политики России в первую очередь связано с событиями в Крыму и на востоке Украины в 2014 году. Однако, по моему мнению, принципиальные изменения во внутренней и внешней политике начались существенно раньше – уже с середины 2000-х годов. При этом базовые установки, лежавшие в основе этого «нового курса», менялись во времени и прошли как минимум четыре разных этапа. Мое представление об общих характеристиках этих этапов отражено в Таблице 1.
Хотя первый из выделенных в таблице этапов характеризуется преимущественно партнерскими отношениями с Западом, он важен для понимания дальнейшего развития. Одним из ключевых событий этого этапа с точки зрения концепции, предложенной Сильваной Малле, стало обеспечение экономической независимости России. До того в течение практически 15 лет сначала СССР, а потом Россия хронически не могли наполнить государственный бюджет для финансирования собственных расходных обязательств. Это вело к привлечению западных займов, которые предоставлялись на определенных условиях и воспринимались как инструмент давления на советское и затем российское правительство.
Девальвация 1998 г. создала стимулы для инвестиций и роста производства. В дальнейшем высокие темпы роста экономики поддерживались благодаря укреплению государственного аппарата и формированию «общих правил игры» в рамках либеральной экономической политики. Все вместе это сделало возможным существенное повышение собираемости налогов и погашение долгов, ставших причиной дефолта. Тем самым Россия впервые за долгое время оказалась способна проводить независимую политику.
Однако внимание российских властей в этот период прежде всего было сосредоточено на решении вопросов внутренней политики – таких как обеспечение управляемости регионами, борьба с терроризмом и противодействие политическому давлению олигархов. При этом, несмотря на восстановление государственного контроля над центральными телеканалами, сохранялась активная политическая конкуренция (включая реальную многопартийность в Государственной думе).
Внешней политике этого периода (несмотря на напряжение в связи с конфликтом в Югославии) были присущи преимущественно партнерские отношения с Западом. Особо стоит отметить эмоциональную реакцию на теракт 11 сентября 2001 года. В целом борьба с терроризмом могла рассматриваться как важный фактор, объединяющий Россию и Запад. Однако открытость России к равноправному сотрудничеству в этот период не нашла отклика на Западе. Характерно вступление в НАТО в 2004 г. новой большой группы стран Восточной Европы.
Переход к «новому курсу» в 2004 г. можно связать с рядом событий. Во-первых, это «дело ЮКОСа», которое объективно отражало острое соперничество между ключевыми группами элиты в борьбе за контроль над природной рентой. Поражение крупного бизнеса в этом конфликте, подкрепленное массовой поддержкой, которую на фоне ареста Михаила Ходорковского власть получила на парламентских и президентских выборах 2003–2004 гг., привело к изменению соотношения сил в правящей коалиции. Однозначно стали доминировать федеральная бюрократия и силовики, не удовлетворенные геополитическими итогами 1990-х гг., а крупный бизнес (всегда занимавший более прагматические позиции по отношению к Западу) оказался в заведомо подчиненном положении.
Во-вторых, существенную роль в смене курса сыграли «цветные революции», произошедшие в 2003–2005 гг. в Грузии, на Украине и в Киргизии и активно поддержанные США и ведущими европейскими странами. Консервативная часть российской элиты воспринимала их как наступление на интересы России на постсоветском пространстве.
Повороту к «новому курсу» также способствовал бурный экономический рост середины 2000-х гг. и резкое повышение цен на нефть на мировом рынке, сопровождавшиеся притоком прямых иностранных инвестиций и прекращением оттока капитала. В сочетании с зависимостью европейских стран от поставок российских энергоресурсов все это порождало в высшей политической элите ощущения нового статуса России как «энергетической супердержавы» и претензии на восстановление ее роли в мировой политике. Известную речь Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2007 г. можно воспринимать как концентрированное публичное проявление этого курса. Одним из его ключевых элементов стало продвижение идеи «нового глобального порядка», учитывающего интересы не только развитых, но и крупнейших развивающихся стран. (Тем самым создавались предпосылки для геополитического альянса с Китаем, Индией и Бразилией.) Война с Грузией в августе 2008 г. в этом контексте может рассматриваться как косвенная демонстрация силы, подтверждающая претензии России на новую роль в геополитике.
Однако кризис 2008–2009 гг. (с исключительно глубоким падением российского ВВП, не соответствовавшим всем базовым макроэкономическим индикаторам) наглядно показал, что модель экономического развития, сложившаяся в России в 2000-е гг., неадекватна новым реалиям. Претензии на иную роль в мировой политике оказались не подкреплены экономическим потенциалом. Осознание этого привело к запросу на модернизацию и попыткам диалога с бизнесом и экспертным сообществом в 2009–2011 годах. Следствиями диалога стали меры по улучшению бизнес-климата, а также разработка в 2011 г. Стратегии-2020 с привлечением широкого круга экспертов. К этому же периоду относится попытка «перезагрузки» отношений между Россией и Америкой. Все эти шаги, однако, сопровождались программой модернизации армии и ростом военных расходов (несмотря на заметный дефицит бюджета).
Основные черты и противоречия «нового курса»
Новый поворот к более «воинственной политике» в явном виде начался с середины 2012 года. С формальной точки зрения этот поворот можно считать «консервативной» реакцией на массовые политические протесты в Москве против фальсификаций на парламентских выборах в конце 2011 – начале 2012 года. Однако более фундаментальные причины связаны с «арабской весной». Серия революций в арабских странах весной 2011 г. стала шоком для российской политической элиты, который можно сравнить с событиями 1968 г. в Праге и их влиянием на высшее советское руководство. Страх перед развитием событий в России по египетскому или ливийскому сценарию в контексте массовых политических протестов в Москве против фальсификаций на парламентских выборах привел к защитной реакции. Она проявлялась в разных формах.
В первую очередь следует выделить пакет мер по улучшению делового климата. В частности, в феврале 2012 г. Путин декларировал Национальную предпринимательскую инициативу с задачей радикального улучшения позиций России в рейтинге Doing Business. Тогда же объявлено о распространении процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на налоговое и таможенное законодательство, а также на региональные нормативные акты, о введении в президентской администрации поста Уполномоченного по защите прав предпринимателей и планах проведения амнистии для осужденных за экономические преступления. Поскольку все наиболее радикальные меры из этого пакета были объявлены в начале 2012 г. в период президентской кампании, можно предположить, что тем самым власть пыталась удержать бизнес (прежде всего средний и малый) от поддержки оппозиции.
Существенным элементом реакции власти на политические протесты 2011–2012 гг. можно считать повышение уровня доходов работников бюджетного сектора (как базовой группы социальной поддержки сложившегося политического режима). Инструментом достижения цели стала серия президентских указов, подписанных в мае 2012 г. и предусматривавших повышение заработной платы врачам, учителям и другим работникам социальной сферы. Однако ответственность за решение такой задачи в основном возлагалась на региональные власти, что в дальнейшем привело к резкому ухудшению состояния региональных бюджетов.
Также следует отметить активизацию борьбы с коррупцией, включая очень быстрое принятие закона о декларировании расходов чиновников в начале 2012 г. и введение ответственности за несоответствие расходов и доходов. Эти действия в целом противоречили публичным заявлениям высших российских чиновников еще осенью 2011 г. о том, что подобные меры, предусмотренные статьей 20 Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, нарушают «презумпцию невиновности». В дальнейшем борьба с коррупцией включена в число приоритетных направлений деятельности ФСБ. В итоге с 2013 г. наблюдался заметный рост числа уголовных дел и арестов высокопоставленных чиновников, включая губернаторов и заместителей федеральных министров. Можно предположить, что таким образом предполагалось повысить эффективность функционирования госаппарата и снизить недовольство качеством общественных благ и государственных услуг, которое лежало в основе протестов 2011 года.
Другой стороной реакции на политические протесты стало явное подавление политической оппозиции (начиная с разгона митинга на Болотной площади 6 мая 2012 г. и включая последующие судебные процессы против участников митинга) и ужесточение контроля деятельности НКО путем принятия закона об «иностранных агентах». Также после победы Владимира Путина на президентских выборах резко усилилась антизападная и антиамериканская риторика в Государственной думе и провластных СМИ. Еще одной составной частью усиления антизападных трендов стали меры по «национализации элит» – запрет депутатам и чиновникам иметь счета в зарубежных банках, а также ограничения на поездки за границу.
Наконец, следует отметить дальнейший рост военных расходов, а также ассигнований на правоохранительную деятельность. Можно предположить, что для правящей элиты задачей здесь было не только усиление реальной военной мощи, но также (в не меньшей степени) сохранение лояльности силовых структур, которые после событий 2011–2012 гг. стали восприниматься как главная опора режима.
Этот разворот в политике сопровождался попытками разработки «альтернативной идеологии». В частности, осенью 2012 г. при неформальной поддержке кремлевской администрации был создан ультраконсервативный Изборский клуб. В своем первом докладе, опубликованном в январе 2013 г., эксперты Изборского клуба исходили из неизбежности «третьей мировой войны», которую в течение 5–7 лет начнет «мировая финансовая олигархия» и которая прежде всего будет направлена против России. Отсюда следовали аргументы о позиционировании России как «осажденной крепости» и необходимости мобилизации в духе Петра I и Сталина.
Таким образом, на первый взгляд, после периода неопределенности в 2009–2011 гг. высшая политическая элита сделала выбор, и с 2012 г. наблюдается возврат к политике “militant Russia”. Отличие же от середины 2000-х гг. заключается в более резких формах ее осуществления. Однако при схожести риторики существенно различаются базовые факторы, лежавшие в основе политического курса в эти два периода.
В середине 2000-х гг. эта политика прежде всего была ориентирована на внешнеполитические цели. Предлагая альтернативу однополярному миру, сложившемуся после распада СССР, и говоря о необходимости нового мирового порядка, российская элита хотела добиться признания и уважения глобальных элит – как в развитых, так и в развивающихся странах. При этом данная политика базировалась на внутреннем консенсусе по следующим ключевым вопросам. Во-первых, полный контроль правящей элиты над политическими процессами в стране, подтверждавшийся результатами выборов 2003–2004 и 2007–2008 годов. Во-вторых, уверенность в том, что Россия с ее энергетическими ресурсами обладает достаточной экономической мощью для проведения независимой политики, соответствующей ее статусу ядерной державы. Эта уверенность подкреплялась динамикой мировых цен на нефть, притоком инвестиций и высокими темпами роста экономики.
Однако кризис 2008–2009 гг. наглядно показал уязвимость модели экономического развития, сформированной в 2000-е годы. В свою очередь протесты 2011 г. (ставшие неожиданностью как для Кремля и абсолютного большинства экспертов, так и для представителей оппозиции) поставили под вопрос тезис о полном контроле политических процессов. В сочетании с событиями «арабской весны» это привело к тому, что в новой политике, проводимой с 2012 г., гораздо более важным стало внутриполитическое измерение и защитная функция. Если в середине 2000-х гг. с помощью воинственной риторики российская элита хотела обеспечить себе достойное место в глобальной элите, то теперь речь шла о подтверждении права на власть в собственной стране. Но при этом высшая политическая элита оказалась неспособной предъявить другим элитным группам и в целом обществу убедительный образ будущего. Очень характерным в этом отношении является абсолютное доминирование апелляций к великому прошлому России в государственной пропаганде.
В этом контексте перечисленные выше меры по восстановлению контроля над политическими процессами и обеспечению поддержки режима основными социальными группами оказали противоречивое влияние на экономических агентов, а также на чиновников в самом госаппарате. В частности, уже в 2012 г. было понятно, что у государства нет денег на рост финансирования бюджетного сектора при одновременном форсированном наращивании военных расходов. Упорное декларирование этих задач порождало сомнения в общей адекватности экономической политики и поддержании макроэкономической устойчивости. Следствием стало нарастание оттока капитала из страны.
Усилившееся давление на бюрократический аппарат в рамках борьбы с коррупцией также имело противоречивые следствия. В условиях избыточного и противоречивого регулирования, сложившегося в 2000-е гг., усиление административного контроля повысило для чиновников риски проявления любой инициативы – и по факту снижало у добросовестных представителей бюрократии стимулы к созданию адекватной среды, способствующей экономическому развитию.
В итоге уже в 2013 г. наблюдалось существенное замедление экономического роста (1,3% по сравнению с консенсусными прогнозами начала года на уровне 3–3,5% при отсутствии значимых колебаний цен на нефть), сокращение инвестиций и увеличение оттока капитала. Не менее важным стало начавшееся на этом фоне сокращение политической поддержки власти (снижение личных рейтингов Путина с лета 2013 г.). Эти процессы, на мой взгляд, предопределили переход к следующей стадии в эволюции российской политики, которую мы наблюдаем с 2014 г. и которая связана с событиями на Украине.
Кризис стал результатом глубоко неадекватной политики по отношению к Украине со стороны всех заинтересованных игроков, включая Россию, Евросоюз и США. Не менее печальную роль сыграла недееспособность украинской элиты, представители которой вместо выстраивания нормальных институтов в течение двадцати лет занимались межклановой борьбой за контроль над потоками ренты и играли на противоречиях между Россией и Европой.
Однако в контексте процессов, происходивших в России, кризис на Украине скорее должен восприниматься как повод для мобилизации социальной поддержки правящего режима. Кремлевские политтехнологи действительно смогли уловить патриотические настроения, которые стали усиливаться в обществе в 2000-е годы. Следует подчеркнуть, что сам по себе патриотизм и желание гордиться своей страной – здоровое явление. В тяжелые 1990-е гг. об этом было сложно думать, но восстановление экономики и позитивные социальные изменения 2000-х гг. давали основания для реализации этого стремления. При этом исторический опыт свидетельствует, что патриотические настроения могут быть важным фактором экономического развития, консолидирующим разные социальные группы (как это было в Южной Корее или на Тайване в 1960-е – 1970-е гг. или происходит сейчас в Китае).
Однако российская правящая элита использовала этот ресурс в сугубо утилитарных целях. На фоне разворачивавшихся негативных внутриполитических тенденций кризис на Украине послужил поводом для новой мобилизации массовой политической поддержки внутри страны. Как показало развитие событий, такое решение дало ощутимый эффект «патриотической консолидации» – с резким ростом поддержки власти и повышением личных рейтингов популярности Владимира Путина до 85–90%.
Но одновременно присоединение Крыма оказало радикальное воздействие на внешнеполитическую обстановку и отношения России с Европой и Соединенными Штатами. До того российские лидеры фактически могли маневрировать, ослабляя или усиливая антизападную риторику. События в Крыму и начало военного конфликта на Украине уничтожили остатки былого доверия между сторонами и стали «точкой невозврата», после которой восстановление моделей взаимодействий, сложившихся между Россией, ЕС и США в последние 25 лет, стало принципиально невозможно. В экономике проявлением поворота стали международные санкции со стороны Запада и ответное «продовольственное эмбарго» России. Причем сейчас уже очевидно, что в том или ином виде санкции будут действовать многие годы и Россия будет существенно ограничена в доступе к глобальным рынкам капитала и новым технологиям.
Столкнувшись с ощутимыми негативными эффектами санкций, российские власти попытались компенсировать потери на европейском направлении разворотом на восток. Но достаточно быстро стало понятно, что несмотря на некоторые общие геополитические интересы, Китай намерен оказывать сколь-либо серьезную поддержку России только в той мере, в которой это соответствует его задачам.
Тем самым перспективы экономического и социального развития в ближайшие годы должны рассматриваться в контексте «опоры на собственные силы». Возможно, Россия не дойдет до состояния Ирана последних лет, но мы уже близки к тем условиям, в которых Иран жил с 1979 и до середины 2000-х годов.
Ресурсы, возможности и ограничения для развития
В подготовленном в 2013 г. докладе НИУ ВШЭ о новой модели экономического развития выделялись две достаточно большие социальные группы, которые сформировались в условиях экономического роста и социально-политической стабильности в 2000-е гг. и могли бы стать драйверами роста в новых условиях.
Во-первых, это «новый бизнес» – успешные средние компании, воспользовавшиеся возможностями роста спроса на внутреннем рынке. Перед кризисом 2008 г. в российской экономике действовали около пяти тысяч средних предприятий с оборотом свыше 10 млн долларов в год, которые устойчиво поддерживали среднегодовые темпы роста продаж на уровне 20% и более. Такие фирмы были представлены во всех отраслях, но особенно выделялись в строительстве и торговле. При этом как до, так и сразу после кризиса доля быстрорастущих фирм («газелей») в России была заметно выше, чем в развитых странах.
Именно такие компании, использовавшие благоприятную конъюнктуру для развития бизнеса (включая осуществление инвестиций, технологическое перевооружение, выход на новые рынки, привлечение иностранных партнеров), во многом обеспечивали экономический рост в 2000-е годы. При этом их собственники сознавали, что высокого социального статуса они могут добиться только в России. Именно поэтому после кризиса 2008–2009 гг. они оказались вовлечены в коллективные действия по изменению инвестиционного климата (прежде всего через ассоциацию «Деловая Россия»). Такие компании, знающие российский рынок, обладающие финансовыми ресурсами и управленческими командами, могли бы стать базой для новой модели экономического роста. Однако для этого у них должны быть достаточные стимулы для инвестиций.
Во-вторых, существенную роль в структуре общества в 2000-е гг. стала играть «новая бюрократия» – представленная как чиновниками разных уровней, так и руководителями учреждений общественного сектора. Представители этой группы восстановили свой социальный статус и стали получать достаточно высокие доходы. Также (в том числе благодаря заметному обновлению персонального состава этой группы) у них вырос уровень квалификации и сформировались необходимые профессиональные компетенции. Эти люди знают, как управлять регионами, муниципалитетами, университетами, школами и больницами в рамках унифицированных правил игры, которые в 2000-е гг. пытался выстроить федеральный центр. При этом, несмотря на традиционные обвинения в коррупции, большинство представителей этой группы предпочитают добросовестные стратегии поведения, так как в отличие от 1990-х им есть что терять. Их знания и навыки могут быть использованы для развития (включая создание благоприятной бизнес-среды). Но для этого представители «новой бюрократии» также должны иметь стимулы к проявлению инициативы.
Изменение геополитической обстановки в 2014–2015 гг., безусловно, ухудшило ситуацию для этих двух групп. Тем не менее только они могут стать движущими силами для новой модели экономического роста. Барьеры для задействования их модернизационного потенциала создаются сложившейся сверхцентрализованной системой государственного управления, которая образно описывается как «вертикаль власти». Данная система управления была сформирована в начале 2000-х гг. в противовес близкой к хаосу децентрализации 1990-х годов. Основными задачами «вертикали власти» было восстановление порядка и обеспечение территориальной целостности России. Эти задачи были решены, но при этом похоже, что маятник достиг другой крайней точки – поскольку «вертикаль власти», генерирующая искаженные стимулы для бюрократического аппарата, так же как и децентрализованная система 1990-х гг., оказывается неадекватной для решения задач социального и экономического развития.
Таким образом, несоответствие сложившейся системы управления возникающим задачам является одной из ключевых проблем для России. Однако изменению существующей модели объективно препятствуют интересы трех ключевых групп, формирующих действующую «правящую коалицию» – в лице высшей федеральной бюрократии, силовиков и олигархического крупного бизнеса. Каждая из этих групп извлекает для себя ренту в рамках сверхцентрализованной системы управления. Вместе с тем их «рентоориентированное поведение», приемлемое в условиях сверхдоходов от экспорта нефти, сегодня создает проблемы для высшего политического руководства и формирует базу для конфликта «лидер-элиты».
Проявлением конфликта стали действия Путина по национализации элиты, направленные прежде всего на устранение возможного оппортунизма представителей элитных социальных групп и привязывание их к существующему режиму. Эти меры, однако, объективно ущемляли экономические интересы этих групп.
Надо сказать, что подобное не первый раз происходит в российской истории – можно вспомнить Ивана Грозного, Петра I или Сталина, которые в процессе создания новой системы управления вступали в острый конфликт с действующими элитами. При этом в противостоянии со старыми элитами каждый из этих лидеров опирался на новые, созданные им группы (опричники Ивана Грозного, «потешные полки» Петра I, аппарат НКВД при Сталине), и результатом конфликта становилась смена или существенное обновление элиты.
Можно было ожидать, что ужесточение бюджетных ограничений, начавшееся уже с кризиса 2008–2009 гг., изменит требования к высшим чиновникам и руководителям госкомпаний – от них будет нужна не только лояльность, но и компетентность. Признаками изменений кадровой политики в регионах можно считать появление новых губернаторов-«тяжеловесов» с опытом работы на ключевых позициях в федеральном центре, а также активное использование Кремлем рейтингов губернаторов. Замена Рашида Нургалиева на Владимира Колокольцева на посту министра внутренних дел в 2012 г. может восприниматься как проявление данного подхода. В этой же логике стоит рассматривать отставку Владимира Якунина с поста президента РЖД в августе 2015 г. с заменой его на технократа Олега Белозерова, не входящего в узкий круг приближенных Путина. РЖД является крупнейшей госкомпанией, сопоставимой по численности сотрудников с МВД, и для эффективного управления ею в условиях бюджетных ограничений нужны профессиональные компетенции.
Однако помимо конфликта «лидер – элиты» не менее серьезной проблемой является конфликт между ключевыми группами в рамках элиты. После «дела ЮКОСа» высшая федеральная бюрократия вместе с силовиками играет ведущую роль в рамках «правящей коалиции», а крупный олигархический бизнес перешел на позиции младшего партнера. В 2009–2011 гг. в связи с вопиющими фактами насилия и неэффективности в борьбе с преступностью в системе МВД, а также в связи с протестами бизнеса против рейдерства с участием сотрудников правоохранительных ведомств наблюдалось некоторое ослабление позиций силовых структур. Но с 2012 г. на фоне подавления политической оппозиции и поиска «иностранных агентов» влияние силовиков резко возросло, и в дальнейшем этот тренд только усиливался. В личных беседах весной 2014 г. высокопоставленные чиновники отмечали, что если в 2008–2012 гг. правительство являлось реальным центром принятия решений, а в 2012–2013 гг. эту роль выполняла президентская администрация, то с началом конфликта на Украине центром принятия решений стал Совет безопасности. Правительство в этих условиях все больше выполняет технические функции.
Отражением изменения баланса сил, с одной стороны, можно считать опережающий рост расходов на оборону и правоохранительную деятельность при распределении сжимающегося «бюджетного пирога». С другой стороны, отток капитала в размере 152 млрд долларов в 2014 г. и свыше 50 млрд долларов в первом полугодии 2015 г., а также панические колебания спроса на валютном рынке свидетельствуют о недоверии бизнес-сообщества к политике, проводимой Владимиром Путиным. Но это означает, что равновесие, основанное на доминировании силовиков, является шатким и временным, а разрыв между военно-политическими амбициями, заявляемыми руководством страны, и экономико-технологической базой будет только нарастать.
Еще одна линия внутреннего напряжения связана с конфликтом «массы – элиты». Он обусловлен социальным неравенством и тем, что российская элита слишком долго не выполняла свои базовые социальные функции, связанные с формированием системы ценностей для общества. Демонстративное потребление и общий цинизм элит в 1990-е гг. предопределили глубокое недоверие общества к бизнесу и государству, а также сильные перераспределительные настроения. Чувствуя эти настроения, высшая политическая элита в 2000-е гг. в целях поддержания социально-политической стабильности сознательно направляла существенную часть природной ренты на повышение доходов населения. Эта политика была продолжена в период глобального финансового кризиса – когда в 2009 г. на фоне почти восьмипроцентного падения ВВП доходы населения в среднем выросли на 2% (прежде всего за счет повышения пенсий и зарплат в бюджетном секторе).
Однако сегодняшняя финансовая ситуация не оставляет возможности для дальнейшей реализации стратегии подкупа избирателей. Поэтому с 2013 г. для поддержания социально-политической стабильности кремлевские политтехнологи используют ресурс «патриотической мобилизации». В краткосрочном периоде такая политика дала результаты. Присоединение Крыма вызвало эмоциональный подъем в широких массах – с готовностью идти на жертвы ради интересов страны. Однако когда гражданам не ясно, чем жертвуют элиты, этот эмоциональный подъем достаточно быстро может изменить вектор и стать фактором дестабилизации.
Вместо заключения
Завершая данную статью, я хочу сослаться на первые результаты исследовательского проекта ИАПР по анализу стратегий иностранных компаний, действующих на российском рынке. В рамках этого проекта весной и летом 2015 г. была проведена серия интервью с представителями бизнес-ассоциаций, объединяющих иностранные компании – таких как American Chamber of Commerce, Association of European Business, Russian-British Chamber of Commerce и др. Несмотря на международные санкции, респонденты в ходе этих интервью заявляли о стремлении своих компаний остаться в России и говорили о долгосрочных конкурентных преимуществах российского рынка. В числе таких преимуществ отмечалось:
Наличие разнообразных природных ресурсов (не только нефть, но также металлы, леса, пахотные земли). На фоне скептических рассуждений о «ресурсном проклятии», типичных для российских либеральных экспертов, представители иностранного бизнеса однозначно рассматривают богатство природных ресурсов как большое потенциальное преимущество России.
Существенные структурные диспропорции в экономике, унаследованные от советского планового хозяйства и не устраненные за 25 лет, прошедших с начала реформ. Для конкретных компаний эти диспропорции означают наличие рыночных ниш, в которых возможен активный рост продаж в течение многих лет.
Высокая квалификация работников. Несмотря на критические высказывания многих российских экспертов об ухудшении качества образования, по оценкам иностранных компаний квалификация работников в России в среднем по-прежнему выше, чем на других развивающихся рынках, и это дает возможности для размещения здесь сложных производств.
Высокий уровень урбанизации. Большая доля городского населения в сочетании с высоким уровнем образования и возросшим уровнем доходов создает массовый спрос на потребительские товары среднего и высокого качества.
До 2014 г. сочетание этих факторов, по мнению опрошенных, давало возможности для устойчивого долгосрочного роста российской экономики темпами в 5–6% в год. Тот факт, что потенциал не был реализован, респонденты объясняли неадекватностью экономической политики и недоверием к государству со стороны бизнеса. Но и сейчас, несмотря на неизбежную в ближайшие годы напряженность в отношениях с развитыми странами, ограничения в доступе к капиталу и технологиям для российских компаний, вероятное сохранение низких цен на нефть, действие названных факторов не исчезло. У России сохраняются возможности для развития.
Однако для их практического осуществления необходимо урегулирование описанных выше системных конфликтов – с выстраиванием новой системы договоренностей между ключевыми группами в элите, а также с формированием нового «общественного договора» между элитами и обществом. Эти процессы невозможны без новой стратегии развития, без формирования образа будущего, дающего ответ на вопросы: что именно защищает Россия в рамках своей «воинственной политики»? Ради каких идей и ценностей власть призывает общество и элиты пойти на самоограничение и самопожертвование?
Таблица 1. Основные этапы в эволюции внешней и внутренней политики с начала 2000-х гг. в логике концепции «Воинственной России»
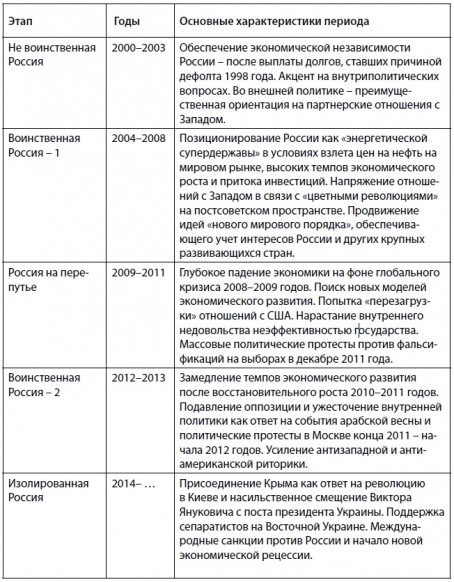
Япония и Австралия призвали Китай и другие азиатские страны, оспаривающие территориальную принадлежность ряда островов в Южно-Китайском море, отказаться от любых односторонних шагов, которые могли бы изменить статус-кво в регионе.
Совместное заявление было принято по итогам состоявшейся в воскресенье в Сиднее встречи глав МИД и министров обороны двух стран в формате "2+2".
"Они (министры) выразили серьезную обеспокоенность складывающейся в последнее время ситуацией в Южно-Китайском море и вновь выступили против каких-либо принудительных или односторонних действий, которые могли бы изменить статус-кво в Южно-Китайском море", — говорится в обнародованном совместном коммюнике.
"Они (министры) призвали все стороны, заявляющие о своих правах в регионе, остановить масштабные работы по освоению земли, строительные работы и использование территории для военных целей. Они (министры) призвали противостоящие стороны проявлять сдержанность, предпринять шаги по ослаблению напряженности (в регионе) и воздержаться от провокационных действий, которые могут усугубить ситуацию", — подчеркивается в документе.
Территориальные споры вокруг принадлежности нескольких групп островов в Южно-Китайском море, в том числе Парасельских островов, архипелага Спратли и Хуанъянь, ведутся между КНР, Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Тайванем. В данном регионе были обнаружены значительные запасы углеводородов.
В июле 2011 года главы МИД КНР и стран АСЕАН утвердили основные принципы Кодекса поведения в Южно-Китайском море, предполагающие отказ от применения силы. Однако с 2013 года Китай начал проведение насыпных работ в акватории спорных островов с целью повышения безопасности морской навигации. Данные действия вызывают беспокойство и жесткое осуждение со стороны других азиатских стран, которые считают подобные шаги официального Пекина угрозой мирному судоходству в регионе.
Екатерина Плясункова.
Хватит ли в Тихом океане места для Китая и США?
София Пале
В последнее время Китай активно наращивает свое присутствие в Тихом океане, затрагивая сферы влияния не только ближайших соседей – Японии, Южной Кореи и Австралии, но и мировой «Тихоокеанской державы» – США.
В свете ежегодных саммитов лидеров США и Китая, последний из которых состоялся в конце сентября 2015 г., мировые СМИ обычно уделяют основное внимание ситуации в Южно-Китайском море, где КНР планирует взять под свой контроль «едва ли не важнейший в современной геополитике и мировой экономике морской торговый маршрут». Однако слабо освещается немаловажный вопрос об усилении китайского присутствия в еще одном стратегически важном для США регионе Тихого океана – Микронезии.
Несмотря на то что на всех встречах на высшем уровне с представителями американской стороны начиная с 2013 г. Пекин заявляет, что «на просторах Тихого океана достаточно места, чтобы вместить Китай и США», активное наступление китайского капитала на ключевые владения США в Микронезии было начато еще в середине 2000-х гг. и с каждым годом лишь усиливалось.
Микронезия – обширный регион в Тихом океане с населением около полумиллиона человек, расположенный между Австралией, Тайванем и Гавайскими островами. Микронезия включает в себя пять независимых государств: Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру и Палау; и три американских владения: Гуам, Северные Марианские Острова и Остров Уэйк. В этих трех владениях со времен Второй мировой войны были размещены американские авиа- и морские военные базы, самая крупная из которых находится на о. Гуам. В 1950-60-е гг. США проводили ядерные испытания на атолле Уэйк. Также на островах Микронезии США разместили другие объекты стратегического назначения, превратив, таким образом, Микронезию в свой важнейший форпост на Тихом океане.
Поддерживать сильные позиции США в Микронезии позволяет американский доллар: в Федеративных Штатах Микронезии, Маршалловых Островах, Палау, Северных Марианских Островах и Гуаме официальной валютой является американский доллар. Науру использует доллар Австралии, а доллар Кирибати привязан к австралийской валюте по паритету 1:1.
Полезными для удержания американских позиций в Микронезии всегда служили объемные долларовые дотации. Однако после кризиса 2008 г. ежегодное финансирование микронезийских территорий было урезано Вашингтоном почти на треть. И освободившиеся ниши начал заполнять китайский капитал.
Более того, лидер КНР Си Цзиньпин после прихода к власти в ноябре 2012 г. задал новый курс внешней политики своей страны. В частности, он призвал к тому, что безопасность в Азии должны обеспечивать сами азиаты, – то есть пришла пора ослабить американское военное влияние в сфере китайских интересов.
Эта концепция распространилась и на страны Океании, ближайшей к США частью которой является Микронезия. Китайский капитал плавно освоил все 23 государства и зависимые территории этого обширного региона. В итоге во французских владениях, в частности на Таити (Французская Полинезия), китайские инвестиции превысили французский капитал. Это может привести к скорому отделению Таити от Франции и попаданию этой территории в непосредственную зависимость от Китая. А на Тонга, неспособном расплатиться за долги перед китайской стороной, которые уже превысили 40% бюджета, Китай с 2014 г. планирует разместить свою первую военную базу в центре Тихого океана. Другие «претенденты» на размещение китайских баз – Самоа и Папуа – Новая Гвинея, также глубоко подсевшие на китайскую «кредитную иглу».
Наконец, в 2015 г. на пути китайской экспансии в Тихом океане оказалась Микронезия.
Так, в Федеративных Штатах Микронезии, которые связаны с США «Договором о свободной ассоциации», подписанным в 1986 г. и продленным в 2003 г. до 2023 г., Пекин осуществляет инвестиции, порой превышающие финансовые вливания от США. Также часть китайских дотаций идет на счет Трастового фонда, который был создан с целью поддержания экономики Федеративных Штатов Микронезии в период после обретения независимости в 2023 г. (т.е. после прекращения финансирования от США).
Палау – самое «американизированное» по стилю жизни государство. И именно его активнее всего осваивают китайские туристы во всей Микронезии: эта страна порой именуется в туристических проспектах как «Америка в Океании». Так как попадание в материковую Америку представляется финансово и бюрократически сложным мероприятием, то увидеть Палау у китайцев занимает значительно меньше усилий. Объем туристов из КНР в это государство составляет примерно 70% от всего туристического потока. Это примечательно хотя бы потому, что бюджет Палау на 85% зависит от туризма. Безусловно, китайский бизнес, процветающий в Палау, связан с туристическим сектором. Как следствие, китайская диаспора вскоре может обрести не только экономическое, но и политическое влияние на острове. Предпосылкой для этого можно считать образование «Ассоциации палауанских китайцев» (Palau-China United Association) в ноябре 2015 г. с целью оказания помощи новоприбывающим китайцам, желающим вести бизнес в Палау. Эта организация также обещает направлять безвозмездную финансовую помощь образовательным учреждениям Палау, чтобы «способствовать развитию и процветанию острова».
И лишь Гуам усилиями Вашингтона стойко держит оборону от китайского туристического «цунами». Поток туристов из Китая составляет всего 1% от общего объема туристов, ежегодно прибывающих на Гуам. Однако Пекин совершает крупные инвестиции через гуамские банки, увеличивая их с каждым годом. Более того, в последние несколько лет КНР и Гуам пытаются договориться о введении безвизового режима: однако пока тщетно. В связи с усложнением ситуации в лежащем неподалеку от Гуама Южно-Китайском море ожидается увеличение американского контингента на военной базе США, расположенной на этом острове. Следовательно, урезая финансирование прочих «подконтрольных» США владений в Микронезии, Вашингтон тем не менее продолжает спонсировать Гуам на прежнем уровне во избежание роста китайского влияния.
В результате этого Китай и США обречены на соперничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Многие эксперты склоняются к выводу о том, что сегодня мир стоит на пороге новой эры – американо-китайской холодной войны.
В заключение хотелось бы также отметить, что рост китайского влияния в регионах и сферах, ранее подконтрольных США, настолько значителен в последнее время, что на тему этого острого вопроса проводятся научные конференции в ВУЗах по всему миру. В частности, подобная конференция пройдет в Институте Востоковедения РАН в конце ноября. Автор надеется, что ее результаты покажут весь размах китайской экспансии в «американских» владениях.
Пшеница США: на экспорт продан второй по величине объем в сезоне.
Экспортные продажи пшеницы США совершили настоящий прорыв. Продан второй по величине недельный объем с начала сезона. Он значительно превысил самые оптимистические ожидания экспертов и трейдеров, которые находились в диапазоне 200-400 тыс. тонн.
Пик продаж пришелся на дни самого глубокого в ноябре падения котировок фьючерсов пшеницы США.
Крупнейшими покупателями недели стали: Таиланд (108 000 тонн), Нигерия (103 100), Тайвань (92 000), Япония (90 600) и Филиппины (79 800). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: неназванный покупатель (12 400 тонн) и Сальвадор (1 600).
Крупнейшими получателями недели стали: Филиппины (79 800 тонн), Нигерия (61 800), Япония (39 600), Эквадор (38 500), Италия (34 500) и Бразилии (27 500).
Вопросы морского образования и безопасности обсудили на Форуме азиатских морских и рыбохозяйственных университетов
В Корейском морском и океанологическом университете (КМОУ, г. Пусан, Республика Корея) состоялся 14-й Форум азиатских морских и рыбохозяйственных университетов (AMFUF-2015) по морской безопасности и образованию.
Цель Форума AMFUF – развитие образовательных, тренировочных и исследовательских программ, стимулирование взаимного обмена студентами и преподавательским составом, а также сотрудничество в области морского образования и исследований.
Форум проводится ежегодно на территории одной из организаций, входящих в его состав.
Вэтой году в Форуме приняли участие представители 16 образовательных учреждений из 10 стран: Китая, Филиппин, Мьянмы, Японии, Тайваня, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии и России. Делегацию Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета представили ректор Георгий Ким и директор Мореходного института Сергей Бурханов.
В рамках Форума прошли научная конференция и встреча ректоров, на которых участники представили достижения и разработки своих учебных заведений в области морского образования и обучения. По итогам работы был подписан Меморандум о взаимопонимании, согласно которому руководители делегаций приняли решение о дальнейшем развитии совместных образовательных проектов и укреплении сотрудничества в целях обеспечения морской через образование и обучение персонала.
AMFUF 2015 также был приурочен к празднованию 70-летней годовщины организатора Форума – Корейского морского и океанологического университета. Гости стали свидетелями торжественной церемонии, концерта традиционной корейской музыки, праздничного фейерверка в честь юбилея университета, а также побывали на борту учебного судна КМОУ «Ханбада».
15-й Форум азиатских морских и рыбохозяйственных университетов состоится в октябре 2016 года в Национальном тайваньском океанологическом университете (г. Цзилун (Килун), Тайвань).
Справочно:
Форум азиатских морских и рыбохозяйственных университетов (Asia Maritime and Fisheries Universities Forum, AMFUF) создан в 2002 г. в Корейском морском университете (сейчас — Корейский морской и океанологический университет) в г. Пусан (Республика Корея). В настоящее время в состав Форума входят 23 организации из стран Азии.
4-6 сентября 2013 года мероприятия Форума прошли в стенах Дальрыбвтуза; тема AMFUF 2013: «Эффективное и безопасное использование Тихого океана в условиях глобализации».
Поездка Си Цзиньпина во Вьетнам и Сингапур
Владимир Терехов
С 5 по 8 ноября с.г. состоялась поездка председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам и Сингапур – две важные страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). Она проходила на фоне вполне зримого усиления военного присутствия в субрегионе США – главного геополитического оппонента КНР.
Напомним, что 27 октября в 12-мильную зону, окружающую один из искусственно увеличенных Китаем островов в Южно-Китайском море (ЮКМ), вошёл американский ракетный эсминец Lassen, что вызвало резкий протест Пекина.
Спустя лишь неделю ещё одной подобного рода вызывающей демонстрацией явилась высадка министра обороны США Э. Картера (в сопровождении малайзийского коллеги Х. Хуссейна) на палубу авианосца “Теодор Рузвельт”, прибывшего в ЮКМ из акватории Индийского океана. Последнее, кстати, примечательно само по себе, ибо показывает, кто и где на самом деле является главным источником внешнеполитической головной боли для Вашингтона.
Глава Пентагона использовал специфическую трибуну авианосца для очередных обвинений КНР в “росте напряжённости из-за территориальных споров в ЮКМ. Сам факт присутствия здесь “Тедди Рузвельта” и наш визит на корабль являются символом подтверждения нашего курса на перебалансирование (в сторону Азии) и важности для США Азиатско-Тихоокеанского региона”.
В ходе поездки во Вьетнам и Сингапур китайский лидер проявил выдержку, хладнокровие и нежелание отвечать даже на уровне риторики на откровенные провокации в ЮКМ со стороны ВМС США.
В нынешнем состоянии китайско-вьетнамских отношений наиболее отчётливо проявляется так называемый “азиатский парадокс”, когда на фоне вполне благополучного развития экономических связей между той или иной парой стран Азии (прежде всего это относится к Китаю и его соседям), политическая сфера нередко выглядит в разной степени негативно.
Это особенно бросается в глаза в случае Китая и Вьетнама. Обе страны длительное время управляются коммунистическими партиями и, казалось бы, идеологически близким государственным системам легче найти общий язык при разрешении проблем в двусторонних отношениях.
Однако уходящие в глубь веков серьёзные разногласия актуализировались ещё на заключительной стадии освободительной войны Вьетнама против США 1957-1975 гг. В 1979 г. эти разногласия вылились в масштабную приграничную войну.
С тех пор не очень понятные для внешнего наблюдателя мотивы китайско-вьетнамской напряжённости постепенно выкристаллизовались в один, вполне очевидный и традиционный мотив территориальных споров, в котором отсутствует какая-либо “азиатская специфика”.
После завершения в 2009 г. демаркации 1300-километровой сухопутной границы стороны заявили о стремлении проделать нечто похожее и в ЮКМ. Однако здесь не только не наблюдается какого-либо прогресса, но ситуация из года в год ухудшается. Летом 2014 г. работы китайской государственной компании по поиску углеводородов на одном из участков дна ЮКМ спровоцировали во Вьетнаме антикитайские погромы не бывалых масштабов.
Отмечаемая со второй половины прошлого десятилетия пресловутая “напористость” китайской внешней политики вызвала вполне ожидаемую реакцию Вьетнама в виде поиска поддержки со стороны главных оппонентов Китая, то есть США, Японии, Индии.
В Китае, наконец, поняли, что себе дороже перегибать палку в “напористости”, и с осени 2013 г. направленная в сторону соседей риторика о готовности “отстаивать национальные интересы” (фактически подразумевались претензии на спорные территории в ЮКМ) несколько убавилась.
Основным итогом нынешнего визита Си во Вьетнам можно считать слова совместного коммюнике о намерении обеих стран “должным образом управлять и контролировать споры на морях”. Этой фразой обозначен главный раздражитель двусторонних отношений, о котором говорилось выше, и можно только пожелать обеим странам успехов в его устранении.
Значимость визита китайского лидера в Сингапур обусловлена прежде всего тем, что эта страна с 2005 г. связана с главным оппонентом КНР в ЮВА (то есть с США) формально установленными рамками двусторонних обязательств в сфере обороны.
В то же время Сингапур является крупнейшим среди всех стран ЮВА торговым партнёром Китая. В 2008 г. между обеими странами было подписано соглашение о создании двусторонней зоны свободной торговли с целью постепенного снятия пошлин на ввоз закупаемых товаров и услуг.
Визит китайского лидера в Сингапур пришёлся на 25 годовщину установления дипломатических отношений, и в совместном заявлении, подписанном президентами обеих стран, приводится впечатляющий перечень достигнутых с тех пор успехов, а также планов по их дальнейшему развитию.
И всё же особое внимание ведущие мировые СМИ уделили встрече лидеров КНР и Тайваня (первой в двусторонних отношениях), которая состоялась на “нейтральной” территории того же Сингапура и названной самими его участниками “исторической”.
Несмотря на скорее символический характер, она действительно стала крайне важным событием не только региональной, но и мировой политики, принимая во внимание растущую значимость тайваньской проблемы в современной глобальной игре. Прямо или косвенно эта проблема затрагивает стратегические интересы всех трёх ведущих региональных и мировых игроков, то есть КНР, США и Японии.
Необходимым условием сохранения хотя бы относительной тишины в Тайваньском проливе (особенно заметной в свете тревожных событий в соседнем ЮКМ) является периодическое подтверждение Пекином и Тайбэем так называемого “Консенсуса 1992”, основное содержание и значимость которого не раз обсуждалась в NEO. Такое подтверждение в очередной раз было сделано в ходе сингапурской встречи.
Но дело в том, что нынешнего президента Тайваня Ма Инцзю, впервые публично обменявшегося крепким рукопожатием с лидером “мейнлэнда”, в начале следующего года сменит его преемник.
Таковой почти наверняка станет Цай Инвэнь, которая ныне возглавляет оппозиционную Демократическую прогрессивную партию, выступающую (сегодня, правда, не столь явно, как в прошлом десятилетии) за полноценную государственность Тайваня. Во всяком случае, на публике она избегает затрагивать тему “Консенсуса 1992”, крайне важную для Пекина.
Вполне справедливо, рассматривая встречу Си и Ма через призму предстоящих в январе следующего года всеобщих выборов на Тайване, госпожа Цай тоже выразила готовность к проведению переговоров с лидером КНР.
Поначалу казалось, что ответом Пекина на эту инициативу станет вежливое молчание в рамках общей (внешне беспристрастной) позиции по отношению к процедуре предстоящих выборов.
Однако накапливающиеся эмоции по случаю того, что, видимо, с неизбежностью произойдёт 16 января 2016 г., начинают прорываться. 9 ноября со статьёй “Провокационные слова разоблачают истинные намерения Цай” выступил полуофициоз Global Times.
В статье, в частности, упоминаются “визгливые крики двух леди” по поводу встречи Си и Ма. Одной из этих “леди” оказалась госпожа Цай, второй – популярная на Тайване телеведущая. Помимо прочего, обе они подверглись обвинениям в настойчивых советах Ма Инцзю использовать в ходе встречи с лидером КНР “официальное” наименование Тайваня, а именно “Китайская Республика”.
Знаменательно, однако, что опрос общественного мнения, проведенный сразу после резкостей, произнесённых Цай Инвэнь в адрес нынешнего тайваньского президента, зафиксировал рост её популярности на 3,4%, а также подтвердил безнадёжное отставание представителя партии Гоминьдан на предстоящих выборах.
Наконец, следует ещё раз напомнить о военно-политическом фоне поездки китайского лидера в две страны ЮВА, которые Вашингтоном рассматриваются в качестве потенциального и де-факто союзников. Курс Китая по налаживанию нормальных политических отношений с Вьетнамом и Сингапуром, а также предотвращению возможного изменения ситуации на Тайване едва ли могут радовать Вашингтон. Несмотря на публичные заверения в обратном.

Деловой саммит форума АТЭС.
Дмитрий Медведев принял участие в заседании сессии в рамках Делового саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество».
Форум АТЭС, учреждённый в ноябре 1989 года, – межправительственный диалоговый механизм, не имеющий статуса международной организации.
В настоящее время участниками АТЭС являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония. На долю этих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) приходится 40% населения мира, 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40% объёма всех прямых трансграничных инвестиций.
Руководящими органами форума, работающего на основе принципов консенсуса при принятии решений и добровольности в их выполнении, являются ежегодные неформальные саммиты глав государств и правительств и приуроченные к ним совещания министров иностранных дел и министров торговли. В течение года также проводятся отраслевые министерские встречи, заседания старших должностных лиц и мероприятия по линии порядка 40 отраслевых экспертных структур.
Деловой саммит АТЭС впервые был организован на полях встречи лидеров экономик АТЭС на Филиппинах в 1996 году. Мероприятие является главным бизнес-форумом Азиатско-Тихоокеанского региона и объединяет руководителей бизнеса, лидеров мировых экономик и ведущих политиков. Это уникальная платформа, на которой бизнес может взаимодействовать с руководителями стран – участниц Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества напрямую.
Встреча является самым значимым бизнес-событием недели форума. Она проводится непосредственно перед ежегодной встречей руководителей стран – участниц АТЭС.
Повестка дня манильского делового саммита включает вопросы поддержания темпов экономического роста в АТР, значения экономических реформ и роли бизнеса в них, вызовов развитию городов и инфраструктуры, роста глобальных дисбалансов.
Выступление Дмитрия Медведева:
Уважаемые дамы и господа! Я хотел бы искренне поблагодарить хозяев, принимающую сторону, Филиппины, за прекрасную организацию мероприятия и очень рад выступить на этой представительной авторитетной площадке, на Деловом саммите АТЭС, который, кстати, появился не сразу, но по праву считается барометром экономических и политических тенденций не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире.
Девиз Делового саммита АТЭС-2015 – «Вперёд в будущее: лучше, сильнее и сплочённее». Он вообще хороший, но сегодня звучит особенно актуально.
Скажу несколько слов о печальных событиях, но это нужно сделать. Террористические атаки, которые только что пережили и Россия, и Франция, затронули весь мир. Распространение терроризма является глобальным вызовом, вызовом всему цивилизованному миру. И этот вызов требует совместного ответа, скоординированных и, по сути, сплочённых действий. Взрыв в российском самолёте над Синайским полуостровом, который унёс 224 жизни, массовое убийство людей в Париже – это не преступление против одной страны, это преступление против всего мира, и противостоять террористам мы должны все вместе.
Поэтому такие мероприятия, как саммит АТЭС, укрепляют наше взаимодействие во всех областях. Такой подход в полной мере созвучен нашей политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я напомню, что наша страна находится почти на две трети своей территории в Азии и неразрывно связана с регионом. И развитие сотрудничества со всеми странами, которые расположены здесь, так же, как и наше участие в самых острых и важных региональных проблемах – наша принципиальная стратегическая линия. И, конечно, она никак не зависит от политической конъюнктуры.
Наша встреча проходит в непростой для мировой экономики период. Хотя по своему опыту скажу: я не припомню, чтобы наши встречи проходили в совсем какой-то простой период. Тем не менее, ситуация остаётся достаточно неустойчивой, волатильной. Нам всем – и участникам АТЭС, и другим странам мира – приходится искать ответы на сложнейшие вопросы. Какие это вопросы? Как обеспечить экономический рост в условиях глобальной нестабильности? Как использовать в интересах собственного развития современные технологические, социальные и экономические тренды? Как повысить конкурентоспособность и найти своё место в новой реальности?
Понятно, что универсальных рецептов здесь нет и не может быть. Тем не менее есть целый ряд базовых факторов, без которых невозможно выстроить эффективную модель современного экономического развития. Их и хотел бы я сегодня назвать.
Первое, о чём хочу сказать. Это, конечно, региональная интеграция – тема для Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня действительно номер один, важнейшая тема.
Россия последовательно выступает за углубление региональной интеграции, и при этом мы считаем, что все заключаемые в её рамках преференциальные торговые соглашения, а они важны, конечно, тем не менее не должны подменять многостороннюю торговую систему и тем более не должны разрушать уже существующие, сложившиеся хозяйственные связи, должны лишь обогащать.
Как вы знаете, уже почти год работает Евразийский экономический союз. С присоединением ещё двух стран полноправными членами этого Союза стали пять государств. Мы стремимся налаживать взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнёрами по всему миру, это наш вклад в такую интеграцию. Есть договорённость с нашими китайскими партнёрами о сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского союза с проектом создания экономического пояса Шёлкового пути. В мае этого года было подписано преференциальное торговое соглашение между Евразийским союзом и Вьетнамом. В работе сейчас находятся аналогичные соглашения с другими странами. В целом в Евразийскую нашу комиссию как раз поступило около 40 заявок от третьих стран и объединений о создании зон свободной торговли.
Исходя из этой стратегической цели, правила мировой торговли должны оставаться универсальными (это действительно очень важно) и вырабатываться на единой площадке, прежде всего в рамках Всемирной Торговой Организации, иначе зачем она вообще была создана.
Очевидно, что к этой работе должны быть привлечены все заинтересованные стороны. Только так можно обеспечить безусловную легитимность новых норм, то есть их распространение на всех участников. Поэтому считаю принципиально важным, чтобы Азиатско-Тихоокеанский форум сохранял единую и последовательную позицию в том, что касается укрепления многосторонней торговой системы, в том числе, кстати, и в рамках достижения так называемых Богорских целей.
Второе, о чём хотел бы сказать и о чём, я уверен, сегодня здесь говорили мои коллеги, это инновации и развитие человеческого капитала.
Действительно, технологическая революция, в том числе так называемые большие вызовы, затрагивают практически все страны. Чтобы держаться на плаву, выигрывать в современной конкурентной борьбе, нужно быстро и адекватно на них реагировать.
Важно, что экономики АТЭС во многом дополняют друг друга – и по научной, и по экспериментальной базе, по кадровому и образовательному потенциалу, по опыту коммерциализации инновационных проектов. Совместное использование этих преимуществ, выход на практическое применение позволяет нам обеспечить новое качество экономического развития в регионе. Для бизнеса, в том числе, кстати, и для небольших и средних компаний, это огромное поле новых возможностей. Россия к такой совместной работе готова.
В следующем году у нас пройдёт престижный глобальный инновационный форум – Всемирная конференция Международной ассоциации научных парков, зон инновационного развития. Приглашаем к участию всех наших партнёров по АТЭС.
Ну и наконец, третье, без чего невозможны ни развитие региональной интеграции, ни действительно прорывные инновации, ни развитие человеческого капитала – это, как ни банально звучит, но это инвестиции.
В целом мы с удовлетворением отмечаем возрастающее участие нашей страны в формировании Азиатско-Тихоокеанской повестки. Об этом, кстати, свидетельствует стабильное увеличение нашего товарооборота с государствами региона. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже сейчас приходится более четверти российской внешней торговли, а ещё совсем недавно это была довольно незначительная часть. Но прямые инвестиции в нашу экономику из стран АТР, ну, и наоборот, соответственно, растут не так динамично, как нам хотелось бы. На сегодня их объём составляет около 10 млрд долларов. Для повышения этого показателя мы, конечно, активно учреждаем совместные инвестиционные фонды. Такие фонды уже действуют с рядом государств: с Китаем, с Японией, с Республикой Корея. Прорабатывается использование аналогичных инструментов и с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Практически неисчерпаемые возможности сотрудничества заложены в наш проект по ускоренному развитию Сибири и Дальнего Востока. Здесь мы запустили специальный механизм территорий опережающего развития с льготным налоговым, административным режимом. Уже создано девять таких территорий. Стараемся, кстати, применять лучшие практики по работе с инвесторами, которые используются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Даже при подготовке закона, который был посвящён этим территориям, мы специально опирались на практики АТР, смотрели законодательство, которое действует у наших партнёров.
Ещё более серьёзный набор преференций получат резиденты свободного порта Владивосток. Аналогичный льготный режим мы планируем распространить в будущем и на ряд других ключевых портов российского Дальнего Востока.
Я уже сказал, что Россия намерена участвовать в решении самых сложных региональных проблем. В частности, речь идёт об энергетической безопасности стран АТР. Нужно иметь в виду, что, несмотря на значительные запасы нефти и газа в регионе, тем не менее регион в целом был и остаётся энергодефицитным. В силу своей географической близости, наличия огромных запасов Россия способна обеспечить стабильные и долгосрочные поставки природных ресурсов, и, что немаловажно, по вполне конкурентоспособным ценам. Очевидно, что эти обстоятельства нужно использовать, и использовать максимально эффективно в интересах всех стран АТР.
Ещё одно направление, которое имеет особую важность для многих стран региона и где есть отличные перспективы сотрудничества, это вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Регион огромный, растущий, большое население, и вопросы продовольственной безопасности будут всё более и более актуальными.
В России и сейчас производится уже много зерна, мы довольно много экспортируем зерна, но к 2020 году мы полагаем, что наши экспортные возможности составят порядка 35-40 млн т, что, безусловно, также сможет внести свой вклад в копилку решения этой задачи. Причём речь может идти не только об экспорте, но, конечно, и о полноценной кооперации в этой сфере с нашими партнёрами и с другими участниками Азиатско-Тихоокеанского рынка.
Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги! Безусловно, обозначенные мною и теми, кто уже выступал на этой трибуне, темы далеко не исчерпывают повестку сотрудничества наших стран. Возможности для расширения этого сотрудничества действительно очень велики. При этом нам нужны серьёзные усилия, усилия бизнеса, с одной стороны, и государств, чтобы использовать все эти возможности по максимуму в интересах всего Азиатско-Тихоокеанского региона, а значит, в наших общих интересах. Спасибо.
Ответы Дмитрия Медведева на вопросы участников сессии
Вопрос: Вы уделили большое внимание интеграции с Тихоокеанским регионом. Как Вы оцениваете деловой климат в России и экономическую ситуацию с точки зрения инвестпривлекательности для иностранных инвесторов?
Д.Медведев: Я бы мог долго на эту тему говорить, но постараюсь компактно. В целом у нас есть сейчас и проблемы, и сильные стороны.
Сегодня Россия вместе с другими странами мира проходит через довольно сложный период, для России это, может быть, один из самых сложных периодов. Для нас имеет серьёзное, принципиальное значение, что рухнули цены на нефть, резко упал курс рубля, плюс уже полтора года наша страна сталкивается с санкционным давлением, что, конечно, не улучшает экономическую ситуацию. Но несмотря на это, ситуация в экономике и в финансовой системе у нас достаточно стабильная, мы справляемся с негативными колебаниями цен, при этом поддерживаем интерес инвесторов, и большинство иностранных компаний, которые работают в стране, этот настрой пытаются сохранить.
Но помимо негативных факторов для иностранных инвесторов, очевидно, образовались и некоторые позитивные моменты. Может быть, не всем они нравятся в нашей стране, но для иностранных инвесторов это не плохо. Я имею в виду прежде всего ослабление курса рубля, возможность приобретать российские активы дешевле, чем это было некоторое время назад, и, в общем, многие этим пользуются. С другой стороны, для компаний, которые создаются в России, улучшились условия по локализации бизнеса, а компании, которые создают бизнес экспортный, тем более, приобретают дополнительные преимущества.
Что касается бизнес-климата. В условиях жёсткой конкуренции мы, конечно, продолжали и будем продолжать работать над улучшением бизнес-климата. Для Правительства это первостепенная задача. У нас есть так называемая национальная предпринимательская инициатива, которой мы уже довольно давно занимаемся. Это целенаправленное решение целого ряда задач – задач по либерализации законодательства, по выстраиванию диалога с бизнес- сообществом, по улучшению целого ряда бизнес-позиций. Мы, например, приостановили сейчас взимание ряда неналоговых платежей до 1 января 2019 года, для того чтобы улучшить условия ведения бизнеса в современных условиях.
Есть приличные подвижки в развитии государственно-частного партнёрства. Мы пытаемся планировать активнее нашу работу на внешних рынках, созданы социальные институты для этого, включая Российский экспортный центр. В общем, в этом смысле движение есть, что, кстати, оценивают и инвесторы. Даже по тем индикаторам, которые используются, в частности по индикаторам в ряде международных рейтингов, мы свои позиции не ухудшаем, даже несмотря на сложную внешнеторговую и внешнеэкономическую конъюнктуру, а улучшаем. Последние индикаторы по линии Doing Business показывают, что мы всё-таки движемся вперёд и уже вошли, по сути, в первый «полтинник».
Конечно, это, наверное, не та цифра, которая нас всех устраивает, я имею в виду тех, кто занимается ведением российского бизнеса, регулированием российского бизнеса, но тренд, тем не менее, налицо. Мы впереди целого ряда государств, с которыми раньше соперничали. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем эти показатели и дальше улучшать. Поэтому рассчитываем на то, что все эти факторы будут учитываться и нашими партнёрами в АТР при принятии ими инвестиционных решений.
Вопрос: Джейси Параньес, старший советник в компании «Номура». Вы говорили о том, что Сибирь и Дальний Восток богаты природными ресурсами и обладают огромным потенциалом для вклада в развитие региона. Но также они служат своеобразным мостом между Россией и АТР. Какова, на Ваш взгляд, роль иностранных компаний? И как Вы планируете привлекать их к участию в этих проектах?
Д.Медведев: Спасибо большое за этот вопрос, потому что тема эта исключительно важна для нашей страны. Россия – самое большое государство в мире, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы российская Сибирь и Дальний Восток стали таким нашим национальным приоритетом XXI века, потому что это огромные территории, где расположено большое количество месторождений, большие запасы полезных ископаемых находятся, и здесь нам без иностранных инвестиций просто, по сути, не обойтись. Мы рассчитываем на то, что наши коллеги будут активно вкладываться в эти территории.
Что для этого делается? Я уже немножко об этом сказал, ещё раз повторю. Речь идёт о создании специальных правовых режимов. Когда мы обсуждали эту тему в Правительстве – это было относительно недавно, буквально год назад, – мы специально изучили законодательства государств Азиатско-Тихоокеанского региона и создали модель, которая называется территория опережающего развития. Эта модель была создана специально под Дальний Восток. Что это такое? Это действительно преференциальный налоговый режим, возможности для вложения денег в инфраструктурные проекты, облегчённый визовый режим, так называемая система одного окна для того, чтобы регистрировать компании, решать административные задачи. То есть это такой инструмент, который, мы надеемся, принесёт пользу. Уже сейчас зарегистрировано девять этих территорий опережающего развития. В общей сложности уже порядка 70 резидентов готовы там работать, надеюсь, их количество будет возрастать. Пока объявленный объём инвестиций, по нашим прикидкам (я имею в виду уже согласованный), в настоящий момент составляет около 5 млрд долларов, но это только самое начало работы. Естественно, мы в этом смысле люди гибкие, если потребуется что-то корректировать в действии этого института, мы будем вносить изменения в законодательство.
Я также упомянул ещё один близкий, но тоже самостоятельный, способ стимулирования инвестиций в Сибири и на Дальнем Востоке – это конструкция порто-франко, или свободного порта. Эта модель тоже активно используется в регионе, мы её внедряем впервые. Сначала речь идёт о порте Владивосток, но если модель заработает, естественно, будем стараться её распространять и на другие места. Значит, в этом самом порто-франко действуют практически все названные мною послабления – и налоговые, и инфраструктурные. Надеюсь, что условия работы в этом месте, соответственно, и преимущества порто-франко будут сопоставимы с аналогичными портами, которые расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и мы сможем конкурировать с нашими партнёрами. Но ещё раз хотел бы сказать: это творческий процесс, мы будем откликаться на предложения наших партнёров, на предложения иностранных инвесторов. Если потребуется что-то корректировать в законодательстве, мы, естественно, будем внимательно изучать это и вносить поправки. Эта работа началась, надеюсь, она принесёт хорошие результаты.
Вопрос: Добрый день, господин Премьер-министр! Вы только что отметили, что делаете ставку на инновации и технологическое сотрудничество. По каким направлениям Россия собирается сотрудничать в этих сферах?
Д.Медведев: Сегодня о технологиях говорят все, и я так понимаю, что уже мои коллеги с этой трибуны тоже говорили о технологическом сотрудничестве. Это такая тонкая сфера: с одной стороны, все хотят сотрудничать, но, с другой стороны, есть и вопросы охраны коммерческой тайны, секретов промышленных. Поэтому очевидно, что тема инноваций имеет принципиальное значение для развития любых современных государств. Мир находится под влиянием целого ряда факторов, но важнейший фактор – это технологическая революция.
Мы тоже в этом смысле не стоим на месте, создали такую специальную программу, которая называется «Национальная технологическая инициатива». Это долгосрочная программа, она рассчитана на довольно такую среднесрочную перспективу, в ней есть целый ряд направлений, так называемых дорожных карт. В настоящее время мы определили девять целевых рынков, по которым будем финансировать мероприятия. Естественно, все они будут проходить в рамках государственно-частного партнёрства. Четыре «дорожные карты» я совсем недавно как Председатель Правительства утвердил, они посвящены разным направлениям, упомяну некоторые из них. Это так называемый «АвтоНэт», то есть те транспортные средства, которые управляются без пилота, без водителя. Также «НейроНэт», это те решения технологические, которые связаны с активизацией мозговой деятельности человека. И ряд других «карт» в ближайшее время мы тоже собираемся утвердить, потому как, вы знаете, в России неплохое образование, весьма сильные национальные центры научные, мы хотели бы всё это задействовать.
Добавлю, что Азиатско-Тихоокеанский регион в этом плане представляет для нас большой интерес. По сути, мы ведём речь об общем исследовательском пространстве АТЭС. Надеемся, что государства АТЭС проявят интерес к нашей исследовательской инфраструктуре, тем более что сейчас есть такие темы, которые принято называть mega-science и которые требуют гармонизации научной политики целых стран. Более того, очень важно общаться на дискуссионных площадках. У нас каждый год проходит специальный форум, он называется «Открытые инновации», совсем недавно он тоже состоялся в Москве. В этом году основная тема форума называлась «Человек на стыке трендов технологической революции», как раз то, о чём мы сегодня говорим в этом зале. Это действительно открытая площадка. Пользуясь этой возможностью, хотел бы пригласить всех наших партнёров из стран АТЭС принять участие в следующем году в этом мероприятии, где каждый год какая-то отдельная страна-участница имеет преимущества, преференции. Мы проводили такой форум с китайскими партнёрами в 2014 году, с Францией, Финляндией в 2013 году, и готовы, естественно, делать это и дальше. Я считаю, что технологическая кооперация имеет колоссальное значение для будущего. Надеюсь, что мы сможем и в этом плане выстраивать такие очень позитивные отношения с компаниями из стран АТЭС.
К.Дмитриев (генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, модератор): Дмитрий Анатольевич, спасибо от лица всех представителей бизнеса и инвесторов, которые присутствуют здесь. Мы при Вашей поддержке планируем совместно реализовывать много проектов со странами АТЭС. Спасибо Вам за Ваше выступление.
Д.Медведев: Спасибо. А я всем желаю бизнес-успехов и хорошего настроения.
Тайваньские компании сегодня работают в России в основном в области информационных технологий, однако сферы сотрудничества могут быть значительно шире. Тайвань с оптимизмом смотрит на российский рынок и видит потенциал для взаимовыгодных инвестиций. О том, какие секторы экономики интересуют тайваньских предпринимателей в России и в какие отрасли они готовы пригласить инвесторов из РФ, в интервью РИА Новости рассказал глава представительства Тайваня в России Ван Цзянь Е.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая.
В Сингапуре 7 ноября 2015 года состоялась первая за 66 лет встреча между руководителями Тайваня и КНР. Глава администрации Тайваня Ма Инцзю на ней предложил придерживаться "консенсуса 1992 года", подразумевающего признание принципа "одного Китая", и также поддерживать статус-кво в отношениях. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что стороны должны уважать друг друга и сотрудничать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала встречу исторической и выразила уверенность, что она пойдет на благо процветания всего китайского народа.
— Господин Ван, расскажите, пожалуйста, как сейчас развивается экономическое сотрудничество между Россией и Тайванем?
— Тайвань очень ориентирован на торговлю. Мы бы хотели развивать торговые отношения со всеми странами мира, включая Россию. В том числе и взаимные инвестиции. В сотрудничестве с Россией мы видим огромный потенциал. Мы должны развивать их именно сейчас, иначе будет поздно.
— Какие сферы сотрудничества кажутся вам в настоящий момент наиболее перспективными?
— Нас интересует сотрудничество в различных сферах, у нас много развитых кластеров и сетей поставок. Это и биотехнологии, сельское хозяйство, IT, электроника, автопром, механическое оборудование, цифровые технологии, 3D — и я назвал лишь несколько сфер.
— Готовы ли инвесторы с Тайваня вкладываться в российские проекты в этих сферах?
— Да, и нам бы хотелось, чтобы больше инвесторов с Тайваня приходило в страну, изучило ее возможности. На этом этапе большинство инвесторов с Тайваня, которые работают в России, представляют сферу ICT (информационных и коммуникационных технологий — ред.). Это Asus, Transcend, Gigabyte.
— Планируют ли эти компании расширять бизнес в России?
— Я думаю, что, конечно, им хотелось бы расширить бизнес. Однако я бы не стал говорить за них. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
— Планируют ли они локализоваться в РФ или создать СП с российскими компаниями?
— Я работаю здесь лишь около двух месяцев, но мне уже известно о целях правительства РФ по стратегии локализации. Я думаю, что Россия двигается в правильном направлении. Это важные меры. Мы уделим отдельное внимание особым экономическим зонам в России. Я думаю, что эти инициативы принесут наибольшую выгоду, если мы будем сотрудничать. Речь идет о Дальнем Востоке и о свободном порте Владивосток.
— Проявили ли уже компании интерес к этим зонам?
— Что касается свободного порта Владивосток, для нас это очень важный проект. В течение многих лет этот порт являлся одним из крупнейших в регионе, он имел большое значение и для наших рыболовных судов. В прошлом году китайская нефтехимическая компания China Petrochemical Development, которая базируется в Тайване, пришла в данный регион, чтобы изучить рынок. Мы надеемся, что это даст очень хороший старт сотрудничеству. Могу сказать, что интерес к этому региону России очень высок, поскольку он активно развивается.
— Значит, нефтехимия станет одним из основных направлений сотрудничества?
— Я думаю, да. Это сильная сторона РФ, которая является одним из крупнейших государств по добыче нефти и газа. Россия уже обладает высоким уровнем технологий в этой сфере, а у Тайваня мало энергоресурсов. Но мы активно развиваем отрасли, связанные с нефтехимией, и, полагаю, сможем сотрудничать на взаимовыгодных условиях.
— Может ли сложная ситуация в экономике РФ и девальвация рубля стать препятствием для компаний с Тайваня?
— И да, и нет. Мы следим за экономической ситуацией в РФ. Некоторые видят возможности, а кто-то трудности, и говорят, что сейчас неподходящее время, чтобы выходить на российский рынок. Ведение бизнеса всегда подразумевает риск. Чем больше риск, тем больше прибыль. Мы позитивно смотрим на рынок.
— Готов ли Тайвань пригласить к себе инвесторов из России, какие сферы это могут быть?
— Конечно, почему нет? Я уже упомянул несколько сфер от сельского хозяйства до ICT, от традиционных до современных. Также важными секторами являются здравоохранение, образование и зрелищные виды искусства, культура.
— Интересно ли Тайваню развивать туристическое направление с Россией?
— Население Тайваня составляет лишь 23 миллиона человек, что очень мало по сравнению с Россией. Однако количество путешественников в Тайване очень высоко. Немногие из них пока были в России, страна незнакома им. Однако я думаю, что у РФ много преимуществ, и надеюсь, что, если будут созданы соответствующие механизмы, туризм станет более удобным. Я говорю о визовом режиме, прямом авиасообщении.
— В прошлом году был открыт прямой рейс Москва-Тайбэй…
— Он во многом помог нашим отношениям, не только туристам, но также школьникам, студентам. Однако этот рейс выполняла компания "Трансаэро"… В настоящий момент ситуация для нас не совсем понятна. Прямое авиасообщение очень важно для нас. Без него мы будем тратить много времени и средств, чтобы добраться до России. Это же касается и российской стороны.
— Ведутся ли в настоящий момент переговоры по вопросу восстановления прямого авиасообщения?
— Вероятно, частные компании обсуждают этот вопрос. Наше представительство не участвует в подобных переговорах.
О месте и роли США в современном мироустройстве
Владимир Терехов
Аббревиатура “США” занимает едва ли не центральное место в публичной риторике и текстах, посвящённых тем или иным аспектам мировой политики. В последние годы в России само упоминание этой аббревиатуры провоцирует сильные и полярные по отношению друг к другу эмоции, которые весьма косвенным образом соотносятся с тем сложным содержанием, которое за ней скрывается.
Большинство носителей “обожательного” типа эмоций представляют сегодня маргинальное политическое течение и едва ли заслуживают того, чтобы с ними велась какая-либо полемика.
Гораздо более серьёзной проблемой является массовое господство разной степени накалённости негативных эмоций. Последние оказались прямым следствием неадекватной реакции на два важнейших обстоятельства, сопровождавших окончание холодной войны.
Из них первое обусловлено сохраняющейся болью, вызванной поражением СССР в холодной войне. В этом плане представляются не достойными взрослых людей нередкие попытки эмоционально-детского игнорирования очевидного присутствия формальных признаков упомянутого прискорбного факта.
Второе обстоятельство связано с другим (и тоже бесспорным) фактом того, что с 1991 г. и до сих пор США действительно играют “уникальную и лидирующую” роль в формирующейся новой глобальной игре. Не потому, что об этом говорит президент Б. Обама, и подобные слова (адресованные, кстати, скорее внутреннему, а не внешнему слушателю) прописаны в неких официальных документах.
Так легли карты на мировом игровом столе в конце предыдущей глобальной игры и “обижаться” на этот факт не менее бессмысленно, чем на плохую погоду. Кроме того, очевидное присутствие таких формальных признаков, как самый высокий в мире уровень экономического развития и военной мощи, а также (всё ещё) располагаемый потенциал “мягкой силы”, являются весомым подспорьем для нынешних претензий США на мировое лидерство.
Видимо, на многих подобного рода жизненные реалии действуют гнетущим образом. Но прежде чем пытаться исправить “по-быстрому” новую иерархию в международных отношениях, необходимо ответить самим себе на ряд вопросов.
Из них самый фундаментальный связан даже не столько с оценкой амуниции, располагаемой потенциальным “исправителем”, сколько с давно обсуждаемой в академических кругах проблемой преимуществ и недостатков нынешнего “однополярного” и будущего “многополярного” мироустройств.
Однозначного решения этой проблемы не найдено, и едва ли оно вообще существует по причине многообразия ответа на другой вопрос, “что такое хорошо и что такое плохо” (для кого и с какой точки зрения)?
В частности, вполне можно предположить, что реакцией на некоторые последствия установления “многополярности” (например, на те, которые затрагивают проблематику обеспечения стратегической стабильности в мире) станет сакраментальная фраза о “свершении мечты” гражданина, не отличавшегося большим умом.
Несомненным представляется одно: мировое лидерство – это такой груз, который всё более очевидным образом начинает тяготить его нынешнего носителя. Несмотря на публичную “чииз”-улыбку.
Сейчас Вашингтон решает важный (но промежуточный) вопрос, кого бы вместо себя заставить “полидерить” на Большом Ближнем Востоке (ББВ), то есть в разворошенном им самим регионе-муравейнике (где нет ясности, кто с кем и за что воюет).
А самому сосредоточиться на парировании главного и по природе вполне традиционного (а не мифического “неконвенционального”) вызова, который генерируется фактом превращения КНР во вторую глобальную державу.
В NEO уже обсуждалась тема борьбы между сторонниками продолжения глобального доминирования США (“праймеристами”) и теми, кто выступает за резкое сокращение американской вовлечённости в многочисленные мировые проблемы, предлагая сосредоточиться на главных. В ходе развёртывающейся нынешней президентской гонки в США эти споры начинают перемещаться из сферы научных дискуссий в область реальной политики.
При ответе на некий вопрос иногда полезно мысленно рассмотреть крайний (и маловероятный) вариант развития процесса, спровоцировавшего само появление этого вопроса.
Поскольку в данном случае речь идёт об оценке места и роли США в современном мироустройстве, то такую (чисто качественную) оценку можно сделать путём перевода в “крайнее положение” процесса реагирования Вашингтона на новые мировые тренды.
Из них одним из основных является почти повсеместный рост антиамериканских настроений, а крайний вариант реагирования на этот тренд мог бы выразиться словами: “Злые вы все, не цените моих тяжких трудов, ухожу к себе домой, живите без меня”.
Тем самым свершится упоминавшаяся выше мечта некоего субъекта, видимо, к великой его радости. Но никакой радости это не вызовет в Китае, который ныне является главным геополитическим оппонентом США.
Даже с учётом недавних американских военных провокаций в крайне важном для КНР ареале Южно-Китайского моря, а также интриг вокруг Тайваня. И даже на фоне всесторонней поддержки, которую США оказывают таким крупнейшим региональным оппонентам Китая, как Индия и Япония (не говоря уже о Филиппинах и Вьетнаме), а также находящемуся в изгнании Далай-Ламе XIV – духовному лидеру мирового буддизма и, в частности, тибетцев.
Ибо древняя культура Китая позволяет ему отделять зёрна от плевел в текущей политической суете. Поиску таких “зёрен” посвящена статья под примечательным заголовком “Почему Китай заинтересован в американском присутствии в Азии”, опубликованная в одном из недавних номеров крупнейшей мировой финансовой газеты Nikkei Asian Review.
Отвечая на собственный вопрос, является ли целью китайской политики “выдавливание США из Азии”, автор статьи однозначно говорит “нет”, несмотря на прямо противоположное мнение, распространённое в американском истеблишменте. Примечательной представляется авторская реплика, что указанное мнение базируется “на сильных эмоциях, но не на логике”.
Главный и вполне обоснованный аргумент, свидетельствующий об ошибочности упомянутых настроений в американских политических кругах, сводится к тому, что гипотетический уход США из Азии будет иметь неизбежным следствием резкое усложнение для Китая задачи обеспечения национальной безопасности.
Ибо на месте нынешнего основного геополитического оппонента КНР, правила игры с которым более или менее устоялись, совершенно определённо появятся несколько новых. Автор упомянутой статьи называет “Японию, Южную Корею, Филиппины и, возможно, Тайвань”. Но приведенный список вполне можно пополнить Индией и Австралией.
С рядом из этих стран-соседей у Пекина сложная история отношений, а нынешний процесс превращения Китая в глобальную державу почти каждой из них воспринимается в качестве угрозы национальной безопасности. Несмотря на очевидные выгоды от развития с ним экономических связей.
В случае прекращения действия американо-японского военно-политического альянса совершенно определённо резко ускорится процесс милитаризации Японии.
Более того, уверенно можно утверждать, что в этом случае Токио немедленно запустит программу разработки собственного ядерного оружия. Такая возможность обсуждалась ещё в 50-е годы прошлого века и от неё отказались только после получения американских гарантий безопасности. Согласно оценкам экспертов МАГАТЭ, на то, чтобы начать сегодня производство высококачественного ЯО Японии потребуются не десятилетия (как Ирану), а несколько месяцев.
Все эти моменты, несомненно, принимаются во внимание в Китае в ходе выстраивания политического курса на американском направлении.
В заключение следует отметить, что США отнюдь не являются “добросовестным полицейским” современного мироустройства, ибо каков мир – таков и полицейский. Но вряд ли сбудутся надежды тех, кто полагает, что всем станет лучше без нынешнего (весьма несовершенного) стража мирового порядка.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело об административном правонарушении в отношении A.P. Moller-Maersk A/S (Дания, Копенгаген). Компания выступает ответчиком по делу о согласованных действиях на рынке линейных контейнерных перевозок, однако все еще не представила антимонопольному органу запрашиваемые документы.
Обязанность представлять информацию требующуюся для полного и всестороннего рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства предусмотрена частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.
Напомним, в августе 2015 года ФАС России привлекало A.P. Moller-Maersk A/S как ответчика по делу о согласованных действиях на рынке линейных контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия – Российская Федерация. Также ответчиками по этому делу выступают CMA CGM SA (Франция), MSC SA (Швейцария), Hyundai Merchant Marine Со., Ltd (Южная Корея), OOCL (Гонконг) и Evergreen Marine Corp. Ltd. (Тайвань).
По оценкам ФАС России, компания A.P. Moller-Maersk A/S – это крупнейший линейный контейнерный перевозчик в мире, а также ключевой участник рынка услуг по перевозкам с Дальнего Востока/Юго-Восточной Азии в Российскую Федерацию и обратно.
«Это второе административное дело в отношении иностранных судоходных компаний, возбужденное в связи c непредставлением ФАС России запрашиваемой информации, которая необходима для полного, всестороннего и объективного рассмотрения антимонопольного дела. ФАС России при необходимости продолжит соответственно реагировать на подобные действия других компаний – ответчиков», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Представители субъектов Российской Федерации и отечественной туриндустрии презентовали туроператорам стран Азиатско-Тихоокеанского региона новые туристические маршруты по России, а также уникальные предложения и программы для зарубежных туристов. На днях в Тайбэе (Тайвань) прошел очередной этап роуд-шоу VisitRussia, организованный Федеральным агентством по туризму и ФГУП «Центр научных исследований социально-экономических проблем культуры» при поддержке Туристической ассоциации «Мир без границ».
Презентационный тур, нацеленный на увеличение въездного турпотока из стран АТР, проходит в рамках программы мероприятий Национального туристического офиса России Visit Russia в Китае, открытого в Пекине для продвижения туристического потенциала России и укрепления взаимодействия с представителями китайского турбизнеса.
В рамках роуд-шоу представители российских туроператоров, специализирующихся на въездном туризме, – «Академсервис» и «КМП Групп» – рассказали туроператорам стран АТР о вариантах путешествия по России. Железнодорожные туры предложил оператор «РЖД тур» туры на Байкал и по Сибири – туроператоры «Спутник-Иркутск» и «Транссиб вояж». Туроператор «Лаки-турс» презентовал маршруты по Приморью, обозначив в качестве преимуществ наличие казино во Владивостоке, свободный порт и безвизовый режим в порту с 2016 года. Особое внимание в рамках презентации ввиду наступающего сезона уделили горнолыжному туризму: курорт «Роза Хутор» представил программы, специально разработанные для туристов из Тайваня.
«Проведение презентационных мероприятий – важная часть работы по развитию въездного туризма. Нередко препятствием для наращивания турпотока в Россию из-за рубежа является в первую очередь недостаточная информированность зарубежных туроператоров о туристических возможностях Российской Федерации. Одна из действенных мер решения этой проблемы – роад-шоу Visit Russia, которые мы проводим в перспективных с точки зрения привлечения туристического трафика регионах», – говорит глава Ростуризма Олег Сафонов.
Для справки:
Презентационный тур (роуд-шоу) Visit Russia проводится по инициативе Ростуризма в крупнейших городах Азии. Первый этап роуд-шоу состоялся 11 августа 2015 года в Пекине, последующие этапы прошли в Сеуле (22 сентября), в Пекине (12 октября), следующий этап состоится в Гонконге (24 ноября).
В рамках роуд-шоу участники представляют туристический потенциал регионов России, новые продукты в туристической сфере непосредственно профильной B2B аудитории.
Модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и разработка "стратегии блокирования доступа" (A2/AD) делают противостояние Пекина и Вашингтона в Южно-Китайском море более непредсказуемым для обеих сторон, пишет исследователь Института аэрокосмических исследований Митчелла Роберт Хэддик для журнала The National Interest.
Если принять позицию американского историка Джеффри Блэйни, который считал предпосылкой для "смертельного сдвига" баланса сил в АТР рост военного потенциала Китая, то война может начаться, скажем, при оказании Пекином прямого сопротивления навигационным патрулям США и из-за возникновения противоречий в восприятии следующих пяти оперативных концепций, которые до сих пор не были протестированы в боевых условиях, продолжает эксперт.
Одной из них является использование ракетно-ударных систем. Основанные на советских разработках позднего периода холодной войны, китайские разведывательно-ударные комплексы (РУК) состоят из средств спутникового слежения, систем обнаружения воздушного базирования и противокорабельных и баллистических ракет высокой дальности действия, отмечает издание.
Здесь Пекин на голову выше Вашингтона — у Китая превосходство в количестве оперативно-тактических ракет (у США таких ракет нет вовсе), и в арсенале противокорабельных боеголовок. Тем не менее остается неясным, насколько боевым штабам НОАК удастся синхронизировать работу сенсоров и коммуникационных систем для того, чтобы противостоять ВМС противника в условиях давления. Трудно также сказать, насколько Пекин может полагаться на свой разнообразный арсенал противокорабельных ракет в бою против подвижных и защищаемых целей противника, добавляет эксперт.
Применение авианосцев — проверенная временем техника США, пишет Хэддик. Именно решение президента США Билла Клинтона направить в Тайваньский пролив две авианосные группы в ходе "мини-кризиса" между Тайванем и Китаем 1996 года заставило Пекин отступить и впоследствии приступить к разработке стратегии A2/AD.
"Американские руководители рефлекторно обращаются к помощи этих боевых кораблей, как только на горизонте появляются перспективы нового кризиса. Неспособность авианосных ударных групп адекватно отвечать на будущие угрозы станет катастрофой", — отмечает аналитик.
С начала 90-х годов американские военные аналитики также забеспокоились об угрозе ракетного удара со стороны Китая по наземным целям и военно-морским базам США и союзников в западной части Тихого океана, добавляет Хэддик. На эту тему свои аналитические доклады готовил и центр RAND, и американская Комиссия по экономике и безопасности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, и сам Пентагон — аналитики отмечали растущую возможность Китая вывести из строя базы США в Японии, Южной Корее, Окинаве и даже в Гуаме. С помощью ракетного удара Пекин смог бы подавить способность ВВС США использовать тактическую авиацию и нанести урон базированным в портах судам американского флота.
"Рассеивание боевых элементов в кризис играет важную роль, однако этот фактор может не сильно повлиять на общую безопасность, если новые локации уже разведаны, но менее обороняемы, чем крупные базы. Вдобавок, сложность логистической поддержки большого количества вылетов из разбросанных по территории маленьких баз может нивелировать задуманный изначально эффект", — пишет сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла.
Важным моментом в противоборстве Пекина и Вашингтона также является работа систем защиты от спутниковых систем сбора разведданных противника, замечает эксперт.
Еще одним фактором, осложняющим характер сино-американских отношений являются угрозы в киберпространстве, добавляет обозреватель журнала. Известно, что и Пекин, и Вашингтон способны использовать "софт" и различные технологии для разведки и сбора информации, однако неясно, возможно ли использовать кибероружие для проникновения в систему командования противника и для нанесения ударов по системам обнаружения и наведения.
"Кто победит в будущем "скрытом" соревновании? Играя на своем поле и будучи континентальной державой, Китаю здесь будет проще. Он располагает большей территорией и большим количеством баз для действия в сравнении с экспедиционным контингентом США, способным действовать с немногочисленных островных баз и с помощью морских оперативных групп", — считает Хэддик. Если обеим сторонам удастся разорвать системы связи друг друга, Китаю будет проще восстановить наблюдение с воздуха, но с другой стороны, региональный альянс США становится особенно полезным в сборке информации и налаживании коммуникаций в таких условиях, что лишь добавляет неопределенности в отношении борьбы такого типа.
Дунай Соя и Австрийская соевая ассоциация посетят КНР.
Девять делегатов из Австрии, Германии, Сербии и Франции отпрвятся в Шанхай и Тайвань для изучения особенностей производства и использования сои, а также истории данной культуры, сообщается в пресс-релизе ассоциации.
В Течении 11 дней делегация посетит компании в Шанхае, Тайбэе, Тайчжуне и Тайнане. Это уже вторая подобная поездка.
В октябре прошлого года австрийская соевая ассоциация и «Дунай Соя» посетили 10 компаний в Японии. Восемь участников посетили фирмы, фермерские хозяйства и исследовательские институты. У них также была возможность попробовать разнообразные традиционные блюда и разобраться в производстве тофу, соевого молока, ююба, натто и других соевых блюд.
«Мы считаем, что региональное производство сои имеет жизненно важное значение. Сейчас Китай и Тайвань импортируют увеличивающиеся объемы соевых бобов из Бразилии, США и Аргентины для производства соевого масла и особенно кормов», — говорится в сообщении ассоциации.
Как самый крупный производитель свинины в мире, Китай увеличил импорт сои за последнее время в 4 раза, объем импорта оценивается в 70-80 млн т соевых бобов. Таким образом, Китай является самым крупным в мире производителем соевых продуктов и самым крупным импортером сои.
В Европе существует аналогичная ситуация. ЕС импортирует 40 млн т соевых бобов и продуктов каждый год. В свою очередь, Ассоциация «Дунай Соя» работает над тем, чтобы уменьшить зависимость путем сертификации региональной сои. Другая общая цель «Дунай сои» вместе с Австрийской соевой ассоциацией состоит в увеличении количества соевых продуктов в качестве продуктов питания
Предприятия из 26 стран мира представят свою продукцию на ярмарке сельского хозяйства, которая пройдет с 19 по 23 ноября 2015 г. в городе Ченду, административном центре юго-западной китайской провинции Сычуань.
Выставка будет включать несколько зон, ориентированных на страны АСЕАН, Южной Азии, Европы, а также Тайвань, США, Океанию, Японию и Республику Корея. Общая площадь экспозиции составит 2400 кв. м.
В частности, компании из Италии, Бельгии, Польши и Франции представят алкогольные напитки, а из Израиля и Японии – современные сельскохозяйственные технологии.
Таиланд станет главной тематической страной ярмарки, представив 64 организации. Общая площадь павильона Таиланда составит 700 кв. м.
Ранее сообщалось, что в 2015 г. из сельскохозяйственного оборота в Китае планируется изъять 10 млн му (более 600 000 га) земель. Они будут использованы для восстановления лесов. Этот процесс будет проходить в 18 регионах Поднебесной. Так, лесной фонд пополнят 9,4 млн му угодий. Из оборота будут изымать земли, расположенные в основном на крутых склонах.
К концу июня 2015 г. в южно-китайской провинции Гуандун насчитывалось 26 303 предприятия, которые основаны при участии тайваньских инвестиций. Таковы данные региональных властей.
По итогам января-июня текущего года, 171 компания с участием тайваньских капиталовложений в Гуандуне нарастила свои инвестиции в местную экономику. Объем вложений достиг $564 млн.
К концу июня 2015 г. в провинции было также зарегистрировано более тысячи индивидуальных промышленно-торговых хозяйств, созданных тайваньскими жителями. Общий уставный капитал указанных фирм превысил 71 млн юаней.
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2015 г. экспорт острова Тайвань на материковый Китай достиг $53,912 млрд. Это на 12,3% меньше, чем за январь-сентябрь 2014 г. На долю этого показателя пришлось 25,4% от всего тайваньского экспорта за девять месяцев текущего года.
Импорт Тайваня их китайских регионов за январь-сентябрь текущего года достиг $32,748 млрд. Данный показатель упал на 8,4% в годовом сопоставлении. На него пришлось 18,8% от всего импорта острова за девять месяцев 2015 г.
По итогам января-сентября текущего года, объем экспорта Тайваня снизился до $212,4 млрд. Это на 9,4% меньше, чем годом ранее. Импорт острова за девять месяцев текущего года упал на 16,5% – до $173,84 млрд.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело об административном правонарушении в отношении CMA CGM SA (СиЭмЭй СиДжиЭм Эс Эй, Марсель, Франция). Компания выступает ответчиком по делу о согласованных действиях на рынке линейных контейнерных перевозок, но до сих пор не предоставила ведомству необходимые документы.
Обязанность представлять информацию требующуюся для полного и всестороннего рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства предусмотрена частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции. Ответственность за это правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.
Напомним, в августе 2015 года ФАС России привлекало CMA CGM SA в качестве ответчика по делу о согласованных действиях на рынке линейных контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия – Российская Федерация.
Также ответчиками по этому делу выступает ряд зарубежных компаний: A.P. Моller-Maersk A/S (Дания), MSC SA (Швейцария), Hyundai Merchant Marine Со., Ltd (Южная Корея), OOCL (Гонконг) и Evergreen Marine Corp. Ltd. (Тайвань).
Компания CMA CGM SA – это один из крупнейших линейных контейнерных перевозчиков в мире, ключевой участник рынка перевозок с Дальнего Востока/Юго-Восточной Азии в Российскую Федерацию и обратно.
«Действия судоходной компании затягивают процесс рассмотрения антимонопольного дела, в этой связи мы применяем меры реагирования, предусмотренные российским законодательством. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении ряда других иностранных компаний – ответчиков», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
Китай приветствует вступление Тайваня в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Тайваня Ма Инцзю в Сингапуре.
Глава КНР подчеркнул, что также высоко ценит активное участие Тайваня в строительстве экономического пояса Шелкового пути, передает РИА Новости со ссылкой на главу канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжан Чжицзюнь.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан 29 июня 2015 года представителями 57 стран. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия. Уставный капитал AIIB на начальном этапе составил 50 миллиардов долларов, впоследствии планируется увеличить его до 100 миллиардов долларов.
Американцев и китайцев поссорил эсминец
Отношения Вашингтона и Пекина отличает высокая степень непостоянства. То они клянутся в вечной дружбе и даже подписывают соглашение о военном сотрудничестве, то обмениваются угрозами.
А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО
Летом этого года по инициативе Пекина было подписано китайско-американское соглашение об активизации сотрудничества в военной сфере. Целью китайцев, в частности, было ограничить операции ВМС США в акватории Южно-Китайского моря. Зампредседателя Центрального военного совета Китая Фань Чанлун, приехавший с визитом в США, убеждал американское руководство не вмешиваться в вопросы, «имеющие ключевое значение для безопасности КНР». Многие решили, что убедил, иначе соглашение вряд ли было бы подписано. Месяц назад с официальным визитом в США прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Казалось, что китайско-американские отношения вышли на качественно новый уровень дружбы и добрососедства. Однако конструкция, как видим, оказалась хрупкой.
КОРАБЛЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Практически в одночасье небо над новорожденным добрососедством заволокло тучами. Для этого оказалось достаточно одного корабля американских ВМС. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что ракетный эсминец ВМС США «Лассен» незаконно вошел в территориальные воды Китая в районе архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Тем самым, по словам китайского дипломата, американскими военными была создана угроза национальной безопасности КНР. Американского посла в Пекине Макса Баукуса вызвали в китайский МИД и вручили ноту протеста. В ней отмечается, что корабль ВМС США вел себя во время патрулирования «крайне безответственно». Лу Кан подчеркнул, что его страна надеется на решение всех разногласий мирным способом, но если все-таки будет вынуждена реагировать, то «время реагирования, формы реагирования, меры реагирования будет определять по своему усмотрению».
ОСТРОВА ИЛИ НЕТ?
Что же так возмутило официальный Пекин? Ракетный эсминец США «Лассен» провел на прошлой неделе патрулирование в районе спорных островов в Южно-Китайском море. Он зашел в 12-мильную зону вокруг рифов Суби и Мисчиф, которые являются частью островов Спратли (Наньша). На эти клочки суши претендуют Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Понятно, что в этом споре Пекин играет роль абсолютного тяжеловеса, он считает островки только своими и больше ничьими.
США же не признают китайский суверенитет над островами, американские официальные лица неоднократно предупреждали, что США не намерены согласовывать с Пекином проход своих кораблей вблизи спорных островов. Вашингтон не поддерживает ничьи претензии в этом споре, он лишь не согласен считать объекты вроде Суби и Мисчифа полноценными участками территории какого-либо государства. Американцы называют их «возвышениями, осыхающими при отливе», которые, согласно 13-й статье Конвенции ООН по морскому праву, не образуют территориального моря шириной 12 морских миль от их берега.
Искусственные острова, которые Китай активно создает на месте рифов, не дают ему права, по мнению США, считать эти воды своими и требовать разрешения на проход. В минобороны США заявили, что в будущем американский флот будет чаще патрулировать акваторию Южно-Китайского моря. Мол, китайцы нам не указ. В Пекине же утверждают, что 80% Южно-Китайского моря, включая архипелаг Спратли (Наньша), являются его исконными владениями, с чем не согласны другие страны региона. Однако Пекин действует по праву сильнейшего - в последнее время резко активизировал строительство аэродромов, маяков и других военных и гражданских объектов на искусственных островах.
ДО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ НЕ ДОЙДЕТ
Китайцы преследуют две основные цели. Во-первых, они хотят закрепить свое военное присутствие в стратегически важном районе. Там находится Малаккский пролив, через который проходит четверть мировой торговли. Это одна из основных морских артерий на планете. Вторая стратегическая задача - вытеснить других игроков из региона, богатого шельфовыми углеводородами. По некоторым оценкам, запасы нефти здесь могут составлять до 225 млрд баррелей, газа - 280 млрд куб. м.* Словом, овчинка под названием «острова Спратли (Наньша)» стоит выделки. Чем закончится противостояние? Как далеко зайдут китайцы и американцы? Некоторые горячие головы заговорили даже о том, что именно в этом регионе вспыхнет третья мировая война. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что до широкомасштабных военных действий, тем более третьей мировой войны, дело не дойдет. Какое-то компромиссное решение все равно будет выработано.
Игорь Минаев, Николай Иванов

Рекордного урожая нет и не надо?
В середине октября президент Владимир Путин пообещал «рекордный урожай зерновых» и наращивание объемов экспорта. Рекордного урожая в итоге нет, объемы экспорта падают, а глава Минсельхоза уже пугает ростом цен на хлеб.
ПОЧЕМ ХЛЕБУШЕК?
Цены на хлеб в России могут вырасти до 25-30 рублей за килограмм, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев: в настоящее время цена хлеба составляет 22-25 рублей, но этот хлеб изготовлен из пшеницы по цене 8 рублей за килограмм, сейчас же ее цена составляет 10 рублей за килограмм.
Впрочем, подрасти в цене «обещают» и другие продукты питания. Так, гречка в ходе сбора урожая подешевела всего лишь на 1,5 рубля за килограмм, тогда как в прошлые годы в октябре-ноябре гречка падала в цене до 50% - производителям было дешевле продать, чем хранить. Всего лишь два-три года назад в осенний период купить гречку в магазине можно было за 20-25 рублей.
Сегодня гречка продается оптом в среднем за 42,5 руб. за килограмм по стране. С рисом ситуация аналогичная - он стоит 45 руб. в опте, при этом в октябре прошлого года цена на рис была в 1,5 раза ниже.
«По пшенице показатель 10 400 за тонну, несмотря на то что сняли пошлину на твердую и семенную пшеницу. Цены никак не отреагировали и продолжают подрастать», - отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Фуражные цены ниже, но тоже впечатляют: так, фуражный ячмень стоит 8 тыс. руб. за тонну, тогда как в прошлые годы его цена в осенний период редко превышала 3-5 тыс. руб. за тонну и лишь к весне поднималась до 5-7 тыс. руб.
Фуражный ячмень является основным кормом для крупного рогатого скота и птицы, то есть очевидно, что цены на молоко и мясо начнут постепенно «подтягиваться» за ячменем и особенно заметно вырастут к весне.
КУДА ИСЧЕЗ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
13 октября в ходе форума «Россия зовет!» президент РФ Путин выразил уверенность, что «Россия будет укреплять свой статус одного из мировых лидеров по экспорту зерна, тем более что в этом году прогнозируется рекордный урожай зерновых».
Казалось бы, раз урожай рекордный, то и цены рекордно упадут! Но и цены не падают, и рекорда нет: по словам того же Злочевского, урожай хоть и хороший, но вовсе не рекордный для России, не говоря уже об урожаях времен СССР. Так, зерна на конец октября собрано 104 млн тонн, при этом убрано 98% площадей.
Догнать и обогнать 2009 год вряд ли получится - тогда собрали 108,6 млн тонн. А для РФ в составе СССР рекордным стал 1978 год, когда было убрано 128 млн тонн зерна.
С экспортом тоже не все гладко: по данным Минсельхоза РФ, Россия с 1 июля по 21 октября экспортировала 12,3 млн тонн зерна, что почти на 2 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Мы можем и 150 млн тонн произвести, это не проблема. Куда это зерно девать?» - вопрошает Злочевский. Внутреннее потребление продуктов питания не растет.
«Особенно актуальна проблема сбыта для удаленных от экспортных ворот регионов - на Урале хороший урожай, но пока зерно довезешь, оно золотое становится. А когда производитель получает убытки, он просто перестает сеять...» - продолжает Злочевский.
Элеваторов для хранения зерна не хватает - часть его к весне просто успевает сгнить. А перерабатывать зерно в России не любят. «Никакого импортозамещения в этих сферах не происходит - по-прежнему ноль. Например, модифицированный крахмал импортного производства как использовали, так и используем», - возмущается глава зернового союза.
ЗЛЫЕ ВРАГИ...
Зерно дорожает на 50-100 руб. каждую неделю. Но такие темпы производителей не устраивают, по их мнению, зерно - товар экспортный, а потому и расти в цене должно вслед за долларом, догоняя «курсовую разницу».
Из-за подорожания удобрений и топлива себестоимость продаваемой сегодня пшеницы на 35% выше, чем у прошлогодней. А озимые будут на 40-45% дороже.
Но, как это обычно бывает в России, не было бы счастья, да несчастье помогло - мировые цены на зерно неожиданно обвалились вместе с ценами на нефть. Так, в позапрошлом сезоне средняя цена на пшеницу составляла 320 долларов, в прошлом - 250, а сейчас - всего 180. Получается, что зерно на внутреннем рынке должно стоить как в 2013 году - за счет падения цен на мировом рынке оно уже выбрало всю «курсовую разницу».
Но с зерном получился парадокс, как с нефтью: чем она на мировом рынке дешевле, тем бензин в России дороже.
Несмотря на падение цен, Россия намерена наращивать объемы экспорта. Зерна на экспорт продается в среднем на 19 млрд долларов в год, что больше объемов экспорта вооружения на 5-6 млрд долларов.
Вмешаться в ситуацию обещает Украина. Дело в том, что основной экспорт зерна идет через порты России (Новороссийск, Севастополь, Туапсе, Тамань) и Украины (Ильичевск, Одесса, Южный, Николаев).
По мнению Аркадия Злочевского, «Украина может в любой момент изменить правила игры». Например, после введения ЕС ограничений на ввоз зерна в Европу имеющиеся мощности Украина сможет задействовать исключительно для вывоза украинского зерна, а российские поставки будут приостановлены.
России надо строить новые терминалы. А это большие деньги, которые снова негде взять в условиях кризиса.
...И «ДОБРЫЕ» ДРУЗЬЯ
Да и китайцы с зерном обманули - еще год назад звучали возгласы: «Вот-вот весь китайский рынок завалим зерном!» Но этого не произошло - Китай, несмотря на дружбу, так и не снял ограничений для российских поставок. «Мы уж много лет решаем эту проблему, чтобы открыть ввоз в Китай, но пока ничего не меняется, и ожидать каких-то поставок в ближайшее время не стоит», - комментирует Злочевский. По его словам, «это вопрос политический, и его надо решать на политическом уровне, а не на уровне фитосанитарных служб».
В итоге гниет зерно в Сибири и на Урале, а развитие порта во Владивостоке застопорилось на неопределенное время. «С порта идут поставки, но там объемы незначительные - в основном в Японию, Тайвань, Индонезию. Сама идея поставок через дальневосточные ворота для регионов Сибири очень важна, но никак не может реализоваться», - переживает Злочевский.
Не вполне по-дружески ведет себя и Турция - в последние годы она стала мировым лидером по экспорту муки, причем практически всю муку турки делают из российского зерна.
«Это не очень хорошо со стороны Турции, - рассуждает Злочевский. - Потому что условия для экспорта муки, созданные турецким правительством, не дают возможности нам в полный рост конкурировать с турецкой мукой на мировом рынке. Мы готовы перерабатывать зерно и экспортировать в Юго-Восточную Азию, где крупнейшие потребители именно муки. Но не можем перебить турков по цене, потому что они демпингуют. Это запрещено правилами ВТО, но они нарушают эти правила и делают такой хитрый ход».
Так, может, сельхозпроизводителя спасут поручения президента РФ по итогам ростовского совещания? Поручений этих было дано немало. «Например, там фигурирует тема страхования урожая с господдержкой. Мы еще в процессе проработки закона протестовали против механизма», - комментирует Злочевский.
Механизм заключается в том, что производителя на государственные деньги страхуют от «недобора урожая».
«Недобор урожая - это вообще вещь мифическая, - считает Злочевский. - Что это такое? Как это рассчитывать? Все страхование в аграрном секторе превратилось в схемное - просто страховщики договариваются с производителями, что они поделят господдержку». То есть обычный «распил». Часть производителей теперь и вовсе ничего не сажают - все лето сидят и страховку ждут.
То есть страховщики выиграли, но честные производители ничего не получили.
Кроме того, несколько лет назад Путин по итогам совещания уже давал поручение по страхованию аграриев. «А оно не исполнено - галочки поставили, и все», - возмущается глава Российского зернового союза. И не просто галочки поставили - еще и деньги на разработку законов потратили. А как без этого?
Аделаида Сигида

Россия 24: Интервью Анатолия Чубайса.
Эвелина Закамская, телеведущий канала «Россия 24»: Добрый день, Анатолий Борисович.
Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»: Здравствуйте.
Эвелина Закамская: Спасибо, что нашли время для нас сегодня. Форум «Открытые инновации» 2015, чем этот форум будем замечателен?
Анатолий Чубайс: Он уже такой традиционный, когда-то начинался он как нано-форум, потом мы сами сказали, что имеет, наверное, смысл расширить тематику и собирать там не только нанотехнологов, но и инноваторов, работающих во всех сферах, во всех отраслях. В общем, так и получается. Форум получается представительный, насколько мне известно, в этот раз будет больше 30 стран представлено, 3 тысячи участников, уникальное технологическое шоу достаточно интересное. Ну и потом, просто такое событие и в профессиональном смысле, и просто в таком человеческом смысле, получается обычно очень привлекательно. Я думаю, что в этот раз тоже коллеги организаторы сумеют этого достичь.
Эвелина Закамская: В чем практическая польза выражается? Это в большей степени продвижение брендов, заключенные контракты или налаживание связей, просто знакомство?
Анатолий Чубайс: Я думаю, что все вместе. Ну вот смотрите. Мы, честно говоря, каких-то крупных контрактов не планируем заключать. Но мы собираемся на форуме впервые в удаленном режиме опустить наш 61 введенный завод прямо на форуме. Мы планируем позвать детей, у нас есть такой большущий проект Школа РОСНАНО, в котором участвуют дети старшеклассники, совершенно уникальные, просто такие заряженные энергией, мы собираем их регулярно в разных городах России. Вот мы их пригласили туда, и им интересно, и это как-то освежает обстановку на форуме. То есть, что мне кажется правильным, то что там есть вот такой совсем скучный деловой компонент, до абсолютно человечески открытой и даже детской.
Эвелина Закамская: Популяризация инноваций.
Анатолий Чубайс: Да. Да.
Эвелина Закамская: Одним из критериев эффективности открытых площадок в России в последние 2 года, становится готовность иностранных участников приезжать посещать Россию и говорить о будущих инвестициях, будущих сделках. Что здесь, какой тренд здесь прослеживается по инновационным отраслям, по форуму?
Анатолий Чубайс: Картина такая: конечно же инновационный мир не может быть изолирован от мира в целом, поэтому, естественно, мы ощущаем некоторую сдержанность наших западных коллег. Но тем не менее, я посмотрел программу и я вижу там десятки выступлений, которые мне лично интересно посмотреть, люди такого класса, которых стоит послушать всегда. Кроме того, у нас, естественно, будут переговоры с нашими партнерами зарубежными. Я не помню точное количество зарубежных участников, потому что я понимаю, исходя из программы, иностранное представительство будет очень широкое, причем, абсолютно явный новый тренд, которого не было раньше. Мы часто под иностранными инноваторами подразумеваем американцев, европейцев, Израиль. Но совершенно очевидно, что наш разворот в сторону Китая, разворот в сторону Японии, разворот в строну Кореи, Сингапура, Тайваня, он осуществляется в инновационной сфере тоже и с видимыми результатами. У всех у нас в том числе, есть значимые результаты. На форуме будет много инноваторов из стран Азии, которые для нас являются немножко новыми, которые как-то по-другому смотрят на инновационные процессы, это тоже какая-то изюминка ближайшего форума.
Эвелина Закамская: Правительство ставит перед собой задачи и перед страной задачи наращивать не сырьевой экспорт на 6% в год. РОСНАНО здесь является одним из ведущих инструментов по реализации этих проектов в жизнь. Считаете ли вы эти прогнозы реалистичными? И какую помощь со своей стороны государство готово оказывать в частности, компании РОСНАНО?
Анатолий Чубайс: Для нас экспорт, это, безусловно, приоритет. По факту, примерно на уровне 20–22% в прошлом году был объем экспорта от всего объема продукции, которую мы произведем. Я думаю, что в этом году можно ожидать цифры примерно 25%, а в реальном измерении, это точно будет уже понятно, больше 200 млрд рублей.
Эвелина Закамская: Уже 200 млрд?
Анатолий Чубайс: Да, больше 200 млрд рублей в 2015-м году.
Эвелина Закамская: В 2014-м было всего лишь 13, если не ошибаюсь.
Анатолий Чубайс: В 14-м было 160 примерно так, если я правильно цифры с ходу вспомнил. В этом смысле, во-первых, у нас экспорт составляет значительную долю. Во-вторых, доля экспорта нанотехнологической продукции приближается или уже перегоняет долю экспорта в обрабатывающей промышленности в целом, а в-третьих, что особенно важно, что, что такое нанотехнологический экспорт? Это и есть, собственно говоря, диверсификация. Экспорт это и есть слезание с трубы, создание новых отраслей, которые признаны мировым рынком. Это происходит.
Эвелина Закамская: Какие виды нанопродукции сегодня экспортируется?
Анатолий Чубайс: Это очень широкий перечень. Давайте я вам лучше примеры какие-то назову. Скажем, например, не очень известно, но тем не менее, одна из наших портфельных компаний является глобальным мировым лидером по поставкам сапфира и сапфирового стекла. Продукции всех мировых брендов, включая самых известных производителей гаджетов входит наше стекло, правда эти самые мировые бренды часто запрещают называть имена поставщиков, и мы попадаем тут в такое информационное ограничение, но компания Монокристалл, находящееся в Ставрополе сегодня крупнейший в мире производитель сапфирового стекла. Другого просто нет такого же масштаба, она прошла через тяжелейший кризис в этой отрасли, выжила и существенно увеличила объемы продаж. Она не единственный пример. Экспортирует Германии, наши компания Германии приложения, экспортирует элементы безмасочной литографии наша компания Маппер и так далее, и так далее. Экспорт для нас это и с точки зрения бизнеса важнейший компонент, потому что это серьезные доходы, и с точки зрения того, что это такая 100% гарантия того, что по параметрам цена-качество мы находимся на передовых в мире позициях.
Эвелина Закамская: Если все-таки вернуться к поддержке государства, какие инструменты сегодня желательны и эффективны для компании РОСНАНО? И как это отражено в бюджете 2016?
Анатолий Чубайс: Вот, собственно, завершились в правительстве не простые дискуссии по бюджету. Суть позиции правительства, суть решений состоит вот в чем. Правительство приняло решение продолжить поддержку РОСНАНО, но, поскольку мы находимся уже на следующей фазе развития нано-индустрии, мы не будем получать ассигнований бюджетных, то есть средств, которые просто израсходовали и все. Мы не будем получать средств, капитал, мы получаем госгарантии, что означает, что мы должны на рынке под эти госгарантии суметь привлечь на рыночных условиях кредиты, которые мы возвратим, заплатим за них проценты и сумеем дать новый импульс нано-индустрии за счет этих привлеченных средств.
Эвелина Закамская: Но тем не менее, у вас есть возможность и самостоятельно предпринимать шаги для повышения капитализации компании, привлечение инвесторов. Вы провели размещение рублевых облигаций на 9 млрд. Насколько оправдал себя этот шаг? Как оцениваете другие валютные риски? И что показал спрос на эти акции?
Анатолий Чубайс: Шаг себя полностью оправдал. Это как раз связано с господдержкой, и для нас очень важно, что параметры размещения оказались очень привлекательными. Мы знаем, что сейчас некоторые серьезные размещения облигаций проходят с трудностями и даже не до конца размещаются, у нас 100% размещение произошло фактически мгновенно. Со ставкой 12,5% при срочности в 7 лет. Это очень хорошие параметры, это полностью соответствует нашему бизнес-плану. Это означает, что мы получили ресурс для следующих инвестиций в нано-индустрию в России.
Эвелина Закамская: Возможности размещения валютных облигаций на валютном рынке сейчас рассматриваете для себя…
Анатолий Чубайс: Вы знаете, они нам не очень интересны. Дело в том, что мы же не банк, мы с такими сложными финансовыми инструментами не работаем. Что такое размещать валютные облигации? Это значит брать на себя валютные риски. Нам не хотелось бы уходить в чисто финансовую технику. Мы, прежде всего, промышленный инвестор. Поэтому мы идем, может быть более ортодоксальным, стандартным, но и более надежным путем. Российские облигации с хорошими параметрами, что нас вполне устраивает.
Эвелина Закамская: По вашим планам, озвученным еще в момент создания управляющей компании РОСНАНО, вы в 2015-м году должны были выйти на 49% частных инвестиций среди всех ваших финансовых ресурсов. Будет ли достигнут этот показатель? И какие инструменты еще можно рассматривать для того, чтобы привлекать частных инвесторов?
Анатолий Чубайс: 49% это плановая цифра по долей частного капитала в управляющей компании РОСНАНО, этот параметр у нас заложен в нашей KPI, он означает, что менеджмент РОСНАНО должен осуществить покупку по рыночной цене 49% акций компании. Мы провели соответствующие подготовительные мероприятия, со стороны менеджмента готовность есть. Но точку в этом вопросе ставит совет директоров, и мы рассчитываем этот вопрос обсуждать в недалеком будущем.
Эвелина Закамская: Ну а как в целом оцениваете интерес частных инвесторов сегодня к активам РОСНАНО?
Анатолий Чубайс: Мы в этом смысле вышли на качественно новый уровень, который раньше, в общем, нами и не ставился как задача. Суть: мы сегодня говорим не просто о проектах нанотехнологических, а мы говорим об инвестиционных фондах, наноиндустрии. Это сердцевина нашей стратегии и создавая их, мы взяли на себя обязательство в каждый такой фонд не менее чем 50% средств привлекать не наших, внешних средств. На сегодня это удается, удается это и во взаимоотношениях с российскими частными партнерами, мы создаем инвестиционный фонд с СМП Банком, думаем, что мы до конца года создадим как минимум, еще 1–2 фонда с другими частными российскими структурами в ноябре- в декабре рассчитываем успеть, естественно, скажем о них. И помимо этого мы создаем инвестиционные фонды с нашими зарубежными партнерами но поскольку сейчас, по понятным причинам, с западом это мало реалистично, мы реально заместили на наших восточных партнерах, мы создали уже второй фонд с Китаем, это очень авторитетный партнер. Такой Цинхуа юниверсити, университет Цинхуа очень известный и структура серьезнейшая, с активами под 200 миллиардов долларов. Вместе с ними мы создаем совместный инвестиционный фонд, целью которого является нахождение стартапов в Израиле и абгред технологии развитие технологии для России и для Китая, вот такая трехстрановая конструкция, очень рассчитываем, что будет поставлена точка в этом году и фонд начнет работать.
Эвелина Закамская: Поиск стартапов продолжается или начинается сейчас?
Анатолий Чубайс: Ну он, конечно, не начинается, он продолжается, причем здесь помимо нашего обычного стандартного поиска стартапов, мы их еще и сами выращиваем. В группе РОСНАНО есть некоммерческий фонд инфраструктурных образовательных программ, который построил на сегодня 12 нано-центров. Нано-центр это фабрика стартапов. У нас на сегодня стартапов, созданных нашими нано-центрами более 400. В Новосибирске, в Троицке, в Саранске, в Ульяновске, в Зеленограде, в еще ряде городов России, уже отлаженная технология такого, ну почти конвейерного производственного стартапов. И мы, конечно же рассчитываем, что те стартапы, которые мы начали создавать, а цифры, в общем-то уже вполне серьезные, это подрастающие объекты для инвестиций АО РОСНАНО.
Эвелина Закамская: Когда мы с вами регулярно обсуждаем возможности поиска средств, в частности, там длинных денег на внутреннем рынке, то так или иначе, возвращаемся к возможности привлечения средств пенсионного фонда. Для этого нужны были законодательные изменения. Дискуссия остановилась вот на вашем предложении внести эти изменения, или есть движение?
Анатолий Чубайс: Дискуссия не остановилась. У нас было очень конструктивное взаимодействие с Центробанком. Даже знаете, не в режиме какого-то грозного бюрократического совещания, а в режиме содержательного семинара. Руководство Центробанка попросило нас, дайте нам такое компетентное изложение того, как выглядит роль пенсионных фондов в венчурной индустрии Прайвет эквити индустрии в мире. Разговор прошел очень предметный у Сергея Швецова, первого заместителя председателя Центробанка. Как мне показалось, нас поняли лучше. И мы точно готовы двигаться дальше. Тем более, что есть и официальное поручение председателя правительства на этот счет.
Эвелина Закамская: О том, чтобы такое разрешение в декларацию Пенсионного фонда было внесено и от 2 до 4% Пенсионный фонд мог…
Анатолий Чубайс: Вот вы уже цифры называете, я бы не рискнул их назвать.
Эвелина Закамская: Это показатели европейских фондов внесенных.
Анатолий Чубайс: Да, там есть параметры на уровне там от 3 до 5%, вы называете правильные ориентиры, что для нас главное? Пенсионный фонд это колоссальные объемы ресурсов, под 2 триллиона. Они сегодня где эти средства? Их куда-то размещать надо. Как правило, это просто депозиты банков. Что возможно, но что не разумно. Когда, примерно, 15 лет назад в Соединенных Штатах такая же точка была пройдена, то есть когда разрешили Пенсионным фондам вкладываться в венчурные Прайвет эквити индустрии, это привело к многократному росту индустрии инвестиций, прямых инвестиций. Собственно, того же самого мы добиваемся и я думаю, что это пройдет и в России. Речь идет об изменении в нормативной базе, о прямом разрешении пенсионным фондам вкладывать средства в вот такие фонды. Тем более, что в России уже создана Минэкономика и нами создано законодательство об инвест-товариществах, то есть о российских Прайвет эквити фондах. Создана, кстати говоря, целая ассоциация РОСПЕК, это российская Ассоциация прайвет эквити фондов, которая работает в этой сфере практически и осуществляет инвестиции в российскую экономику.
Эвелина Закамская: Средствами негосударственных пенсионных фондов вам еще не приходилось пользоваться.
Анатолий Чубайс: Нет, нам еще пока не приходилось.
Эвелина Закамская: Как вы относитесь к решению заморозить отчисления в негосударственные пенсионные фонды?
Анатолий Чубайс: Тяжелое решение, конечно, стратегически оно очень опасно, потому что оно вызывает вопросы по долгосрочности этой системы, но при этом очень важно, что было прямое заявление министра экономического развития Алексея Улюкаева о том, что это решение не отменяет стратегии по строительству в России системы негосударственных пенсионных фондов. И очень хочется надеяться, чтобы оно стало последним.
Эвелина Закамская: Еще одна задача, которую вы перед собой ставили, которая должна была быть реализована в 2015-м году, это портфель активов на сумму в 300 млрд рублей. Удается ли не выбиваться из графика?
Анатолий Чубайс: Это не простая задача. Мы действительно на нее заточены, в прошлом году у нас было больше 220 млрд рублей. Считаю, что у нас есть все шансы планку 300 млрд пройти. Мы, собственно, на это и работаем. К 300 млрд наших проектов должны добавиться еще 600 млрд независимых от нас производителей, 300 плюс 600, 900 миллиардов плановая цифра 15-го года, она была нам задана еще в 2008-м, я твердо рассчитываю, что мы сегодня без всяких корректировок этот план выполним.
Эвелина Закамская: Вы сохраняете также планы, в таком случае, по выходу на безубыточность РОСНАНО в 2017-м году?
Анатолий Чубайс: Да, картина выглядит именно так. У нас в нашем бизнес-плане счет пошел в абгрейд, с 17-го года должна появиться прибыль. Правда, по факту, мы в 15-м году, в 14-м году, прошу прощение, впервые досрочно получили прибыль по МСФО. Значит, пока трудно сказать о 15-м годе, но повторю еще раз, плановую задачу 17-го года выйти на чистую прибыль по МСФО и соответственно начать платить дивиденды государству, мы заложили в нашу финансовую модель до 20-го года, она работает.
Эвелина Закамская: И вы планируете в эти же сроки продать свой пакет в управляющей компании.
Анатолий Чубайс: Да. Да.
Эвелина Закамская: 60 предприятий компании РОСНАНО сегодня работает на территории России. Насколько стабильно они себя чувствуют, насколько уверены в их экономическом будущем?
Анатолий Чубайс: Вы знаете, в инновационной же сфере все не как у людей, в том смысле, что если мы говорим о компаниях уровня там монокристалла, как я сказал, или компаниях уровнях пермского Новомета, уникальный производитель высококачественного оборудований погружных насосов для нефтянки, очень мощная команда. Серьезная крупная компания с объемами каждое производство 3,5,7 млрд рублей, они твердо стоят на ногах, они развиваются. Они, безубыточны, инвестируют, и так далее. Но, по определению, часть построенных нами компаний, Стартапы, это те, которые только начинают, собственно говоря, работать. Многие из них для того, чтобы выйти на безубыточность, должны еще провести один раунд, второй раунд, третий раунд. Это, собственно, и есть то, что называется инновационной сферой. Конечно же, в условиях финансового кризиса сложнее решить задачу привлечения инвестиций вот на этих стадиях, тем не менее, мы проходим без банкротств, и у нас ситуация, когда мы поставили задачу привлечь финансовые ресурсы и ничего не смогли бы сделать, такой ситуации в этом году не было, и я думаю, что и не будет.
Эвелина Закамская: На предприятиях не проводится политика по оптимизации, кадровой оптимизации, закрытию каких-то производств, не отказываетесь от проектов?
Анатолий Чубайс: Мы от проектов не отказываемся, а вот политику оптимизации мы проводим. Причем часто мы это делаем на новых предприятиях. Вот смотрите, мы буквально месяц назад в Саранске построили первый в России завод по производству оптоволокна. Я практически сразу же после этого в Японии встречался с руководством компании, с Sumitomo Electric, которая является одним из мировых лидеров, и мы понимаем, что уровень эффективности у них существенно выше, чем то, что мы хотели сделать у нас. Поэтому мы договорились с японскими коллегами. Дорогие друзья, нам точно нужна ваша компетенция в решении вопросов: А) качество. Мы хотим делать российское оптоволокно точно не хуже, чем японское. Б) затраты. У них на 10 установок один работающий, у нас на одной установке 1 работающий. Мы не можем себе позволить такого расточительства. Мы договорились с компанией Sumitomo Electric о взаимодействии вот на этот счет и пользование их опыта.
Эвелина Закамская: По производительности труда мы действительно занимаем одно из последних мест в мире, по последним исследованиям, если в Европе рассматривается ситуация, уступили место даже Греции, которую кто только не ругал за леность.
Анатолий Чубайс: Это правда. Это правда, но мы недавно специально сравнивали производительность труда в наноиндустрии, ну уже есть что читать, уже есть объемы, те самые 220 млрд. Сравнивали с производительностью труда в обрабатывающей промышленности в целом. У нас она на 60% выше, чем в целом в обрабатывающей промышленности. Мало того, у нас и рост существенно выше, темпы роста в целом наноиндустрии в России 12%. Это означает, что высокотехнологичный сегмент расширяется и производительность у него выше, следовательно, и темпы, мы вносим свой вклад в рост производительности в целом в обрабатывающей промышленности в стране.
Эвелина Закамская: А у вас нет на балансе градообразующих предприятий? В связи с оптимизацией всегда возникают риски, социальные риски.
Анатолий Чубайс: Нет, этого, к счастью, нет.
Эвелина Закамская: А с другой стороны, в условиях девальвации и таких кризисных экономических явлений неожиданно появилось и другое преимущество, российская рабочая сила стала значительно дешевле, уступая тоже многим странам по некоторым параметрам даже Китаю. Вы почувствовали уже это преимущество?
Анатолий Чубайс: конечно.
Эвелина Закамская: Насколько его можно рассматривать как преимущество?
Анатолий Чубайс: И по цене рабочей силы, и по цене электроэнергии, которая сейчас одна из самых дешевых среди развитых стран в России. И это означает, что? Это означает, что мы получили импульс, мы получили серьезный импульс для экспорта, существенно более серьезный, чем раньше. Ну вот у нас, скажем, есть строящийся нами с партнерами солнечная индустрия в России. В том числе построенный в Чувашии завод Хевел. Мы изначально рассчитывали, конечно, на российский рынок, который создается, кстати говоря, в котором разыгрываются тендеры, которым мы будем дальше заниматься. Но, сейчас вот в этой ситуации, о которой вы говорите, мы видим, что мы по-настоящему можем поставить перед собой задачу экспорта и мы ее ставим. Да, для этого придется на том же самом Хевеле произвести апгрейд технологии и перейти к тонкопленочных панелей на технологию хит, так называемый, с КПД 20%. Но мы понимаем как мы это сделаем, мы понимаем, в какие сроки это будет осуществлено, мы понимаем, на какие инвестиции мы это сделаем. И сделав это, мы должны выйти на мировые рынки с российскими панелями.
Эвелина Закамская: Ну а если по другим параметрам, насколько благоприятна почва и климат в России для появления стартапов? Занимаетесь ли вы изучением НИОКРА по-прежнему и возможности приложения по поддержке этих исследований?
Анатолий Чубайс: Вы знаете, конечно же в России климат для стартапов не такой благоприятный, как уже в таких сложившихся инновационных экономиках, как, скажем, Израиля или силиконовой долины в Соединенных Штатах. И такого же мощного уже, естественно идущего потока у нас нет и не надо пытаться реально сделать лучше, чем она есть. Вместе с тем, мы же сейчас находимся все равно еще пока на стадии только зарождения всей экосистемы инновационной в России. И в этом смысле, также как и везде в мире, и в силиконовой долине, и в том же самом Израиле, без государственной поддержки не зарождается инновационная экономика, это невозможно. К счастью, у нас это понимают, и такая поддержка существует. В этом смысле, поэтому и появляются цифры. Я вам сказал, за 300 стартапов, которые возданы в нано-центрах, которые были поддержаны государством. И это и есть тот механизм, который через шаг уже должен создать им самоокупаемость, саморазвитие и так далее. Но пока без государственной поддержки это просто было бы не реально.
Эвелина Закамская: Вы анонсировали новый проект с американской компанией по выращиванию микроводорослей на базе института Губкина. Как вам сегодня удается работать с американцами? Есть какие-то особенности взаимоотношения в условиях такого политического похолодания?
Анатолий Чубайс: Ну этот проект внучатый, то есть проект, создан (нрзб.) фонда. Ответ на ваш вопрос таков: конечно же мы чувствуем сдерживающий эффект от санкций в нашем инновационном мире, он достаточно серьезен. Но он не тотален. Тем не менее, возникает целый ряд серьезных направлений, в которых и наши западные партнеры готовы с нами взаимодействовать. У нас нет ситуации абсолютного запрета на взаимодействие. Я имею в виду западные страны. Кстати говоря, на одной из последних сессий с президентом я получил просто прямое указание, не закрывать двери для сотрудничества с западом, оставлять их открытыми, где это возможно, развивать.
Эвелина Закамская: Я благодарю вас. Желаю успехов.
Анатолий Чубайс: Спасибо.
За январь-сентябрь 2015 г. в четырех пилотных зонах свободной торговли (особых экономических зонах – ОЭЗ) Китая, которые находятся в Шанхае, Гуандуне, Тяньцзине и Фуцзяни, создано 4639 предприятий с участием иностранного капитала. Зарубежные инвестиции в указанные предприятия достигли 346,11 млрд юаней ($54,9 млрд), сообщило Министерство коммерции КНР.
Так, за девять месяцев текущего года в Шанхайской ОЭЗ рост количества новых совместных предприятий составил 52,6% относительно уровня января-сентября прошлого года. А в зонах Гуандуна, Тяньцзиня и Фуцзяни данный показатель увеличился в четыре раза.
В целом за январь-сентябрь 2015 г. вВ указанных ОЭЗ учреждено 45 000 новых предприятий. Это в 3,2 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года.
Ранее сообщалось, что правительство Китая одобрило планы развития в стране зон свободной торговли. Речь, в частности, идет об объектах в провинциях Гуандун и Фуцзянь, городе Тяньцзинь. Особая зона в Гуандуне призвана способствовать экономической интеграции со специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Фуцзяньская ОЭЗ направлена на сотрудничество с Тайванем, а аналогичный объект в Тяньцзине – с Пекином и провинцией Хэбэй.
Биржевой рост губит реальный экспорт пшеницы США.
Экспортные продажи пшеницы США оказались провальными. Это второй подобный результат с начала сезона, первый раз провал до 77 тыс. тонн случился в конце сентября. А между тем трейдеры и эксперты ожидали продажи в диапазоне 300-500 тыс. тонн.
Минусовых отказов от твердой пшеницы HRW не случалось с начала июля с.г.
Отставание общего объема продаж от прошлого сезона выросло до 17%.
География продаж стала совсем, уж, неприличной. Кроме традиционно Южной Кореи, закупки совершили лишь мелкие соседние страны.
Характерно, что падение объемов экспорта пришлось на неделю роста на всех трех биржах США. Cнова интересы биржевых спекулянтов разошлись с реалиями физического рынка.
Главными покупателями недели стали: Южная Корея (41 100 тонн), Гондурас (24 400), неназванный покупатель (23 200), Мексика (20 000) и Коста-Рика (15 500). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: Нигерия (40 000 тонн) и Колумбия (12 300).
Главными получателями недели стали: Тайвань (51 800 тонн), Япония (40 000), Мексика (22 700), Гондурас (16 300) и Коста-Рика (15 500).
Рыбный рынок Поднебесной переходит в Интернет
В Китае к 2017 г. продажи рыбы и морепродуктов через Интернет составят около 7,89 млрд. долларов, заявил представитель онлайн-магазина Tmall Ин Джун. По его словам, число жителей КНР, покупающих в сети рыбу и морепродукты, вырастет более чем вдвое.
Ин Джун (Ying Jun) озвучил прогноз в Циндао на Международном форуме, посвященном проблемам устойчивого рыболовства (Sustainable Seafood Forum). По информации представителя Tmall, продажи рыбы и морепродуктов через сеть в стране к 2017 г. могут в пять раз превысить результат, который ожидается по итогам 2015 г. Еще два года назад этот показатель не превышал 157,8 млн. долларов, пишет британский портал Undercurrent News.
Tmall, принадлежащий компании Alibaba, является китайской платформой для продажи брендовых товаров жителям КНР, Гонконга, Макао и Тайваня. Магазин прогнозирует, что продажи увеличатся быстрее, чем число покупателей.
По словам Ин Джуна, количество китайцев, которые покупают рыбу и морепродукты с помощью смартфонов, планшетов или компьютеров в 2017 г. составит 55 млн. человек (в 2015 г. ожидается 25 миллионов).
Как сообщает корреспондент Fishnews, Tmall видит несколько способов увеличения продаж: знакомство потребителей с иностранными брендами, улучшение логистической цепочки в Китае и развитие мобильных интернет-продаж. Сейчас портал занимается продвижением рыбопродукции из Аляски и Канады, а также активно работает с Морским попечительским советом (MSC).
В компании отмечают, что онлайн-шоппинг с помощью телефонов уже занимает важное место в торговле – в этом году 70% покупок были сделаны через мобильные устройства.

Главный итог предстоящей в субботу в Сингапуре первой в истории встречи высших лидеров КНР и Тайваня понятен заранее. Итог этот имеет отношение даже не к затянувшейся на столетие китайской гражданской войне, а к тому, понравится ли ее завершение Америке.
Оставить все как есть
Встреча глав двух Китаев, Си Цзиньпина и Ма Инцзю, произойдет на нейтральной, но весьма китайской территории (три четверти населения Сингапура — этнические китайцы). Заранее объявлено, что никаких коммюнике и даже заявлений не планируется. То есть смысл — в самой встрече как таковой. Ведь лидеры сторон, противостоявших друг другу в гражданской войне, не встречались с момента ее фактического окончания (с 1949 года), да и раньше пообщались только однажды (безрезультатные переговоры противостоявших друг другу Мао Цзэдуна и Чан Кайши осенью 1945 года, к которой Мао буквально вынудил товарищ Сталин).
В любом случае речь о событии мирового значения — даже если речь лишь о каком-то символическом шаге по сближению и примирению двух сторон. В конце концов, в истории нашего времени что-то не видно гражданских войн, которые формально не кончаются в течение целого столетия, да еще с учетом того, что это гражданский конфликт внутри одной из двух мировых сверхдержав.
Когда эта война формально началась, сказать так же трудно, как когда она формально закончится. Хаос и развал Китая, драка всех против всех постепенно нарастали после революции 1911 года — свержения монархии. Военное противостояние двух сил, коммунистов и националистов, стало фактом в 1927 году, и его не остановила даже японская агрессия и опять же формальный союз двух враждовавших Китаев против оккупантов. Остров Тайвань стал последним прибежищем проигравших в 1949 году.
С этого же момента началась ситуация, когда каждая сторона на уровне конституции признает Китай единым, то есть считает законным правителем такового только себя. Что, впрочем, не мешает нынешней экономической интеграции "двух Китаев", не отменяет того факта, что в реальной жизни существование Тайваня без обширных деловых связей с континентом попросту невозможно.
Но жизнь — это жизнь, а юридический статус — совсем другое дело. Так что начиная с субботы, даже если два лидера просто поговорят о погоде, формальный финал гражданской войны в Китае окажется ближе. Может, она и дотянется до столетнего юбилея (2027 год), но китайцы — народ в таких ситуациях неторопливый.
В четверг тайваньский лидер Ма провел пресс-конференцию, на которой было обозначено множество акцентов, вплоть до того, что он и Си будет называть друг друга просто "господин Си и господин Ма", без президентских и прочих титулов. Появилось и множество комментариев с обеих сторон Тайваньского пролива, из которых ясно, что, вообще-то, если не мерить вечностью, то суть встречи всего лишь в том, чтобы не дать оппозиционной, но берущей в следующем году власть Демократической партии Тайваня спровоцировать конфликт в этой части света. Лучше оставить все как есть, да вдобавок этого явно хочет и Вашингтон: вот общая мысль комментаторов.
Никаких больше Саакашвили
А причем здесь Вашингтон, не считая того факта, что с 1949 года США поддерживали Тайвань в качестве непотопляемого авианосца для борьбы с тогдашними, коммунистическими, властями Китая?
Здесь дело в том, что кроме вечности — то есть формальных актов по завершению гражданской войны — есть проблемы сиюминутные, политические. Название этой проблемы — тайваньские демократы, или Демократическая прогрессивная партия. Она уже побывала у власти, со скандалом ее потеряла, но, по итогам выборов января 2016 года, почти наверняка вернется. И партия президента Ма — то есть Гоминьдан, та самая партия, что боролась с Мао в той гражданской войне, — окажется в оппозиции.
Тайваньские демократы — типичное дитя 90-х, родственник Демократической партии США, глобалисты, сторонники "общечеловеческих ценностей" и т.д. И у них есть одна особенность: они (и их избиратели) сторонники провозглашения независимости Тайваня от Китая, в то время как до сего дня, напомним, Тайвань, как и Пекин, считают, что Китай един, вопрос только в том, какой из двух режимов "правильный". Пекин уже столько раз грозил военными акциями в случае формального отделения Тайваня, что намек нельзя было не понять. Да хватило бы и акций невоенных, чтобы тайваньский бизнес, завязанный на Китай, погиб бы и таким образом ввергнул остров в глубочайший кризис.
Ма Инцзю согласен с Вашингтоном, замечает пекинский комментатор, говоря об американском "подозрительном отношении как к провокационной независимости, так и к сближению" двух Китаев. То есть нынешней встречей с Си Цзиньпином Ма подыгрывает не только Пекину, но и Вашингтону, и наносит удар по тайваньским демократам. Он хочет выставить демократов в виде опасных провокаторов и, кто знает, повлиять на избирателя. Пекин это тоже вполне устраивает, для того и историческая встреча в Сингапуре.
То, что Пекин и партия Гоминьдан на Тайване равны в патриотизме, — понятно так же, как и то, почему тайваньские демократы не такие патриоты. Но почему Вашингтон должен радоваться удару по демократам и огорчаться уходу гоминьдановцев от власти? Разве США не заняты постоянными провокациями с целью ослабить Китай, разве не для этого они направляют свои военные корабли в спорные воды Южно-Китайского моря, провоцируя Пекин? Не говоря о том, что, как уже сказано, тайваньские демократы — типичное дитя 90-х, идейные дети тогдашней администрации Билла Клинтона?
Но в том-то и дело, что сейчас не 90-е. То, что тогда было нужно США, сейчас выглядит для них опасным. Китай только что обогнал Канаду в качестве первого торгового партнера США, его военно-морская мощь именно в Азии заметно выросла. В этой ситуации для США не должно быть никаких "новых Саакашвили", которые играли бы в свою провокационную игру, сталкивая ядерные сверхдержавы.
Одно дело — постоянно поджаривать геополитического конкурента на маленьком огне, твердо держа при этом руку на контрольных приборах, другое — когда вот такой Саакашвили с Тайваня просовывает руку туда же. Или когда Саудовская Аравия с Катаром берут Америку в заложники своих акций на Ближнем Востоке. Эти две истории не нравятся в Вашингтоне ни республиканцам, ни даже демократам.
Вы спросите, а как же тогда Саакашвили как таковой оказался на Украине? Так в том-то и дело, что Восточная Европа и даже Ближний Восток — не Китай. Китай больше и важнее.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
F-16 выдержал более 27 тысяч часов.
Компания Lockheed Martin провела испытания структурной целостности планера истребителя F-16C Block 50 до более 27 тыс эквивалентных летных часов в рамках программы продления летного ресурса от 8000 до 12000 часов, сообщает flightglobal.com 3 ноября.
Испытания проводятся с июля этого года, после достижения 27713 часов в 32 циклах данный самолет разбирается на части на предмет изучения структурных аберраций.
ВВС США планируют провести модернизацию примерно 300 истребителей этого типа, компания «Локхид» намерена использовать данные испытаний для продления срока эксплуатации истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС 27 стран мира, в первую очередь Тайваня и Южной Кореи (по сообщению en.wikipedia.org, общее количество произведенных истребителей этого типа превышает 4540 самолетов — прим. Военный Паритет).
Компания продолжает производить истребители очень мелкими сериями, недавно четыре самолета были поставлены ВВС Египта. Продолжается производство для ВВС Ирака, компания надеется на дополнительные заказы от других стран, чтобы продлить работу производственной линии за пределами 2017 года.
Первая в истории встреча лидеров КНР и Тайваня состоится в субботу в Сингапуре, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя тайваньских властей.
Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин и глава тайваньской администрации Ма Инцзю "обменяются мнениями по вопросам отношений между сторонами". Пресс-секретарь Инцзю Чарльз Чен отметил, что встреча не предполагает подписания каких-либо соглашений или совместных заявлений.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Напряжённость в Южно-Китайском море усиливается
Владимир Терехов
27 октября с.г. произошло событие, в очередной раз показавшее, где, кто и каким образом пытается ответить сегодня на основной вопрос истории на очередном её витке, отсчёт которого ведётся с окончания “холодной войны”.
В этот день американский ракетный эсминец Lassen, маневрируя в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ), прошёл внутри 12-мильной зоны, окружающей один из трёх коралловых островов архипелага Спратли, размеры которых заметно увеличились в результате насыпных работ, проводимых в последние два года Китаем. На образовавшейся искусственной поверхности ведутся некие строительные работы. Американские аналитики и официальные лица утверждают, что появляющиеся на островах сооружения носят очевидный военно-прикладной характер.
Реакция Китая на подобные обвинения менялась во времени. Первоначально говорилось, что строения являются чисто гражданскими и предназначены для обеспечения свободы и безопасности судоходства в ЮКМ.
Эти слова носили характер контраргумента на публичные опасения США (то есть главного геополитического оппонента Китая) об угрозе, исходящей от китайских “военных” сооружений на указанных островах упомянутым “свободе и безопасности” на одном из крупнейших мировых торговых трафиков.
Но затем позиция Китая упростилась и свелась к тривиальному: “А, собственно, какое ваше дело? Что хотим, то и строим на своей территории”.
В последнем пассаже, однако, скрывается проблема, которая придаёт невесёлые оттенки оценкам как частного факта захода американского эсминца в (якобы) территориальные воды Китая, так и гипотетическому ответу на обозначенный выше ключевой вопрос истории.
Ибо, в отличие от ситуации с Тайванем, претензии Китая на владение 80% акватории ЮКМ, а также почти всеми его архипелагами и отдельными островами не поддерживается (по крайней мере, в однозначных формулировках), видимо, никем в мире.
К этому следует добавить, что едва ли могут быть какие-либо сомнения по поводу предстоящего решения гаагского Арбитражного суда на запрос Филиппин относительно оценки обоснованности китайских претензий на владение большей частью ареала ЮКМ. Примечательно, что будущее решение (как и вообще филиппинский запрос) Китаем заранее объявляется ничтожным.
Формально США не имеют собственной позиции по поводу территориальных споров в ЮКМ и не предлагают никому своих посреднических услуг, призывая все стороны решать разногласия к выгоде всех сторон и на основе международного права.
Что касается конкретных искусственных островов, то, как полагают в Вашингтоне, международным правом вообще запрещается устанавливать вокруг них национальные 12-мильные зоны.
То есть, с позиций руководства США, эсминец Lassen 26 октября с.г. не был нарушителем государственных границ КНР. О чём загодя и не раз предупреждал глава Пентагона Эштон Картер, заявляя о готовности американских военных кораблей и самолётов появляться везде, где это не запрещено международным правом.
По мнению же МИД КНР, такое преднамеренное нарушение 27 октября произошло, и оно усугублялось отсутствием реакции американского эсминца на требования сопровождавших его китайских боевых кораблей покинуть “территориальные воды” вокруг островов, “принадлежность которых не обсуждается”.
Таким образом, упомянутая выше проблема нынешнего опасного периода отношений между двумя ведущими мировыми державами сводится к тому, что обе они, декларируя соблюдение международного права в ходе тех или иных собственных мероприятий в ЮКМ, ставят мир на грань вооружённого конфликта, о потенциальных масштабах и последствиях которого лучше не говорить.
Естественно, что международно-правовая казуистика имеет лишь косвенное отношение к реальным (и фундаментальным) причинам процесса возрастания напряжённости в ЮКМ с определяющим участием в нём обоих главных мировых игроков.
Как и к причинам Первой мировой войны не имел отношения некий экзальтированный студент из Сараево. Отметим, что сегодня всё чаще сравнивают нынешнюю политическую ситуацию в мире с периодом, который предшествовал той глобальной катастрофе.
С середины прошлого десятилетия стали публиковаться различного рода рассуждения на тему природы потенциального американо-китайского вооружённого конфликта и перспективы его развязывания. Как правило, они появлялись на этапе очередного обострения отношений между двумя ведущими мировыми державами.
Не стал исключением и нынешний этап. Почти одновременно с опасным маневрированием в ЮКМ эсминца Lassen, такая статья под заголовком “Америка против Китая: война неизбежна?” была опубликована в американском журнале The National Interest. Её автор озаботился проблемой точности перевода с древнегреческого знаменитой фразы Фукидида (участника и историка Пелопоннесской войны) о том, что рост Афин вызвал опасения в Спарте, что сделало войну между ними неизбежной. Смысловое содержание этой фразы получило название “ловушка Фукидида”.
Указанная проблема обсуждается в контексте реплики председателя КНР Си Цзиньпина (сделанной им в ходе последней поездки в США) о том, что, на самом деле, никакой “ловушки Фукидида” не существует. А существуют человеческие ошибки в оценках складывающейся ситуации и в конкретных действиях людей, которые и приводят к мировым катастрофам.
В порядке комментария к этой (в целом верной) реплике следует заметить, что упомянутые китайским лидером “ошибки” некие люди в критических ситуациях делают, что и приводит к “пелопоннесским” войнам.
Здесь напрашивается аналогия с так называемыми “законами физики”, которые есть ничто иное, как обобщение накопленных к данному моменту наблюдений, в которых (пока) отсутствуют исключения.
Взять, хотя бы, последние “эксцессы” в ЮКМ. Почему бы, спрашивается, обеим ведущим мировым державам не ограничиться словесной перепалкой, но “без рук”? Точнее, без ракетных эсминцев в чувствительных для кого-либо из них зонах?
Почти наверняка в ответ на поставленный вопрос появится контраргумент в виде “это они первыми пустили в ход руки, незаконно засыпая песком коралловые рифы”.
В ответ же на этот “ответ” может появиться некий древний папирус с иероглифами, “подтверждающими” как раз законность строительных работ на рифах.
В свою очередь, Вьетнам и Филиппины тоже покопаются в своих архивах и найдут собственные папирусы прямо противоположного содержания, которые непременно окажутся в руках их нынешнего “старшего брата” и главного оппонента владельца первого папируса…
Как показывает история, рано или поздно у какой-то из сторон подобного рода словесной тяжбы лопается терпение (очень будем надеяться, что не в этот раз), и он прибегает к старому, “доброму и универсальному” средству в виде обобщённого “булата”. В расчёте на то, что именно его “булат” окажется крепче, и он таки сможет заставить несговорчивого оппонента согласиться с иероглифами своего “папируса”.
В связи с последним полезно напомнить одну из правдоподобных версий мотивации тех, кто в начале прошлого века всё же решил прибегнуть к использованию войны (“которую, на самом деле, никто не хотел”) с целью решения накопившихся к тому времени проблем.
Якобы считалось, что в условиях достигнутой к тому времени интенсивности военных действий лишь на несколько месяцев (максимум на полгода) хватит накопленных арсеналов. За это короткое время удастся избежать нанесения друг другу сколько-нибудь сильного ущерба и придётся сесть за стол переговоров, поскольку всё равно стрелять не чем. С тем чтобы как-то “утрясти” проблемы в более или менее благоприятных условиях, когда точка максимума взаимного “озверения” находится всё ещё далеко.
Недооценили сами себя. Точнее, собственных мобилизационных возможностей. “Стреляли” четыре года и с разными негативными последствиями (от катастрофических до средней тяжести) для всех участников бойни.
Это полезно иметь в виду нынешним адептам (технологической) “революции в военном деле” и стараться избегать провоцирующих мероприятий, последствия которых едва ли подлежат надёжному прогнозированию, но могут иметь катастрофические последствия для всех.
политического влияния Китая очень беспокоит США. И все же демонстрировать американские мускулы могущественному соседу по планете в прилегающей к Китаю морской акватории дискомфортно и бесперспективно.
Основная цель маневров США вблизи насыпных островов КНР — поддержка собственного авторитета в Азии на фоне сложных проблем региона.
Территориальные споры в Южно-Китайском море усиливаются. На Парасельские острова и архипелаг Наньша (Спратли) претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Более сотни островков, рифов и скал позволяют эффективнее контролировать Южно-Китайское море, служат вешками в разделе природных богатств шельфа (на котором, по данным Минэнерго США, сосредоточены запасы в размере 5,4 млрд баррелей нефти и 55,1 трлн кубометров газа). Сегодня на спорных островах дислоцированы военные гарнизоны шести упомянутых стран.
В 2014 году Китай официально заявил о своих правах на острова архипелага Наньша (Спратли) и о своих планах добычи нефти в непосредственной близости от них. Затем китайцы превратили отдельные скалы и коралловые рифы в острова с развитой современной инфраструктурой — корабельными причалами, аэродромами, другими объектами. КНР закономерно усиливает морское и воздушное патрулирование маршрутов судоходства, увеличивает количество учений ВМС.
Вряд ли американцы претендуют на здешние месторождения, и все же по соображениям глобальной экономической безопасности США обвиняют Китай в агрессивном поведении, отправляют свои эсминцы в 12-мильную зону искусственных островов КНР в районе спорного архипелага. Это можно расценивать как нарушение суверенитета, однако Китай пока обходится предупреждениями. Потому что уверен в своей правоте и в своих силах.
На фоне сложной обстановки в мире значительное сокращение Китаем своей армии (на 300 тысяч человек) — не парадокс, а стратегия мирного сосуществования и развития. При этом армия КНР активно модернизируется. Китай разрабатывает новые системы вооружений наземного, морского, воздушного и космического базирования.
26 мая 2015 года КНР обнародовала новую военную стратегию, согласно которой китайские ВМС переходят от защиты исключительно прибрежных территорий к обеспечению безопасности в открытом море. Операционная зона ВМС расширяется. Китай оставляет за собой право наносить по противнику превентивные локальные удары в случае угрозы обороне или рубежам страны.
Строятся новые корабли. Сегодня Китай имеет один авианосец и программу строительства еще четырех (до 2020 года). Развитие ВМС объясняется экономической безопасностью — Китаю необходимы бесперебойные поставки углеводородов из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.
США не завоюют мир
Америка не в силах помешать китайскому строительству вообще и на архипелаге в частности. И количество насыпных китайских островов может просто превысить количество американских эсминцев. Время работает на Китай, и мировая экономика все в большей степени ориентируется на него же.
КНР скорее засыплет, нежели отдаст Южно-Китайское море. Вероятнее, что НАТО, расширяясь на Восток, придет к границам Китая или в Пекине победит "цветная революция", чем США устроят маленькую победоносную войну в Южно-Китайском море.
Обе стороны концептуального конфликта отчетливо понимают это, и потому не ограничивают себя в остроте высказываний. Китай заявляет о непоколебимости своих позиций в Южно-Китайском море. Командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт отвечает, что американские войска готовы ответить там на любой инцидент. При этом адмирал готов отправить в зону конфликта аж четыре эсминца — в случае с Китаем это не говорит о серьезности военных приготовлений. И подобная риторика пока не вредит взаимной торговле.
США в различных странах еще громко заявляют о своем лидерстве, но де-факто Америку оттесняют на вторые роли. Нобелевский лауреат-миротворец Барак Обама омрачен нескончаемым ближневосточным конфликтом, озабочен отсутствием единства в Европе и вызовом России.
В сентябре президент США не приехал в Пекин на празднование 70-летия окончания Второй мировой войны и победы Китая над японским милитаризмом, а этот день в КНР — особый, оплаченный десятками миллионов жертв. Подобное высокомерие в дальнейшем может дорого обойтись американцам.
Отношения двух стран переживают не лучшие времена. Тесная экономическая кооперация США и КНР не отменяет ярко выраженной политической антипатии. Эти разночтения отчетливо видны в китайских и проамериканских СМИ.
Каков прогноз развития американо-китайских отношений? Относительно нейтральное колумбийское издание El Colombiano замечает: "Китай становится все более и более решительным в продвижении своих интересов и явно намерен играть ведущую роль на мировой арене".
SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget, г. Стокгольм, Швеция) в рамках укрепления сотрудничества с Vinda International Holdings Limited (Vinda) интегрирует в состав Vinda свои активы в Юго-Восточной Азии, Тайване и Южной Корее, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.
SCA является основным акционером Vinda, третьего по величине китайского производителя санитарно-гигиенической бумаги. Завершение сделки стоимостью 3,1 млрд шведских крон ($372 млн) ожидается в 1 кв. 2016 г.
В рамках сделки SCA передает Vinda эксклюзивные права по продаже на территории Юго-Восточной Азии, Тайваня и Южной Кореи основных брендов SCA: TENA, Tork, Libero и Libresse. Кроме того, Vinda приобретет права на бренды Drypers, Dr.P, Sealer, Prokids, EQ Dry и Control Plus для использования на азиатских рынках.
«Азия является важным регионом для роста SCA, — подчеркнул президент и генеральный директор компании Магнус Грот. — Эта сделка укрепляет сотрудничество между SCA и Vinda и позволит в дальнейшем эффективно использовать все возможности, чтобы построить ведущий бизнес гигиенической продукции в азиатских странах».
По итогам 2014 г. продажи гигиенической продукции SCA на территории Юго-Восточной Азии, Тайваня и Южной Кореи оценивались в 2,2 млрд шведских крон ($264 млн), штат регионального подразделения — около 1,6 тыс. сотрудников, три производственных предприятиях расположены в Малайзии и на Тайване.
За последние 20 лет общий объем инвестиций тайваньской компании Foxconn в экономику города Куньшань, который находится в восточно-китайской провинции Цзянсу, превысил $1,7 млрд.
Общая стоимость произведенной продукции на заводах Foxconn в Куньшане достиг 230 млрд юаней, а их объем внешней торговли – $12,6 млрд.
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2015 г. договорная сумма зарубежных инвестиций в китайскую экономику выросла на 50% по сравнению с уровнем января-сентября 2014 г. В частности, по итогам девяти месяцев текущего года, капиталовложения американских предприятий в Китай составили $5,83 млрд. В то же время немецкие компании инвестировали $2,39 млрд. Это на 41,1% больше, чем годом ранее. Южнокорейские предприятиями нарастили инвестиции в проекты на территории Поднебесной на 66,5% в годовом сопоставлении – до $6,08 млрд.
Кроме того, по итогам января-сентября 2015 г., объем инвестиций в основные фонды Китая превысил 39,45 трлн юаней ($6,16 трлн). Это на 12% больше, чем за январь-сентябрь 2014 г. Темпы роста при этом снизились на 1,1% относительно уровня первой половины текущего года.
За январь-сентябрь 2015 г. объем прямых китайских инвестиций в нефинансовые отрасли зарубежных стран достиг $87,3 млрд. Это на 16,5% больше, чем за январь-сентябрь 2014 г.
Тайвань и президентские выборы
Владимир Терехов
Наступающий через два месяца 2016 г. может стать свидетелем радикальных подвижек в политической картине, складывающейся на мировом игровом столе.
В этом плане важнейшим событием станут президентские выборы в США, которые состоятся в начале ноября 2016 г. Несмотря на возрастающую тенденцию к формированию многополярного мира, США остаются одним из ведущих глобальных игроков, и возможные изменения во внешней политике этой страны (как следствие смены хозяина Белого дома) способны оказать существенное влияние на облик мировой политической карты.
Однако немалой встряской для нынешнего миропорядка могут оказаться и итоги очередных (проводимых раз в четыре года) всеобщих выборов на Тайване, которые пройдут уже в январе 2016 г. НВО уже затрагивало эту тему, однако появляющаяся новая фактура предоставляет возможность вернуться к ней ещё раз.
Итак, в начале следующего года процедурой прямого голосования будут избраны президент, вице-президент и две трети однопалатного парламента (большая часть остальных депутатов займут свои места по партийным спискам) на территории, имеющей исключительно важное стратегическое положение в той игре, которая разворачивается между ведущими державами АТР.
Как и во время предыдущих избирательных кампаний на Тайване последних 15 лет, за предстоящими выборами будут внимательно наблюдать (и постараются тем или иным образом на их итоги повлиять) в Пекине, Вашингтоне и Токио.
Поскольку обе основные политические силы Тайваня (партия Гоминьдан и Демократическая прогрессивная партия – ДПП) резко различаются во внешнеполитических предпочтениях, то действо, происходящее раз в четыре года на острове, превращается в один из самых серьёзных источников головной боли для всех трёх основных участников региональной игры.
Ситуация вокруг Тайваня уже давно обладает потенциалом возникновения (внешне неожиданного) конфликта, не менее опасного, чем в Южно-Китайском море (ЮКМ). Недаром вместе с ЮКМ Тайвань вошёл в ту географическую зону, на примере которой американская RAND Сo. провела недавно анализ изменений в соотношении военной мощи США и КНР за последние 20 лет.
Почти наверняка тема предстоящих тайваньских выборов находилась в числе первоочередных в повестке американо-китайского саммита, прошедшего в конце сентября с.г. Несмотря на то, что в публичном пространстве она (в отличие от проблем кибербезопасности и загрязнения окружающей среды) практически не нашла отражения.
Не вызывают сомнения предпочтения руководства Китая, которое с пекинской трибуны будет наблюдать за предстоящим избирательным матчем на территории “заблудившейся провинции”, затягивающей процесс возвращения в лоно матери-Родины.
Пекин устроило бы продолжение правления Гоминьдана, находящегося у власти на острове с 2008 г. Лидер этой партии и нынешний президент Ма Инцзю (которому Конституция не позволяет в третий раз участвовать в президентских выборах) является сторонником так называемого “Консенсуса” от 1992 г., согласно которому на международной арене присутствует только “один и единый” Китай.
Необходимо, однако, иметь в виду, что в Пекине и Тайбее по-своему понимают смысловое содержание этого документа. Реальная политика Ма Инцзю заключается в затягивании на как можно больший срок нынешнего неформального статуса Тайваня, как де-факто независимого государства.
Однако с позиций Пекина, политическое уловки Ма Инцзю выглядят всё же гораздо позитивнее, чем прямое отрицание упомянутого “Консенсуса” бывшим лидером ДПП Чэнь Шуйбянем, с 2000 по 2008 год занимавшим пост президента Тайваня.
Что касается Вашингтона, то достаточно уверенно можно говорить, что в прошлом десятилетии он тоже “болел” за Гоминьдан, ибо в то время сохранялась надежда на “конструктивное встраивание” КНР в руководимый США миропорядок. Поэтому возможный источник напряжённости в отношениях с Китаем на Тайване Вашингтону в то время был ни к чему.
Кстати, вполне можно допустить, что “компетентные” службы США и КНР тогда совместно поспособствовали тому, чтобы Чэнь Шуйбянь оказался “в железах” по обвинению в коррупции. Это бросило тень на ДПП и обеспечило победу Гоминьдану на выборах 2008 г.
Нельзя сказать с определённостью, каковы нынешние предпочтения Вашингтона относительно участников предстоящих тайваньских выборов. Можно лишь предположить, что по мере всё большего восприятия Китая в качестве главного геополитического оппонента (следствием чего и явился “разворот в Азию” американского внешнеполитического курса) для США всё меньшее значение будет иметь фактор учёта “чувствительных” аспектов китайской государственности.
Поэтому Пекину едва ли теперь следует ожидать каких-либо американских акций, направленных в поддержку Гоминьдана и против ДПП. Но если бы даже американские симпатии и сохранялись за Гоминьданом, то, судя по всему, “помогать” этой партии в оставшиеся до выборов месяцы уже, видимо, бесполезно.
Зондаж настроений в обществе, проводившийся несколько раз в конце августа с.г., показывал стойкую тенденцию двойного отрыва популярности нынешнего лидера ДПП Цай Инвэнь от её потенциальных конкурентов. За неё высказывались порядка 40% респондентов, в то время как за выдвинутую летом 2015 г. Гоминьданом Хун Сючжу менее 20%. Столько же тайваньцев поддерживали Джеймса Сонга – представителя Первой народной партии.
Поэтому уже сегодня можно уверенно прогнозировать очередную крупную электоральную неудачу Гоминьдана (годом ранее эта партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в местные органы власти. И вряд ли ситуацию исправит экстренная замена Гоминьданом кандидата на предстоящих выборах.
Таким образом, прежде чем делать предварительные выводы, всем “заинтересованным” сторонам остаётся лишь ждать первых слов и дел Цай Инвэнь уже на высшем административном посту. Пока предвыборные маршруты заграничных поездок и слова, произносимые в ходе её “смотрин” в странах посещения, не могут не настораживать Пекин.
Первая её поездка двухнедельной продолжительности была проведена в июне 2015 г., а страной посещения стали США. Здесь она произносила разные слова, но их общий посыл сводился к тому, что Тайвань будет развивать отношения с обеими основными региональными державами.
Выступая 22 сентября перед представительной иностранной аудиторией уже в Тайбее, Цай Инвэнь более определённо обозначила собственное видение “будущего Тайваня”. В случае своего избрания, она обещала, среди прочего, укреплять отношения с США и Японией, а также сокращать экономическую зависимость от “мейнленда”, в том числе путём присоединения к Транс-Тихоокеанскому партнёрству.
А в начале октября Цай Инвэнь приступила к развитию отношений с Японией, совершив четырёхдневный “тур дружбы” (по её собственному выражению) в эту страну, где имела ряд важных встреч с представителями японских политических кругов и бизнеса.
Настроения же уходящего президента Тайваня были выражены в выступлении 10 октября 2015 г. по случаю годовщины одного из главных праздников по обоим берегам Тайваньского пролива. В этот день отмечается начало Синьхайской революции 1911 – 1912 гг., покончившей с монархией и заложившей основу современного Китая.
Выступление носило характер завещания и напутствия будущему руководству Тайваня. В частности Ма Инцзю сказал: “Нынешнее статус-кво [в отношениях с КНР] не упало с неба. Его нельзя рассматривать как само собой разумеющееся. Семь лет назад наши отношения находились в порочном цикле, которым был придан плодотворный характер”.
Отчётливым предостережением следующему руководству прозвучали его слова о том, что в случае отхода от “Консенсуса 1992 г.” любые слова о заинтересованности в поддержании статус-кво в Тайваньском проливе “превратятся в пустые разговоры”.
Насколько окажутся действенными эти слова уходящего президента Тайваня, покажет уже ближайшее будущее.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























