Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
По меньшей мере 60 человек стали жертвами столкновений между представителями шиитского повстанческого движения "Аль-Хуси" и салафитов из крупнейшего в Йемене племени Хашид на севере Йемена в пятницу, передает агентство Франс Пресс.
Столкновения произошли в провинции Амран, где интенсивные бои между конфликтующими сторонами продолжаются с начала января, когда боевики "Аль-Хуси" попытались захватить несколько опорных пунктов салафитов. При этом столкновения, произошедшие в пятницу, стали самыми кровавыми за все это время. Движение "Аль-Хуси" потеряло около 40 боевиков, тогда как потери их противников составили 20 человек.
В последнее время обострилась обстановка на севере Йемена между представителями шиитов из "Аль-Хуси" и салафитами, несмотря на успешные действия специальной президентской комиссии, которой поручено урегулировать многолетний внутренний конфликт в северных провинциях.
Группировка "Аль-Хуси" действует в Йемене с 1994 года и представляет собой вооруженную шиитскую организацию, контролирующую часть территории на севере страны. Столкновения салафитов с боевиками "Аль-Хуси" продолжаются с 2011 года после смены власти в Йемене. Йеменские власти пытаются вовлечь "Аль-Хуси" в общенациональный диалог.
Суннитско-шиитская бойня: кто ее провоцирует?
Станислав Иванов
В последнее время на Ближнем Востоке отмечается обострение суннитско-шиитских противоречий, которые уже приобрели в Сирии характер братоубийственной гражданской войны, в Ираке, Ливане – масштабных терактов, на Бахрейне и в Саудовской Аравии – восстаний, народных волнений и акций протеста, сопровождающихся жестокими расправами властей над протестующими. Что скрывается за очередной волной насилия в регионе и кто провоцирует вражду между мусульманами? Небольшой экскурс в историю отношений между двумя основными течениями ислама показывает, что сегодня нет видимых причин и объективных предпосылок к войне между ними.
Разногласия между суннитами и шиитами уходят корнями в далёкое прошлое. После смерти пророка Мухаммеда в 632 году между его последователями разгорелся спор о том, кто должен наследовать политическую и духовную власть над арабскими племенами. Большинство поддержало кандидатуру соратника пророка и отца его жены — Абу Бакра. Они и сформировали впоследствии лагерь суннитов, которые сегодня составляют 85 % всех мусульман. Другие же, поддержали кандидатуру двоюродного брата и зятя пророка — Али, заявив, что сам пророк назначил его своим преемником. Впоследствии их стали называть шиитами, что в переводе с арабского означает дословно «приверженцы Али». В этом споре победу одержали сторонники Абу Бакра, который и получил титул халифа. Последующая борьба за власть привела к убийству Али суннитами в 661 году, его сыновья Хасан и Хусейн также были убиты, причем гибель Хусейна в 680 году у города Кербела (Ирак) до сих пор воспринимается шиитами как трагедия исторических масштабов. Сунниты продолжали сотнями лет оставаться у власти в Арабском (исламском) халифате, в то время как шииты постоянно находились в тени, признавая истинными вождями своих имамов-потомков Али.
В последующей истории взаимоотношений суннитов и шиитов не было сколько-нибудь серьёзных вооруженных столкновений.
Сегодня шииты вместе с близкими им более мелкими сектами (ахмадие, алавиты, алевиты, друзы, ибадиты, исмаилиты и др.) составляют до 15 % процентов от числа мусульман. Последователи этой ветви ислама — абсолютное большинство населения Ирана, две трети — Бахрейна, больше половины — Ирака, значительную часть мусульман Саудовской Аравии, Азербайджана, Ливана, Йемена. В большинстве направлений шиизма центральным элементом считается вера в то, что двенадцатый и последний из имамов сокрыт Аллахом и однажды явится миру, чтобы выполнить его священную волю.
Сунниты же, кроме Корана, руководствуются «сунной» — сводом правил и устоев, основанных на примерах из жизни пророка Мухаммеда. Сунна базируется на хадисах: сказаниях о словах и поступках пророка. Традиционные последователи ислама считают следование сунне главным содержанием жизни каждого истинного мусульманина. Причем речь часто идет о буквальном восприятии предписаний священной книги, без каких либо модификаций. В некоторых течениях ислама это приобретает крайние формы. Например, при правлении талибов в Афганистане уделялось особое внимание характеру одежды и размеру бороды у мужчин, каждая деталь быта строго регламентировалась в соответствии с требованиями сунны.
Шииты считают своих аятолл (шиитский религиозный титул) — посланниками Аллаха на земле. Из-за этого сунниты часто обвиняют шиитов в ереси, а те, в свою очередь, указывают на чрезмерный догматизм учения суннитов, который порождает различные экстремистские движения, такие как, ваххабизм.
Давно уже нет халифата, из-за власти в котором и началось деление мусульман на шиитов и суннитов, поэтому нет уже и самого предмета спора. А теологические различия течений ислама настолько ничтожны, что могут быть легко нивелированы ради единства и спокойствия мусульман. Пророк Мохаммед незадолго до смерти сказал собравшимся в мечети мусульманам: «Смотрите же, не становитесь после меня заблудшими, которые рубят друг другу головы!..». Сегодня все мусульмане единодушно признают, что Аллах – это единственный бог, а Мухаммед – его посланник. Все они следуют пяти основным постулатам ислама, в том числе, соблюдению поста в месяц Рамадан, главной священной книгой для всех является Коран. Во время хаджа — паломничества мусульман в Мекку и Медину — сунниты и шииты вместе поклоняются священному камню Каабе в Запретной мечети. Шииты совершают также паломничество и в мечети своих святынь в гг. Кербела и Неджеф (Ирак).
Западные СМИ пытаются уверить нас в том, что кровь, льющаяся сейчас на Ближнем и Среднем Востоке, есть следствие суннитско-шиитского конфликта. Якобы, мусульмане убивают мусульман исключительно в силу своих религиозных разногласий. Такая версия снимает с США и их союзников ответственность за вмешательство во внутренние дела стран региона, за двойные стандарты и сомнительность союзов с самыми реакционными режимами и радикальными группировками, включая экстремистов и международных террористов. Разжигаемый извне конфликт между суннитами и шиитами создает реальную угрозу «сомализации региона», насаждения хаоса и насилия в регионе на долгие годы. Все более очевидным становится тот факт, что нет, как такового, суннитско-шиитского противостояния – есть лишь стремление внешних игроков на крови мусульман реализовать свои собственные национальные и корпоративные цели и задачи (контроль за ресурсами, милитаризация региона, обогащение «оружейных баронов» и т.п.).
Против шиитов выступают не простые сунниты, а политические элиты, связанные с Западом десятками экономических, политических, военных, финансовых и других нитей, получившие гарантии, что расправа с шиитами не вызовет возмущения «мировой общественности», не станет предметом рассмотрения международного трибунала в Гааге и слушаний в конгрессе США. Более того, в пропагандистских целях в коридорах Госдепа и ЦРУ были сфабрикованы мифы о шиитском фанатизме, иранской ядерной угрозе, «кровавой диктатуре аятолл», антинародном режиме Башара Асада, т.е. была создана идеологическая база новой «охоты на ведьм». Ближайшие цели искусственного разжигания суннитско-шиитского конфликта весьма прозрачны: уничтожение или ослабление стратегических партнеров Ирана в регионе, то есть, правительства Б.Асада в Сирии и группировки «Хизбалла» в Ливане, усиление давления на правительство шиитского большинства в Ираке, дальнейшая изоляция Ирана в Персидском заливе и регионе в целом. Еще основатель ИРИ имам Хомейни справедливо заявлял: «Вражда между суннитами и шиитами – это заговор Запада. Раздор между нами выгоден только врагам ислама. Тот, кто не понимает этого – тот не суннит и не шиит…».
Следует отметить, что «суннитский фронт» борьбы с шиитами возглавляют региональные союзники США — Саудовская Аравия и Катар, менее активно, но также в этом «шабаше» задействованы Бахрейн, Кувейт, ОАЭ. Несколько особняком стоит лишь одно арабское государство Персидского залива – Оман, где мудрый султан Кабус не дал втянуть свою страну в межконфессиональные распри. Чем же обусловлена готовность Эр-Рияда и его партнеров в Заливе следовать в фарватере традиционной политики западных стран «разделяй и властвуй»?
Во-первых, Эр-Рияд и его союзников не устраивает рост авторитета и влияния Ирана в регионе и исламском мире (шиитский режим в Ираке, алавитский в Сирии, роль и значение шиитской группировки «Хизбалла» в Ливане), в целом, растущая популярность идей шиизма, как более справедливого образа жизни простых мусульман.
Во-вторых, монархи Персидского залива напуганы событиями «арабской весны», которая потрясла весь арабский мир и вызвала волну акций протеста непосредственно в странах Залива. Наиболее масштабные стихийные выступления населения отмечались в Восточной провинции Саудовской Аравии и на Бахрейне, где компактно проживают шииты. Опирающиеся на свои суннитские верхушки правители стран Персидского залива не пожелали делиться властью и доходами с представителями шиитского населения и вновь прибегли к силовым методам по разгону демонстраций и подавлению восстаний. Причем саудиты даже направили в этих целях на Бахрейн свой карательный контингент войск.
В-третьих, одряхлевшие морально и физически короли, султаны, эмиры, шейхи стран Персидского залива все больше понимают свою историческую обреченность и хотят максимально возможно продлить период своего безраздельного господства. К ним очень подходит выражение «халифы на час», которые считают, что превращение Сирии, Ливана и Ирака в арену открытого вооруженного противостояния между суннитами и шиитами не только поможет им удержаться у власти, но и выведет их в лидеры арабского и исламского мира. При этом монархи не останавливаются перед миллиардными расходами на эту войну, вербовкой боевиков по всему миру, сотрудничеством с известными террористическими группировками типа «Аль-Каиды», «Джабга ан-Нусра» и им подобными.
Маховик насилия и суннитско-шиитской вражды с подачи Вашингтона и его сателлитов в регионе раскручен и вряд ли его сможет остановить «Женева-2», «Женева-3» или еще какая-нибудь формальная международная встреча, которые служат скорее ширмой для прикрытия международных преступлений в Сирии. Остановить гибель сирийцев и иракцев можно было бы лишь созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН и принятием резолюции о запрете на любое иностранное вмешательство в эти конфликты. Одновременно, СБ ООН должен принять решение о проведении миротворческой операции (гуманитарной интервенции) с целью установления контроля за границами Сирии и Ирака и недопущения проникновения в эти страны новых отрядов боевиков-джихадистов. Страны-спонсоры международных террористов должны быть подвергнуты санкциям ООН по типу тех, которые до сих пор применялись лишь к Ирану.
Роль и значение курдов в геополитике Ближнего Востока. Часть 1
Станислав Иванов
В последние годы в регионе Ближнего Востока все большую роль стали играть курды. «Арабская весна» 2011 года привела в движение широкие народные массы и сопровождается необратимыми, подчас кровопролитными и трагическими, событиями на всем Ближнем и Среднем Востоке. Насильственно сменились правящие режимы в Тунисе, Египте (дважды), Йемене, Ливии, развязана братоубийственная гражданская война в Сирии, прокатилась волна массовых протестов и восстаний в Бахрейне, Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, Кувейте, Ливане, Саудовской Аравии, Мавритании, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Отмечались масштабные вооруженные столкновения и ракетные обстрелы вдоль границы Израиля с сектором Газа.
Пока еще рано подводить даже самые предварительные итоги «арабской весны», которая продолжается как по глубине происходящих в каждой из перечисленных выше стран политических процессов, так и по числу все новых государств, вовлекаемых в череду «революций». Существует реальная угроза распространения этого кризиса и за пределы арабского мира, в частности, на Турцию, Иран, страны Закавказья и Центральной Азии. Предпосылки к такому развитию событий имеются.
В складывающейся на сегодня ситуации все большую роль в регионе играют курды – 40-миллионный народ, силой внешних обстоятельств лишенный своей государственности и разделенный границами четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Несколько миллионов курдов проживают в Европе, Закавказье, странах СНГ, включая Россию. До последнего времени курды, составлявшие национальные меньшинства Турции, Ирана, Ирака и Сирии, всячески притеснялись центральными властями, проводилась политика их насильственной ассимиляции, переселения, вводились жесткие ограничения на использование курдского языка и т.п.
Первыми из положения граждан «второго сорта» вышли иракские курды (около 6 млн.), которые добились закрепления в новой конституции Ирака статуса субъекта федерации с самыми широкими правами и полномочиями. Составившие Иракский Курдистан три северные провинции страны (Эрбиль, Дахук, Сулеймания) динамично и уверенно развиваются, восстанавливают разрушенные войной инфраструктуру, экономику, сельское хозяйство, системы жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, успешно решают социальные проблемы. Благоприятный законодательный климат способствует притоку иностранных инвестиций, аккредитации все новых дипломатических, торговых представительств и транснациональных корпораций. В 2014 году в регионе планируется самостоятельно добывать нефть и газ и поставлять их через Турцию на мировой рынок. Регион стал как бы оазисом стабильности и безопасности на фоне продолжающейся террористической войны между иракскими арабами-суннитами и арабами-шиитами. Более того, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выступил посредником в урегулировании затянувшегося почти на год правительственного кризиса в стране и способствовал достижению консенсуса между основными иракскими политическими блоками арабов-шиитов и суннитов. Курды весьма достойно представлены и в центральных органах власти в Багдаде: президентом Ирака является один из авторитетных курдских лидеров Джаляль Талабани, они заняли 6 министерских постов, включая пост министра иностранных дел, создали солидную курдскую фракцию в федеральном парламенте. По существующему закону курды должны получать пропорционально своей численности – 17 % от суммы экспорта иракских углеводородов. Нельзя сказать, что нет проблем и спорных вопросов между регионом и центральным правительством Нури аль-Малики, но все, наиболее острые, противоречия обсуждаются за столом переговоров и пока не принимают форму открытых конфликтов. Лидеры иракских курдов реально оценивают ситуацию в стране и регионе и не являются инициаторами своего выхода из Ирака. К провозглашению независимости курдов может подтолкнуть лишь дальнейшее обострение вооруженного противостояния между арабами-суннитами и арабами-шиитами или естественный распад государства по этно-конфессиональному признаку на три анклава (северный, центральный и южный).
Как ни парадоксально звучит, но гражданская война в Сирии заметно улучшила политическое положение сирийских курдов. Оказавшись перед возможной утратой власти, правительство Башара Асада вынуждено было пойти на значительные уступки своим курдам (по оценкам, около 2,5 млн. человек). Наконец-то гражданство Сирии было предоставлено 300 тысячам курдов, лишенных его еще во времена правления Хафеза Асада, сотни курдов-политзаключенных были освобождены из тюрем, правительственные войска были выведены практически из всех районов компактного проживания курдов. Эти меры способствовали тому, что сирийские курды заняли позицию нейтралитета во внутриарабском конфликте в стране и даже создали силы самообороны с целью недопущения вторжения на свои территории отрядов боевиков-исламистов.
За последнее время национальное движение сирийских курдов заметно консолидировалось. Если до марта 2011 года в Сирии было около 20 курдских политических партий и общественных организаций, действовавших разрозненно на полулегальном положении, то к настоящему времени они объединились в два основных политических блока: Курдский национальный совет и Партию демократического союза (ее военное крыло – Комитет народной обороны). Более того, с помощью президента Иракского Курдистана Масуда Барзани удалось создать Высший совет сирийских курдов, исполком которого пытается координировать деятельность всех курдских политических сил Сирии. При этом часть лидеров сирийских курдов принадлежит к зарубежным диаспорам и постоянно проживает в странах Европы и США. Наиболее радикальные из них, такие, например, как представитель руководства Партии демократического союза (ПДС) Салих Муслим, выступают за создание курдской автономии в Западном Курдистане или даже субъекта федерации по типу Иракского Курдистана. В районе Комышлы уже провозглашен один из автономных курдских районов. Но большая часть курдских активистов реально оценивает ситуацию в стране (раздробленность курдских анклавов) и призывает своих соплеменников по возможности и дальше сохранять нейтралитет во внутриарабском конфликте. Нападения и карательные акции боевиков-исламистов против мирного курдского населения лишь сплотили сирийских курдов в борьбе за свои права и свободы, ускорили процесс создания сил самообороны. Вместе с тем, их лидеры не отказываются от участия в конференции «Женева-2», продолжения диалога со сторонниками Башара Асада и оппозиции, надеясь при любом варианте окончания гражданской войны добиться от Дамаска выполнения своих основных требований, которые сводятся к следующему:
- конституционному признанию курдского народа в качестве второй по численности нации в стране;
- прекращению дискриминации курдов по национальному признаку и их насильственной ассимиляции;
- признанию национальных, политических, социальных и культурных прав и особенностей курдов;
- предоставлению возможности формирования местных органов власти и силовых структур в курдских анклавах из числа самих курдов, пропорционального представительства курдов в центральных органах законодательной и исполнительной власти;
- отмене ограничений на занятие курдами должностей на государственной и военной службе, на получение высшего образования и т.п.;
- введению начального, среднего и высшего образования и СМИ на курдском языке;
- ускоренному социально-экономическому развитию наиболее отсталых курдских районов.
(Продолжение следует…)
Мировой рынок стали: 16-23 января 2014 г.
В середине января цены на сталепродукцию на мировом рынке, в основном, сохраняли относительное постоянство. Этому, в частности, способствовало снижение деловой активности в Азии, где приближаются новогодние праздники по китайскому календарю. Однако в целом рынок в большинстве регионов мира находится под давлением. Спрос на прокат в текущем месяце оказался ниже ожидаемого, да еще и падают цены на сырье – железную руду, коксующийся уголь и металлолом.
Полуфабрикаты
Во второй половине января на ближневосточном рынке заготовок наметилось оживление. Турецкие прокатчики, получив новые заказы от американских покупателей, в свою очередь, расширили закупки полуфабрикатов и тем самым помогли поставщикам из стран СНГ стабилизировать котировки на отметке $500/т FOB. Теперь металлурги уже не исключают в конце января – начале февраля некоторого роста цен – хотя бы до $505/т.
По данным трейдеров, спрос начал увеличиваться не только со стороны Турции. Заготовки украинского и российского производства в последнее время стали приобретать также египетские и итальянские компании. В Италии после подорожания лома в начале января внутренние цены на полуфабрикаты достигли 420 евро (более $570)/т EXW и выше, так что прокатчики охотно приобретают импортную продукцию.
Очевидно, немалую роль в достижении стабилизации котировок сыграл ограниченный объем предложения. В настоящее время отгрузки полуфабрикатов на экспорт не осуществляет «Электросталь», а Донецкий ЭМЗ в середине января приостановил выпуск. Однако одновременно на рынок вернулся российский «Новоросметалл», а в феврале должны войти в строй после модернизации электродуговая печь и МНЛЗ, так что в следующем месяце на продажу будет выставлен больший объем продукции.
На азиатском рынке заготовок в начале второй половины января наметилось некоторое улучшение. Конкуренция со стороны китайских компаний остается довольно сильной, но они, по крайней мере, уже не прибегают к демпингу, предлагая продукцию не дешевле $530/т CFR. Благодаря этому смогли возобновить продажи некоторые корейские компании, несмотря на то, что стоимость их продукции превышает $540/т CFR. Кроме того, ряд новых сделок заключили российские поставщики при ценах на уровне $530-535/т.
На рынке товарных слябов, в то же время, продолжается затишье, вызванное приближающимися праздниками в Восточной Азии и неопределенной ситуацией на турецком и европейском рынках плоского проката. При этом, в последнее время подешевели железная руда и коксующийся уголь, так что поставщикам полуфабриката будет непросто добиться повышения котировок после ожидаемого в феврале возвращения потребителей на рынок.
Конструкционная сталь
В середине января турецкие производители арматуры получили крупные заказы из США, где Комиссия по международной торговле отложила вынесение вердикта по антидемпинговому расследованию по поставкам данной продукции до середины февраля. Так как американские производители длинномерного проката как раз избрали это время, чтобы поднять котировки на арматуру и катанку до $750/т EXW и выше, многие потребители решили рискнуть и заключить контракты с турецкими поставщиками. Стоимость их продукции находится на уровне $630-640/т CFR при затратах на доставку не более $15 за т. При этом, поставщик обязуется уплатить антидемпинговую либо компенсационную пошлину, если будет принято решение об их введении.
Продажи больших партий арматуры в США по ценам, достигающим $625/т FOB, резко снизили интерес турецких металлургов к другим рынкам сбыта, где котировки по-прежнему не выходят за пределы $570-580/т. При этом, спрос на данную продукцию в последнее время ограничивается, в основном, Йеменом и африканскими странами. Египет сократил импорт после декабрьской волны закупок, а в Ираке активность в строительной отрасли упала, так как правительство до сих пор не утвердило госбюджет на 2014 год и не открыло финансирование проектов.
Производители длинномерного проката из СНГ, не имеющие возможности поставлять свою продукцию в США, пока не могут похвастаться высокими объемами продаж. Цены на украинскую арматуру варьируют от $540/т FOB при поставках в Ливан до $570/т для африканских покупателей, но количество сделок крайне невелико. Для Ирака украинские экспортеры выставляют арматуру по $575-580/т, но потенциальные потребители пока не проявляют к ней никакого интереса.
В середине января повысился спрос на арматуру и катанку со стороны Алжира. Это, правда, не позволило европейским экспортерам поднять котировки более чем на 5 евро/т по сравнению с первой половиной текущего месяца, но зато обеспечило поддержку в условиях стагнации на европейском рынке.
В январе длинномерный прокат в ЕС прибавил в цене на 5-10 евро/т по сравнению с предыдущим месяцем, отражая, в основном, подорожание лома. Но цены на арматуру, доходящие до 500 евро/т EXW в Германии и Польше, пока имеют, по большей части, номинальный характер.
Листовая сталь
Спрос на плоский прокат в Восточной Азии во второй половине января сократился до минимума. Большинство потребителей предпочитают отложить закупки на февраль, тем более, что никакого повышения цен после праздников не ожидается. Скорее, наоборот: дешевеющая железная руда и избыток предложения на китайском внутреннем рынке тянут котировки вниз.
Меткомпании, нуждающиеся в наличных перед Новым годом, действительно, проявляют склонность к уступкам при заключении контрактов. Китайский плоский прокат за последнюю неделю подешевел, в среднем, на $5 за т. Некоторые поставщики готовы продавать горячекатаные рулоны по $520/т FOB, тогда как в первой половине текущего месяца эта продукция находилась в интервале $530-540/т. Аналогично подешевела до $515-525/т и китайская толстолистовая сталь.
Японские и корейские компании в начале января ставили вопрос о подорожании горячего проката до $570/т и более. Однако реальные сделки продолжали заключаться на уровне $550-570/т FOB, а перед праздниками котировки вообще опустились к нижней границе этого интервала. Правда, в феврале металлурги все же надеются на повышение. Об увеличении стоимости своей продукции по мартовским контрактам на $5-10/т сообщили индийские экспортеры и тайванская China Steel.
Российские компании ведут успешную торговлю февральским горячим прокатом. Для Турции и европейских стран котировки находятся в интервале $535-555/т FOB, а вот при поставках в США и страны Латинской Америки возможны цены на уровне $570/т FOB и выше.
В то же время, украинские производители в середине января смогли заключить контракты, в основном, с восточноевропейскими покупателями, продавая им г/к рулоны по $570-580/т DAP. Попытка повышения котировок для Турции до $540/т FOB успеха пока не имела: покупатели требуют понижения до уровня прошлого месяца, т.е. $525-535/т. В самой Турции ведущие производители тоже пошли на небольшие уступки. Г/к местного производства подешевели на $5-10/т по сравнению с началом года, до около $590/т EXW по мартовским контрактам.
Спрос на плоский прокат на европейском рынке еще не восстановился после новогодней паузы, так что местные металлургические компании исключают повышение цен до конца января. Котировки на горячий прокат в странах региона, таким образом, варьируют между 430 и 460 евро/т EXW, причем, верхний уровень представлен заводами Arcelor Mittal.
Руководство транснациональной корпорации уже анонсировало на февраль-март повышение цен на 30-50 евро за т, причем, максимальное подорожание предусмотрено для продукции с более высокой добавленной стоимостью. Однако в реальном секторе европейской экономики пока не видно никаких изменений к лучшему, конечное потребление стальной продукции не растет, поэтому аналитики сомневаются в выполнимости этих планов. По их мнению, и в феврале г/к рулоны в Европе будут продаваться не более чем по 450-460 евро/т EXW.
Специальные сорта стали
Спрос и цены на нержавеющую сталь в начале второй половины января пока практически не изменились по сравнению с началом текущего месяца, однако производители явно рассчитывают на улучшение конъюнктуры в феврале. Во всяком случае, финская Outokumpu, крупнейший производитель нержавеющей стали в ЕС, объявила о повышении доплаты за легирующие элементы для стали марки 304 до 1086 евро/т по сравнению с 997 евро/т в январе. Правда, аналитики сомневаются, что рынок примет такое значительное повышение.
В Азии решения о пересмотре цен, скорее всего, будут приниматься уже после новогодних праздников по китайскому календарю. Но и на этом рынке наиболее вероятным представляется небольшое повышение.
Металлолом
На турецком рынке лома спрос на металлолом остается низким, а цены – стабильными. В течение последней недели здесь совершались буквально единичные сделки, но минимальные объемы закупок компенсировались ограниченным объемом предложения, что и объясняло относительное постоянство котировок. Американский материал HMS № 1&2 (80:20) продавался по $395-400/т CFR, а аналогичный европейский материал находился в интервале $390-395/т. Украинский лом 3А особым спросом в Турции пока не пользуется: встречные предложения со стороны металлургов поступают по ценам не выше $380/т.
В то же время, в Азии продолжается спад, основными причинами которого специалисты называют предпраздничный период, ослабление японского рынка и сокращение производства длинномерного проката в Корее и на Тайване вследствие китайской конкуренции. При этом, у трейдеров сохранились с прошлого года значительные запасы лома, который теперь распродается по сниженным ценам.
В начале второй половины января сделки на поставку японского лома Н2 в Корею осуществлялись на уровне менее $345/т FOB. Всего за неделю котировки понизились на $5-10 за т. Под влиянием этого спада американским трейдерам также пришлось сбросить цены на HMS № 1&2 (80:20) до около $360/т CFR.
Виктор Тарнавский

Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в США в 2013 году.
Основные направления американской внешнеэкономической политики в 2013 году изложены в ежегодном докладе «Повестка торговой политики на 2013 год и годовой отчет за 2012 год». Как отмечается в докладе, целями внешнеэкономической политики США являются обеспечение устойчивого роста национальной экономики, создание новых рабочих мест, либерализация международной торговли и ее сбалансированное развитие в целом.
В докладе выделяются пять приоритетов торговой политики, на которых Администрация США планирует делать акцент:
- расширение международной торговли, направленное на повышение уровня занятости (дальнейшая реализация мероприятий в рамках Новой экспортной инициативы, интенсификация переговоров о создании зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство», начало переговоров с ЕС по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, активное использование механизмов ВТО для увеличения открытости рынков, соблюдение правил международной торговли и борьбы с протекционизмом, поддержка занятости путем стимулирования торговли в сферах услуг, производства и сельского хозяйства, расширение экономических возможностей за счет региональной экономической интеграции и др.);
- защита прав американского бизнеса путем обеспечения соблюдения правил международной торговли (оспаривание мер торговой политики иностранных государств, противоречащих правилам ВТО, интенсификация работы постоянных комитетов ВТО, обеспечение исполнения обязательств по заключенным США дву- и многосторонним торговым соглашениям);
- дальнейшее развитие и укрепление торговых отношений с партнерами США по всему миру;
- борьба с бедностью и поддержка глобального экономического роста посредством расширения торговли;
- выработка сбалансированной торговой политики, учитывающей мнения всех заинтересованных лиц.
Большое внимание вопросам внешнеэкономической политики было уделено и в ежегодном докладе «О положении страны», с которым Президент США Б.Обама выступил 12 февраля 2013 г. перед членами Конгресса США. Среди прочего, в докладе было заявлено о планах Администрации США инициировать переговоры с ЕС о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, целями которого будут взаимное расширение торговли, упрощение доступа на рынки, урегулирование разногласий в вопросах нетарифных ограничений в торговле (первый раунд состоялся 8-12 июля 2013 г.). Кроме того, в докладе была подтверждена приверженность Администрации США ранее заявленной цели по завершению переговорного процесса о создании зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство» к концу 2013 года (цель не достигнута).
В отчетном периоде Президент США выступил с рядом инициатив по внешнеэкономической тематике. Так, 15 января АТП США от имени Администрации Президента США направил официальное извещение в Конгресс США об инициировании многостороннего переговорного процесса с 20 торговыми партнерами (включая ЕС, Канаду, Мексику, Японию, Швейцарию, Гонконг, Тайвань, Израиль, Корею, Австралию, др.) в целях подписания плюрилатерального соглашения в сфере международной торговли услугами. На участвующие в переговорах страны приходится 2/3 мирового оборота торговли услугами.
22 января Администрацией Президента США было объявлено о создании новой рабочей группы (в составе АТП США), направленной на выявление барьеров в торговле, связанных с предъявляемыми рядом стран требованиями о локализации производства как условии выхода на рынок. Деятельность рабочей группы будет, в первую очередь, направлена на работу в рамках ВТО и ОЭСР, а также подписанных США двухсторонних торговых соглашений.
20 февраля Администрация Президента США опубликовала стратегический план по противодействию коммерческому шпионажу и незаконному доступу к сведениям, составляющим коммерческую тайну, положения которого среди прочего предусматривают необходимость усиления правоприменительных мер и кооперации на международном уровне, включая введение соответствующих положений в согласовываемые в настоящее время Администрацией США двусторонние и многосторонние соглашения. Кроме того, АТП США предлагается обратить особое внимание на данную проблему в ходе подготовки доклада по т.н. «статье 301-спец.» Закона США о торговле 1974 г., включив соответствующий раздел в его состав.
В русле данной инициативы находится Указ Президента США № 13636 от 12 февраля (опубликован в Federal Register 19.02.13.) «Об улучшении кибербезопасности критически важных объектов инфраструктуры США». Укреплять кибербезопасность планируется путем оперативного обмена информацией о киберугрозах между правительством и владельцами (операторами) критически важных объектов инфраструктуры США, а также путем введения для компаний частного сектора стандартов по защите компьютерных систем и баз данных от кибератак, включая незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
3 апреля Администрация Президента США объявила, что шесть федеральных агентств США примут участие в реализации новой межведомственной инициативы «U.S. Global Business Solutions», целью которой является вовлечение к 2017 году в экспортную деятельность не менее 50 000 новых малых предприятий. Данная инициатива предполагает необходимость разработки мер поддержки, учитывающих особенности малого бизнеса, а также усиление межведомственного взаимодействия в сфере поддержки экспортной деятельности малого бизнеса, включая создание информационного портала, который будет содержать информацию об имеющихся мерах государственной поддержки и способах ее получения. Ключевыми участниками инициативы будут являться Администрация малого бизнеса, Минсельхоз США, Минторг США, Агентство США по торговле и развитию, а также Государственная корпорация США по частным инвестициям за рубежом и Эксимбанк США.
7 августа Президент США подписал указ, прекращающий действия импортных ограничений на широкую номенклатуру товаров происхождением из Мьянмы. В то же время запрет на импорт жадеита, рубинов и ювелирных изделий из них происхождения из Мьянмы оставлен в силе.
12 августа на основании полномочий, предусмотренных положениями закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях», Президент США подписал прокламацию, продлевающую срок действия системы экспортного контроля США на очередной однолетний период.
23 декабря Президент США издал Прокламацию № 9072, положения которой добавили Мали в перечень стран бенефициаров региональной преференциальной системы, предусмотренной законом «О росте и возможностях для стран Африки», а также продлил до 31 декабря 2014 года срок действия двустороннего Соглашения с Израилем «О торговле сельскохозяйственными товарами» 2004 г.
Администрация США в 2013 году продолжала активно применять различные защитные меры во внешней торговле, главным образом направленные на ограничение воздействия конкуренции со стороны иностранных поставщиков на интересы местных производителей, в частности используя механизм антидемпинговых и компенсационных разбирательств.
Так, в 2013 году было инициировано 40 антидемпинговых и 19 компенсационных расследований. Предметом антидемпинговых расследований являются поставки следующей продукции: гомогенизированная никелированная полосовая сталь (Diffusion-Annealed, Nickel-Plated Flat-Rolled Steel Products) происхождением из Японии; древесина твердых пород и декоративная клееная фанера (Hardwood and Decorative Plywood) происхождением из Китая; стальная арматурная проволока для железобетонных шпал (Prestressed Concrete Steel Rail Tie Wire) происхождением из Мексики, Китая, Таиланда; сварные нагнетательные нержавеющие трубы (Welded Stainless Pressure Pipe) происхождением из Малайзии, Таиланда, Вьетнама; стальные резьбовые шпильки (Steel Threaded Rod) происхождением из Индии и Таиланда; трубы нефтепромыслового сортамента (Oil Country Tubular Goods) происхождением из Индии, Кореи, Филиппин, Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, Украины, Вьетнама; ферросилиций (Ferrosilicon) происхождением из России и Венесуэлы; хлорированный исокуанурат (Chlorinated Isocyanurate) происхождением из Японии; стальные стержни для армирования бетона (Steel Concrete Reinforcing Bar) происхождением из Мексики и Турции; усилитель вкуса моносодиум глютамат (Monosodium Glutamate) происхождением из Китая и Индонезии; анизотропная (текстурированная) электротехническая сталь (Grain-Oriented Electrical Steel) происхождением из КНР, Чехии, ФРГ, Японии, Кореи, Польши и России; изотропная электротехническая сталь (Non-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая, Германии, Японии, Кореи, Швеции и Тайваня; 1,1,1,2-тетрафторэтан (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) происхождением из Китая. Кроме того в отчетном периоде по решению КМТ США (отсутствует ущерб) было прекращено одно антидемпинговое расследование в отношении поставок динасового кирпича (Silica Bricks), инициированное в ноябре 2012 года.
Предметом компенсационных расследований являются поставки следующей продукции: замороженные тепловодные креветки (Frozen Warmwater Shrimp) происхождением из Китая, Эквадора, Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама; стальные резьбовые шпильки (Steel Threaded Rod) происхождением из Индии; трубы нефтепромыслового сортамента (Oil Country Tubular Goods) происхождением из Индии и Турции; хлорированный исокуанурат (Chlorinated Isocyanurate) происхождением из Китая; анизотропная (текстурированная) электротехническая сталь (Grain-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая; стальные стержни для армирования бетона (Steel Concrete Reinforcing Bar) происхождением из Турции; усилитель вкуса моносодиум глютамат (Monosodium Glutamate) происхождением из Китая и Индонезии; изотропная электротехническая сталь (Non-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая, Кореи и Тайваня; 1,1,1,2-тетрафторэтан (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) происхождением из Китая. Семь из вышеупомянутых компенсационных расследований (а именно: расследования в отношении поставок замороженных тепловодных креветок происхождением из Индонезии, Таиланда, Эквадора, Индии, Малайзии, Китая и Вьетнама) были прекращены в отчетном периоде без принятия приказа (Минторг США признал факт отсутствия субсидирования).
За отчетный период Минторг США принял восемь антидемпинговых (в том числе восстановил действие двух ранее отмененных по итогам пятилетнего пересмотра приказа по решению суда) и четыре компенсационных приказов, а также отменил (по итогам пятилетнего пересмотра) два антидемпинговых и один компенсационный приказ. Кроме того, по итогам пятилетнего пересмотра было прекращено действие одного соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок лимонного сока происхождением из Мексики. Также одно соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок свежих томатов происхождением из Мексики было изложено в новой редакции.
Предметом принятых в 2013 году антидемпинговых приказов являются: решетчатые мачтовые вышки для установки ветряных электрогенераторов (Utility Scale Wind Towers) происхождением из Китая и Вьетнама; стальные проволочные вешалки для одежды (Steel Wire Garment Hangers) происхождением из Вьетнама; бытовые стиральные машины (Large Residential Washers) происхождением из Мексики и Кореи; раковины из тянутой нержавеющей стали (Drawn Stainless Steel Sinks) происхождением из Китая; шарикоподшипники и их части (Ball Bearings and Parts Thereof) происхождением из Великобритании и Японии.
Отмечаем, что по данным ВТО по состоянию на 01 июля 2013 года в мире насчитывалось 1374 действующих антидемпинговых приказов, из которых 243 применялись в США, а 215, 120, 118 и 111 антидемпинговых приказов применялись в Индии, Турции, Китае и ЕС соответственно.
Предметом принятых в 2013 году компенсационных приказов являются: решетчатые мачтовые вышки для установки ветряных электрогенераторов (Utility Scale Wind Towers) происхождением из Китая; бытовые стиральные машины (Large Residential Washers) происхождением из Кореи; стальные проволочные вешалки для одежды (Steel Wire Garment Hangers) происхождением из Вьетнама; раковины из тянутой нержавеющей стали (Drawn Stainless Steel Sinks) происхождением из Китая.
Предметом двух отмененных антидемпинговых приказов является коррозионностойкий высокоуглеродистый стальной листовой прокат (Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products) происхождением из Германии и Кореи. В свою очередь предметом отмененного компенсационного приказа является коррозионностойкий высокоуглеродистый стальной листовой прокат (Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products) происхождением из Кореи.
Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013 года в США насчитывается 245 антидемпинговых (также действуют 6 соглашений о приостановлении антидемпинговых расследований) и 52 компенсационных приказа, 27 из которых защищает внутренний рынок США от импорта китайского происхождения (8 компенсационных приказов действуют против индийского импорта и по три приказа против импорта из Индонезии и Южной Кореи). 92 антидемпинговых приказа (38%) защищают рынок США от китайского импорта, в то время как 22, 18, 15, 14, 12 антидемпинговых приказов защищают рынок США от продукции происхождением из ЕС, Тайваня, Индии, Японии и Южной Кореи соответственно. Около 45% антидемпинговых и 50 % компенсационных приказов относятся к поставкам стальной продукции. При этом, средний срок действия антидемпингового приказа в настоящее время составляет 18 лет (при максимальном значении продолжительности действия приказа 34 года).
Озабоченность торговых партнеров США продолжает вызывать существующая практика распределения Службой США по таможенному контролю и охране границ среди национальных производителей, подвергшихся негативному воздействию демпинга со стороны иностранных производителей, сумм антидемпинговых и компенсационных пошлин, учтенных Службой до 1.10.2007 г. (поправка Берда). Так, в 2007 ф.г. было распределено 264 млн.долл., в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 фин.гг. – 180, 248, 69.4, 85, 118.7, 61.7 млн.долл. соответственно. На 2014 ф.г. запланировано к распределению 37.7 млн. долл. Данная практика признана несоответствующей правилам ВТО, в связи с чем Япония и ЕС (из 11 таможенных территорий, обжаловавших данную меру в ВТО) применяют к американскому импорту по отдельным товарным позициям (13 – Япония, 5 - ЕС) дополнительные пошлины, введенные в порядке реторсии, размер которой подлежит ежегодному определению и в 2013 году составил 74.47 и 61 млн. долл. США соответственно.
В рамках мероприятий по поддержке национальных производителей и обнародованного Администрацией США перечня предлагаемых мер по усилению правоприменительной практики в области антидемпингового законодательства в 2013 году был принят ряд нормативных правил, Так, 10 апреля в «Federal Register» опубликовано окончательное решение Минторга США о модификации применимых правил в области антидемпинговых процедур в части определения термина «фактическая информация», а также сокращения максимально возможных сроков для предоставления «заинтересованными» лицами фактической информации в Минторг США в рамках антидемпинговых и компенсационных процедур.
17 июля Минторг США опубликовал в Federal Register окончательную редакцию новых процедурных правил удостоверения фактической информации, предоставляемой (в том числе) от имени правительственных органов иностранных государств в Минторг США в рамках осуществления антидемпинговых и компенсационных процедур. По сравнению с текстом упомянутых правил в редакции от 10 февраля 2011 года (interim final rule) в порядок удостоверения правительственными органами иностранных государств (government certification) полноты и достоверности фактической информации, предоставляемой в Минторг США в рамках осуществления антидемпинговых и компенсационных процедур, внесены изменения и дополнения, исключившие ссылки на уголовное законодательство США. Кроме того, текст удостоверительной надписи изложен в новой редакции, которой с 16 августа 2013 г. необходимо придерживаться при оформлении соответствующих подач в Минторг США.
2 августа в «Federal Register» опубликован окончательный вариант изменений и дополнений в правила осуществления антидемпинговых процедур в части использования Минторгом США данных о ценах на ресурсы (факторы производства), приобретаемые в странах с рыночной экономикой, применительно к расчету уровня «нормальных цен» в рамках антидемпинговых процедур, затрагивающих страны с нерыночной экономикой. Данные изменения вступают в силу с 3 сентября с.г. Кроме того 4 ноября в «Federal Register» опубликован окончательный вариант изменений и дополнений в правила осуществления антидемпинговых процедур в части расширения использования метода случайной выборки при отборе респондентов для проведения антидемпингового расследования и пересмотров ранее принятых приказов.
В соответствии с предписаниями национального законодательства в отчетном периоде торгово-экономическим блоком Администрации США был осуществлен ряд публикаций нормативного характера, а также были обнародованы восемь докладов (обзора, отчета) по тематике ВЭД. Так, 8 января АТП США опубликовал в «Federal Register» уведомление о возможности исключения Бангладеш из перечня стран-бенефициаров преференциального режима ГСП США в связи с отсутствием прогресса в вопросе соблюдения прав трудящихся, включая право на объединение в профсоюзы и проведение коллективных переговоров с работодателями.
16 января Служба США по таможенному контролю и охране границ (совместно с Бюро расследования нарушений таможенного и иммиграционного законодательства) опубликовала годовой отчет за 2012 ф.г. о результатах деятельности в области пресечения незаконного ввоза на территорию США товаров, нарушающих исключительные права интеллектуальной собственности американских правообладателей. Так, в отчетный период был осуществлен 691 арест, оформлено 423 обвинительных заключения, инициировано 334 судебных дела в отношении физических лиц, вовлеченных в вышеупомянутую противоправную деятельность. В отчетном периоде был заблокирован доступ к 697 интернет-сайтам, посредством которых осуществлялось распространение контрафактной продукции. В 2012 ф.г. было конфисковано 22 848 партий контрафактных товаров (из которых 9 852, 8 490 и 1 526 поставлялись посредством почты, служб экспресс-доставки и экспедиторскими компаниями соответственно) на общую сумму 1,262 млрд. долл. (в 2011 ф.г. – 24 792 на общую сумму 1,11 млрд. долл.). Наибольший объем контрафактной продукции (в ценовом выражении) приходился в 2012 ф.г. на следующие товары: сумки и кошельки (40%); часы и украшения (15); одежда (11%); бытовая электроника (8%); обувь (8%); лекарственные средства (7%). Крупнейшими странами-импортерами контрафактной продукции (в ценовом выражении) в 2012 ф.г. оставались Китай (72%) и Гонконг (14%).
19 февраля Минторг США опубликовал отчет о ходе реализации Новой экспортной инициативы в 2012 г. Так, согласно отчета, объем экспорта товара и услуг рос в 2012 году опережающими темпами по сравнению с увеличением объема импорта в США, достигнув значения 2,2 трлн. долл. (13,9% ВВП США), из которых 1,35 трлн. долл. приходится на товары промышленного производства (рост на 47% за период 2009-12 гг.). Экспорт услуг в 2012 году увеличился на 4,4% и составил 632,3 млрд. долл. США. Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 38% до уровня 145,4 млрд. долл. (крупнейший рынок – Китай с объемом 26 млрд. долл.). Минсельхоз США 21 февраля опубликовал прогнозные показатели экспорта на 2013 ф.г., которые составили 142 млрд. долл. (итоговое значение за 2012 ф.г. – 135,8 млрд. долл.).
01 марта Администрация США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных средств опубликовала стратегический план, направленный на укрепление и развитие системы безопасности качества продовольственных продуктов в странах, являющихся их экспортерами в США. В рамках программы планируется проведение обучения иностранных специалистов, ознакомление их со стандартами безопасности, предъявляемыми к импортируемым продовольственным товарам, интеграция системы мониторинга качества производственных процессов при производстве продуктов питания в данных странах, выработка единых технических регламентов продовольственных товаров.
1 апреля 2013 года АТП США представил Президенту США и в Конгресс США ежегодный доклад о торговых барьерах в зарубежных странах, препятствующих экспорту американских товаров, услуг и инвестиций, а также доклады о технических барьерах в торговле и о санитарных и фитосанитарных мерах. Доклад о торговых барьерах в зарубежных странах содержит информацию о торговых режимах 57 стран, а также Специального административного района Гонконг, Тайваня, Европейского Союза и Лиги арабских государств. Упомянутый Доклад включает анализ действующих барьеров по 9 категориям, а также содержит оценку влияния иностранной торговой политики на объем американского экспорта. Также 30 марта были обнародованы два других упомянутых доклада, раскрывающие ограничения в соответствующих областях применительно к 16 странам (а также ЕС и Тайваню) и 45 (а также ЕС, Тайваню и Сообществу развития стран Юга Африки) странам соответственно.
Кроме того, 1 мая 2013 г. АТП США обнародовал итоги ежегодно проводимого им обзора по т.н. «статье 301-специальной» Закона США о торговле 1974 г., посвященного анализу ситуации с охраной прав американских владельцев ИС в иностранных государствах (далее - Обзор). АТП США осуществил Обзор в отношении режимов охраны прав ИС, применяемых 95 торговыми партнерами США, из которых 41 вызвали озабоченность у американской стороны. В перечень т.н. «приоритетно наблюдаемых государств», к числу которых американцы относят страны с «неадекватным» уровнем защиты прав ИС, были отнесены 10 стран, а в перечень «наблюдаемых государств» включены 30 торговых партнеров США. Кроме того Украине был присвоен статут «приоритетного иностранного государства» (наивысший уровень озабоченности). Учитывая данное обстоятельство, 3 июня 2013 года АТП США инициировал расследование в отношении Украины в рамках статьи 301 Закона США о торговле 1974 г в связи с отсутствием эффективной защиты исключительных прав интеллектуальной собственности. Итогом такого расследования может стать временное лишение Украины статуса страны-бенефициара в рамках ГСП США.
27 июня Торговый представитель США М.Фроман обнародовал отчет о результатах ежегодного пересмотра Генеральной системы преференций, предоставляющей право на осуществление беспошлинного импорта различных групп товаров из развивающихся стран. Более 100 наименованиям продукции происхождением из 14 стран был предоставлен т.н. «вейвер» в отношении применения правила о «пороге конкурентоспособности». Принято решение об исключении Народной республики Бангладеш из числа бенефициаров ГСП в связи с систематическим грубым нарушением трудовых прав и несоблюдением минимальных требований безопасности рабочих мест. Петиции по нескольким странам, одобренные в прошлые годы, остаются под процедурой пересмотра: петиции по Индонезии, России, Украине и Узбекистану в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, петиции по Фиджи, Грузии, Ираку, Нигеру, Филиппинам и Узбекистану в связи с нарушением прав трудящихся.
1 ноября Минфин США опубликовал очередной доклад об экономической и валютной политике зарубежных стран, в котором в очередной раз не признал Китай валютным манипулятором и соответственно не стал требовать применения в отношении данной страны односторонних экономических санкций. Отмечается, что курс юаня по отношению к доллару вырос на 12% с июня 2010 года, при этом китайская валюта все равно остается недооцененной. Предметом озабоченностей Минфина США стала курсовая политика Японии, Кореи, Тайваня и Бразилии.
В отчетном периоде Конгресс США продолжил работу по совершенствованию законодательства в области государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Представляется, что важным событием в данной сфере стало обнародование в феврале 2013 г. заявления постоянной бюджетной комиссии Конгресса США о приоритетных сферах (внешнеэкономической направленности) законодательной деятельности Конгресса на 2013 год. Так, были упомянуты следующие приоритетные законодательные инициативы: (1) наделение Президента США «полномочиями по содействию торговле» (Trade promotion Authority); (2) временное снижение или отмена таможенных пошлин в отношении сырьевой продукции и полуфабрикатов, которые не производятся (или производятся в недостаточном количестве) в США; (3) наделение дополнительными полномочиями Службы США по таможенному контролю и охране границ (включая упрощение ряда таможенных процедур через поощрение участия импортеров в реализуемых Службой сертификационных программах); (4) продление срока действия преференциальных систем (действие ГСП и системы преференций Андским странам истекает в июле 2013 года); (5) правоприменение в области ИС (особенно в сфере защиты прав на ноу-хау и пресечение несанкционированного доступа сведениям, составляющим коммерческую тайну»); (6) дальнейшая настройка режима экономических санкций; (7) многосторонние и двусторонние переговоры и др. Итоги 2013 года показали, что по большинству направлений достичь успеха не удалось, по отдельным пунктам программы даже не были согласованы тексты законопроектов.
Среди законопроектов, внесенных в отчетном периоде на рассмотрение Конгресса США,можно отметить внесенный 09 мая 2013 года в Палату представителей Конгресса СШАзаконопроект H.R. 1910 «О правовой подотчетности иностранных производителей», положения которого, в частности, предусматривают необходимость регистрации в США представительства иностранного производителя, осуществляющего поставки на рынок США, в целях обеспечения большего контроля за качеством и происхождением продукции со стороны надзорных органов США, а также неотвратимости исполнения судебных предписаний властей США
Учитывая, что положения Публичного закона № 111-227 от 11.08.2010 «О текущем снижении тарифа» (в редакции закона №111-344), предусматривающие снижение или приостановление взимания импортных пошлин на 929 товарных позиций, большинство из которых является сырьем для американских производителей, истекли 31.12.2012 г., то представляет несомненный интерес законопроект H.R. 6727 «О текущем снижении тарифа», положения которого, сокращая количество товарных позиций на величину около 10%, продлевают срок действия льготного периода обложения таможенными пошлинами до 31.12.2015 г.
Среди законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата, можно выделить законопроект H.R. 6493 «О международных инвестициях в американские города», предусматривающий предоставление инвесторам, имеющим намерение вкладывать денежные средства в развитие депрессивных американских городов, льгот в виде налоговых вычетов, предоставлении долгосрочных инвестиционных виз и видов жительства и других стимулирующих мер.
Учитывая, что 31 июля истек срок действия ГСП США, то представляют интерес внесенные в Конгресс США законопроекты H.R. 2709, S 1331, положения которых предусматривают ретроспективное продление ГСП США до 30.09.2015 г. В связи с необходимостью уплачивать таможенные пошлины по товарам, ранее подпадавшим под действие ГСП США, потери американского бизнеса с августа по декабрь 2013 года составили около 225 млн. долл. США
В рамках реализации второго этапа патентной реформы США представляет интерес законопроект H.R. 2639 (внесен 10.07.2013), положения которого прежде всего направлены на борьбу с патентными «троллями» ежегодные потери экономики США от которых составляет около 29 млрд.долл. США.
Принимая во внимание, что срок действия Публичного закона № 110-234 от 22.05.2008 года (в редакции закона от 02 января 2013 года № 112-240) "О продовольствии, охране окружающей среды и энергетике от 2008 г." (Food, Conservation, and Energy Act of 2008, aka 2008 U.S. Farm Act) истек 01 октября 2013 года, то представляет несомненный интерес законопроекты S 504 и H.R. 2498 «О реформе сельского хозяйства, продуктах питания и занятости», положения которых продлевают сроки действия сельскохозяйственных и экспортных субсидий, а также устанавливающие их объемы финансирования. Кроме того данные законопроекты предусматривают возобновление ежегодных выплат в Бразильский хлопковый институт (по итогам разрешения спора в ВТО по вопросам экспортной поддержки и субсидий производителям хлопка). Отмечаем, что в связи с истечением срока действия упомянутого закона, возобновилось действие закона «О поддержке фермерства» 1949 года, одним из последствий чего стал рост розничных цен на молочную продукцию в США (в связи со значительно меньшим объемом агросубсидий).
11 декабря в Сенат Конгресса США был внесен законопроект № 1801 «Об обеспечении равных условий в глобальной торговле», положения которого предписывают Минторгу США при расчете «нормальной» цены учитывать соразмерность и адекватность расходов респондентов на оплату труда, расходов на обеспечение стандартов охраны труда, а также защиты окружающей среды.
12 декабря в Палату представителей Конгресса США внесен законопроект H.R. 3733 «О торговле и правоприменительной практике в сфере защиты окружающей среды», положения которого предусматривают возможность введения специальных импортных таможенных пошлин в отношении товаров, произведенных в странах, не взявших на себя обязательства в должном объеме по защите окружающей среды.
В отчетный период Конгресс США так и не приступил к рассмотрению вопроса предоставления Президенту США «полномочий по содействию торговле», которые необходимы Администрации США для успешного завершения переговоров по созданию зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство», а также по «Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству». Данная процедура позволяет Администрации США проводить заключенные торговые соглашения через Конгресс США по ускоренному и упрощенному порядку – конгрессмены могут лишь одобрять или отклонять подписанные соглашения и не могут вносить в него правки. Соответствующий законопроект планируется к внесению в Конгресс США в феврале 2014 года.
В отчетный период Президент США Б.Обама подписал ряд публичных законов внешнеэкономической направленности. Так,2 января Президент США подписал Публичный закон № 112-239 «О выделении средств на цели национальной обороны в 2013 финансовом году», положения которого (среди прочего) предусматривают снятие запрета на экспорт отдельных категорий спутников (прежде всего в области космической связи) и их компонентов. Экспортные ограничения отменены в отношении поставок во все страны мира за исключением Китая, Северной Кореи, Ирана, Кубы, Сирии и Судана. Кроме того, положения данного закона (ст. 1241-1255) предусматривают расширение экономических санкций трансграничного характера в отношении Ирана, которые затрагивают энергетический и кораблестроительный сектор экономики Ирана, а также морское судоходство и страховую деятельность. Кроме того, экономические санкции могут быть применены в отношении финансовых институтов третьих стран, которые участвуют (обеспечивают) в трансакциях с иранскими компаниями и физическими лицами, внесенными в соответствующие ограничительные списки.
Считаем важным отметить, что 2 января срок финансирования федеральных программ поддержки сельского хозяйства в рамках публичного закона США 2008 года «О поддержке фермерства» был продлен на один год в соответствии с положениями Публичного закона № 112-240 «О помощи американским налогоплательщикам».
14 января с.г. Президент США подписал Публичный закон США № 112-269 «Об увеличении наказания за акты промышленного шпионажа» (Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012), положения которого предусматривают ужесточение санкций за акты промышленного шпионажа (для физических лиц максимальный срок тюремного заключения увеличен с 15 до 20 лет с возможностью наложения штрафа, максимальный размер которого увеличен в 10 раз до 5 млн. долл.; для организаций размер штрафа определяется большим значением двух из величин - 10 млн. долл. или увеличенная в три раза стоимость «украденных» сведений, составляющих коммерческую тайну).
Кроме того, 14 января Президент США подписал Публичный закон № 112-266 «О безопасности гипсокартона», положения которого предусматривают новые требования по маркировке данного вида продукции, а также ограничивают содержание серы в данной продукции.
20 марта 2013 года Президент США подписал Публичный закон № 113-14 "О взимании сборов за регистрацию лекарств для животных", положения которого вводят дополнительные сборы с компаний и импортеров в пользу Администрации по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств.
27 ноября Президент США подписал Публичный закон № 113-54 от 27.11.2013 года «О качестве и безопасности лекарственных средств», положения которого, среди прочего, учреждаю национальный стандарт безопасности цепочки лекарственных средств и их компонентов для целей защиты потребителей от контрафактных лекарств.
26 декабря Президент США подписал Публичный закон № 113-66 "О выделении средств на цели национальной обороны", положения которого (статья 2279) накладывают фактический запрет на размещение на территории США наземных комплексов спутниковых систем глобального позиционирования иностранных государств (в настоящее время Россия, ЕС и Китай), которые прямо или косвенно контролируются правительствами иностранных государств. Размещение упомянутых наземных комплексов может быть разрешено только в том случае, если министр обороны США и директор национальной разведки предоставят письменное удостоверение Конгрессу США, что данные объекты не будут использоваться для разведывательной деятельности против США и будут передавать только открытые данные, а также не повысят эффективность российских вооружений и не ослабят конкурентные позиции американской системы GPS на рынке. В свою очередь статья 1255 данного закона запрещает использовать бюджетные денежные средства для исполнения контрактов с ОАО "Рособоронэкспорт".
Американской стороной в рассматриваемом периоде был подписан ряд двусторонних соглашений и других обязывающих документов межправительственного и межведомственного уровня в целях правового регулирования отдельных аспектов внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Так, 25 января 2013 года США и Япония подписали соглашение о порядке и условиях осуществления экспорта американской говядины и продукции из нее на рынок Японии. Япония согласилась разрешить с 01.02.2013 ввоз в страну американской говядины при условии, что возраст животных, из которых она была произведена, не превышает 30 месяцев (ранее было ограничение 20 месяцев).
28 февраля 2013 года Администрации США и Иордании подписали Декларацию о совместных принципах в области международных инвестиций (включая вопросы компенсаций на случай прямой или косвенной экспроприации) и Декларацию о совместных принципах в области оказания информационных и коммуникационных услуг (включая вопросы свободы трансграничного перемещения информации и информационных услуг).
23 апреля Бюро по таможенному и пограничному контролю США подписало с Таможенной службой Нигерии Соглашение о взаимной помощи по таможенным вопросам, положения которого (среди прочего) предусматривают возможность взаимного обмена таможенной информацией. Данное соглашение стало 66 в списке аналогичных соглашений с торговыми партнерами США.
15 мая между США и Бирмой (Мьянма) было подписано рамочное соглашение по торговле и инвестициям. Соглашение предполагает создание переговорной площадки по вопросам развития торговли и инвестиций между двумя странами, обеспечения соблюдения трудовых прав, а также выработке подходов к совместной борьбе с бедностью в Мьянме.
28 мая между США и странами, входящими в региональной интеграционное объединение CARICOM, было подписано рамочное Соглашение о торговле и инвестициях.
12 июля подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки узлами и агрегатами моторных транспортных средств.
27 августа США и Уругвай подписали Соглашение о взаимопонимании по вопросам развития торговых отношений. Данный документ опосредует вопросы взаимодействия между правительствами двух стран, а также определяет дальнейшие направления взаимной работы сторон по подписанию двухстороннего соглашения о свободной торговле.
24 сентября США и Монголия подписали Соглашение «О транспарентности в вопросах инвестиций и торговли».
26 сентября США и Япония подписали соглашение о взаимном признании стандартов «органических» продуктов питания.
21 октября ЕС и США продлили срок действия Соглашение 2009 года «О порядке доступа высококачественной говядины американского происхождения на рынок США» до 02 августа 2015 года, ежегодная квота в размере 45 тыс. метрических тонн сохранена без изменений.
21 ноября США и Марокко подписали Соглашение «О содействии торговле», а также межведомственное Соглашение «О взаимной помощи по таможенным вопросам».
25 ноября США и Бангладеш подписали Соглашение «О сотрудничестве в области торговли и инвестиций».
27 ноября (в форме обмена нотами) Россия и США подписали Соглашение «О взаимных отношениях в области рыбного хозяйства» (актуализация аналогичного Соглашения между Правительствами СССР и США от 1988 г.).
Администрация США в отчетном периоде также продолжала нормотворческую работу на ведомственном уровне в сфере правового регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Так, 17 января Министерство финансов США и Служба внутренних доходов США опубликовали окончательную редакцию нормативных правил, регламентирующих отдельные аспекты применения финансовыми учреждениями Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA). Данными правилами детально регламентируются пошаговые действия по выявлению контролируемых законом счетов, раскрытию информации по ним и осуществлению предусмотренных законом удержаний с лиц, нарушающих его требования.
К новым мерам нетарифного регулирования можно отнести нормативное решение Администрации по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, вступившее в силу 5 февраля с.г. во исполнение положений Публичного закона № 111-353 от 04.01.2011 «О безопасности пищевых продуктов», в соответствии с которым предусматривается необходимость обязательного указания в составе сведений, предоставляемых в рамках предварительного уведомления о ввозе продовольствия в США, на имевшиеся в прошлом случаи отказов в допуске (или приостановления обращения) на рынки третьих стран данной продукции. Также данным нормативным решением предусматривается введение дополнительных оснований для приостановления на срок до 30 дней (для целей проведения соответствующего расследования) выпуска продовольствия на внутренний рынок США, которыми являются наличие достаточных оснований для разумного предположения о том, что товар содержит признаки фальсификации или его маркировка осуществлена в объеме и способом, несоответствующим данному виду продукции, а также в тех случаях, когда есть разумные основания предполагать, что продукция может содержать посторонние примеси.
15 февраля Министерство торговли США опубликовало окончательное решение о продлении до 21 марта 2017 года срока действия Системы мониторинга и анализа импорта стали (SIMA), предусматривающее требование об автоматическом лицензировании импорта основных наименований сталепроката вне зависимости от страны его происхождения.
21 февраля Государственный департамент США принял решение о включении Камбоджи, Камеруна, Казахстана и Панамы в перечень стран (в настоящее время насчитывает 53 государства), использующих международную Систему сертификации Кимберлийского процесса при осуществлении международной торговли необработанными алмазами. Данное решение отменяет существовавший ранее запрет на импорт в США и операции с необработанными алмазами, происхождением из упомянутых стран.
12 марта Федеральная комиссия США по мореходству одобрила подписание внешнеэкономического соглашения об альянсе в сфере коммерческих морских грузовых перевозок. По условиям соглашения его участники (среди которых American President Line) вправе фрахтовать друг у друга морские коммерческие суда, сдавать в аренду часть грузовых мест на судах, а также координировать и кооперировать перевозку грузов между портами на Восточном побережье США и портами в Северной и Южной Азии, Ближнем Востоке, Испании, Италии, Египте, Панаме, Ямайке и Канаде.
18 апреля Бюро по таможенному и пограничному контролю США заявило об увеличении числа т.н. центров передового таможенного оформления – подразделений в структуре таможенного органа, специализирующихся на процедурах таможенного оформления определенной группы товаров. Согласно сделанному заявлению в 2013 году планируется открыть несколько Центров: по сельскохозяйственной продукции и продуктам питания в Майами; по одежде, обуви и текстилю в Сан-Франциско; по компьютерам и иной бытовой электроники в Атланте. Центры передового таможенного оформления осуществляют часть таможенных функций в отношении установленной группы товаров, в первую очередь – функции по проверке правильности определения таможенной стоимости товаров. Все упомянутые центры открыты в 2013 году.
17 мая Министерство энергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа по проекту «Freeport» в штате Техас. Данное разрешение стало вторым в истории США и первым с 2011 года. Разрешение дано на экспорт в страны, с которыми у США нет соглашений о свободной торговле. 07 августа Минэнергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа по проекту «Lake Charles Exports» в штате Луизиана. Кроме того 11 сентября выдано разрешение на экспорт сжиженного природного газа по проекту "DominionCove Point" в штате Мериленд.
14 июня Министерство торговли США объявило о планах провести в г. Вашингтоне 31 октября и 1 ноября текущего года первый международный инвестиционный саммит в рамках действия программы «SelectUSA». Участие в саммите приняли зарубежные инвесторы, члены правительств иностранных государств, иностранные и американские компании. Цель проведенного мероприятия – стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику США.
В свою очередь Министерство сельского хозяйства США 21 июня опубликовало количественные пороговые значения на 2013 год объема импорта продовольствия в отношении 41 товарной позиции, при превышении которых Администрация США может принять защитные меры в виде увеличения применимых ставок таможенного тарифа.
25 июня Бюро таможенного и пограничного контроля США анонсировало расширение сферы действия программы «Глобальный доступ» (Global Entry) на 8 дополнительных аэропортов. Программа позволяет импортерам, прошедшим процедуру подтверждения своего статуса как благонадежных, ввозить на территорию США грузы через аэропорты, участвующие в программе, с минимальным количеством таможенных и прочих проверочных процедур. В настоящее время в программе участвуют 32 аэропорта США.
5 июля Служба США по таможенному контролю и охране границ опубликовала в Federal Register окончательную редакцию правил, вступающих в силу с 5 августа 2013 года, устанавливающих право таможенного органа отказывать в допуске на таможенную территорию США промышленному оборудованию и потребительским товарам, маркировка и энергоэффективность которых не соответствует Публичному закону США «Об энергетической политике» 1975 года и принятым в его исполнение подзаконным актам.
12 июля Служба внутренних доходов США и Минфин США объявили о переносе на полгода срока вступления в силу основных требований Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA), касающихся обязательств кредитных организаций производить удержание с платежей в отношении лиц, не раскрывших информацию о владельцах своих счетов. В течение полугода планировалось завершить процедуру подписания двусторонних соглашений о порядке взаимодействия в рамках FATCA с различными государствами (около 50, включая Россию). Кроме этого, в срок до 25 апреля 2014 г. всем банкам и иным организациям, отвечающим разработанным Минфином США критериям благонадежности, будет необходимо получить в Службе внутренних доходов США особый идентификатор (Global Intermediary Identification Number), используемый для отслеживания операций по счетам.
29 июля АТП США внесла изменения в Гармонизированный таможенный тариф (ГТТ) США, имеющие своей целью: отразить истечение 31 июля 2013 г. срока действия Генеральной системы преференций США и Системы торговых преференций Андским странам; отразить изменение количества стран-членов ЕС применительно к распределению квот на сырную продукцию; отразить исключение с 31 августа 2013 г. Бангладеш из перечня стран-бенефициаров ГСП США; отразить изменение в нумерации нескольких подпозиций ГТТ США и для других подобных технических целей.
3 августа АТП США использовала (впервые с 1987 года и в 6 раз с 1930 года) делегированные Президентом США полномочия по наложению вето на решение КМТ США от 04 июня 2013 года, принятому в рамках расследования по статье 337 закона «О тарифе США» в пользу компании Samsung, положения которого накладывали (в связи с нарушением исключительных прав интеллектуальной собственности компании Samsung) запрет на ввоз на таможенную территорию США широкой номенклатуры продукции компании Apple.
9 августа Служба США по таможенному контролю и охране границ США объявила о порядке изменения электронной системы оформления таможенных грузов (ACE). Переход планируется осуществить в три этапа с завершением переходного периода в октябре 2016 г. В результате планируемых изменений планируется объединить в единую электронную систему действующие базы различных органов власти, связанные с перемещением товаров через государственную границу, соблюдением таможенного, санитарного законодательства, режимов экспортного контроля.
20 августа Администрация США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств анонсировала начало «пилотной» программы контроля цепочки безопасности поставщиков продуктов питания. Программа нацелена на выявление контрафактной и некачественной продукции при ввозе и дальнейшей ее дистрибуции по территории США. Суть программы заключается в декларировании импортерами полных списков организаций, участвующих в производстве конечного продукта, импортируемого в США.
20 сентября Федеральная торговая комиссия США утвердила новые правила маркировки шерстяной продукции, включая требования по указанию на этикетке данных о факте наличия в составе товара повторно используемой шерсти.
22 октября в Federal Register опубликовано официальное извещение Минторга США об изменении с 1 октября 2013 года наименования Импортной администрации Минторга США. С указанной даты упомянутое структурное подразделение Минторга США именуется Правоприменение и обеспечение соответствия (Enforcement and Compliance), к функциональным обязанностям которого относятся следующие группы вопросов: (1) антидемпинговые и компенсационные процедуры; (2) противодействие «обхождению» и иному нарушению антидемпинговых и компенсационных мер; (3) обеспечение участия Администрации США в процедурах разрешения споров в рамках НАФТА.
1 ноября Служба контроля здоровья животных и растений США обнародовала итоговую версию Правил импорта говядины в соответствии с Международными стандартами здоровья животных с целью предотвращения развития болезни губчатой энцефалопатии (коровьего бешенства).
14 ноября Минсельхоз США опубликовал в Federal Register новую редакцию стандарта качества гороха в сушеном виде.
10 декабря Минфин США опубликовал в Federal Register в рамках имплементации положений статьи 619 Закона "О реформе финансовой системы США" новые правила, которые накладывают на финансово-кредитные организации США существенные ограничения на осуществление высокорисковых биржевых операций с деривативами и рядом других финансовых инструментов с использованием собственных (а не клиентских) средств. Правила вступают в силу 1 апреля 2014 г., однако штрафные санкции за несоблюдение правил могут быть применены не ранее 21 июля 2015 г. Несмотря на это, уже начиная с июня 2014 г. кредитные учреждения будут вынуждены информировать регуляторов о предпринимаемых шагах по обеспечению соответствия новым правилам.
18 декабря опубликованы ценовые пороговые значения применительно к процедурам осуществления государственных закупок на 2014-15 гг., факт превышения которых дает право торговым партнерам США, являющимся участниками Соглашения ВТО по правительственным закупкам или двустороннего соглашения о свободной торговле, принять участие в конкурсных торгах на право заключения соответствующего государственного контракта.
31 декабря Минсельхоз США издал Приказ (вступил в силу 22.01.2014), положения которого устанавливают сбор с производителей бумаги и бумажной упаковки в размере 0,35 долл. США за короткую тонну (907,2 кг), осуществляющих производство или ввоз на таможенную территорию США данного вида продукции в ежегодном объеме более 100 тыс. коротких тонн. Ожидается, что объем ежегодных сборов в рамках данного приказа составит около 25 млн. долл. США. Данные средства будут направляться на маркетинговые исследования и информационную поддержку целлюлозно-бумажной промышленности США.
В отчетном периоде Администрация США продолжала использовать специальные ограничения в торговле товарами по соображениям национальной безопасности, совершенствуя внешнеторговое законодательство в данной сфере. Так, 11 февраля в Federal Register опубликовано решение Государственного департамента США о введении экономических санкций в отношении белорусских компаний КБ «Радар» и «ТМ Сервис» (включая их дочерни компании) сроком на 2 года, запрещающее американским компаниям осуществлять какие-либо внешнеторговые (включая импортные) операции с данными белорусскими организациями. 12 февраля в Federal Register опубликовано решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о включении белорусской компании ГВТУП «Белвнешпромсервис» в «Список граждан особых категорий и запрещенных организаций» и «замораживании» на территории США всех ее активов.
3 июня Президент США подписал Исполнительный приказ (вступил в силу 01 июля 2013 года), положения которого накладывают запрет на использование иностранными банками возможностей финансовой системы США в случае, если такие банки осуществляют существенные валютные операции с иранским реалом. Также данный указ запрещает продажу или предоставление Ирану оборудования и технологий для производства автотранспортных средств, а также запасных частей для автотранспортных средств.
7 ноября в «Federal Register» опубликовано официальное решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о введении с 30 октября 2013 года санкций имущественно-финансового характера в отношении четырех граждан России, а также двух российских компаний (ООО «Гурген Хаус» и ООО «МС Групп Инвест»). Санкции введены в связи с тем, что упомянутые российские граждане и организации непосредственно связаны (по мнению Администрации США) с международными преступными группировками.
10 декабря Госдеп США опубликовал в Federal Register о введении в отношении Сирии дополнительных санкций экономического характера, включая запрет американским банкам на предоставление займов и кредитов государственным организациям Сирии (исключая кредиты и займы на закупку продовольствия), а также запрет осуществления поставок товаров и технологий американского происхождения (исключая продовольствие).
Тем не менее в отчетном периоде Администрация США продолжила смягчение режима санкций экономического характера по отношению к Бирме. Так, 22 февраля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло запрет на осуществление расчетных и иных операций (включая открытие счетов) с четырьмя основными финансовыми институтами Бирмы (Myanma Economic Bank, Myanma Investment and Commercial Bank, Asia Green Development Bank and Ayeyarwady Bank). С 22 февраля такие операции могут осуществляться в уведомительном порядке на основании Общей лицензии № 19.
С учетом прецедентного характера права США важное место в сфере нормативного регулирования ВЭД занимает решения федеральных органов судебной власти США. Считаем необходимым отметить, что 19 марта 2013 года Верховный Суд США принял прецедентное решение, в корне изменившее правоприменительную практику в части определения момента исчерпания исключительных прав при введении товаров, содержащих в себе объекты авторского права, в гражданский оборот (т.н. «правило первой продажи»). В соответствии с данным решением в США применим экстерриториальный принцип исчерпания исключительных прав, а не национальный, как это было ранее. На практике это означает, что субъект, легально приобретший в любой стране мира продукцию, содержащую в себе объекты авторского права, вправе в дальнейшем импортировать ее на рынок США в целях перепродажи.
Кроме того, считаем важным отметить решение Окружного суда Округа Колумбия от 02 июля 2013 года, вынесенное в рамках рассмотрения дела American Petroleum Institute v. SEC (D.D. C., No. 12-cv-01668, 10/10/12), в соответствии с которым было приостановлено действие Правил Комиссии США по ценным бумагам и биржам №13q-1 от 22.08.2012 «О раскрытии информации о платежах эмитентами, осуществляющими добычу полезных ископаемых», а Комиссия была обязана возобновить нормотворческую работу в данной области. Упомянутые правила предусматривали обязанность публичных компаний, в том числе иностранных, осуществляющих деятельность в сфере добычи полезных ископаемых и имеющих листинг в США, по раскрытию, среди прочего, информации о платежах, осуществляемых правительствам различных уровней.
В рассматриваемом периоде США продолжали играть ведущую роль в международных организациях, используя их возможности для продвижения своих интересов, в частности создания благоприятных условий для деятельности американского бизнеса на внешних рынках. Так, в отчетном периоде Администрация США продолжала работу со своими торговыми партнерами по активизации многосторонних переговоров Доха-раунда в рамках «коктейльного» подхода, направленного на выход на взаимные договоренности по небольшому пакету соглашений (early harvest, deliverables) к концу ноября 2013 г. для их окончательного обсуждения и согласования на 9-ой Министерской конференции ВТО на о.Бали, Индонезия (3-6 декабря 2013 г.).
При активном участии США данная цель была достигнута. 7 декабря 2013 года была обнародована итоговая Декларация, признающая присоединение Йемена к ВТО, а также закрепляющая решения по десяти соглашениям, касающимся «трех столпов» Балийского пакета, а именно: упрощение процедур торговли; некоторые вопросы по сельскому хозяйству; вопросы развития. К данным соглашениям относятся: 1. Упрощение торговых процедур; 2. Меры государственной поддержки сельского хозяйства, не оказывающие искажающего эффекта на торговли и разрешенные к применению без ограничений; 3. Продовольственная безопасность; 4. Администрирование тарифных квот; 5. Экспортная конкуренция; 6. Улучшение условий доступа на рынки продукции из хлопка происхождением из наименее развитых стран; 7. Предоставление беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки развитых стран для наименее развитых стран; 8. Упрощение преференциальных правил происхождения товаров в отношении наименее развитых стран; 9. Изъятия по услугам для наименее развитых стран; 10. Механизм мониторинга в части исполнения предоставления специального режима развивающимся странам.
Кроме того, Администрация США в 2013 году продолжала прилагать усилия по согласованию многосторонних соглашений, имеющих торгово-экономическую составляющую. Так, при активном участии Администрации США 19 января 2013 г. в Женеве было завершено согласование текста юридически обязательного соглашения по ртути, получившего название Конвенции Минамата, в разработке которой приняли участие представители более чем 140 стран. Целью Конвенции Минамата является сокращение использования ртути в промышленности, а также ликвидация накопленного ртутного загрязнения. Новый документ вводит запрет на открытие новых шахт, регулирует торговлю металлом и его использование в промышленных процессах, устанавливает специальные меры по снижению ртутного загрязнения окружающей среды при «кустарной» золотодобыче, в металлургии и энергетике. Конвенция открыта к подписанию с октября 2013 г.
24 июля США официально получили статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе – торговом блоке, в который входят Колумбия, Мексика, Перу, Чили и Коста-Рика. Альянс был создан в 2012 году с целью расширения торговли и экономического взаимодействия стран региона и создания торгового пространства, свободного оборота услуг, трудовых ресурсов и капитала. Помимо США статус наблюдателей (с возможным последующим членством) также имеют Гватемала, Панама, Уругвай, Парагвай, Испания, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Канада.
В отчетном периоде состоялись четыре раунда (март, Сингапур; май, Перу; июль, Малайзия; август, Бруней) переговоров по формированию Транстихоокеанского партнерства (далее по тексту - TPP), участниками которых на настоящий момент являются США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Бруней, Перу, Чили и Япония. Сторонам не удалось достигнуть своей принципиальной цели по согласованию обязывающих документов к концу 2013 года. В настоящее время страны-участницы продолжают переговорный процесс без привязки к конкретной дате его возможного завершения. Важно отметить, что страны-участницы объявили «мораторий» на допуск новых стран к переговорному процессу. В то же время в течение 2013 года Тайвань и Южная Корея (сентябрь и ноябрь 2013 года соответственно) официально объявили о наличии заинтересованности по присоединению к TPP. Ранее о желании присоединиться к данному переговорному процессу официально объявляло правительство Таиланда.
Существенными препятствиями к завершению переговорного процесса являются имеющиеся расхождения между позицией США и иных участников переговорного процесса по следующим вопросам: разрешение инвестиционных споров; защита исключительных прав интеллектуальной собственности; лекарственные средства; сельскохозяйственные экспортные субсидии. Данные вопросы являются принципиальными для Администрации США, в связи с чем поле для «маневра» существенно сужено, что не позволило в 2013 году достичь искомого компромисса. Кроме того, переговорную позицию США в значительной степени ослабляет отсутствие у Президента США «полномочий по содействию торговле» (более подробно рассматривалось ранее), в связи с чем «затягивание» переговорного процесса в значительной степени отвечает интересам США.
Формирование упомянутого регионального интеграционного объединения вызывает определенную озабоченность у Китая. Так, 11 октября Премьер-министр КНР Ли Кэцян, воспользовавшись отсутствием Президента США на Восточно-Азиатском Саммите, предложил лидерам азиатского региона присоединиться к переговорному процессу по созданию конкурирующей с «ТPP» зоны свободной торговли «Региональное Всестороннее Экономическое Партнерство», участниками которого в настоящее время являются Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Планируется, что согласование обязывающих документов должно быть завершено участниками к концу 2014 года.
В 2013 году важным направлением деятельности Администрации США на международной арене в экономической сфере стал переговорный процесс по Соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Так, 17 июня Президент США и руководство ЕС на саммите «Группы 8» в Великобритании официально объявили о начале переговоров по данному Соглашению. Первый (технический) раунд переговоров состоялся 8-14 июля в г.Вашингтоне. 14 ноября в Брюсселе завершился второй раунд переговоров, в ходе которого преимущественно обсуждались вопросы либерализации доступа и защиты инвестиций, а также вопросы оказания трансграничных услуг. Также в ходе переговоров затрагивалась тематика унификации мер нетарифного регулирования, энергетики и сырьевых товаров.
20 декабря в Вашингтоне завершился третий раунд переговоров, в ходе которых стороны обсуждали следующие вопросы: применение санитарных и фитосанитарных мер; защита прав интеллектуальной собственности; государственные закупки; стандарты в области охраны труда; торговля текстилем.
Согласно оценкам Администрации Президента США, Соглашение послужит открытию европейского рынка для торговли и инвестиций; устранению нетарифных ограничений в торговле товарами, в т.ч. сельскохозяйственными; устранению торговых тарифов; улучшению доступа на рынки в сфере услуг; развитию главных принципов и новых моделей сотрудничества по глобальным вопросам, включая интеллектуальную собственность, деятельность государственных учреждений и дискриминационные требования по локализации; продвижению глобальной конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.
Начавшиеся три года назад «арабские революции» похоронили традиционные центры сил на Ближнем Востоке, прежде всего Египет. При этом произошло усиление роли Саудовской Аравии. Но в конечном счете от всех процессов в регионе больше других выиграл Иран. И начался процесс формирования шиитской дуги, которого опасаются США, Израиль и консервативные монархии Аравии.
Прошло ровно 3 года со времени начала т.н. арабской весны, а точнее – череды исламистских революций, разгоревшихся на деньги Саудовской Аравии и других аравийских монархий при политической, а в некоторых случаях и военной поддержке со стороны США и ряда ведущих стран НАТО. Ее итоги весьма печальны для тех стран, где были арены ожесточенных сражений и даже боев. Причем все это – страны, которые традиционно были на ведущих позициях в арабском мире.
Ливия, игравшая видную роль в межарабских делах и в Африке, практически уже превратилась в несостоявшееся государство, расколотое на три части, в каждой из которых правят местные кланы. Власть центрального правительства едва распространяется на Триполи и его окрестности.
Египет, бывший ключевой державой арабского мира, от которого во многом зависела безопасность всего Ближнего Востока, переживает период нестабильности, близкий к хаосу, когда в стране может произойти новый переворот или начаться гражданская война. Де-факто он стал тоже несостоявшимся государством, нуждающимся в серьезной международной помощи для преодоления острого социально-экономического кризиса. Его роль как ключевого игрока в процессе ближневосточного государства практически сведена к нулю. Утрачена ведущая роль Каира в ЛАГ.
В Иордании ситуация несколько лучше, но сохраняется риск обострения конфронтации между сторонниками нынешнего монархического режима и исламистами под воздействием сирийского конфликта.
Йемен, занимавший особое место на Аравийском полуострове в качестве республиканского противовеса консервативной монархической Саудовской Аравии, втянут в изнурительную внутреннюю борьбу с повстанцами-хусистами на севере и боевиками Аль-Каиды Аравийского полуострова повсюду. Кроме того, ему грозит раскол на Север и Юг. Страна погрязла во внутренних разборках, и ей сейчас не до внешней политики.
Тунис после исламистского переворота переживает полосу внутриполитической турбулентности и социального кризиса, грозящих перерасти в гражданский конфликт. Как серьезный игрок в политике Арабского Магриба Тунис утратил свое значение.
Алжир живет в ожидании смены власти поколений, причем на фоне растущей активности Аль-Каиды исламского Магриба. Прежняя его роль одного из полюсов сил наряду с Египтом и Ираком в арабском мире утрачена.
В Сирии продолжается гражданская война, шансы на мир путем диалога крайне малы, хотя правящий режим, опираясь на политическую поддержку России и военную помощь Ирана и Хезбеллы, в целом контролирует ситуацию и скорее всего выживет. Но в нынешних условиях Дамаск не может играть активной роли в ближневосточных делах, в первую очередь в поисках решения палестинской проблемы.
В Ираке сохраняется острый накал суннито-шиитского противостояния, подпитываемый извне Саудовской Аравией, Катаром и некоторыми другими членами ССАГПЗ. Курды постепенно ведут дело к созданию де-факто независимого от Багдада анклава. Однако центральное шиитское правительство в состоянии пока удерживать общий контроль над большей частью страны. Постепенно улучшается социально-экономическая ситуация в Ираке. Но занятость внутренними проблемами не позволяет заниматься активной внешней политикой, в том числе в Персидском заливе.
Нельзя сбрасывать со счетов и курдский фактор. Если Иракский Курдистан в конечном счете решится объявить свою независимость, к нему захотят примкнуть населенные курдами районы сопредельных государств, прежде всего Турции и Сирии. А создание мощного курдского государства в самом сердце Среднего Востока – это новая геополитическая реальность. Его антиарабская и антитурецкая ориентация будет очевидна, что означает неизбежный союз с Ираном.
Пока что победителями «арабской весны» формально остаются страны ССАГПЗ во главе с Саудовской Аравией, хотя и там прошли волнения на фоне отголосков общей ситуации на Ближнем Востоке. Волнения шиитов на Бахрейне пришлось подавлять с помощью военной силы, прежде всего саудовских войск. В Восточной провинции Саудовской Аравии, в основном населенной шиитами, также прокатилась серия массовых выступлений протеста против дискриминации по конфессиональному признаку. Кувейт находится в полосе перманентного парламентского кризиса, тоже связанного с угнетением шиитского меньшинства. В Катаре пришлось срочно менять Эмира и премьер-министра с большей частью его правительства, чтобы уберечь это княжество от внутриполитических потрясений, связанных с недовольством населения агрессивной внешней политикой страны. Однако в целом Саудовская Аравия, отодвинув Египет, Алжир, Сирию, Ирак и другие страны на обочину ближневосточной политики, стала во многом диктовать правила игры в регионе, в том числе захватив лидерство в ЛАГ.
Но сейчас там назревает нарыв и вот-вот может произойти смена поколений, поскольку король Абдалла и наследный принц Сальман не просто стары, но и тяжело больны. В правящей семье Аль Саудов нарастает напряжение и ширятся противоречия, молодое поколение больше не хочет жить по нормам ваххабитов 18-го века, нарастает протест шиитского меньшинства, проживающего в основном районе нефтедобычи страны, засасывает недальновидная политика втягивания КСА в конфликты в Сирии, Йемене, Египте и Ираке, за которой стоит руководитель разведки принц Бандар, искусственно нагнетается враждебность по отношению к Ирану, который быстро выходит из западной изоляции. Королевство может просто распасться на 4-5 частей, причем некоторые из них вполне могут быть поглощены соседними странами. Если Саудовская Аравия развалится, то весь Ближний Восток сотрясет до основания.
На фоне событий «арабской весны» пострадала и Турция, которая решила активно поучаствовать в сирийском конфликте. В результате, в самой этой стране летом с.г. прокатилась волна мощных протестов, которая существенно подорвала власть премьер-министра Эрдогана и снизила внешнеполитическую роль Анкары. Да и ее стабильность оказалась под вопросом. Сейчас Турцию непрерывно сотрясают скандалы на коррупционной почве, хотя в реалии речь идет об общем недовольстве населения политикой Эрдогана. Смена многих министров не успокоила ситуацию в стране, где может случиться смена власти. В этих условиях Анкара существенно снизила свою внешнеполитическую активность, в том числе и на ближневосточном направлении.
Единственной реально выигравшей региональной страной от всех последних событий на Ближнем Востоке оказался Иран. После смены там президента Махмуда Ахмадинеджада, которого в июле прошлого года заменил Хасан Роухани, Тегеран за короткое время смог выйти на промежуточные договоренности с Западом по вопросу своей ядерной программы и начать процесс нормализации отношений с США и странами ЕС. Если нынешняя тенденция сохранится, то откроются перспективы снятия всех финансово-экономических и военных санкций, что позволит ИРИ быстро трансформироваться в самую мощную региональную державу на фоне упадка ведущих арабских государств. А это означает совершенно новый баланс сил на Ближнем Востоке, а главное – в Персидском заливе, где добывается 2/3 объема нефти в мире. Тем более что США сокращают свое присутствие в регионе, уходя в более важный для них район – АТР, где им нужно сдерживать рост влияния Китая. В нынешних условиях Тегеран проводит активную и наступательную внешнюю политику, делая упор на становлении союза с Ираком и Сирией для отражения агрессивной линии Саудовской Аравии, не желающей мириться с утратой своей роли в регионе. Эта тенденция может привести к становлению и официальному оформлению «шиитской дуги» в составе ИРИ, Ирака, Сирии и Ливана, а в перспективе и с присоединением к ней шиитских районов Саудовской Аравии (в случае распада королевства) и Бахрейна.
Естественно, такое развитие процессов на Ближнем и Среднем Востоке не устраивает США и Израиль, который в военном отношении остается самым мощным государством региона. С одной стороны, они боятся дальнейшего укрепления роли Ирана и становления шиитской оси, и с другой – не могут остановить этот объективный процесс. Для этого им пришлось бы развязать масштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке. Но он чреват вовлечением в него слабых в военном отношении аравийских монархий, а также распадом Саудовской Аравии.
Так что, начав «революции», консервативные арабские монархии – их зачинщики, в конечном счете нанесли ущерб самим себе, подорвав роль арабского мира в целом и оказавшись на грани коллапса. А на сцене появился новый мощный игрок – Иран, который будет делать ставку на шиитов в арабских странах, что еще больше перекроит политическую карту Ближнего Востока. Не исключено, что сбудется предсказание иорданского короля об образовании шиитской дуги от Тегерана до Бейрута.
**************
Исходя из реалий, которые нас ожидают в ближайшем будущем, России, наверное, стоило бы по-новому оценить ситуацию на Ближнем Востоке, произвести переакцентировку своей внешней политики в регионе и, может быть, стоит сделать ставку на формирование возможного Союза или Альянса с Ираном, Ираком и Сирией, тем более что последние теракты в Волгограде имеют явный саудовский след. Монархии ССАГПЗ никогда не поменяют своего враждебного идеологического настроя к Москве, которая якобы «угнетает» российских мусульман и поддерживает Иран. Они готовы и далее подпитывать финансами и пропагандистской салафитской литературой экстремистские и радикальные исламистские кружки и ячейки на Северном Кавказе и в Поволжье, тем самым поощряя терроризм в РФ. Кроме того, Саудовская Аравия готова демпинговать на рынке нефти, тем самым нанося ущерб российской казне, а Катар играет против Москвы на газовом рынке. Поэтому ограничение их влияния на Ближнем Востоке отвечает не только стратегическим, но и энергетическим интересам России. И в этом наши интересы совпадают с иранскими, иракскими и сирийскими. Причем к союзу РФ с «шиитской дугой» наверняка примкнут другие арабские страны по мере ослабления и уменьшения роли США в регионе.
Владимир Алексеев,
Специально для Iran.ru
Порядка 93 лесных пожаров вспыхнули в воскресенье в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарную службу.
По данным представителя пожарной службы Мэтта Сана (Matt Sun), большинство возгораний были вызваны ударами молнии. Не менее трех домов были разрушены вблизи населенного пункта Минимбах (Minimbah) к западу от Сиднея.
Сообщается, что порядка 900 пожарных участвуют в борьбе со стихией.
Жара, которая обрушилась на юго-западную часть Австралии в конце прошлой недели, стала причиной многих пожаров. В штатах Виктория и Южная Австралия за несколько дней сгорели 25 домов, порядка 130 тысяч гектаров леса было уничтожено огнем. По данным на воскресенье, в штате Виктория продолжают гореть 35 пожаров, в штате Южная Австралия — один. Как сообщает агентство, опасность возникновения новых пожаров в южных штатах уменьшилась.
Мировой рынок стали: 19 декабря 2013 г. – 16 января 2014 г.
Праздничная пауза на мировом рынке завершилась, и только в странах Восточной Азии продолжают готовиться к Новому году по китайскому календарю, до которого остались две недели. Впрочем, покупательская активность к этому времени должна была восстановиться, так что многие меткомпании из разных стран в первой половине января объявили о повышении котировок на сталtпродукцию. В то же время, вопреки ожиданиям, спрос на прокат продолжает оставаться ограниченным, так что вопрос о подорожании пока «повис в воздухе».
Полуфабрикаты
Перед завершением 2013 года многие производители полуфабрикатов в странах СНГ рассчитывали на январское повышение цен. Поэтому после возвращения поставщиков на рынок февральская заготовка предлагалась ближневосточным покупателям по $505-510/т FOB против $500-505/т в середине декабря. Однако рыночная ситуация оказалась неблагоприятной для металлургов, которым в результате пришлось пойти на уступки и сбавить котировки до $495-505/т с перспективой дальнейшего понижения.
Спрос на полуфабрикаты в январе был ограничен Турцией и Египтом, причем, в обеих странах покупатели не проявляли активности. Египетские прокатчики закупили большие объемы заготовки в ноябре-декабре и пока не нуждаются в пополнении запасов. К тому же, производство арматуры в стране сократилось из-за турецкой конкуренции.
Турецкие металлурги и прокатчики, впрочем, сами вынуждены были пойти на ограничение объемов выпуска вследствие слабого спроса. Кроме того, внутренние цены на сталепродукцию находятся под давлением из-за девальвации местной валюты. Несмотря на повышение цен в лирах в долларовом эквиваленте заготовка продается в Турции не более чем по $515-530/т EXW. По импорту она закупается по $515-520/т CFR.
В странах Восточной Азии стоимость полуфабрикатов также идет вниз. В последнее время в регионе подешевел металлолом, к тому же, большинство покупателей имеют достаточные запасы и не намерены делать покупки перед Новым годом по китайскому календарю.
Сейчас на дальневосточном рынке представлена, по сути, только продукция из Китая и России, которая предлагается по $525-535/т CFR. Попытки китайских компаний поднять котировки до $540/т успеха не имели.
На рынке товарных слябов продолжается затишье. В странах Восточной Азии сделки возобновятся, очевидно, не раньше февраля. При этом, существует значительный разрыв между ценами спроса и предложения, который может быть преодолен только в случае существенного подорожания или, наоборот, удешевления плоского проката на региональном рынке (тогда либо поставщики, либо покупатели пойдут на уступки). В Северной Америке большинство участников рынка проявляют осторожность. Цены на плоский прокат в США пошли вверх, но пока не понятно, насколько серьезным будет это повышение.
Конструкционная сталь
Спад на ближневосточном рынке длинномерного проката, начавшийся в декабре, продлился и в январе. Спрос повсеместно остается слабым и каких-либо изменений к лучшему не ожидается, по меньшей мере, до начала февраля. Несмотря на сократившийся во время праздников объем производства, металлургам приходится идти на уступки.
Курс турецкой лиры за последний месяц понизился более чем на 6% к доллару. Чтобы компенсировать подорожание импортного лома, местные компании подняли котировки на арматуру, хотя в долларовом эквиваленте ее стоимость в последние три-четыре недели немного уменьшилась и колеблется в интервале $565-585/т EXW.
В то же время, при экспорте турецкие компании могли проводить более гибкую политику. При слабом спросе на большинстве рынков сбыта – за исключением Йемена и США, возобновивших закупки турецкой арматуры вследствие перенесения срока вынесения вердикта по антидемпинговому разбирательству на апрель, котировки с конца прошлого года уменьшились не менее чем на $10/т. Ближе к середине января сделки, как правило, заключались на уровне $570-575/т FOB.
Подешевел в январе длинномерный прокат и у других производителей. Белорусский МЗ сбросил цены на арматуру до $535/т FOB при 100%-ной предоплате, а украинская продукция понизилась до $540-555/т. Верхний уровень цен на катанку украинского производства составляет не более $570/т по сравнению с $575/т в конце прошлого года.
Значительно уменьшить цены пришлось и китайским компаниям. Котировки на катанку упали до около $510/т FOB, а к концу января, по оценкам аналитиков, могут провалиться и до $500/т. Основной причиной удешевления этой продукции специалисты называют спад на внутреннем рынке. Длинномерный прокат в Китае подешевел как вследствие сезонного спада в строительной отрасли, так и из-за ужесточения кредитной политики китайских банков, что должно привести к затруднениям с финансированием многих проектов на локальном уровне.
Европейский рынок длинномерного проката только начал оживать после праздничной паузы. Цены пока стабильны, но меткомпании рассчитывают на повышение, необходимое им, чтобы компенсировать январское подорожание металлолома на 10-15 евро/т.
Листовая сталь
В Китае внутренние цены на плоский прокат опустились к середине января до самого низкой отметки с сентября 2012 г. Металлурги идут на уступки вследствие избытка предложения, относительно слабого спроса перед новогодними праздниками и удешевления железной руды, впервые за пять месяцев понизившейся до менее $130/т CFR. При этом, производители практически не рассчитывают на повышение в феврале. Почин компании Baosteel, приподнявшей февральские котировки на листовую сталь на $8-25/т, не был поддержан большинством других метпредприятий.
На региональном рынке котировки держатся на одном и том же уровне уже, как минимум, полтора месяца. Китайские экспортеры в начале января смогли довести цены на г/к рулоны до $530-540/т FOB, но дальнейшего роста не произошло. Толстолистовая сталь, подорожавшая по некоторым контрактам до $535/т, вернулась в интервал $520-530/т.
Индийские экспортеры в начале года увеличили стоимость продукции на $10/т для покупателей в странах Юго-Восточной Азии, до $560-570/т CFR. Под влиянием этого подорожания японские и корейские компании также объявили о повышении цен на горячий прокат до $560-580/т FOB с поставкой в феврале-марте. Однако новые цены не были приняты рынком. Как сообщают вьетнамские трейдеры, сделки осуществляются в прежнем интервале – $550-570/т FOB.
В середине января с новыми предложениями вышли на рынок российские и украинские компании. Стоимость их продукции поднялась, при этом, не менее, чем на $10/т. Украинская группа «Метинвест»предлагает г/к рулоны для Турции по $540-545/т FOB, а котировки на российский прокат могут превышать $550/т. Правда, по словам участников рынка, в действительности турецкие компании готовы платить за российские г/к рулоны не больше $545/т FOB. В самой Турции местные производители стремятся довести средние котировки на данную продукцию до $600/т EXW.
На европейском рынке еще не завершился период затишья. Итальянские металлурги заявили, правда, о повышении котировок на горячий прокат, в среднем, на 10 евро/т, до 430-440 евро/т EXW, но покупатели не торопятся заключать сделки на этих условиях. В Восточной Европе некоторые компании, в то же время, опустили цены на 5 евро/т.
В конце прошлого года европейские металлурги рассчитывали, что традиционное январское оживление позволит им добиться роста цен на плоский прокат не менее чем на 10-20 евро/т, но пока эти ожидания не оправдываются. Реальное потребление стальной продукции в регионе остается относительно низким, а в экономике ЕС пока не заметно существенных изменений к лучшему.
Специальные сорта стали
Британская консалтинговая компания MEPS в начале января обнародовала весьма оптимистичный прогноз развития мирового рынка нержавеющей стали на 2014 г. По мнению специалистов MEPS, прошлогодний спад должен смениться оживлением. Впервые с 2010 г. компания прогнозирует расширение производства нержавеющей стали во всех основных регионах – в ЕС, США и странах Восточной Азии.
Правда, пока на рынке затишье. Основные производители нержавейки в Азии пролонгировали на январь котировки предыдущего месяца, за исключением тайванской Yusco, объявившей о повышении на $30-50/т при экспорте. Стоимость нержавеющих х/к рулонов 304 2В, таким образом, остается в регионе в пределах $2400-2470/т FOB.
Металлолом
Цены на мировом рынке движутся в разных направлениях. Похолодание в США способствовало увеличению стоимости сырья в январе на местном рынке на $10-20/т по сравнению с предыдущим месяцем. Аналогичного повышения на 10-15 евро/т добились и европейские трейдеры.
В то же время, в Азии лом резко подешевел. Японская Tokyo Steel за последние три недели четырежды объявляла о понижении закупочных цен, опустив их в общей сложности на $14-19/т. За то же время экспортные котировки на лом в Японии также уменьшились на $15-20/т, до около $345-355/т FOB. Под влиянием удешевления японского материала пришлось пойти на уступки российским и американским трейдерам.
На турецком рынке понизился в цене только европейский металлолом. Поставки материала HMS № 1&2 (80:20) осуществлялись в начале января по $390-395/т CFR, хотя в конце декабря они вплотную приблизились к отметке $400/т. Американский лом держится на $400/т и выше, но с ним заключаются буквально единичные сделки. Украинские компании предлагают лом 3А по $375-380/т CFR, но без успеха. Спрос на лом со стороны Турции в последнее время резко упал вследствие девальвации местной валюты и неблагоприятной конъюнктуры на региональном рынке проката. Некоторые компании сократили и даже приостановили выплавку стали.
Виктор Тарнавский
Американский рынок OCTG: дело - труба? (ч.2)
Грядущее в США введение ограничений на импорт OCTG вынуждает поставщиков переориентировать сбыт в другие перспективные регионы – Ближний Восток, Южную Америку и Африку, где в 2014-2015 гг. ожидается рост объемов бурения и спрос на импортную продукцию.
Китай – ключевой производитель и экспортер
Китай, как известно, является ведущим в мире производителем трубной продукции, и, в частности, бесшовных труб. Страна производит порядка 7,5 млн. т в год бесшовных труб, в то время как внутреннее потребление составляет менее 3 млн. т. При этом текущие мощности по производству бесшовных труб составляют 32 млн. т, что составляет более половины мировых.
С 2005 г. Китай является нетто-экспортером бесшовных труб нефтяного сортамента и нетто-импортером труб нефтяного сортамента по стандарту API. С 2005 по 2008 год 40% всех бесшовных труб нефтяного сортамента, произведенных в КНР, было экспортировано. Экспорт сократился в 2008 г., после введения в США и ряде других стран антидемпинговых мер к импорту китайских труб нефтяного сортамента, а также вследствие и глобального финансового кризиса.
По информации MBR, из-за этих факторов китайское производство бесшовных OCTG в 2009 г. упало на 23%, однако почти восстановилось к 2011 г., составив 5,2 млн. т (см. табл.8). В 2012 г. объем выпуска этих труб вырос до 5,75 млн. т. В 2013 г. ожидается некоторый спад производства из-за проблем на экспортных рынках, но к 2014 г. рост возобновится.
По оценкам китайских источников, уже в 2010 г. избыточные мощности OCTG промышленности КНР составляли около 5 млн. т в год. Однако, несмотря на это, в стране продолжается дальнейшее расширение производственных мощностей, что провоцирует ужесточение конкуренции как на внутреннем рынке труб нефтяного сортамента, так и на экспортных рынках. В настоящее время загрузка OCTG мощностей в Китае упала до 45-50%. К слову, по итогам 2012 г. самый высокий уровень использования мощностей по выпуску OCTG отмечен в NAFTA, Южной Америке и СНГ (порядка 70%), в Азии (исключая Китай) – 60%, на Ближнем Востоке – около 52%, в ЕС – 45%.
Наблюдаемый в стране рост внутреннего потребления OCTG (от 4 до 7% в последние годы) не может полностью компенсировать проблемы на экспортных рынках (см. ). По данным MBR, потребление бесшовных труб нефтяного сортамента в КНР в 2010 г. составило 3,4 млн. т, 3,6 млн. т в 2011 г. и 3,9 млн. т в 2012 г.
MBR прогнозирует, что китайское потребление бесшовных OCTG увеличится на 3% в 2013 г. и на 6% в 2014 г.
Китайский экспорт бесшовных OCTG, млн. т:
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1,5 |
1,65 |
1,75 |
1,4 |
1,35 |
Источник: MBR
В то же время, с 2009 г. китайский экспорт активно диверсифицируется. Если до этого момента половина бесшовных OCTG из КНР отправлялась в США, то сейчас туда идет всего 8% китайского экспорта. Новыми важными рынками сбыта стали Ближний Восток и Северная Африка (Иран, Ирак, Алжир), Южная Америка (Колумбия и Венесуэла), а также Россия и Индонезия.
Кроме того, по информации SBB, некоторые китайские производители бесшовных труб нефтяного сортамента строят заводы в других странах, чтобы избежать антидемпинговых пошлин, введенных в Северной Америке и ЕС.
Тенденции мирового рынка – куда пойдет экспорт?
Крупнейшими регионами нетто-импортерами продукции OCTG, помимо NAFTA (2,5 млн. т), являются Ближний Восток (800 тыс. т) и Африка (500 тыс. т). Ключевые экспортеры – Китай (более 2 млн. т), остальная Азия (1,5 млн. т), ЕС (700 тыс. т), СНГ (80 тыс. т) и Южная Америка (50 тыс. т).
Помимо Северной Америки, наиболее важными рынками OCTG (см. табл.10 и 11) являются Ближний Восток, Южная Америка, в Азии – Китай и Индия, в СНГ – Россия и страны Средней Азии. На Ближнем Востоке, в России, Средней Азии и Южной Америке развивается«традиционная» добыча углеводородов (не в сланцевых пластах), Китай и Индия являются растущими рынками добычи и потребления нефти и газа, стимулируя строительство новых трубопроводов для поставки сырья.
Согласно подготовленному MBR пятилетнему прогнозу, за 2013-2020 гг. среднегодовой темп роста мировой индустрии нефтяного сортамента составит 4,5%, а объем рынка удвоится.
По оценкам компании, к концу 2012 г. общая рыночная стоимость продукции OCTG составила около $ 33 млрд. В целом, из-за слабости мировой экономики глобальный спрос на углеводороды и объемы бурения в настоящее время демонстрируют слабую динамику. Общемировое потребление OCTG в минувшем году осталось на уровне предыдущего – 17 млн. т. В США росту рынка помешало падение цен на газ в связи со «сланцевой революцией». В Европе – кризис суверенного долга, в КНР – замедление роста экономики, на Ближнем Востоке – нестабильная политическая ситуация. В России – снижение инвестактивности на фоне задержки в реализации ряда нефтегазовых и трубопроводных проектов. В итоге, в 2012 г. потребление OCTG в СНГ, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке показало отрицательную динамику, в регионах NAFTA, ЕС и остальная Азия – минимальный рост, а в КНР – нулевой.
Потребление OCTG по регионам, % от общемирового:
|
NAFTA |
42% |
|
Китай |
23% |
|
Ост. Азия |
5% |
|
СНГ |
11% |
|
Ближний Восток |
7% |
|
Латинская Америка |
7% |
|
Африка |
3% |
|
ЕС |
2% |
Источник: MBR
Несмотря на замедление темпов роста спроса на OCTG, NAFTA в ближайшие годы останется крупнейшим регионом потребления с доминирующей долей рынка.
Другими перспективными направлениями для сбыта этой продукции остаются Ближний Восток, Азия (прежде всего, Китай, Индия, и Индонезия), Южная Америка, а также Африка. В связи с антидемпинговым давлением на импортную продукцию в ЕС и США именно на эти регионы будут переносить свою активность экспортеры.
Региональные объемы потребления OCTG по видам (2011 г.), тыс. т:
|
|
Бесшовные |
?Всего |
|
|
Северная Америка |
2 841 |
2 676 |
5 517 |
|
Китай |
393 |
5 000 |
5393 |
|
СНГ |
258 |
1 455 |
1713 |
|
Южная Америка |
281 |
840 |
1121 |
|
Ближний Восток |
133 |
977 |
1110 |
|
Африка |
77 |
900 |
977 |
|
Ост. Азия + Австралия |
72 |
687 |
759 |
|
Европа |
60 |
380 |
440 |
|
Всего |
4 100 |
12 900 |
17 000 |
Источник: Hatch Beddows
На Ближний Восток приходится 32% мировой добычи нефти и 16% мировой добычи газа. Ближневосточный рынок OCTG после пика потребления в 2008 г. (свыше 1 млн. т) упал до 570 тыс. т в 2009 г., однако к 2011 г. вернулся на докризисный уровень – 1,1 млн. т.
В течение следующих нескольких лет среднесуточная добыча нефти и газа на Ближнем Востоке
регионе будет расти в среднем на 2% и 5,3%, соответственно, обеспечивая устойчивый рынок сбыта для трубной продукции. При этом регион остается ярко выраженным нетто-импортером. В 2011 г., по данным ISSB, на Ближнем Востоке было потреблено около 1,1 млн. т труб нефтяного сортамента труб. Местные производители потенциально способны покрыть не более 20% потребности рынка.
Спрос на трубы нефтяного сортамента, как ожидается, возобновит рост в 2014- 2015 гг. в связи с надеждами на возобновление глобального экономического роста и потребности в углеводородах.
Хорошая динамика потребления данной продукции ожидается в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Иране, Кувейте, Алжире, Йемене.
Количество скважин по регионам мира в 2013 г.:
|
|
Август |
|
|
Северная Америка |
2057 |
1944 |
|
Южная Америка |
418 |
423 |
|
Ближний Восток |
379 |
389 |
|
Азия |
241 |
250 |
|
Европа |
139 |
138 |
|
Африка |
128 |
133 |
Источник: Baker Hudges
Все более перспективным становится рынок Африки. Сегодня на Африку приходится всего 5% глобальных объемов бурения – см. табл.12 (США – 33%, Россия – 13%, Южная Америка – 11%, Канада – 10%, Ближний Восток – 9%, Каспийский регион – 8%, Азия – 7%), однако значительные запасы (80 млрд. баррелей нефти, около 7% мировых запасов) определяют рост инвестиций в этот сектор и повышение спроса на OCTG.
Сегодня наблюдается рост добычи углеводородов в Нигерии, Судане, Анголе и Габоне. После стабилизации политической обстановким неизбежен рост добыи и потребления труб в странах Северной Африки – Алжире, Ливии, Тунисе и Египте.
Латинская Америка, в которой крупнейшими продуцентами нефти и потребителями труб выступают Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Аргентина и Эквадор, является наиболее непредсказуемым регионом в сфере нефтедобычи – сильное колебание уровня добычи зависит не только от экономической конъюнктуры, но и от политических событий. В частности, принятые в Венесуэле, Аргентине и Боливии решения о национализация ряда крупных частных добывающих компаний привели к оттоку иностранных инвестиций в этот сектор.
В Европе в обозримом будущем рост потребления OCTG возможен в Норвегии, которая расширяет операции в Северном море, в России, где ожидается расконсервация ряда перспективных добывающих проектов, в Середней Азии, в Польше, которая первой из стран Европы серьезно инвестирует в добычу сланцевого газа, а также в Румынии, Турции и Украине, которые планируют увеличить разведку и бурение на шельфе Черного моря.
Резюме
Потребление OCTG в ближнесрочной и долгосрочной перспективе останется сильным, учитывая как устойчивый мировой спрос на нефть и природный газ, так и активное развитие сланцевого бурения.
Развитие новых технологий добычи углеводородов в сланцах требует более широкого использования горизонтального и наклонно-направленного бурения.
Быстро растет спрос на бесшовные OCTG с повышенными характеристиками, а также труб с премиальными резьбовыми соединениями, использование которых оправдано в в регионах сложного бурения – при больших глубинах залегания, на шельфовых и арктических месторождениях.
Импорт OCTG в США из всех стран, всего, 20 крупнейших поставщиков, тыс. т:
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
11 мес. |
|
|
1,696,379 |
3,540,908 |
1,411,725 |
2,128,415 |
2,608,372 |
3,257,890 |
2,775,820 |
|
|
190,892 |
326,979 |
122,584 |
498,132 |
615,576 |
789,839 |
839,009 |
|
|
139,378 |
207,379 |
78,205 |
376,129 |
372,045 |
371,928 |
261,068 |
|
|
23,985 |
93,778 |
77,138 |
145,743 |
135,594 |
210,856 |
142,045 |
|
|
. |
. |
5.48 |
131.4 |
51,434 |
199,766 |
123,490 |
|
|
130,698 |
152,811 |
76,764 |
135,852 |
191,097 |
192,641 |
152,229 |
|
|
85,445 |
158,520 |
66,486 |
112,696 |
106,490 |
163,322 |
125,436 |
|
|
21,830 |
82,893 |
21,638 |
95,550 |
130,514 |
148,927 |
137,313 |
|
|
9,586 |
57,210 |
44,953 |
135,834 |
179,449 |
139,275 |
124,883 |
|
|
8,399 |
8,517 |
9,251 |
77,312 |
127,737 |
138,294 |
105,290 |
|
|
5,068 |
63,824 |
29,333 |
74,296 |
108,335 |
127,627 |
222,514 |
|
|
15,786 |
10,658 |
3,245 |
51,341 |
87,455 |
96,684 |
101,838 |
|
|
13,229 |
43,152 |
2,011 |
29,465 |
65,844 |
91,153 |
58,794 |
|
|
26,047 |
56,944 |
42,683 |
70,944 |
50,069 |
83,151 |
32,418 |
|
|
. |
. |
. |
. |
21,711 |
63,899 |
65,848 |
|
|
300.0 |
. |
. |
11,302 |
61,674 |
58,994 |
48,589 |
|
|
3,917 |
11,081 |
12,727 |
51,142 |
35,635 |
52,210 |
48,252 |
|
|
70,654 |
84,825 |
13,143 |
35,692 |
49,854 |
43,193 |
7,075 |
|
|
66,205 |
36,502 |
36,500 |
34,279 |
27,248 |
40,830 |
29,179 |
|
|
9,447 |
41,081 |
22,319 |
29,440 |
32,529 |
37,186 |
31,543 |
|
|
5,305 |
16,694 |
6,158 |
35,795 |
37,424 |
32,005 |
33,235 |
US Department of Commerce, Enforcement and Compliance
Игорь Жигир
Данный материал вышел в №1 издания Металлоснабжение и сбыт за январь 2014 г., публикуется с разрешения редакции
Лирическое отступление
Девальвация турецкой валюты способствует понижению экспортных котировок на длинномерный прокат
Во второй половине декабря курс турецкой лиры резко «просел» по отношению к доллару. Снижение ее стоимости составило более 6%: если в начале декабря за доллар давали около 2,04 лиры, то в настоящее время, месяц спустя, это соотношение превышает 2,17 лиры за доллар.
Эти изменения, безусловно, не остались незамеченными на национальном рынке стали. С середины декабря по конец первой декады января турецкие металлургические компании подняли внутренние цены на арматуру более чем на 100 лир за т, чтобы компенсировать удорожание импортного металлолома, хотя в долларовом эквиваленте котировки на прокат остались практически прежними – $570-585 за т EXW, а лом в конце декабря – начале января даже немного подешевел.
Спрос на конструкционную сталь в Турции, впрочем, остается минимальным. Турецкая строительная отрасль после завершения ряда крупных проектов в конце прошлого года переживает спад. Дистрибуторы, в свою очередь, ведут осторожную политику, поддерживая складские запасы на низком уровне. По сути, национальный рынок арматуры спасает от падения только ограниченный объем предложения. Многие заводы сократили загрузку мощностей или даже приостановили работу из-за дороговизны лома и высоких тарифов на электроэнергию и природный газ. Тем не менее, большинство участников рынка ожидают некоторого удешевления стальной продукции в стране – в соответствии со снижением экспортных котировок.
В конце декабря – начале января турецкие металлурги не могли похвастаться высокими объемами внешних продаж. Спрос на арматуру со стороны Саудовской Аравии практически отсутствует, а в Ираке сократился вследствие обострения внутриполитической обстановки. Наблюдатели опасаются, что действующие в соседней Сирии исламисты могут распространить свои операции на Ирак, так что страна окажется на грани новой войны. Такая же угроза существует и для Ливана, где местные компании в последнее время также уменьшили закупки импортного длинномерного проката.
В ОАЭ местные производители и катарская Qatar Steel подняли котировки на арматуру до $610 за т EXW/CPT и более, но импортной продукции это не коснулось. Наоборот, из-за снижения потребности в закупках проката за рубежом трейдеры из ОАЭ добились в январе снижения стоимости турецкой арматуры до $570-575 за т FOB.
В результате в последний месяц все большая часть экспорта арматуры из Турции приходится на Йемен и Египет. Причем, цены в первую неделю января достигали при поставках в эти страны $580 за т FOB Однако из этих двух национальных рынков только йеменский можно считать перспективным. В стране расширяются масштабы жилищного строительства, а собственное производство проката там незначительное. В то же время, египетские металлурги бьют тревогу и обращаются к правительству с просьбой о введении защитных пошлин на турецкую арматуру. Для их беспокойства есть причины: по данным местной Палаты металлургической промышленности, за октябрь турецкие компании отправили в Египет почти 60 тыс. т арматуры, а за ноябрь и первую половину декабря – около 120 тыс. т. При этом, потребность внутреннего рынка в этой продукции оценивается примерно в 500 тыс. т в месяц. До отмены защитной пошлины в июле 2013 года почти весь этот объем поставляли национальные производители.
Металлурги из стран СНГ пока находятся вне рынка. Перед праздничной паузой сообщалось о закупках украинской и белорусской арматуры ливанскими компаниями по $560-570 за т CFR. Спрос со стороны Ирака практически отсутствовал. Вряд ли в ближайшее время здесь что-то изменится.
Китайские компании, со своей стороны, в конце декабря попытались повысить котировки на длинномерный прокат на $10-20 за т, предлагая арматуру и катанку в Ливан не менее чем по $550-565 за т CFR. Но потребители не готовы платить такую цену, так что сделки на таких условиях не заключались. В январе китайцам снова пришлось опустить экспортные цены на длинномерный прокат – пока что для покупателей в странах Юго-Восточной Азии. Но, очевидно, им придется вернуться на прежний уровень и на Ближнем Востоке.
При относительно низком спросе на длинномерный прокат в регионе в ближайшем будущем трудно рассчитывать на повышение цен. Однако относительная дороговизна металлолома и заготовок и сокращение объема производства готового проката, очевидно, будут удерживать арматуру от нового падения.
Виктор Тарнавский

Сирийский урок
Константин Михайлович Труевцев (р. 1943) – доцент кафедры общей политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Во второй половине 2013 года в ситуации в Сирии и вокруг нее произошел решительный перелом, который, по моему мнению (так или иначе разделяемому многими аналитиками и политическими деятелями), имеет стратегическую природу.[1] Во второй половине 2013 года в ситуации в Сирии и вокруг нее произошел решительный перелом, который, по моему мнению (так или иначе разделяемому многими аналитиками и политическими деятелями), имеет стратегическую природу. Произошедшие перемены способны оказать и уже оказывают самое серьезное влияние не только на судьбы сирийского государства, но и на состояние региона в целом, включая изменение регионального баланса сил, а также внутреннюю ситуацию в ряде стран, прямо или косвенно причастных к сирийскому конфликту.
В самой Сирии
В наметившемся к середине 2013 года явном преобладании правящего режима над оппозицией и поддерживающими ее внешними силами можно выделить несколько компонентов.
Во-первых, речь должна идти о военно-стратегической составляющей. Если в 2011–2012 годах стратегическое преимущество оставалось за вооруженной оппозицией, действовавшей одновременно в разных частях страны, а силы верных режиму вооруженных сил распылялись по различным фронтам, то с начала 2013 года, по верному наблюдению политического обозревателя Эль-Мюрида, прежний алгоритм действий армии сменила стратегия «перемалывания боевиков» в местах их скопления. Именно это обусловило качественное изменение ситуации к середине прошлого года, когда, к удивлению большинства внешних спонсоров и сторонников вооруженной оппозиции, военно-стратегический перевес оказался на стороне правительственных войск[2].
Во-вторых, следует упомянуть внутреннюю консолидацию. В 2011-м и отчасти в 2012 году режим обнаруживал признаки нарастающей дезинтеграции, выражавшиеся в массовой поддержке вооруженной оппозиции значительной частью суннитского большинства, переходе на ее сторону видных военачальников и политических деятелей, оформлении невооруженной оппозиции, оппозиционном настрое национальных меньшинств (в первую очередь курдов). Однако со второй половины 2012-го и особенно в 2013 году положение стало меняться: режиму удалось консолидировать основную часть политической элиты, включая ее военизированный элемент в армии и прочих силовых структурах, а также привлечь на свою сторону часть своих невооруженных противников, включив их представителей в правительство. Что касается вооруженной оппозиции, то ей, напротив, не удалось сплотить свои ряды. Более того, попытки ее консолидации проводились не через компромисс и создание единого командования, а посредством боевых столкновений между различными оппозиционными фракциями и группами. Важно также отметить, что в ходе этого противостояния перевес в основном оказывался на стороне наиболее одиозных экстремистских группировок, связанных с «Аль-Каидой», включая «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство Ирака и Леванта».
В-третьих, важен и этноконфессиональный компонент. На первых этапах гражданской войны очевидное преимущество в данном отношении было у вооруженных противников режима. Пропагандистские заявления о том, что они выступают против угнетения алавитской верхушкой суннитского большинства, находили отклик не только среди значительной части арабов, исповедующих суннитскую разновидность ислама, но в какой-то мере и среди курдов, также относящихся к суннитам и недовольных своим бесправием. Однако позже ситуация коренным образом изменилась. Прежде всего правящий режим смог показать себя защитником конфессиональных меньшинств, причем не только алавитов, но и имеющихся в Сирии христианских конфессий, в отношении которых исламисты развернули войну на уничтожение. В 2012 году президент Башар аль-Асад расширил автономию курдов, предоставив им самоуправление на территориях, граничащих с Турцией[3]. Это не только привлекло на его сторону курдов в самой Сирии, но и вызвало положительную реакцию со стороны их турецких и иракских собратьев, что серьезно затруднило проникновение боевиков-исламистов с территории Турции. Противодействие, которое курды начали оказывать исламистам, существенно повлияло на общий ход гражданской войны[4].
Одновременно действия боевиков повлияли и на часть арабо-суннитского населения, изменившую свое отношение к оппозиционерам. Дело в том, что зверства радикалов коснулись многих суннитов – прежде всего тех, кто пытался спрятать или защитить представителей иных конфессий, просто проявлял веротерпимость или был заподозрен в ней, а также не соглашался с экстремистской интерпретацией ислама, которую исповедуют боевики. Кроме того, в террористических актах люди гибли независимо от их конфессиональной принадлежности. Все это оттолкнуло от вооруженных радикалов два крупнейших города, Дамаск и Алеппо, а также их пригороды, где значительная часть граждан привыкла жить в обстановке веротерпимости и относительной толерантности. Свою роль сыграли и нарастающие неудобства прифронтовой жизни с присущими ей лишениями и многочисленными рисками. Сказанное верно также в отношении прибрежной зоны, где наблюдается наибольшее конфессиональное разнообразие, отмеченное значительным присутствием алавитов и христиан. Наконец, в известной мере это относится и к северу страны, где курдское население многочисленно, а также к прилегающему к Ливану юго-западу, где традиционная приграничная торговля из-за войны оказалась серьезно подорванной. Даже в центральной зоне, где города Хомс и Хама были традиционными центрами исламских противников режима, энтузиазм в отношении военизированных группировок заметно поубавился.
Перемены обусловлены не только неприятием того, как действуют боевики, но так же и тем фактом, что по мере развертывания конфликта все большую роль в нем играли приглашаемые оппозиционерами иностранные наемники. По данным целого ряда источников, в 2013 году они составляли десятую часть всей воюющей оппозиции. Причем, если в Свободной сирийской армии и в ряде других групп, относящихся к «умеренному» крылу, преобладают сирийские граждане, в наиболее экстремистских «Джабхат ан-Нусра» и «Исламском государстве Ирака и Леванта» концентрация иностранных наемников значительно выше. Именно иностранные наемники отличились наибольшими зверствами в отношении мирного сирийского населения и наибольшей неразборчивостью в выборе объектов и средств для своих атак.
В-четвертых, необходимо отметить морально-политический компонент. В указанном отношении к середине 2013 года так же выявилось довольно явное стратегическое преимущество правящего режима над вооруженной оппозицией. Часть населения, прежде всего конфессиональные меньшинства и сунниты больших городов, в первую очередь столицы, стали рассматривать власти Дамаска и их вооруженные силы в качестве своих защитников, о чем свидетельствует, в частности, создание вооруженных отрядов гражданской обороны, действующих в координации с подразделениями сирийской армии и выступающих для нее немаловажным подспорьем. Далее, значительная часть сирийцев, враждебно настроенных в отношении режима, стала рассматривать его как меньшее из двух зол. Наконец, сирийские курды после объявления автономии перешли от нейтралитета к поддержке режима, о чем красноречиво свидетельствуют не только заявления их лидеров, но и военные столкновения курдских отрядов с группировками боевиков. В ряде случаев курдские формирования наносили оппозиционерам серьезные поражения, а последовавшие за этим зверства террористов в отношении мирного курдского населения, включая женщин и детей, побудили курдов перейти к блокированию путей снабжения и проникновения оппозиционеров из Турции. Результатом всего перечисленного стала повторная легитимация режима со стороны значительной части населения, а возможно, и его молчаливого большинства. Одновременно боевики оппозиции все чаще стали восприниматься как антинациональная, в том числе иностранная, сила, как внешние агрессоры.
Совокупный эффект всех этих факторов проявился в истории с применением в Сирии химического оружия, получившей широкий международный резонанс. В основе этого парадоксального детектива лежат два неосторожных высказывания. Первое принадлежало сирийскому президенту, который еще в начале войны заявил о том, что в случае нападения извне Сирия может использовать право на применение химического оружия против агрессоров. Фраза повисла в воздухе, подобно чеховскому ружью, готовому выстрелить ближе к развязке. (Заметим, что расширяющееся участие иностранных наемников в сирийском конфликте в принципе можно было интерпретировать как внешнюю агрессию, тем более, что они проникали на сирийскую территорию из соседних государств, в первую очередь из Турции и Иордании.) Второе высказывание прозвучало из уст президента Соединенных Штатов. В кульминационной фазе конфликта, летом 2013 года, Барак Обама предупредил сирийский режим, что применение им химического оружия против собственного народа будет означать переход «красной черты», за которой последует международное военное вмешательство. Это заявление искажало сирийскую позицию, поскольку Башар аль-Асад говорил о возможности использования химического оружия против внешних сил, а вовсе не против собственных граждан. Фразе американского лидера была уготована роль спускового крючка, поскольку вскоре после нее – 21 августа 2013 года – химическое оружие действительно было применено. Поскольку это произошло в окрестностях Дамаска, не было никаких сомнений в том, что его использовали именно против сирийских граждан. В результате 30 августа Обама заявил о готовности начать военную операцию против Сирии после 9 сентября.
Вместе с тем было не ясно, кто именно осуществил химическую атаку – правящий режим или вооруженная оппозиция. Более того, этот вопрос не разрешен до сих пор, поскольку никому не удалось представить убедительных доказательств использования химического оружия именно сирийской армией. В реакции на это, бесспорно, шокирующее событие тоже есть две стороны, внутренняя и внешняя. Говоря о первой, стоит обратить внимание на то, что население страны не отреагировало на этот инцидент сколько-нибудь резким всплеском антиправительственных выступлений, что было бы ожидаемо в случае убежденности граждан в виновности режима. Что же касается международной реакции, то, если не брать в расчет первые эмоциональные отклики с Запада, а рассмотреть ее в динамике, можно увидеть, что в итоге легитимность режима аль-Асада на международной арене парадоксальным образом укрепилась. С лета 2013 года США и их западные партнеры не только признают сирийский режим легитимной стороной женевских переговоров, но и фактически сняли ранее выдвигавшееся требование о непременном отстранении сирийского президента от власти. Более того, среди американских политиков все большую популярность приобретает точка зрения, согласно которой сохранение режима аль-Асада в Сирии гораздо лучше, чем приход к власти радикальных исламистов.
В регионе
В 2013 году сирийский конфликт, который еще раньше стал перерастать национальные рамки, превратился в бесспорную региональную проблему. Помимо боевиков, обучавшихся в Турции и Иордании, а затем пересекавших сирийские границы, в Сирию начали прибывать суннитские боевики из той части Ирака (провинция Аль-Анбар), которая не контролируется центральным правительством. Кроме того, в период правления в Египте «братьев-мусульман» оттуда в Сирию перебрасывались вооруженные отряды этого движения, а также ливийские боевики. Причем делалось это с одобрения руководства правящей партии и тогдашнего президента Мухаммеда Мурси, которые враждебно относились к сирийскому режиму. Уместно добавить, что основными региональными спонсорами вооруженной сирийской оппозиции и части ее иностранных сторонников выступали Саудовская Аравия и Катар.
Но в сирийские дела вмешивались не только соседи-сунниты. Шиитский Иран, давно и тесно сотрудничающий с Сирией и с самого начала конфликта недвусмысленно поддержавший Дамаск, вряд ли мог долго оставаться в стороне. В первую очередь включилась в конфликт опекаемая Ираном ливанская шиитская партия «Хизбалла», которую с Сирией также связывают прочные отношения, оформившиеся еще во время гражданской войны в Ливане. Вооруженные отряды этой организации в 2013 году подключились к боям с силами оппозиции в сирийских районах, граничащих с Ливаном[5]. А осенью появились сообщения о том, что сам Иран направил в Сирию четыре тысячи бойцов Корпуса стражей исламской революции, входящего в состав его регулярной армии. Кроме того, ряд источников сообщал и о том, что в Сирии сражаются боевые отряды, подчиненные Мустафе Ас-Садру, наиболее воинственному лидеру шиитов Ирака. Таким образом, конфликт стал приобретать черты межконфессионального регионального противостояния суннитов и шиитов с перспективой выхода за сирийские границы – вплоть до перерастания в конечном счете в полномасштабную региональную войну.
Однако, несмотря на все сказанное, сводить сирийскую войну к противостоянию исключительно двух ветвей ислама все же нельзя. Во-первых, курды-сунниты, проживающие в Ираке, Сирии и Турции, в минувшем году солидарно выступили на стороне режима аль-Асада. Во-вторых, в июле 2013 года, после военного переворота, Египет выпал из создававшегося регионального суннитского фронта. Более того, новое египетское руководство заняло в отношении Сирии позицию позитивного нейтралитета, характеризуемую симпатиями политической элиты, особенно военной ее части, в отношении сирийского президента. Наконец, в-третьих, Саудовской Аравии не удалось в полной мере вовлечь в антисирийский (и антииранский) фронт даже государства Персидского залива, за исключением Катара: Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты заняли по этому вопросу чрезвычайно осторожную позицию, а Оман вообще предпочел нейтралитет, решительно отклоняя любые попытки побудить его к поддержке каких-либо акций, направленных против Сирии или Ирана.
Соответственно, Саудовская Аравия и Турция, с самого начала выступившие в качестве главных региональных организаторов антисирийской военной кампании, уже в начале 2013 года стали ощущать изменение регионального баланса сил не в свою пользу. Именно поэтому они были крайне заинтересованы в непосредственном вовлечении западных стран в конфликт, рассчитывая таким путем восстановить свой изначальный перевес. В таком контексте российская версия причин, вызвавших химическую атаку под Дамаском, выглядела довольно убедительной. Сирийскому режиму, который начал одерживать важные победы на поле боя, подобный акт был не выгоден, а вот для отступающей вооруженной оппозиции и поддерживавших ее региональных спонсоров он оказался полезным, поскольку открывал перспективы для прямого вмешательства Запада.
Дела в регионе теперь складываются таким образом, что именно главные внешние инициаторы сирийского противостояния в лице Турции и Саудовской Аравии превращаются в его слабые звенья, а потенциально – и в главные мишени грядущих политических изменений. Анализ ситуации в регионе свидетельствует о том, что подобное предположение вовсе не так фантастично, как может показаться на первый взгляд.
Подтверждение легитимности сирийского режима, упоминавшееся выше, было подкреплено еще одним важным событием, повлиявшим на измерение регионального баланса сил. Речь идет о подписании соглашения между «шестеркой» (пять постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Германия) и Ираном в ноябре 2013 года по поводу иранской ядерной программы. Хотя это соглашение носит промежуточный характер, оно позволило не только частично снять экономические санкции, ранее наложенные на Исламскую республику, но, что не менее важно, политически легитимировать ее в международном плане и запустить процесс разрядки в отношениях между Ираном и Западом. Соответственно, новая диспозиция повлекла за собой переоценку военно-политической поддержки, оказываемой Сирии. В глазах значительного сегмента мирового общественного мнения на роль основного фактора, угрожающего региональной безопасности, выдвинулись экстремисты из «Джабхат ан-Нусра» и «Исламского государства Ирака и Леванта», в то время, как действия сирийского режима и поддерживающего его Ирана все чаще предстают в виде естественной самозащиты против международного терроризма.
Реакция Турции и Саудовской Аравии на эти новшества закономерным образом оказалась крайне нервозной. Из столиц обеих стран зазвучали рассуждения о «предательстве» со стороны Соединенных Штатов. Но если у Турции все же остается небольшое пространство для маневра, обусловленное хотя бы тем, что в ходе сирийской войны она смогла сохранить добрососедские отношения с Ираном, то положение Саудовской Аравии гораздо сложнее. Она оказалась перед лицом двух враждебных стран, с одной из которых испортила отношения по собственной инициативе – из-за своей проваливающейся стратегии регионального доминирования. Причем к недругам саудитов можно добавить и еще две лежащие поблизости страны: шиитский Ирак, где королевство поддерживало и поддерживает вооруженную суннитскую оппозицию, и Йемен, племена которого с традиционной враждебностью относятся к северному соседу.
Стратегический перевес в пользу Сирии и солидарных с ней сил не замедлил сказаться на характере боевых действий в сирийско-иракском пограничье. Уже в декабре стали появляться сообщения о серьезных успехах сирийских и иракских солдат в боях с «Исламским государством Ирака и Леванта». Опираясь на данные сирийской разведки о сосредоточении боевиков с иракской стороны границы, в конце декабря 2013 года совместными действиями сирийской и иракской армий, поддержанными сирийской авиацией, удалось уничтожить около тысячи экстремистов. И, хотя спустя месяц, в январе 2014 года, боевикам удалось, несмотря на большие потери, понесенные под ударами иракских правительственных войск, закрепиться в двух основных городах провинции Аль-Анбар – Ар-Рамади и Аль-Фаллудже, – в целом в последние месяцы стратегическая ситуация благоприятствует отнюдь не террористическим организациям, связанным с «Аль-Каидой». Во-первых, боевики из «Джабхат ан-Нусра» и «Исламского государства Ирака и Леванта» начали воевать друг с другом. Во-вторых, впервые в боевом противостоянии между силами «умеренной» Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС) и «Исламского государства Ирака и Леванта» перевес оказался на стороне первой.
По-видимому, новые веяния говорят о том, что Саудовская Аравия в преддверии женевских переговоров по Сирии, стремясь усилить влияние подконтрольных ей исламских сил в НКСРОС, полностью переориентировалась именно на них, прекратив былую поддержку боевиков из организаций, связанных с «Аль-Каидой». Кроме того, новый расклад закрепляется и переориентацией Турции в направлении позитивного нейтралитета относительно сирийского режима. Это подтверждается не только недавними заявлениями турецкого министра иностранных дел, но и рядом шагов турецких властей, включая перекрытие каналов переброски и снабжения боевиков, а также арестами активистов «Аль-Каиды» в различных районах Турции. Таким образом, нельзя исключать того, что для экстремистов, поддерживаемых «Аль-Каидой», турецкая граница вскоре может оказаться закрытой.
Сирия и Турция
Интересно, что новое положение вещей обнажает объективные слабости Турции и Саудовской Аравии, понемногу проявлявшиеся еще на ранних этапах регионального кризиса. Что касается Турции, то здесь сирийский конфликт либо усугубил застарелые противоречия, либо породил новые проблемы. Прежде всего стоит упомянуть о том, что резко обострился болезненный для турецкого государства курдский вопрос. Согласно турецким официальным данным, на территории страны проживают 6 миллионов курдов. Сами курды оценивают свою численность в 20 миллионов, но, очевидно, наиболее объективны оценки Центрального разведывательного управления США, предлагающие цифру в 13 миллионов человек, или 18% населения страны[6]. Турецкие курды ведут многолетнюю вооруженную борьбу за создание независимого курдского государства, которую возглавляет Рабочая партия Курдистана. Несколько лет назад ее лидер Абдулла Оджалан, с 1999 года отбывающий пожизненное заключение в турецкой тюрьме, выступил с призывом прекратить вооруженную борьбу курдов в обмен на начало переговоров о предоставлении Турецкому Курдистану национальной автономии в составе Турции. Позиции турецких курдов еще более укрепились после свержения режима Саддама Хусейна, в результате чего Иракский Курдистан обрел широкую автономию в рамках Ирака. Дальнейшее укрепление позиций курдов произошло после решения Башара аль-Асада предоставить автономию и сирийским курдам. И, хотя в настоящее время турецкое правительство продолжает переговоры с турецкими курдами, параллельно консультируясь с курдами Ирака и Сирии, очевидно, что терпение курдских граждан Турции небезгранично.
Еще одной стороной турецкой политической жизни, испытывающей на себе давление сирийского фактора, стали взаимоотношения между «умеренными» исламистами из правящей ныне Партии справедливости и развития и сторонниками светского пути, которых в Турции довольно много. Поскольку, согласно турецкой Конституции, гарантом светского характера государства выступает армия, премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган уже в начале своего правления нанес удар по турецкому генералитету, десятки представителей которого были обвинены в подготовке военного переворота и отправлены в тюрьму. В последние месяцы репрессии обрушились также на офицерский корпус полиции и судейскую корпорацию, причем претензии исламистов к правоохранительным органам еще не сняты. Но, чем бы ни закончился нынешний виток внутриполитической напряженности, Эрдоган уже едва ли может рассчитывать на безусловный нейтралитет силовых структур при неблагоприятном для него развитии ситуации в стране. С мая 2013 года Турция пережила несколько волн народных протестов, в которых первоначальные низовые социальные требования быстро сменялись требованиями политическими. Одним из мотивов для выступлений стал экспансионистский внешнеполитический курс, включая все большее вовлечение Турции в сирийский конфликт.
Кроме того, нельзя не упомянуть и об алавитском факторе, роль которого на турецкой политической сцене долгое время игнорировалась. На местных алавитов не обращали внимания до тех пор, пока они в 2013 году не выступили в ряде районов Турции под собственными лозунгами, декларировавшими солидарность с режимом аль-Асада и осуждение поддержки, оказываемой Турцией вооруженной сирийской оппозиции. Таким образом, в турецком политическом спектре обозначилась еще одна, конфессиональная, линия раскола – на суннитское большинство и активное алавитское меньшинство.
Наконец, еще один, едва ли не самый серьезный, разлом обнаружился внутри правящей партии или, точнее, внутри широкого исламистского движения «Хизмет», в недрах которого эта партия зародилась. В декабре 2013 года, после коррупционного скандала в правительстве и спровоцированных им принудительных отставок полицейских офицеров и судей, последовал новый всплеск уличных протестов, которые Эрдоган охарактеризовал как «инспирированные из-за рубежа». Тем самым он явно намекал на своего бывшего единомышленника, авторитетного политического деятеля и видного теолога Фетхуллаха Гюлена, который, эмигрировав в США, в последнее время резко критикует Эрдогана, в том числе и за его вмешательство в события в Сирии. Надо сказать, что внутри Турции этот человек имеет внушительно число сторонников.
Сирия и Саудовская Аравия
Международный поворот в отношении Сирии и Ирана вызвал еще более нервозную реакцию в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, заявления руководителей страны о пересмотре курса на одностороннее сотрудничество с США, а с другой стороны, неожиданные визиты главы саудовской разведки в Москву, в ходе которых, по некоторым сообщениям, он пытался добиться радикальной корректировки российской позиции относительно Сирии и Ирана. Не менее символичными наблюдателям показались сообщения о тайных контактах Саудовской Аравии с Израилем, поддерживаемых для координации действий перед лицом иранской угрозы.
Представляется, однако, что, несмотря на всю весомость внешнеполитических резонов, не менее значимыми оказываются и внутриполитические сдвиги, намечающиеся в королевстве. В последнее время тут высветилось немалое количество слабых мест. Прежде всего уместно напомнить о том, что королю Абдалле ибн Абдель Азизу аль-Сауду в нынешнем году исполняется 90 лет. Согласно саудовскому порядку престолонаследия, трон передается не сыну, а следующему за монархом младшему брату; по этой причине наследный принц и другие ближайшие претенденты на престол так же престарелые люди. Все это очень напоминает кризисные явления, наблюдавшиеся в правящей верхушке СССР в начале 1980-х годов. В какой-то момент встанет вопрос поколенческого обновления политической элиты, а это вызовет в государстве обострение борьбы за власть.
Между тем перед Саудовской Аравией остро стоит проблема реформ. Это единственная в мире страна, не считая султаната Бруней и Ватикана, которую можно назвать полноценной абсолютной монархией. Парламент и политические партии здесь отсутствуют, а члены правящей семьи замещают не только должность главы правительства, но и посты основных министров. Политические реформы на сегодняшний день ограничены органами местной власти, первые выборы в которые состоялись в 2005 году, а следующие намечены на 2015 год. Высокий уровень экономического развития, наличие современной экономической и социальной инфраструктуры, распространение информационных технологий и повышение образовательного уровня значительной части населения – все эти факторы способствуют запросу на политическую модернизацию. Не ясно, однако, осталось ли у государства время для проведения такой модернизации эволюционным путем. Кроме того, любой запуск политических реформ будет драматизировать те общественно-политические разрывы, которые ужу присутствуют в обществе.
Сложности усугубляются тем, что сегодня некоторые признанные религиозные авторитеты Саудовской Аравии резко критикуют даже те незначительные социальные реформы (например, расширение прав женщин), которые уже осуществил или планирует осуществить правящий дом. Жесткая реакция режима на подобные выступления, включая не только политическую изоляцию критиков, но и прямые репрессии против них, свидетельствует о том, что руководство страны видит в этой политической тенденции, во-первых, риск подрыва собственной легитимности, а во-вторых, опасность расширения социально-политической базы «Аль-Каиды». Между тем если даже сейчас эта террористическая организация в пределах королевства бездействует, то совсем недавно, до 2009 года, она громко заявляла о себе терактами в самых разных его регионах.
Для Саудовской Аравии, как, впрочем, и для некоторых других арабских режимов, довольно типична тактика «переключения» действий террористов со своей территории на территории других стран. Но, как показывает исторический опыт, представление о том, что террористические группировки поддаются всестороннему контролю, не состоятельно: контроль над ними может быть лишь относительным и временным. Как только деятельность террористических групп в Сирии и в Ираке будет подорвана или существенно затруднена, они могут перебазироваться на территорию Саудовской Аравии, где для продолжения их деятельности существуют и объективные и субъективные условия. Предлог для того, чтобы бросить вызов саудовским властям, при желании можно будет найти с легкостью: им, например, могут послужить сведения о контактах руководителей королевства с Израилем или, скажем, с Россией.
[1] Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году.
[2] Эль-Мюрид. Как Сирия прошла 2013 год // ИТАР-ТАСС. 2013. 27 декабря (http://itar-tass.com/opinions/1944).
[3] См.: Люлько Л. Автономия курдов – изящный ход Асада? // Pravda.ru. 2013. 13 ноября (www.pravda.ru/world/asia/middleast/13-11-2013/1182052-asad-0/).
[4] См.: Он же. Как Асад переманил на свою сторону курдов // Pravda.ru. 2013. 30 сентября (www.pravda.ru/world/asia/middleeast/30-09-2013/1176275-asad-0/).
[5] Гибор А. Снимки доказывают: Хизбалла участвует в военных действиях(maof.rjews.net/153-middle-east/27732-2013-02-27-09-29-06).
[6] См.: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print/country/c....
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2014, №1(93)
Интернет-цензура и «арабская весна»
Алиса Романовна Шишкина (р. 1989) – младший научный сотрудник Лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Контроль над пространством виртуальной коммуникации в настоящее время остается одной из наиболее обсуждаемых общественных проблем, причем не только в России, но и за ее пределами. Уже в 1990-е годы, когда началось глобальное распространение Интернета, более чем в тридцати странах мира были приняты или находились в процессе принятия законодательные акты, регламентирующие контроль в виртуальной сфере[2]. Как правило, внедрение подобного контроля уже тогда объяснялось такими причинами, как стремление оградить детей от нежелательной информации, укрепление общественной безопасности, пресечение попыток разжигания ненависти, прежде всего на этнической почве.
Интернет-цензура в арабском мире имеет под собой несколько оснований. Прежде всего это политические причины, особенно в странах с монархической формой правления, а также в авторитарных (или переходных) режимах. Цель фильтрации в данном случае сводится к ограничению доступа населения к тем сайтам, которые содержат сведения, угрожающие действующей власти; иногда сюда же можно отнести цензуру религиозных сайтов. Еще одним поводом для контроля над виртуальным пространством становится защита общественной морали; прежде всего это касается борьбы с детской порнографией и предотвращения межэтнической розни. Кроме того, сетевые ресурсы могут блокироваться из-за их связи с террористическими и экстремистскими группировками[3].
Коммуникационные сети в странах Ближнего Востока и Северной Африки всегда находились под пристальным контролем со стороны государства. Интересно, что эксперты Всемирного банка видели в этом обстоятельстве один из ключевых факторов, тормозивших экономический рост региона[4]. В докладах проекта «OpenNet Initiative» и организации «Репортеры без границ» неоднократно отмечалось, что власти арабских стран используют в виртуальном пространстве различные методы контроля и надзора, в том числе ограничение скорости передачи данных, фильтрацию электронных сообщений, мониторинг потенциально опасных сайтов и так далее[5]. Тем не менее, несмотря на довольно строгое регулирование Интернета в арабском мире в прежние годы, полное блокирование доступа в Интернет во время массовых протестов «арабской весны» стало принципиально новым феноменом.
Большинство тех стран, которые были охвачены веяниями «арабской весны», являются, по критериям, разработанным «Freedom House», несвободными или частично свободными[6]. На протяжении многих лет их правительства контролировали содержание оппозиционных сайтов, блокировали зарубежные ресурсы, практиковали цензуру. Примечательно, что службы безопасности некоторых из этих стран (в особенности это касается Туниса и Египта), осознавая, по-видимому, потенциальную опасность социальных медиа, занимались разработкой специализированных систем наблюдения и цензуры, точечно ориентированных на социальные сети[7].
Во время «арабской весны» уровень цензуры СМИ в рассматриваемых странах достиг беспрецедентной степени. Ограничение свободного пользования Интернетом, к которому прибегали власти для подавления беспорядков, в некоторых случаях служило непосредственным поводом для начала особенно бурных выступлений. Страны, охваченные веяниями «арабской весны», пережили не только отключения Интернета и перебои в работе мобильной связи, но также аресты блогеров и других пользователей сети, что вызвало в международном сообществе обширную дискуссию о взаимосвязи доступа к Интернету и реализации прав человека.
Теперь более подробно рассмотрим то, как цензура виртуального пространства проявляла себя в тех арабских странах, которые были максимально затронуты волной социально-политических потрясений 2011–2012 годов.
Тунис
По степени развитости и распространенности Интернета эта страна лидирует во всей Северной Африке. Во времена своего правления Зин аль-Абидин бен Али стремился предоставить доступ к всемирной сети всем жителям страны, однако Интернет-цензура в то время тоже была весьма изощренной. В частности, имели место случаи привлечения к ответственности журналистов, которые публиковали в сети материалы, предположительно содержавшие «ложную» информацию, оскорблявшие президента или покушавшиеся на сложившийся в стране политический порядок[8].
Иначе говоря, инфраструктура цензуры виртуального пространства в Тунисе, возникшая задолго до волны социально-политических потрясений, уже была неотъемлемой частью коммуникационной политики властей, которая изначально предполагала возможность вмешательства со стороны правительственных служб. Роль частного сектора в развитии Интернета в Тунисе серьезно ограничивалась[9]. Контроль над виртуальным пространством в этой стране сначала был нацелен на мониторинг списка доступных сайтов, затем на отслеживание электронной почты и коротких сообщений, а потом на внедрение фильтрации конкретных сетевых ресурсов. Параллельно совершенствовалась система слежки за линиями фиксированной телефонной связи, а также мобильной связи, операторов которой обязали содействовать государству в надзорной деятельности.
В конце 2010 года служба безопасности социальной сети «Facebook» отмечала неоднократные обращения граждан Туниса с жалобами на то, что их страницы были взломаны или удалены. Позднее, в 2011 году, было установлено, что работа тунисских властей в Интернете действительно предполагала кражу пользовательских паролей в тех сетях, на страницах которых размещалась информация оппозиционного характера[10]. Во время «жасминовой революции» контроль сделался жестче: в Тунисе даже учредили специальное полицейское подразделение, занимавшееся борьбой с «подрывными» сайтами[11]. Позже, идя на уступки оппозиционерам, президент Бен Али согласился ослабить цензуру и освободить прессу; его решение воплотилось в жизнь, и тунисцы еще до краха старого режима получили доступ к ранее запрещенным ресурсам. Таким образом, по данным международных организаций, после свержения президента Бен Али контроль над Интернетом в Тунисе стал заметно мягче: в частности, была снята фильтрация социальных сетей и «YouTube». В итоге уже в 2011 году «Репортеры без границ» перевели Тунис из категории стран – «врагов Интернета» в разряд стран, находящихся «под наблюдением»[12]. В свою очередь группа «OpenNet Initiative» отметила в 2012 году отсутствие в стране явных признаков сетевой цензуры[13].
Египет
В отличие от Туниса, сетевая цензура в Египте была менее жесткой и носила характер скорее общего наблюдения, нежели тотального отслеживания информационных потоков. В президентство Хосни Мубарака прямой цензуры виртуального пространства вообще не было: контролю подвергались лишь наиболее радикальные активисты. Не удивительно, что в 2009 году специалисты проекта «OpenNet Initiative» отмечали общее отсутствие фильтрации информационного поля в Египте. Тем не менее, по данным организации «Human Rights Watch», блогеры, наряду с представителями печатной прессы, нередко подвергались задержаниям и арестам на неопределенное время за публикацию материалов, противоречивших версиям официальных СМИ.
Во второй половине января 2011 года, в разгар антиправительственных выступлений, служба государственной безопасности Египта заблокировала доступ к сервисам «Twitter» и «Facebook». В ночь на 27 января правительство Мубарака предприняло попытку вообще отключить Интернет, закрыть официальные домены, а также ограничить мобильную связь[14]. И если доступ к внутренним сетевым ресурсам был еще возможен, то значительная часть египетских сетей, как и внутренняя система в целом, понесла серьезный ущерб ввиду своей зависимости от иностранных систем – таких, как «Google», «Microsoft», «Yahoo»[15].
К началу антиправительственных выступлений в Египте работали пять утвержденных правительством Интернет-провайдеров: «Link Egypt», «Vodafone», «Egypt/Raya», «Telecom Egypt» и «Etisalat Misr». Соответственно, отключение связи обеспечивалось административным воздействием на указанные службы: так, на официальном сайте «Vodafone» появилось заявление о том, что египетские операторы вынуждены прекратить оказание услуг, не имея никаких иных альтернатив[16]. При этом, разумеется, ограничение мобильной связи и сетевого трафика в первую очередь затронуло представителей среднего класса, которые, лишившись доступа к Интернету и информационным источникам, выходили на улицы, чтобы получать информацию из первых рук, и зачастую присоединялись к протестным акциям[17]. В итоге ограничительные меры правительства вели фактически к еще большей эскалации внутриполитической напряженности.
Падение режима Мубарака, по-видимому, не привело к существенному ослаблению репрессивных ограничений в коммуникационной сфере. Напротив, с подачи Высшего совета вооруженных сил участились аресты и задержания журналистов и блогеров (первым после ухода Мубарака политзаключенным стал блогер Майкель Набиль Санад, обвиненный в критике армейского руководства), а манипуляции в сфере СМИ сфокусировались в основном на Интернет-ресурсах. Это в свою очередь спровоцировало, в том числе за пределами арабского мира, ряд общественных кампаний в поддержку сетевых активистов, пострадавших от неправомерных действий египетских властей.
Ливия
Со свержением режима Муамара Каддафи, который предпринимал попытки ограничения новостных потоков путем сокращения доступа к Интернету, в Ливии завершился период цензуры виртуального пространства. При Каддафи избирательному контролю подвергались лишь некоторые оппозиционные сайты, однако правовая и политическая обстановка в стране поощряла самоцензуру на всех остальных ресурсах. В частности, под негласным запретом оказались любые сообщения, содержавшие критику правящего режима, а также касавшиеся положения берберского меньшинства и уровня коррупции в стране[18].
В Ливии, как и в остальных странах «арабской весны», социальные медиа использовались в качестве инструмента мобилизации населения и подготовки акций протеста, а также как площадка для освещения происходящих событий. Во время ливийской революции 2011–2012 годов акцент делался на международное вещание, поскольку тогда сравнительно немного жителей страны, лишь около 5%, имели доступ к Интернету. Кроме того, к началу протестов содержание сайтов уже контролировалось правительством, а к марту 2011 года Интернет был практически полностью отключен[19].
В то время, когда государственные СМИ транслировали в основном акции в поддержку Каддафи, на страницах в «Facebook» регулярно появлялись фото- и видеоматериалы, представлявшие альтернативные версии событий[20]. Несмотря на то, что «Facebook» и «Twitter» были заблокированы властями, пользователям удавалось обходить ограничения с помощью спутниковой связи, прокси-серверов и прочих технических уловок. Кроме того, с началом антиправительственных выступлений некоторые ливийские активисты перебрались в Египет, чтобы иметь возможность оттуда распространять информацию о событиях в своей стране. Следуя египетскому примеру, Ливия тоже пошла по пути отключения Интернета во время протестных движений, однако вместо полного блокирования всех форм виртуальной коммуникации правительством применялось избирательное ограничение доступа к некоторым сайтам. Доступ к государственным ресурсам при этом сохранялся.
Исторически Ливия отличалась довольно низким уровнем распространения Интернет-технологий – во всяком случае по сравнению с ее соседями. После внешнего вооруженного вмешательства в ливийский конфликт и последующего перехода страны в состояние перманентной гражданской войны средства массовой информации, равно как и контроль над ними, пребывают в упадке. Иначе говоря, цензуры виртуального пространства в сегодняшней Ливии нет, поскольку Интернет как феномен социальной жизни там отсутствует.
Сирия
В Сирии средства массовой информации традиционно подвергались строгому контролю и цензуре. В отличие от других стран региона, практикующих подобные ограничения – прежде всего Туниса, – структура Интернета в Сирии не столь развита, а это означает, что на информационные потоки, которые и без того слабы, накладываются дополнительные административные сдержки[21]. Кроме того, наблюдение за сетью и телекоммуникациями используется властями для вычисления и отслеживания наиболее активных блогеров. Среди распространенных механизмов контроля, применяемых в Сирии, были зафиксированы использование фальшивых сертификатов безопасности, а также подмена имен пользователей и паролей в социальных сетях[22].
С 2006 года Сирия внесена организацией «Репортеры без границ» в список стран – «врагов Интернета»[23]. Для такого решения имелось множество оснований. Так, примерно с этого времени сирийские службы безопасности ведут постоянное наблюдение за поведением оппозиционеров и просто блогеров в сетевом пространстве, а основные провайдеры Интернета блокируют свыше ста сайтов, в том числе исламистских: при попытке посетить ресурс вместо информации на экране появляется сообщение «доступ запрещен». Даже столь популярные социальные ресурсы, как «Facebook» или «YouTube», были закрыты властями без каких-либо объяснений. В тех сирийских Интернет-кафе, где доступ к социальным сетям еще возможен, пользователи находятся под пристальным наблюдением секретных служб. Заблокированными оказались арабская версия ресурса «Wikipedia», почтовый сервис «Hotmail» и один из крупнейших Интернет-магазинов «Amazon»[24]. Официальное разрешение на использование высокоскоростного доступа к ранее запрещенным сервисам и социальным сетям появилось только в начале 2011 года, чем не преминули воспользоваться активисты сетевых сообществ.
Стоит отметить, что Интернет в Сирии обеспечивается единственным провайдером «Syriatel», находящимся в собственности государства. Не удивительно, что в ходе отключений во время «арабской весны» доступными оставались лишь правительственные сайты, которые, впрочем, работали медленнее, чем обычно[25]. Помимо социальных сетей, заблокированным оказался и доступ к таким ресурсам, как шведский сайт «Bambuser», позволяющий пользователям размещать в Интернете видеоматериалы, снятые на мобильный телефон. К слову, «Bambuser» попал под запрет и в других арабских странах – в частности, в Египте и Бахрейне.
Интересен феномен так называемой «сирийской электронной армии» – организации, действующей при негласной поддержке правительства и занимающейся взломом или блокировкой недружественных властям сайтов. Сирийская электронная армия препятствует доступу сирийцев к сетевым страницам некоторых СМИ, включая «Al Jazeera», «BBC News» и других[26], а также занимается размещением материалов в поддержку президента Башара аль-Асада на «Facebook». Именно ее усилиями сетевые страницы с информацией о готовящихся или уже состоявшихся демонстрациях заполнялись ключевыми словами, отсылающими на спортивные каналы или туристические фотографии с видами Сирии. В целях дискредитации протестной активности на страницах оппозиционеров ею же размещались призывы к насилию.
Тем не менее в Сирии более широко по сравнению с другими странами «арабской весны» развивается гражданская Интернет-журналистика, которая в ходе затяжного сирийского конфликта фактически слилась воедино с другими формами гражданской активности. Так, обычные граждане, вовлеченные в те или иные события на территории страны, фиксировали документальные свидетельства происходящего и по возможности распространяли их. Из-за неполноты или несоответствия действительности сообщений местных и зарубежных СМИ подобная информация выступает для многих внутренних и внешних наблюдателей едва ли не единственным источником новостей.
Бахрейн
Несмотря на то, что в этой стране на протяжении многих лет материалы Интернета подвергались неусыпной и строгой цензуре, с 14 февраля 2011 года, когда в королевстве начались протестные выступления, контроль над виртуальным пространством заметно усилился. Уже к середине февраля трафик в Бахрейне сократился на 20% по сравнению с тремя предыдущими неделями, что свидетельствовало о введении дополнительных ограничений для пользователей Интернета. Кроме того, власти обеспечили существенное снижение скорости передачи данных, которое затруднило загрузку и пересылку фото- и видеоматериалов, размещаемых очевидцами событий. В частности, заблокированными оказались соответствующие страницы «YouTube» и «Facebook», а также другие площадки, позволявшие пользователям размещать информацию с помощью сервиса микроблогов «Twitter».
Спустя год, в феврале 2012 года, страна пережила новую волну ограничений: новшества вылились, в частности, в блокирование независимых новостных сайтов и очередное сокращение скорости передачи данных. Закрытыми оказались такие ресурсы, как, например, live973.info или mixlr.com, где в режиме реального времени производилась аудио- и видеотрансляция оппозиционных демонстраций. Кроме того, жители Бахрейна оказались отрезанными от доступа к магазину приложений «Apple» для айфонов и айпэдов. Та же судьба постигла и сайтWitnessbahrain.org, создатели и активисты которого были арестованы. Репрессиям также подвергались блогеры, журналисты, правозащитники, активно высказывающиеся в сети: так, был арестован Хуссейн али Макки, администратор страниц «Facebook» и «Twitter», а также одного из главных новостных ресурсов, освещающих нарушение прав человека в Бахрейне, – «Rasad News»[27].
По сравнению с другими странами региона уровень распространения Интернета в Бахрейне весьма высок, хотя доступ населения к электронным технологиям заметно ограничен. Как и в других арабских странах, здесь на протяжении нескольких лет существует система официального лицензирования правительством не только газет, но и материалов, размещаемых на Интернет-сайтах и в блогах. В январе 2009 года Министерством культуры и информации было издано постановление, регулирующее процедуры блокирования и разблокирования сайтов, в соответствии с которым всем Интернет-провайдерам предписывалось обязательное приобретение и установка программного обеспечения – выбираемого министерством и эксплуатируемого исключительно его специалистами – для блокирования тех или иных ресурсов.
Согласно данным проекта «OpenNet Initiative», Интернет-цензура в Бахрейне широко применяется в социальной и политической сферах, присутствует в процессах разработки и внедрения сетевых технологий, носит избирательный характер[28]. Кроме того, с началом антиправительственных выступлений контроль над Интернетом стал использоваться спецслужбами для отслеживания местонахождения конкретных пользователей.
Йемен
Из-за хронической внутренней напряженности цензура в виртуальном пространстве Йемена в годы, предшествовавшие «арабской весне», значительно усилилась. Это, в частности, выразилось в блокировании политической информации: был закрыт доступ к видеосвидетельствам протестов на юге страны, выложенным на «YouTube» (власти заявили, что они содержат порнографию)[29], а большинство прокси-серверов оказались недоступными. Пристальное наблюдение за активностью блогеров, присутствие полицейских в общественных Интернет-кафе, как и аресты журналистов, также не обошли стороной Йемен. Ужесточение информационной политики оправдывалось йеменскими властями желанием защитить общественную мораль: так, новостной сайт саудовской компании «Элаф», управляемый из Лондона, был на некоторое время заблокирован под предлогом размещения материалов сексуального характера, хотя истинной причиной запрета доступа стала публикация материалов, содержавших критику президента Али Абдаллы Салеха и его старшего сына.
Отличительной чертой Йемена является племенная структура общества, допускающая контроль конкретных этнических групп над различными сферами экономики, в том числе и над коммуникациями. На это накладывается масштабная цензура средств массовой информации со стороны государства, в результате которой Йемен оказался изолированным от внешнего мира в информационном плане. Внутри страны также практикуются серьезные ограничения на распространение информации. Так, в 2008 году Министерство информации объявило, что в судебном порядке будут преследоваться пользователи, публикующие материалы, которые способны разжечь национальную вражду, оскорбить религиозные или моральные чувства, причинить вред национальным интересам[30]. Кроме того, условия пользования услугами компании «TeleYemen», единственного провайдера мобильной связи и Интернета, запрещают отправку сообщений, подрывающих моральные, религиозные, общественные или политические основы государственности. Провайдер, таким образом, оставляет за собой право доступа к пользовательским данным в любое время.
Что касается использования Интернет-ресурсов во время народных выступлений «арабской весны», то, несмотря на попытки правительства Йемена ограничить доступ к социальным сетям, демонстрантам удавалось слаженно координировать свои действия[31]. Возможно, это объясняется тем, что оппозиционная молодежь, впитавшая опыт каирской площади Тахрир, опиралась не столько на виртуальные коммуникации, сколько на живое общение. В частности, в столице страны был организован палаточный лагерь с собственным информационным и пресс-центром, пользоваться которым могли все желающие.
* * *
В ходе антиправительственных демонстраций, сопровождавших «арабскую весну», власти нередко предпринимали попытки остановить протесты посредством отключения Интернета, ограничения доступа к определенным сайтам, а также блокирования мобильной связи. В целом такие меры не только не снижали революционную активность, но порой даже усиливали ее. Кроме того, они оказали не самое благоприятное воздействие на экономические показатели, поскольку информационно-коммуникационная сфера, например, в Египте, выступает важной составляющей национальной экономики (по данным Организации экономического сотрудничества и развития, отключение телекоммуникационных и Интернет-услуг обошлось Египту в 90 миллионов долларов США). В то время, как ограничения, устанавливаемые правительствами – в частности, блокировка конкретных ресурсов по IP-адресу, – легко преодолевались с помощью специальных программ, масштабные отключения Интернета оборачивались приостановкой или даже временным замораживанием общественной и политической жизни в странах, которые рискнули вводить подобные меры.
Закрытие виртуальных площадок, которые изначально создавались для тривиального использования – обмена сообщениями, просмотра фото и видео, – способно провоцировать повышенный интерес пользователей к политическим вопросам[32]. Как следствие оно оборачивается политизацией тех групп населения, которые прежде отличались пассивностью или индифферентностью.
После свержения диктаторских режимов в Тунисе, Египте, Ливии наметилось определенное ослабление контроля над средствами массовой информации, в том числе и социальными медиа. Однако противоречивость политической и правовой ситуации в этих странах не позволяет делать однозначных прогнозов на будущее: новая власть, провозглашавшая свободу доступа к Интернету на начальных этапах политической борьбы, сталкивается с многочисленными проблемами, подталкивающими ее к сохранению тех или иных разновидностей цензуры.
Потрясения «арабской весны» выплеснулись за пределы арабского мира, оказав заметное влияние на революционные настроения в других странах и регионах: так, представители движения «Occupy Wall Street» открыто признавали, что вдохновлялись событиями на севере Африки[33]. Однако в то время, как власти арабских стран шли по пути ограничения или блокировки информационных потоков, что в итоге лишь ухудшило ситуацию, в США и в некоторых европейских странах властям удавалось договариваться с протестующими, внедряя «переговорщиков» в социальные сети, где обсуждалась подготовка будущих акций. В результате количество потенциальных жертв и объемы разрушений сводились к минимуму. Из арабского опыта взаимодействия власти и общества в виртуальном пространстве могут быть извлечены уроки и для России. Так, учитывая все возможные издержки, отказ от применения репрессивных механизмов в виртуальной среде выглядит предпочтительнее запретов, особенно в таких центрах оппозиционной активности, как Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие крупные города.
[1] Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году.
[2] См., например: Cohen T. Censorship and the Regulation of Speech on the Internet.Johannesburg: Centre for Applied Legal Studies, 1997.
[3] Подробнее об этом см.: Шишкина А.Р. Инструменты контроля в виртуальном пространстве и социально-политические трансформации в арабских странах // Вестник Одесского национального университета. 2013. Т. 18. № 2(18). С. 131–137.
[4] Terrab M., Serot A., Rossotto C. Meeting the Competitiveness Challenge in the Middle East and North Africa. Washington, D.C.: The World Bank Group, 2004.
[5] Noman H. Middle East and North Africa, 2009(http://opennet.net/research/regions/mena).
[6] См.: Keizer G. Bahrain Clamps Down on Web Traffic as Violence Escalates // Computerworld. 2011. February 17 (www.computerworld.com/s/article/9210099/Bahrain_clamps_down_on_Web_traff...).
[7] См.: York J. The Arab Digital Vanguard: How a Decade of Blogging Contributed to a Year of Revolution // Georgetown Journal of International Affairs. 2012. Vol. 13. № 1. P. 33–42.
[8] OpenNet Initiative. Country Profile: Tunisia. 2009. August 7 (https://opennet.net/research/profiles/tunisia).
[9] См.: After the Arab Spring: New Paths for Human Rights and the Internet in European Foreign Policy. European Parliament. Directorate-General for External Policies. Policy Department. 2012 (www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocume...).
[10] Madrigal A. The Inside Story of How Facebook Responded to Tunisian Hacks // The Atlantic. 2011. January 24 (www.theatlantic.com/technology/archive/2011/01/the-inside-story-of-how-f...).
[11] См.: Mejias U. The Twitter Revolution Must Die(http://blog.ulisesmejias.com/2011/01/30/the-twitter-revolution-must-die/).
[12] Reporters Without Borders. Countries Under Surveillance: Tunisia. 2011(http://en.rsf.org/surveillance-tunisia,39747.html).
[13] OpenNet Initiative. Summarized Global Internet Filtering Data Spreadsheet. 2012(https://opennet.net/research/data).
[14] Woodcock B. Overview of the Egyptian Internet Shutdown(www.pch.net/resources/misc/Egypt-PCH-Overview.pdf).
[15] Glanz J., Markoff J. Egypt Leaders Found «Off» Switch for Internet // The New York Times. 2011. February 16 (www.nytimes.com/2011/02/16/technology/16internet.html?r=2&pagewanted=all&).
[16] Chen T. Governments and the Executive «Internet Kill Switch» // IEE Network: The Magazine of Global Internetworking. 2011. February (http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5730520).
[17] Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Египетская смута XXI века. М.: Либроком, 2012. С. 62.
[18] OpenNet Initiative. Country Profile: Libya. 2009. August 6 (https://opennet.net/research/profiles/libya).
[19] Moore J. Did Twitter, Facebook Really Build a Revolution? // Christian Science Monitor. 2011. June 30 (www.nbcnews.com/id/43596216/ns/technology_and_sciencechristian_sciencemo...).
[20] New Media Emerge in “Liberated” Libya // BBC News. 2011. February 25 (www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12579451).
[21]См.: Deibert R., Palfrey J., Rohozinski R., Zittrain J. Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace. Cambridge: MIT Press, 2010. P. 7. (www.worldcat.org/title/access-controlled-the-shaping-of-power-rights-and...).
[22] Reporters Without Borders. Internet Enemies: Report 2012(http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport-internet2012_ang.pdf).
[23] Idem. Internet Enemies: Syria. 2011 (http://en.rsf.org/syria-syria-12-03-2012,42053.html).
[24] Red Lines that Can Not Be Crossed. The Authorities Don’t Want You to Read or See Too Much // The Economist. 2008. July 24 (www.economist.com/node/11792330).
[25] Cowie J. Syrian Internet Shutdown // The Huffington Post. 2011. June 3 (www.huffingtonpost.com/jim-cowie/syrian-internet-shutdown_b_870920.html).
[26] OpenNet Initative. Syrian Electronic Army: Disruptive Attacks and Hyped Targets. 2011. June 26 (https://opennet.net/syrian-electronic-army-disruptive-attacks-and-hyped-...).
[27] Reporters Without Borders. Internet Enemies: Report 2012.
[28] OpenNet Initiative. Country Profile: Bahrain. 2009. August 6 (https://opennet.net/research/profiles/bahrain).
[29] Novak J. Internet Censorship in Yemen // Yemen Times. 2008. March 3 (http://janenovak.wordpress.com/2008/03/06/internet-censorship-in-yemen/).
[30] Online Journalism Is Subject to the Penal Code: Lawzi, Yemeni Minister of Information // Saba. 2008. February 3 (www.yemenna.com/vb/showthread.php?t=9502).
[31] См.: Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Сирия и Йемен: неоконченные революции. М.: Либроком, 2012. С. 48.
[32] Zuckerman E. Civic Disobedience and the Arab Spring(www.ethanzuckerman.com/blog/2011/05/06/civic-disobedience-and-the-arabsp...).
[33] Stebbins W. Social Media and the Arab Spring: Where Did They Learn That?(http://menablog.worldbank.org/social-media-and-arab-spring-where-did-the...).
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2014, №1(93)
Чтобы лучше понять очередной провал новой антииранской инициативы Саудовской Аравии на последнем саммите ССАГПЗ в Кувейте 11 декабря с.г., где предложение Эр-Рияда о трансформации экономического союза в военный альянс было открыто и безоговорочно поддержано лишь Бахрейном, а другие члены Совета фактически уклонились от этого (создано лишь некое общее военное командование, причем без общих вооруженных сил), достаточно вернуться ровно на 2 года назад, когда король Абдалла озвучил проект создания 6-ю членами организации военно-политического союза в декабре 2011 года в выступлении саудовского монарха на саммите ССАГПЗ в Эр-Рияде якобы в качестве ответа на возраставшую «иранскую угрозу», как ее преподносили тогда правители КСА.
Тогда эта инициатива была нацелена на то, чтобы прочнее привязать консервативные монархии к ваххабитской Саудовской Аравии, и под лозунгом конфронтации с Тегераном сохранить у власти суннитские режимы Аравии перед лицом «революционных» перемен в арабском мире. Борьба с Ираном выглядела в этом контексте как привлекательный предлог, тем более что в Вашингтоне в то время еще не созрели до понимания сути «арабской весны» и необходимости нормализации отношений с Тегераном. Внутренние проблемы реакционных по своей сути монархий можно было смело свалить на происки внешних врагов, которые якобы решили расшатать устои консервативных аравийских режимов, используя значительные шиитские населения в ряде арабских стран Персидского залива. Такая интерпретация обеспечивала Саудовскую Аравию как минимум двумя преимуществами: первое, позволяла без ограничений подготовить и экспортировать своих собственных суннито-ваххабитских джихадистов и террористов на «поля сражений» с шиитами в разные страны, прежде всего в Сирию и Ирак. Фактически, это означало выявлять на ранних стадиях своих джихадистов и потенциальных террористов-наемников и обеспечить их «работой» вдали от родины, в чужих странах. И, второе, данный способ обеспечения «занятости» собственных исламских радикалов существенно уменьшал давление на общую внутриполитическую ситуацию. Дальнейшее развитие обстановки в Сирии и Ирака лишь подтвердило это.
В пользу того, что создание военно-политического союза мыслилось, прежде всего, как путь к предотвращению смены династических монархий в государствах Персидского залива на выборные республиканские режимы, свидетельствовала и параллельно выдвинутая Саудовской Аравией инициатива расширить ССАГПЗ за счет двух других суннитских арабских монархий – в Иордании и Марокко. И это при том, в отличие от Хашимитского королевства, имеющего хотя бы общую границу с КСА, Марокко расположено за тысячи километров от Персидского залива. Но это не смущало Эр-Рияд, поскольку столь необычный маневр позволял создать коалицию арабских наследственных монархий, которая бы опиралась на предложенный Саудией военно-политический союз.
Намерения Эр-Рияда на практике реализовались еще в феврале 2011 года в ходе инициированной и возглавленной саудовцами операции «Щит полуострова», в ходе которой в Королевство Бахрейн был введен контингент сил ССАГПЗ, в основе которых была саудовская дивизия, усиленная бронетехникой. Под предлогом борьбы с внешним вмешательством со стороны Ирана тогда удалось «заморозить» разразившийся на острове под влиянием «арабской весны» кризис между сильно зависящей от КСА правящей суннитской фамилии Аль-Халифа и шиитским большинством, потребовавшим политических прав и перераспределения в свою пользу властных полномочий.
После вооруженного подавления шиитских протестов в феврале 2011 года силами саудовского воинского контингента на острове наступил этап очень хрупкого видимого спокойствия, которое гарантируется саудовской оккупацией острова. Все произошедшее было квалифицированно как «заговор иностранного государства по свержению существующего режима». Понятно, что в данном случае это был «прозрачный намек» на Иран. Этот тезис уже задействовался руководством Бахрейна и ранее. Более того, в 2010 году именно под этим предлогом оппозиционные шиитские партии были фактически отстранены от участия в парламентских выборах. А ведь речь идет о 70% населения. Путь репрессий в данном случае, как показывает опыт в других странах, неэффективен и даже контрпродуктивен. Более того, «вариант жесткого прессинга» смог бы сработать исключительно в случае дальнейших постепенных послаблений шиитскому капиталу и умеренным политическим партиям. И сегодня власть суннитского королевского режима на Бахрейне обеспечивается исключительно опорой на военную силу Эр-Рияда. При этом арабские монархии Персидского залива, как впрочем и Запада, в упор не видят этой проблемы и игнорируют ее рассмотрение, оставляя тем самым взрывоопасный очаг, способный вспыхнуть в любой момент.
Вот только немного статистики в подтверждение этого. При том, что в настоящее время 70% населения Бахрейна составляют этнические арабы-шииты, в структурах власти они представлены совершенно несправедливо. Представительство шиитов в таких структурах власти, как королевский двор, королевская гвардия и армия близко к нулю. Из 29 министерских постов в правительстве Бахрейна шиитам принадлежит только 6. Из 29 заместителей министров шиитами являются только 3. Из 230 высоких постов в судебной власти, включающей в себя Высший судебный совет, Конституционный суд, суды, административные советы и т.д., шииты занимают только 28 мест и при этом среди них нет ни одного председателя суда, т.е. доля шиитов в судебной власти составляет около 12%. В законодательной власти среди 40 членов Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) насчитывается 17 шиитов и среди 40 членов Палаты депутатов – 18 шиитов. Несправедливая избирательная система продолжает сохранять жесткую дискриминацию шиитского большинства населения королевства.
Бахрейнское суннитское руководство под влиянием своего «старшего брата» по Персидскому заливу предприняло шаги, которые лишь загнали ситуацию в тупик. Мало того, что в структурах власти шииты представлены крайне несправедливо, в добавок к этому в стране развернулась самая настоящая «охота на ведьм». Были уволены со своих должностей или потеряли работу более 3600 человек, в основном в государственных или полугосударственных компаниях. В частном секторе дела обстояли еще хуже. В Интернете появился «черный список» компаний и магазинов, которые принадлежат шиитам, с требованием их бойкота. Фискальные органы вынудили шиитов сворачивать свой бизнес. То есть проведен передел собственности. Кроме того, произошло серьезное ущемление религиозных прав шиитов. Разрушены или серьезно повреждены более 40 мечетей или объектов культа. А это еще больше разозлило шиитов, сделав примирение с ними мало вероятным. Понимая это, руководство Бахрейна пошло на совершенно беспрецедентный шаг, начав негласную кампанию натурализации суннитов из других стран Персидского залива с предоставлением им подданства страны. Понятно, что расчет сделан на будущие выборы, так как изменить серьезным образом демографический баланс в пользу суннитов представляется маловероятным.
Одновременно сохраняется военная составляющая присутствия КСА на Бахрейне в рамках плана ССАГПЗ (принят в сентябре 2011 года) о наличии на постоянной основе военной базы на Бахрейне. Там постоянно должны базироваться около 1000 военнослужащих Совета, в основном саудовцев. Эта ситуация иллюстрирует лишь крайне близорукое видение перспектив, которое демонстрируют престарелые руководители Саудовской Аравии. Многие шиитские представители на Бахрейне убеждаются в необходимости продолжения дальнейшей борьбы, которая, как представляется, будет сочетать в себе мирные, а возможно и силовые методы протеста. Да у них и не остается другого выбора, благодаря «мудрости» саудовских стратегов. И в Эр-Рияде должны помнить, что прямо «под боком» Бахрейна, в находящейся на расстоянии 30 км через мелководье Персидского залива саудовской Восточной провинции, большинство населения также составляют шииты. А ведь именно в этой части КСА добывается почти вся нефть саудовского королевства. И местные шииты гневно отреагировали на вооруженное подавление волнений на Бахрейне, проведя многочисленные демонстрации протеста, в ходе которых несколько человек были убиты полицией и силами безопасности. И нет гарантии того, что когда-нибудь шииты Бахрейна и Восточной провинции не выступят против дискриминации со стороны суннитов и ваххабитов совместно со всеми вытекающими отсюда последствиями для саудовского и других аравийских режимов.
Поэтому и на этот раз другие члены ССАГПЗ не слишком радостно восприняли очередную идею Эр-Рияда о трансформации Совета из экономического объединения в военный блок. Им вовсе не хочется влезать ни во внутренние разборки между суннитами и шиитами в самой Саудии и на Бахрейне, ни тем более в опасные антииранские игры Эр-Рияда против Тегерана. Тем более что в отношении Ирана КСА сейчас действует в унисон с Израилем. А это означает, что арабским монархиям придется отказаться от еще теплящихся на поверхности принципах общеарабской солидарности по палестинской проблеме – единственной, которая после волны «революций» еще формально хоть как-то объединяет арабов. Если же и это «единство» прекратит свое существование, то тогда арабские республиканские режимы получат полное моральное право выступить против прогнивших монархий Аравии и заключить на этот счет сделку с любым потенциальным союзником, включая Иран. А ведь месть за то, что своим вмешательством Саудия, Катар и еще кое-кто из ССАГПЗ фактически посеяли смерть и разруху в таких арабских странах как Египет, Сирия, Ирак, Йемен и Ливия, может быть очень сильной. Большинство арабских государств и так недолюбливали чрезмерно богатые монархии Персидского залива, разжиревшие на доходах от нефти и газа, и не особенно делившихся с арабскими «братьями», многие из которых прозябали в нищете.
Вот и пытается сейчас Саудия выстроить военный альянс. Ведь в Эр-Рияде замышляют его не только как антииранский, но и антииракский, поскольку мощный нефтяной Ирак с его большим населением и крупными вооруженными силами, 2/3 которого составляют шииты, тоже представляет угрозу безопасности саудовского королевства, уверены в Эр-Рияде. Вот и вбрасывают сейчас саудовские спецслужбы сотни миллионов долларов на разжигание выступлений суннитских радикальных организаций против шиитского правительства в Багдаде. Видимо понимают, что иракцы всегда будут помнить, как КСА долгие годы стремилось ослабить северного соседа, а по возможности – и расчленить его по этноконфессиональному признаку. И вряд ли иракцы это простят. А уж если Ирак и Иран объединятся на платформе противодействия агрессивному ваххабито-суннитскому наступлению на них, то уж тогда Саудовской Аравии точно не поздоровится. В Сирии же она уже фактически проиграла. Вот и ищут саудовские правители союзников среди схожих по политическому устройству монархий Аравии и даже готовы пойти на сделку с Израилем.
Только вряд ли из этого что-либо получится, тем более что США существенно меняют свое отношение к странам, которые делают ставку на исламских радикалов и даже террористов из Аль-Каиды и других экстремистских организаций. Последние дни в Ираке разворачивается ожесточенная война между суннитским террористическим подпольем, финансируемым саудовцами, и войсками центрального правительства. На подавление боевиков в 4-х суннитских провинциях западного и центрального Ирака брошены не только бронетехника, но и авиация. И хотя правительственные войска несут большие потери, вплоть до того, что на днях погиб даже близкий премьеру Нури аль-Малики генерал, командующий 7-й дивизией, уже уничтожены многие очаги террористических бандформирований.
*************
Сейчас основные сражения в суннито-шиитском противостоянии, разжигаемом ваххабитами Саудовской Аравии, переместились из Сирии в Ирак. Но там же все и должно закончиться, причем разгромом экстремистов и террористов, взращиваемых именно Эр-Риядом. Если только КСА вдруг не пойдет на самоубийство, спровоцировав совместную с Израилем агрессию против Ирана. В этом случае вся геополитическая карта региона будет перекроена, а сама Саудия распадется на несколько квази-государств или анклавов, равно как и на Бахрейне шииты возьмут власть в свои руки. Но хочется верить, что все-таки саудовские правители найдут в себе силы отказаться от авантюр.
Владимир Алексеев,
Специально для Iran.ru
Российская компания получила право искать нефть и газ в Сирии
«Союзнефтегаз» получил доступ к шельфу Сирии
Российская компания «Союзнефтегаз» подписала контракт на разведку, разработку и добычу нефти и газа на континентальном шельфе Сирии. Документ подписан сегодня в Дамаске. Об этом сообщает государственное информагентство САНА.
Переговоры между «Союзнефтегазом» и министерством нефти Сирии по этому контракту продолжались пять месяцев и завершились в середине ноября. В сообщении САНА не приводится каких-либо подробностей.
Компания «Союзнефтегаз» учреждена в 2000 году при участии «Межгосбанка», ЦДУ ТЭК (Россия), ГК «Белнефтехим» (Белоруссия) и ряда западных инвесторов. Компания работает в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, Западной и Северной Африке, Австралии. «Союзнефтегаз» уже занимался разведкой и добычей сирийских углеводородов: в 2004 году компания получила право на разведочные блоки 12 и 14.
В этом месяце Иран представил более подробную информацию о двух типах переносных ЗРК Misagh-1 и Misagh-2, сообщает freebeacon.com 17 декабря. По мнению США и их союзников Тегеран оказывает поддержку международным терористическим группам.
Исламистское информационное агентство TASNIM утверждает, что по боевым характеристикам эти ПЗРК превосходят американский Stinger и шведский RBS-70. Оба типа ракет имеют длину 1,5 м и могут поражать цели на дальности 4000 м. Misagh-1 развивает максимальную скорость более 600 м/с, Misagh-2 — 850 м/с. Фугасная боевая часть имеет массу 1,42 кг. В ПЗРК реализован принцип «выстрелил-забыл». Агентство не уточняет тип головки самонаведения, но, вероятно, это инфракрасная ГСН. Ракеты принадлежат к третьему и четвертому поколению и поступают на вооружение с 2002 года. Пока неясно, это иранские разработки или варианты китайских ПЗРК.
Сообщается, что иракские повстанческие группы оснащены иранскими комплексами Misagh-1 и QW-1 китайского производства. Иранские ПЗРК также имеются на вооружении террористов в Йемене. В 2004 году американские войска обнаружили несколько ракет Misagh-1 на территории аэропорта Багдада. «Несмотря на усилия мирового сообщества по воспрепятствованию попадания переносных ЗРК в руки террористов, повстанцев и других вооруженных групп, эти ракетные комплексы продолжают поступать в их распоряжение», говорится в докладе Федерации американских ученых.
Руководство террористической организации "Аль-Каида" принесло извинения за подрыв госпиталя при министерстве обороны Йемена в Сане, в результате которого погибли 52 человека, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Глава йеменского крыла "Аль-Каиды" заявил, что один из его боевиков не подчинился приказу не нападать на госпиталь, а также на место для молитв.
"Сейчас мы осознаем свою ошибку и вину. Мы приносим извинения и соболезнования семьям погибших. Мы полностью берем на себя ответственность за произошедшее в госпитале", - цитирует агентство слова командира "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове Кассима аль-Рими.
Теракт произошел 5 декабря этого года и унес жизни 52 человек, включая семь иностранных граждан из Германии, Индии, Филиппин и Вьетнама. Неизвестные, переодетые в военную форму, подорвали заминированный автомобиль у ворот Минобороны Йемена в районе Баб-эль-Йемен в центре Саны. Затем на территорию комплекса заехал еще один заминированный автомобиль, взрывчатка сдетонировала возле военного госпиталя. За взрывами последовало вооруженное нападение. Йеменское крыло террористической организации "Аль-Каида" взяло на себя ответственность за нападение.
Россия обеспокоена ситуацией в Йемене и готова помочь стране в решении вопросов ее государственного устройства, экономики и безопасности, Москва также подчеркнула важность поиска компромисса самими йеменцами, сообщил МИД РФ во вторник.
"Выражая обеспокоенность по поводу развития событий в Йемене, по-прежнему акцентируем особую значимость успешного завершения Национального диалога в этой стране. Такой диалог остается реальным путем урегулирования стоящих перед Йеменом проблем самими йеменцами при энергичной международной поддержке",- сказано в комментарии ведомства.
В МИД также подчеркнули, что только на пути движения к гражданскому миру и согласию можно достичь консенсусных решений по таким значимым социально-политическим вопросам, как будущее государственное устройство Йемена, реформа армии и сил безопасности, восстановление и последующее развитие национальной экономики.
"Со своей стороны подтверждаем готовность и далее оказывать йеменским партнерам необходимое содействие в выполнении этих приоритетных задач как в двустороннем формате, так и в рамках нашего сопредседательства с ЕС в Рабочей группе по национальному диалогу десяти стран-гарантов реализации межйеменских соглашений о мирной передаче власти в стране", - добавили в МИД РФ.
На юге Йемена не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды", страна испытывает серьезные проблемы в сфере безопасности, а начатый после прихода к власти в 2012 году нового президента Абд Раббо Мансура Хади общенациональный диалог с целью выработки новой конституции до сих пор не привел к каким-либо положительным результатам.
Парламент Йемена в воскресенье проголосовал за запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для авиаударов по боевикам на территории страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.
"Депутаты проголосовали за запрет на рейды беспилотников в Йемене", - приводит Франс Пресс сообщение йеменского информагентства Саба.
В четверг в результате авиаудара американского БПЛА в Йемене погибли 15 мирных жителей. По данным сотрудника местной службы безопасности, беспилотник нанес удар по свадебному кортежу в провинции Эль-Бейда, по-видимому перепутав его с конвоем "Аль-Каиды".
В конце октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в результате шести атак беспилотников США в Йемене с 2009 по 2013 год погибли 57 мирных жителей. По данным авторов доклада, довольно сложно четко определить, действительно ли среди погибших были угрожавшие интересам США люди, связанные с "Аль-Каидой". Правозащитники из Amnesty International также сообщали, что удары американских БПЛА в Йемене и Пакистане во многих случаях нарушают международные законы.
Сирийская армия начала в пятницу широкомасштабную операцию по освобождению города Адра, захваченного два дня назад боевиками-исламистами из "Джебхат ан-нусра" и "Джейш аль-ислам", которые устроили в нем массовые казни мирного населения, сообщает сирийское информационное агентство САНА.
"После окружения города и интенсивной артподготовки части сирийской армии продвигаются вперед, уничтожая укрепления террористов, численность которых составляет около 1 тысячи человек", - говорится в сообщении агентства.
По появившимся в СМИ сообщениям, исламисты после захвата Адры устроили резню среди мирного населения по конфессиональному признаку - уничтожению подвергались алавиты и друзы. Взяв в заложники около 200 мирных жителей города, исламисты отобрали среди них 15 человек из числа алавитов и друзов, в том числе женщин и детей, и казнили их. По неподтвержденным данным, казни исламистскими боевиками мирных жителей Адры под предлогом их сотрудничества с правящим режимом продолжаются до сих пор.
Население города Адры (около 100 тысяч человек), находящегося в 20 километрах к северо-востоку от Дамаска, является смешанным и состоит из мусульман-суннитов, алавитов, друзов и христиан.
Пятнадцать мирных жителей погибли в четверг в Йемене в результате авиаудара, нанесенного, предположительно, американским беспилотником, передает агентство Рейтер.
По данным сотрудника местной службы безопасности, беспилотник нанес удар по свадебному кортежу в провинции Эль-Бейда, по-видимому, перепутав его с конвоем "Аль-Каиды".
В конце октября правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад, где говорилось, что в результате шести атак американских беспилотников в Йемене с 2009 по 2013 год погибли 57 мирных жителей. По данным авторов докладов, довольно сложно четко определить, действительно ли среди погибших были угрожающие интересам США люди, связанные с "Аль-Каидой".
«Арабская весна»
и исламское государство[1]
Леонид Маркович Исаев – арабист, старший преподаватель кафедры общей политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Одним из самых заметных и широко обсуждаемых последствий «арабской весны» и начавшегося вслед за ней переустройства социально-политического пространства Ближнего Востока и Северной Африки стал подъем исламистских настроений. Однако, оценивая ситуацию в регионе в ретроспективном плане, нельзя не обратить внимания на любопытную закономерность. Наибольших успехов исламистам удалось добиться в тех странах, где их деятельность на протяжении десятилетий находилась под полным запретом: в Тунисе, Египте и (с определенными оговорками) Ливии. В странах же с относительно развитой, по арабским меркам, парламентской системой, допускающей исламистов на политическую сцену, – таких, как Йемен, Алжир и Судан, – удельный вес исламистских партий в парламентах даже после всех потрясений остается низким, а то и вовсе мизерным.
Тунис: ислам не пройдет?
Тунис, будучи страной, стоявшей у истоков «арабской весны», стал еще и зачинателем нового для арабской политической культуры тренда: именно здесь силы исламистов быстрее всего смогли мобилизоваться и посредством демократических процедур прийти к власти.
По сравнению, скажем, с Египтом, исламское движение в Тунисе выглядит относительно молодым. Его корни уходят в начало 1970-х годов, когда три интеллектуала – Рашид аль-Ганнуши, Абдель Фаттах Муру и Хмида ан-Нейфера – создали так называемую «Исламскую группу». Вскоре после своего создания она была переименована в Движение исламской направленности (ДИН), а позже превратилась в движение «Ан-Нахда» («Возрождение»). Первое десятилетие своего существования движение провело в подполье, пока, наконец, в 1981 году на XI внеочередном съезде Социал-демократической партии (СДП) президент Туниса Хабиб Бургиба не заявил о том, что в стране наступила эра плюрализма. «Мы не видим больше препятствий к формированию политических и общественных организаций», – сказал тогда тунисский лидер[2]. В этот же день аль-Ганнуши предложил единомышленникам-исламистам учредить собственную партию, что и было сделано.
Здесь важно подчеркнуть, что к моменту создания партии социальная база исламистов была не слишком обширной; парадоксальным образом значительный, пусть и косвенный, вклад в ее укрепление внесло министерство образования Туниса, которое, борясь с левацкими настроениями в студенческой среде, целенаправленно проводило политику арабизации и даже исламизации университетской жизни. В итоге именно тунисское студенчество стало основной опорой исламистов. Впрочем, численность сторонников ДИН начала заметно расти только после того, как члены движения стали подвергаться репрессиям со стороны властей. Обвинительные приговоры, на которые не скупилось государство, вызывали широкое сочувствие к ним. Число приверженцев ДИН в студенческой среде возросло до 20–30% учащихся, а количество действительных членов движения увеличилось с 700–900 человек в 1971–1978 годах до 5 тысяч в 1979–1987-м. Иначе говоря, малозаметная организация, едва ли способная пройти в парламент, не без участия властей вышла на авансцену политики в бурные для Туниса 1980-е. В 1987 году исламисты даже косвенно способствовали бескровному свержению президента Бургибы, хотя на финальной стадии переворота опытный политик Бен Али сумел их переиграть.
С уходом старого лидера у исламистов появился шанс побороться за власть с новоиспеченным президентом, однако последний оставил им слишком мало времени. Отстранив исламистов от участия в разделе власти на заключительной стадии переворота, он деморализовал их сторонников. Кроме того, они не успели взять под свой контроль Всеобщий тунисский союз труда, главенство над которым повысило бы шансы оппозиции в противостоянии с властью: к 1989 году лишь 15–20% членов этой профсоюзной организации поддерживали ДИН. Полностью же ликвидировать исламистскую угрозу Бен Али удалось после того, как в рядах его противников назрел раскол, связанный с переименованием ДИН и последующим определением стратегии новоявленной партии «Ан-Нахда». На руку тунисскому руководству сыграло и то обстоятельство, что в начале 1990-х в соседнем Алжире усилиями исламистов разгорелась гражданская война. В итоге новый шанс перед исламистами, вытесненными на периферию общественной жизни, открылся только через двадцать лет.
После того, как в январе 2011 года в разгар революционных событий президент Бен Али покинул страну, история Туниса вступила в новую фазу. 23 октября того же года тунисским политическим силам предстояла первая схватка за выбор стратегии дальнейшего развития государства. Избираемой в тот день Конституционной ассамблее предстояло разработать текст новой конституции. При этом высшим должностным лицам правящей со времен Бургибы партии запрещалось в течение ближайших десяти лет занимать государственные посты. Тем самым из предвыборной гонки были исключены представители старой политической элиты. Результаты выборов удивили многих наблюдателей, уверенных в том, что в последние годы правления Бен Али исламистская угроза в Тунисе была снята навсегда[3]. «Ан-Нахда» получила 89 мест из 217, заручившись поддержкой 37% населения. Этот результат выглядел еще более впечатляющим в сравнении с ее ближайшими конкурентами: Конгресс за республику заработал 29 мандатов, «Народная петиция» – 26, Демократический форум за труд и свободу– 20. Даже альянс этих трех партий (75 мест), не мог составить конкуренцию исламистам. Однако большинства у исламистов все же не было, а потому они вынужденно вступили в коалицию со светскими партиями. Это в свою очередь потребовало от них компромисса относительно распределения государственных постов. В то время, как исламист Хамад Джебали занял кресло премьер-министра, должность президента досталась светскому деятелю Монсефу Марзуки.
Таким образом, организации тунисских исламистов, возникшие в начале 1970-х и пребывавшие в последние два десятилетия в подполье или изгнании, продемонстрировали весомый политический потенциал. По-видимому, именно их полное исключение из политического процесса в 1990–2000-е годы помогло им добиться неплохих результатов в революционном Тунисе. Местное общество попросту отвыкло от исламистских лозунгов, популярности которых способствовало также и постоянное ухудшение социально-экономической ситуации после смены режима. Однако уже сейчас в тунисском обществе преобладает мнение, что смена светского режима на исламский порядок не принесла стране ожидаемой пользы. Нынешний кабинет Джебали все чаще критикуется за то, что обещанное им тунисское «экономическое чудо» так и не состоялось.
Разочарование в популистских лозунгах, с которыми исламисты приходили к власти, усугубляется расколом внутри самой партии «Ан-Нахда». Пытаясь справиться с социально-экономическими проблемами, исламисты вынуждены проводить весьма взвешенную политику, развивая туристическую индустрию, создавая благоприятный климат для инвесторов и отодвигая на второй план нужды исламизации. Ярким подтверждением тому стало решение политсовета правящей партии не включать в Конституцию статью о шариате: из 120 его членов данное предложение поддержали 80, в то время как число сторонников шариата ограничилось 12 голосами[4]. В свою очередь салафиты, недовольные слишком умеренной политикой, которую проводит «Ан-Нахда», на протяжении 2012 года не раз организовывали беспорядки и антиправительственные выступления, кульминацией которых стало провозглашение «исламского эмирата» в Седжане. Совершенное ими 6 февраля 2013 года убийство светского политика и главыДемократической патриотической партии Шукри Белаида заставило выйти на улицы многочисленных противников исламизации Туниса.
Египет: «перманентная» революция
Взаимоотношения между исламистами и секуляристами в Египте имеют долгую и запутанную историю. С начала XIX века эта страна была эталоном модернизации для всего арабского Востока. Во многом это объяснялось тем, что по сравнению с иными арабскими странами исламизация пришла сюда в последнюю очередь, лишь в XVIII столетии. Но при этом именно Египет сделался колыбелью исламистской политической идеологии, зародившейся в 1928 году, когда была образована ассоциация «Братья-мусульмане».
Как известно, в ходе антимонархического переворота 1952 года на стороне «Свободных офицеров» выступили и «Братья-мусульмане». Однако все их попытки обеспечить себе место в строящейся политической системе республиканского Египта натолкнулись на противодействие Гамаля Абдель Насера, бывшего в тот момент заместителем председателя Совета революционного командования. (В 1952–1954 годах фактическим главой государства оставался генерал-майор Мухаммед Нагиб.) До своей смерти в 1970 году Насер вел планомерную борьбу с исламистами, вытесняя их за рамки политического процесса[5].
Приход к власти Анвара ас-Садата в 1971 году был отмечен проведением экономической политики «открытых дверей», а также роспуском прежней правящей партии в лице Арабского социалистического союза. Начавшаяся «эра плюрализма» повлекла за собой переход к многопартийной системе. Многие египтяне, однако, ностальгически вспоминали времена Насера, а первые годы правления ас-Садата все больше ассоциировались у них с репрессиями в отношении бывших соратников революционного лидера. Пытаясь укрепить собственные позиции, новый президент обратился за помощью к исламистам. Но если первоначально этот курс проявлялся в легком заигрывании с религией – ас-Садат любил называть себя «президентом правоверных» – и в легализации суфийских братств, то позже он обернулся амнистированием находившихся в тюрьмах «братьев», включая их главу Хасана аль-Худайби. Популярность исламистов росла стремительно. В 1976 году было возобновлено издание еженедельника «Призыв», открыто отстаивавшего создание в Египте исламского государства и внедрение норм шариата в законодательство. Позже из рядов «Братьев-мусульман» вышли активисты, склонявшиеся к насильственному захвату власти и основавшие целую плеяду радикальных исламистских группировок («Союз мусульман», «Союз духовного отрешения» и другие). Радикалов не устраивал принцип «мусульмане должны проповедовать, а не приговаривать», декларируемый аль-Худайби, который делал ставку на постепенный и ненасильственный приход к власти[6].
В 1978 году по инициативе ас-Садата на политической сцене Египта появиласьСоциалистическая партия труда, которая впоследствии переименовалась вИсламскую рабочую партию. Именно ей и было суждено стать рупором ассоциации «Братья-мусульмане» в египетском парламенте[7]. На первых же после ее учреждения выборах в Народную ассамблею в 1979 годуСоциалистическая партия труда заняла второе место, получив 30 депутатских мандатов из 392 и уступив лишь президентской Национал-демократической партии (НДП). Для только что сформированной партии, обладавшей лишь ограниченным административным ресурсом, это был неплохой результат. Кроме того, в относительно короткие сроки исламистам посредством одной лишь издательской деятельности удалось мобилизовать в свою поддержку разочарованную молодежь и мелкую городскую буржуазию, которую в свое время привлек Насер[8]. Подтверждением тому стал состоявшийся в 1980 году референдум по принятию конституционной поправки, признававшей шариат «прямым источником законодательства». Сторонники ее принятия, возглавляемые «братьями-мусульманами», получили тогда 99% голосов. Иными словами, исламисты, занимавшиеся легальной политической работой менее десяти лет, сделали важный шаг к тому, чтобы потеснить правящую НДП и ее лидера. Впрочем, заключив мирный договор с Израилем, президент и без того подписал себе приговор. 6 октября 1981 года в ходе военного парада ас-Садат был убит экстремистами, представлявшими две радикальные исламистские группировки – «Египетский исламский джихад» и «Исламский блок».
С приходом к власти Хосни Мубарака отношение к исламистам заметно изменилось. Наученный горьким опытом своего предшественника, новый глава государства ясно дал понять, что готов мириться с признанием ассоциации «Братья-мусульмане» de facto, но не de jure. По этой причине на первых после смерти ас-Садата парламентских выборах в 1984 году «братья» заключили беспрецедентный альянс с партией «Новый Вафд». В принципе, в союзе были заинтересованы обе стороны: без него «вафдисты» не смогли бы преодолеть восьмипроцентный заградительный барьер, а исламисты лишились бы возможности иметь своих представителей в Народной ассамблее, поскольку мажоритарная система голосования к тому моменту была заменена на пропорциональную. В результате лишь две партии, правящая НДП (390 мест из 458) и «Новый Вафд» (58 мест), смогли обеспечить себе парламентское представительство.
На следующих выборах в 1987 году исламисты шли во главе собственного альянса, сформированного из Социалистической рабочей партии,Социалистической либеральной партии и делегатов «Братьев-мусульман». Блок сумел набрать 17% голосов, получив 60 мест в Народной ассамблее. Несмотря на то, что пропрезидентской НДП удалось заручиться поддержкой почти 70% избирателей, успех исламистов был очевиден, особенно в свете того, что им пришлось действовать в условиях чрезвычайного положения. Но по-настоящему переломным стал 1990 год, когда в преддверии очередных выборов в Народную ассамблею все оппозиционные партии, за исключением Национальной прогрессистской партии, приняли решение о бойкоте голосования. Ставка была сделана на то, что Мубарак отступит под натиском оппозиции и отменит чрезвычайное положение. Президент, однако, отказался идти на компромисс, а участие в выборах Национальной прогрессистской партии и избрание ее представителей в парламент придало выборам необходимую легитимность. Мубарак, почувствовав свою силу, решил, что необходимость компромисса с умеренными исламистами отпала. Стороны фактически объявили друг другу войну: исламисты перешли к террору, а президент начал полномасштабные репрессии в отношении их сторонников.
Однако перед самым уходом, в феврале 2011 года, Мубарак все же вынужден был признать «Братьев-мусульман» в качестве политического актора: это произошло после того, как вице-президент Омар Сулейман пригласил их к переговорам по выходу из сложившегося в стране кризиса[9]. После отставки президента ассоциация «Братья-мусульмане» была признана и юридически, впервые за всю историю получив возможность легально и самостоятельно участвовать в предвыборной гонке. Уже на 19 марта 2011 года был намечен референдум по принятию временной конституционной декларации, который исламисты окрестили «битвой за избирательные урны». Положительный исход голосования играл на руку прежде всего именно им, так как правящая при Мубараке НДП была распущена, а либеральная оппозиции расколота. Результаты референдума порадовали исламистов: 77,27% голосов были поданы за конституционную декларацию, и только 22,73% против.
Получив перед выборами в Народную ассамблею полный карт-бланш, «Братья-мусульмане» совместно с салафитами занялись созданием собственных партий: таковыми стали Партия свободы и справедливости и «Ан-Нур» («Свет») соответственно. Несмотря на то, что либералы добились переноса выборов с лета на ноябрь 2011 года, исламисты одержали на них уверенную победу. Из 508 мест в Народной ассамблее нового созыва 235 получила Партия свободы и справедливости, 123 – «Ан-Нур», 38 – «Новый Вафд» и 35 – «Египетский блок».
В стране воцарилось двоевластие, поскольку наряду с новым парламентом продолжал функционировать Высший совет вооруженных сил. Однако длилось оно недолго: сначала суд аннулировал результаты парламентских выборов, а уже в мае 2012 года началась президентская кампания. Основная борьба развернулась между исламистом Мухаммедом Мурси и представителем армии Ахмедом Шафиком. Во втором туре голосования, состоявшемся 16–17 июня, с незначительным перевесом победил кандидат-исламист. Правда, на этот раз победа «Братьев-мусульман» была не столь впечатляющей, как на парламентских выборах предыдущего года: в первом туре Мурси получил всего 24,78% голосов.
Став президентом, Мурси распустил Высший совет вооруженных сил, а исламисты сделались фактически единоличными правителями Египта. С того момента все беды и невзгоды, переживаемые страной, – а их по не зависящим от президента причинам было немало – ассоциировались с политикой, проводимой Мурси. Нарастающее недовольство болезненными мерами по преодолению социально-экономического кризиса, в котором оказался Египет после «арабской весны», заставляло новое правительство ускорить принятие новой Конституции, которую оппозиция назвала «исламской». Ради этого президент отсрочил внедрение жесткой экономии государственных средств, а также отложил подъем цен на топливо и продовольствие. В итоге Конституция была принята, но полученное исламистами большинство (63,83% в ходе референдума сказали проекту «да»), зафиксировав поражение оппозиции, явно не стало и триумфом для «братьев-мусульман».
Более того, завершение конституционных баталий сулило победителям неприятности. Новые власти понимали, что разрешить социально-экономические проблемы посредством пропаганды ислама и популистских лозунгов едва ли удастся. Президенту нужно было либо отступить от политики исламизации, что привело бы к расколу в рядах его последователей, либо, отказавшись пожертвовать принципами, принять на себя весь груз народного разочарования – с непредсказуемыми последствиями. Вторая египетская революция, начавшаяся в Каире летом 2013 года и приведшая к отстранению президента Мурси от власти, свидетельствует о том, что будущее исламистов в Египте, несмотря на все их победы и достижения, отнюдь нельзя признать безоблачным.
Ливия: зеленое знамя вместо «Зеленой книги»
В Ливии со времен революции 1969 года ни разу не проводились выборы. Делегаты местных народных комитетов и Всеобщего народного конгресса избирались в ходе процедур, лишь отдаленно напоминавших демократические. Впрочем, справедливости ради можно сказать, что и в королевской Ливии выборы в Палату представителей были очень далеки от идеала – особенно после того, как король Идрис I после избирательной кампании 1952 года запретил выдвижение кандидатов от политических партий. Муамар Каддафи за годы своего долгого правления тоже немало сделал для того, чтобы привить своим подданным негативное отношение к партиям. На сегодняшний день Ливия остается арабским государством с наименее развитой партийной системой.
После свержения монархии революционеры подавили исламских радикалов, в основном проживавших в Киренаике и поддерживавших королевскую власть. Само наличие исламистов не вписывалось в идеологическое оформление режима джамахирии; Каддафи всегда видел в них конкурентов, а потому массовые аресты, убийства и высылки приверженцев исламского пути развития были распространенными явлениями.
Разгоревшаяся в Ливии гражданская война, увенчавшаяся в 2011 году убийством полковника Каддафи, позволила исламистам впервые принять участие в определении будущего страны. 7 июля 2012 года состоялись выборы во Всеобщий национальный конгресс, среди основных задач которого было избрание премьер-министра и членов конституционной ассамблеи. Особенность конгресса состояла в том, что из двух сотен его членов 120 избирались в качестве независимых и беспартийных кандидатов, а партиям оставалось распределить между собой оставшиеся 80 мест. В борьбе за эту квоту победу одержала Коалиция национальных сил, возглавляемая бывшим премьер-министром Махмудом Джибрилем и набравшая 39 мест, а следом за ней расположилась Партия справедливости и развития (ПСР), получившая 17 мест и представляющая политическое крыло ливийских «братьев-мусульман».
Однако, несмотря на то, что Коалиция национальных сил получила почти вдвое больше мест, чем ПСР, все-таки исламисты остаются единственной силой, способной составить конкуренцию действующей власти. При этом результат, который сумели продемонстрировать «братья-мусульмане» в Ливии, никак нельзя считать провальным. Во-первых, исламистам, на протяжении четырех десятилетий подвергавшимся преследованиям, удалось мобилизоваться за весьма короткий срок. Во-вторых, поскольку Коалиция по сути есть инструмент того сегмента бывшей ливийской элиты, который успел вовремя отречься от лидера революции, противоборствующие силы изначально были неравны: исламистам фактически пришлось соперничать с самой новой властью. Наконец, в-третьих, в условиях племенного общества исламские лозунги становятся менее эффективными, поскольку племенные интересы имеют приоритет над любыми религиозно-идеологическими установками.
В целом ливийский случай можно расценивать как подтверждение того, что жесткое подавление исламистов и исключение их из политического процесса на новом этапе развития оборачиваются их триумфом. В условиях более или менее свободных выборов они немедленно отыгрывают потери, понесенные за годы гонений и преследований.
Алжир: обманутые исламисты
Из всех арабских стран, некогда собиравшихся идти по марксистско-ленинскому пути, Алжир, пожалуй, ближе всех подошел к строительству исламской республики. Помимо общего кризиса социалистической модели, пересмотру «алжирского пути» развития в 1980-е годы способствовали и внутренние факторы, важнейшими среди которых стали рост частного сектора и ухудшение экономической ситуации. В октябре 1988 года конфликт на одном из пригородных предприятий алжирской столицы быстро перерос в массовые беспорядки. Лозунги, которые скандировали манифестанты, в основном «начинались со слова “долой”: долой богатых и спекулянтов, партию и полицию, того или иного высокопоставленного деятеля»[10]. (Кстати, аналогичные настроения царили в январе и феврале 2011 года и на каирской площади ат-Тахрир, где одним из основных слоганов стало арабское слово «ирхаль» – «уходи», или «долой», – которое адресовалось вполне конкретным личностям.) Расценив положение в стране как угрожающее существующему режиму, президент Шадли Бенджадид принял решение о начале полномасштабного реформирования политической системы.
Осенью 1988 года VI съезд правящего Фронта национального освобождения(ФНО) наметил основные направления демократических преобразований в стране, а спустя несколько месяцев, в феврале 1989-го, на референдуме была принята новая Конституция Алжира, ознаменовавшая отказ от социалистических принципов, переход к многопартийности и политическому плюрализму. Однако, в отличие от Социал-демократической партии Туниса, верхушка ФНО недооценила потенциал общественной активности в Алжире. В стране произошел «массовый взрыв деятельности гражданских ассоциаций во всех сферах жизни. В 1991 году эксперты насчитывали в Алжире уже 7350 ассоциаций самой различной направленности»[11]. В итоге ситуация достаточно быстро начала выходить из-под контроля режима. Плачевное состояние алжирской экономики после социалистических экспериментов, целый спектр нерешенных социальных проблем, а также явно запоздавшая модернизация политической жизни (к концу 1980-х Алжир оставался единственной страной Магриба, где был однопартийный парламент) – все это обеспечивало исламистам благодатную почву для распространения идей исламской справедливости и исламского государства.
Первым тревожным сигналом для власти стали муниципальные выборы, состоявшиеся в июне 1990 года. На них созданный годом ранее Исламский фронт спасения (ИФС) получил 54,3% голосов, в то время как ФНО набрал лишь 31,5%. Перед первыми альтернативными парламентскими выборами, намеченными на 1991 год, ИФС удалось еще более упрочить позиции, объединив вокруг себя практически все крупные исламистские организации, действующие в стране. Это обеспечило сокрушительную победу исламистов: в первом туре они завоевали 188 мест в парламенте (из 430), а ФНО довольствовался лишь 16. Итогом второго тура вполне могло стать завоевание исламистами конституционного большинства в Национальной народной ассамблее, позволяющего провозгласить Алжир исламской республикой.
Благоприятствовало исламистам и то обстоятельство, что президент Бенджадид занял нейтральную позицию; он надеялся «закончить дело компромиссом с тем, кто был тогда сильнее, то есть с ИФС, независимо от каких-либо симпатий или антипатий»[12]. В сложившейся ситуации армия сыграла на опережение, 5 января 1992 года вынудив президента распустить парламент, а через шесть дней отправив в отставку и его самого. Вся полнота власти оказалась в руках Высшего государственного совета, который возглавил Мухаммед Будиаф. После того, как военные взяли власть в свои руки, исламисты обнародовали два заявления. В первом говорилось о том, что ИФС основан на исламе и шариате в противовес прогнившему марксизму западного образца. Одновременно этот документ призывал граждан не признавать новых руководителей страны, которые игнорируют мусульманские ценности. Второе заявление было адресовано международному сообществу, которое призывали не признавать Высший государственный совет и не вступать с ним в дипломатические отношения. Кроме того, ИФС распространил по всей стране инструкции, которые приказывали руководителям местных исламистских ячеек создавать специальные группы в стратегических пунктах «противника» и организовывать партизанские акции.
Узурпация власти военными способствовала тому, что к обширной электоральной базе исламистов присоединились и ранее нейтральные избиратели, по мнению которых, у ИФС попросту отняли победу. Но разгоревшаяся после выборов гражданская война довольно скоро скорректировала предпочтения электората. К 1995 году уставший от длительного и кровавого противостояния народ в большинстве своем уже поддерживал политику мирного урегулирования, которую отстаивал Ламин Зеруаль, пришедший на смену убитому Мухаммеду Будиафу. Новый расклад электоральных симпатий продемонстрировали президентские выборы 1995 года, на которых Зеруаль получил 61% голосов, в то время как его ближайший соперник из Движения общества за мир, легальный исламист Махфуз Нахнах, набрал лишь 25,6%.
Еще одним ударом по алжирским сторонникам шариата стала используемая властями переговорная тактика, приводившая к тому, что исламисты раскалывались на умеренное крыло, готовое идти на компромисс в обмен на обещаемые властью уступки, и радикальное крыло, не желающее никакого диалога с действующим руководством. Затем, в соответствии с опытом Мубарака и Бен Али, исламисты уничтожались поочередно: после кооптации лояльных исламистов в господствующие политические структуры репрессии сначала обрушивались на несговорчивых радикалов, а потом находились предлоги и для расправ с умеренными приверженцами шариата.
Наглядной иллюстрацией такой политики в алжирском ее исполнении стали парламентские выборы 1997 года. Наибольшее число мест в парламенте тогда досталось «партии номенклатуры» – Национальному демократическому объединению, которое получило 156 мест из 231. За победителем расположилисьДвижение общества за мир (69 мест) и ФНО (62 места). Такое соотношение сил открывало перед Национальным демократическим объединением два пути: либо альянс с более близким по духу Фронтом национального освобождения, либо союз с исламистами из Движения общества за мир. Желая предотвратить опасное для себя создание парламентского блока, на которое готовы были пойти Движение и «Ан-Нахда» – еще одна исламистская партия, располагавшая 34 местами, – НДО предпочло второй вариант. Таким образом был создан «военно-исламистский правящий союз»[13], а умеренные исламисты, интегрировавшись во власть, впоследствии лишь теряли свои позиции.
На выборах 2002 года Движение общества за мир снизило свое парламентское представительство вдвое – до 38 депутатов, а «Ан-Нахда» смогла обеспечить лишь одно место. И, хотя на алжирской политической сцене к тому моменту появилось исламистское Движение национальной реформы, возглавляемое одним из самых известных мусульманских деятелей Абдаллахом Джабаллахом, положение исламистов в целом было безрадостным. Во-первых, голоса, полученные Движением национальной реформы (43 места), фактически были отобраны у партии «Ан-Нахда». Во-вторых, новое объединение было партией единоличного лидерства, и как только Джабаллах покинул своих приверженцев, оно в 2007 году смогло завоевать лишь три места в Национальной народной ассамблее. Таким образом совокупное представительство исламистов в парламенте сократилось со 103 депутатов в 1997 году до 60 в 2007 году.
Последние парламентские выборы, состоявшиеся в 2012 году, лишь подтвердили печальную для исламистов тенденцию по сокращению парламентского представительства. И «Ан-Нахда», и Движение национальной реформы прошли в Национальную народную ассамблею с огромным трудом, несмотря на тот факт, что 2012 год в странах Северной Африки был отмечен заметным подъемом исламистских настроений. Что же касается алжирских радикалов, то их популярность рухнула после 1997 года, когда они переориентировали свои террористические атаки с иностранцев, силовиков и чиновников на мирное население.
Судан: к исламской республике и обратно
В этой стране с момента обретения ею независимости в 1950-е годы исламистам не раз доводилось попробовать себя в качестве управленцев. Еще в 1983 году президент Джафар Нимейри объявил о создании в Судане исламской республики, введении исламского права и приглашении в правительство суданских «братьев-мусульман». Однако соратники президента из более умеренного Национального фронта, недовольные тотальной исламизацией, осуществили в апреле 1985 года военный переворот, в результате которого к власти пришел Абдель Рахман ад-Дахаб.
Эксперименты с «исламским государством» на этом не закончились. Под нажимом исламистов новые власти были вынуждены освободить из тюрьмы Хасана ат-Тураби, одного из лидеров местных «братьев-мусульман», ранее обвиненного в подрывной деятельности. На платформе «братьев» ему удалось создатьНациональный исламский фронт, под эгидой которого объединились многочисленные исламские группировки. На состоявшихся в 1986 году парламентских выборах это объединение заняло третье место, получив в Национальной ассамблее 51 мандат из 301. А через два года ат-Тураби и его сторонникам удалось войти в состав правительства Садыка аль-Махди и добиться восстановления законов шариата. Торжество исламистов, впрочем, оказалось недолгим: разрозненность и слабая работоспособность законодательной и исполнительной власти, а также угроза со стороны повстанцев из Южного Судана привели к очередному военному перевороту. 30 июня 1989 года к власти пришли военные, которых возглавил генерал Омар аль-Башир. Несмотря на то, что новый лидер лично симпатизировал исламистам, общественное недовольство социальными и экономическими последствиями правления «исламистского кабинета» вынудило его арестовать видных мусульманских деятелей, включая и самого ат-Тураби.
В 1990 году руководитель «братьев-мусульман» вышел на свободу и вернулся к политической деятельности. В итоге Национальный исламский фронтпревратился в наиболее сильную партию в Судане 1990-х годов. По результатам выборов 1996 года ат-Тураби даже получил пост спикера парламента, что позволило ему в очередной раз приступить к «исламскому эксперименту». Этому во многом способствовали набожность самого президента и его неослабевающие симпатии к исламистам. Однако в 1999 году между президентом и спикером произошел конфликт, следствием которого стало снижение популярности исламистских партий. На последних выборах в 2010 году из 450 мест в Национальной ассамблее 323 достались президентскому Национальному конгрессу, в то время как созданной ат-Тураби в 1999 году Партии народного конгресса пришлось довольствоваться лишь 4 мандатами. По всей видимости, суданское общество начало уставать от исламского правления, трижды на протяжении 1980–1990-х годов выпадавшего на долю этой арабской страны. Что же касается политического престижа исламистов, то без поддержки светских властей он оказался эфемерным.
Марокко: «бумажный» исламизм
Королевство Марокко отличается наличием одной из самых развитых партийных систем арабского мира. Первые политические партии здесь появились еще в 1930-е годы, однако, в отличие от Египта, где партийное строительство, уходившее корнями даже в XIX век, было прервано социалистическими экспериментами Насера, в Марокко эволюция партийной системы шла довольно ровно, а опыт создания однопартийных парламентов и массовых партий миновал эту североафриканскую страну. Взаимоотношения между властью и исламом здесь так же носили особый характер, поскольку король Марокко является представителем династии, напрямую ведущей свою родословную от пророка Мухаммеда. По словам известного российского арабиста, данный факт послужил причиной того, что «начиная с XVII века был заложен фундамент марокканской политики, который основывался на понятиях исламского законодательства и лояльности мусульманской общины духовному вождю – повелителю правоверных и потомку пророка Мухаммеда»[14].
Тем не менее, в последней трети XX века потребность в модернизации страны вынудила короля Мухаммеда V инициировать поэтапную реформу политической жизни. Этот курс был продолжен его преемником Хасаном II, которому в 1970-е годы пришлось столкнуться с подъемом исламистских настроений, захлестнувших регион. Говоря об этом, необходимо иметь в виду, что, в отличие, скажем, от Египта или Туниса, в Марокко власть априори была исламизирована ввиду особого религиозного статуса короля и преобладания умеренных исламистов в оппозиции, к которым можно отнести, например, партию «Истикляль» («Независимость»), стремившуюся совместить исламскую и европейскую политическую культуру.
Если 1970-е годы стали для Марокко периодом становления самостоятельных фундаменталистских организаций в лице Ассоциации исламской молодежи, «Авангарда ислама» и других, то следующее десятилетие ознаменовалось их открытым конфликтом с властями. При этом власть реагировала на растущую популярность исламских радикалов двойственно: подвергая их суровым гонениям, она одновременно усиливала «исламизацию сверху». Впрочем, начавшаяся в 1990-е годы гражданская война в соседнем Алжире заставила Рабат отказаться от насильственных методов борьбы с фундаменталистами и вступить с ними в диалог. На политической сцене Марокко начали появляться новые исламистские организации – «Справедливость и благодеяние», «Реформа и обновление» и другие. В конце концов, умеренным исламистам удалось пройти в Палату представителей в составе Народно-демократического и конституционного движения, которое перед парламентскими выборами 1997 года объединило представителей умеренной исламистской оппозиции. В целом эти выборы оказались для исламистов переломными. Прежде всего они привели к распаду движения «Справедливость и благодеяние», считавшегося на тот момент самой влиятельной фундаменталистской группировкой в стране. Дело в том, что многие его члены, выполнявшие роль посредников между умеренными и радикальными исламистами, присоединились к альянсу Народно-демократического и конституционного движения и движения «Реформа и обновление», который вылился в создание новой Партии справедливости и развития. Эта молодая партия на парламентских выборах 2002-го и 2007 годов сумела добиться неплохих результатов, получив соответственно 42 и 46 мест (из 325) в Палате представителей. А на последних выборах, состоявшихся в 2011 году, партия и вовсе праздновала победу, завоевав 107 мандатов. Таким образом, за последнее десятилетие главная исламистская организация смогла зарекомендовать себя в качестве общенациональной силы, ставшей одним из полюсов политического притяжения.
Вместе с тем к видимому триумфу марокканских исламистов следует подходить критически. Во-первых, полномочия местного парламента довольно узки. Во-вторых, духовный авторитет правящей династии по-прежнему высок, а большинство населения видит в ней преданного защитника исламских традиций. Так, именно по инициативе и при непосредственном участии марокканских королей в Рабате в 1969 году состоялась первая сессия Организации Исламской конференции, а марокканцы дважды избирались ее генеральными секретарями; были восстановлены «Хасановские чтения» Корана; в Касабланке была построена одна из крупнейших в мире мечетей. Принципиальный момент состоит так же и в том, что из-за крайне неоднородного этнического состава марокканского общества успех исламистов здесь возможен лишь в русле умеренной программы: именно под такими лозунгами Партия справедливости и развития победила на парламентских выборах, а ее лидер Абд аль-Иляха Бенкиран смог создать парламентскую коалицию большинства и занять пост премьер-министра. Как раз из-за этой умеренности многие марокканцы считают, что правящая партия является исламистской лишь на бумаге.
* * *
Все вышесказанное позволяет наметить главную закономерность, присущую участию исламистов во власти после «арабской весны». Длительное исключение исламистов из политического процесса, которое наблюдалось в Тунисе, Ливии, Египте и социалистическом Алжире, при первом же послаблении создает благодатную почву для распространения идей исламской справедливости и введения шариата. При этом беспрепятственный допуск исламистов в органы власти, какой имел место в Судане или в послевоенном Алжире, как правило, заметно снижает привлекательность их популистской риторики. Особенно это становится заметным после того, как у них появляется возможность проводить собственную политику. Неспособность исламских правительств решать сложнейшие структурно-демографические и социально-экономические проблемы, вооружившись инструментарием Корана и Сунны, обычно ведет к разочарованию народных масс, что подтверждается опытом Алжира, Судана и, в последние месяцы, Египта. Чтобы гарантировать себе иную альтернативу, исламистам приходится отказываться от популистских лозунгов, реализуя «исламский путь» в основном на словах, как это и делает правящая партия Марокко.
Неизбежно приходя к власти после долго периода гонений и репрессий, исламисты автоматически попадают в опасные тиски. С одной стороны, расширяя и углубляя политику исламизации, они еще более ухудшают экономическую ситуацию, а это влечет за собой обвал их популярности и отождествление «исламского порядка» с бедностью и стагнацией. С другой стороны, технократический крен и проведение политики лишь с минимальной оглядкой на религиозные догматы столь же неминуемо означает раскол в их лагере. Это размежевание в свою очередь ослабляет позиции исламистов, выталкивая радикалов на дорогу насилия, лишая тем самым их политической легитимности.
[1] Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году.
[2] Цит. по: Видясова М.Ф. Тунисская модель: «демократия без исламистов» и «ограниченный плюрализм» // Современная Африка: метаморфозы политической власти / Под ред. А.М. Васильева. М.: Издательство восточной литературы, 2009. С. 26.
[3] Подробнее об этом см.: Исаев Л.М. Демократическая зима в Северной Африке // Неприкосновенный запас. 2011. № 3(77). С. 176–188.
[4] Сапронова М.А. Тунис: исламисты у власти. Новое правительство сдает экзамен на политическую зрелость // Военно-промышленный курьер. 2013 № 10 (http://vpk-news.ru/articles/14866).
[5] Аль-Хабиши А. Почему Братья-мусульмане ненавидят Гамаля Абдель Насера? // Middle East Transparent. 2008. 13 января (www.middleeasttransparent.com/article.php3?id_article=3389).
[6] Beattie K.J. Egypt during the Sadat Years. New York: Palgrave, 2000. P. 197.
[7] Видясова М.Ф. Египетская модель: демократизация на фоне чрезвычайного положения // Современная Африка: метаморфозы политической власти. С. 126.
[8] Капель Ж. Джихад: экспансия и закат исламизма. М.: Ладомир, 2004. С. 35.
[9] Подробнее см.: Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Египетская смута XXI века. М.: Либроком, 2012.
[10] Сапронова М.А. Конституционное развитие Алжирской Народно-Демократической Республики на современном этапе. М.: МГИМО, 1999. С. 32.
[11] Moussa R.H., Beaudet P. Démocratie et mouvements associatifs en Algérie. Montréal: CEAD, 1995. P. 6.
[12] Ланда Р.Г. История Алжира: XX век. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. С. 214.
[13] Орлов В.В. Алжирская модель: от гражданской войны к «направляемой демократии» // Современная Африка: метаморфозы политической власти. С. 78.
[14] Он же. Марокканская модель: монархия и ислам в условиях многопартийности // Современная Африка: метаморфозы политической власти. С. 93.
Опубликовано в журнале:
«Неприкосновенный запас» 2013, №5(91)
Жертвами нападения на комплекс зданий минобороны Йемена в четверг стали 52 медицинских работника, в том числе граждане ФРГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на йеменскую службу безопасности.
По уточненным данным, ранения получили 162 человека.
Ранее сообщалось, что боевики казнили 11 врачей и пациентов в военном госпитале, расположенном на территории комплекса, а общее число погибших военных и гражданских лиц в результате этой атаки составляло, по предварительным данным, 25 человек. Военные источники также сообщали о 30 ликвидированных боевиках.
Неизвестные, переодетые в военную форму, в четверг утром подорвали заминированный автомобиль у ворот минобороны в районе Баб-эль-Йемен в центре йеменской столицы Саны, затем на территорию комплекса проник еще один заминированный автомобиль, который подорвался у военного госпиталя. За взрывами последовало вооруженное нападение.
Йемен стал в среду 160-м членом Всемирной торговой организации (ВТО) после подписания соответствующего протокола в ходе проходящей на индонезийском острове Бали девятой министерской конференции организации.
"Каждое присоединение приближает нашу организацию к ее главной цели - универсальности", - заявил на церемонии генеральный секретарь ВТО Роберто Азеведо. "Ваше (Йемена - ред.) присоединение также ускорит проведение далеко идущих внутренних реформ, которые осуществлялись на протяжении последних 13 лет", - добавил он.
Йемен подал заявку на присоединение к ВТО в апреле 2000 года и начал формальные переговоры по этому вопросу девять лет назад.
За последние два года к ВТО присоединились, помимо Йемена, шесть новых членов: Российская Федерация, Вануату, Лаос, Самоа, Таджикистан и Черногория. Однако, несмотря на расширение, ВТО, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений, переживает сейчас не лучшие дни. Попытки добиться прогресса в рамках Дохийского раунда торговых переговоров, который длится уже больше 12 лет, пока не имели успеха.
Предложенный на нынешней встрече намного более скромный Балийский пакет договоренностей также уже встретил сопротивление ряда стран-членов ВТО, в частности, Индии. Между тем, все решения организации традиционно принимаются только на условиях консенсуса всех участников встречи. Михаил Цыганов.
Неизвестные в Йемене расстреляли парламентария, который являлся представителем шиитского сепаратистского движения "Аль-Хуси" в рамках общенационального диалога, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей движения.
"Двое вооруженных мужчин открыли огонь по депутату парламента Абделькариму Джадбану (Abdel Karim Jadban), когда он выходил из мечети в (столице Йемена) Сане", - цитирует Франс Пресс слова источника. По информации агентства Рейтер, убийцы скрылись с места происшествия на мотоцикле. Других подробностей случившегося не сообщается.
С конца октября в Йемене не прекращаются вооруженные столкновения между салафитами и представителями шиитского движения "Аль-Хуси", которые уже привели к гибели десятков человек с обеих сторон. Салафиты обвинили боевиков "Аль-Хуси" в развязывании столкновений и применении тяжелого оружия - "артиллерии и танков" - при обстреле салафитского селения Дамадж. Члены "Аль-Хуси" заявили, что в Дамадж прибывают сотни боевиков из-за рубежа, а также что иностранцы превращают селение в военный лагерь, что является "вопиющим нарушением суверенитета страны".
Вооруженные столкновения между шиитами группировки "Аль-Хуси" и йеменскими салафитами периодически вспыхивают с 2011 года. Последняя вспышка вооруженных столкновений на севере Йемена происходит на общем фоне осложнения ситуации с внутренней безопасностью в стране. На юге страны не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды", а начатый после прихода к власти в 2012 году нового президента Абд Раббо Мансура Хади общенациональный диалог с целью выработки новой конституции страны до сих пор не привел к каким-либо положительным результатам.

Любовь с первого взгляда
Голландские заметки туркменского писателя. С туркменского. Перевод Сергея Баймухаметова
Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ
Тиркиш Джумагельдыев (род. 1938) — туркменский прозаик. Начал печататься в 1957 г. Автор многих повестей и романов. Во времена СССР был постоянным автором “ДН”. В годы правления Сапармурата Ниязова его имя было вычеркнуто из туркменской литературы, каковым остается и по сей день. В ДН № 4, 2011 был опубликован роман Т. Джумагельдыева «Энергия страха, или Голова желтого кота» (перевод С. Баймухаметова), вызвавший внимание российской и зарубежной критики, но все еще умалчиваемый на родине писателя.
Ура, я лечу в Амстердам!
Выпустили… Я лечу из Москвы в Амстердам. После долгой вынужденной разлуки увижу младшего сына Бегенча, увижу внуков. Они уже несколько лет живут в Заандаме, внуки ходят в школу. Когда звонил им из Ашхабада, все время спрашивали: «Ата (дедушка), почему ты не приезжаешь к нам?» Что я мог ответить? Да еще зная почти наверняка, что телефон прослушивается. Я молчал или говорил: «Приеду, обязательно приеду!» Они же маленькие, не поймут, даже если рассказать.
На глаза наворачиваются слезы. Мне 75 лет. Я стал сентиментальным. В радости или грусти любой человек сентиментален.
Почти двадцать лет меня держали в клетке. Раньше выпускали на время, позволяли раз в два года выезжать в Москву, к старшему сыну. А в последние десять лет заперли наглухо. Говорили: «Нельзя». Спрашивал: «Почему?» Не отвечали. Но за молчанием явственно читалось: нельзя значит нельзя, вы же не маленький, человек в возрасте, и должны понимать, раз не пускают, значит, в чем-то виноваты.
И вот — выпустили! Приехал в Ашхабадский аэропорт имени великого вождя всех туркмен мира Сапармурата Туркменбаши. Самого его давно уже нет на свете, а имя и учение еще живы. Бог с ним, меня выпустили!
На паспортном контроле, конечно, переволновался. Объявили по громкой связи: «Лиц, имеющих двойное гражданство, просят подойти к стойке номер…». Это для меня, у меня туркменский и российский паспорта. Просматривают их очень тщательно. Жду. А вдруг скажут: «Произошла ошибка, вам вылет запрещается!»
Не меньше десяти минут проверяли. И сказали: «Проходите». Значит, лечу в Москву. Десять лет ждал. Лечу!
Меня встретил сын Байрам. Москва! Мой любимый город вот уже 40 лет. Здесь были опубликованы мои повести, переведенные на русский язык, здесь живут мои друзья. Здесь уже 25 лет живет Байрам. Здесь после окончания института работает мой старший внук Тахир, сын Байрама.
А сегодня, 3 мая, лечу в Амстердам. Невестка Алина специально прилетела за мной из Амстердама. И теперь сопровождает меня. Я ведь не знаю ни английского, ни голландского языка.
Думая об Амстердаме, представляю Петербург. Известно, Петр Первый основал и построил свою новую столицу по образу и подобию Амстердама. В советские времена я несколько раз приезжал в Ленинград, теперь увижу Амстердам! Буду ездить по Голландии, Бегенч сказал: «Мы составили специальную программу, увидишь всю страну, она ведь небольшая».
О Голландии, ее литературе мало знаю, к стыду моему. Да, Шарля де Костера читал, его великий роман о Тиле. Возрождение, Золотой век, Эразм Роттердамский… Его «Похвала глупости» есть в моей домашней библиотеке, но не читал, руки не дошли. Позор. Слышал о дневнике еврейской девочки Анны Франк, но не читал. Стыдно! Правда, знаком с голландской живописью. Увижу картины Рембрандта, Вермеера, великого страдальца Ван Гога, поезжу по его местам.
Слава Богу, лечу не как турист, и, особенно, не как советский турист. Помню, в конце семьдесят третьего года летал в Турцию, в составе группы Общества дружбы с зарубежными странами. Это было удивительно, не верилось. Меня, туркменского писателя, не члена коммунистической партии, пустили в Турцию. Ведь Турция для нас была особой страной. Представьте, до меня там был только Берды Кербабаев, аксакал туркменской советской литературы, так было принято говорить. Конечно, перед отъездом из Москвы нас пригласили на Старую площадь, в ЦК КПСС, провели специальную беседу: как себя вести в этой загадочной, не очень дружественной нам стране. Сказали: там даже воздух пахнет проклятым пантюркизмом.
В Турции я записывал услышанное, увиденное, после поездки опубликовал путевые заметки. Постарался дать побольше информации для нашего совет-ского человека. И, конечно, надо было акцентировать, что мы живем в самом лучшем, самом справедливом обществе и государстве.
В 1978 году, перед поездкой во Францию, позвонил сотрудник республиканского КГБ, попросил разрешения приехать ко мне домой. Их было двое, один русский, а другой туркмен, оба в штатском, разумеется. Назвали свои фамилии, сказали, что по званию подполковники. Показалось, по интонации, что давали понять: «Вот какие чины пришли!» Говорил только русский, туркмен ни слова не произнес.
Русский подполковник начал с того, какой я талантливый и уже известный молодой писатель (хотя мне было сорок лет), меня знают в Советском Союзе, теперь моим книгам, через переводы на русский, открыт путь к зарубежным читателям. Конечно, эти слова ласкали мой слух, но я сидел в тревожном ожидании: не хвалить же меня пришли два офицера КГБ.
Наконец подполковник перешел к делу. Сказал: теперь вы будете часто ездить за рубеж, вас будут приглашать на встречи, брать интервью. И нельзя ли попросить вас, если будет необходимо, встречаться там кое с кем?.. В общем, вербовали. Ну, я привел главный аргумент: какой с меня толк, я ведь не знаю ни одного иностранного языка. Подполковник заверил: вы молодой, есть возможность изучить, например, английский. Нет, говорю, я и русский-то плохо знаю, так что английский для меня вообще недоступен. Кагэбешник, однако, настаивал: не беспокойтесь, при необходимости подключим переводчиков. Я набрался духу и решительно сказал: нет, не смогу, избавьте меня от иностранцев, при них я теряюсь.
Тогда подполковник перевел разговор на другое. За месяц до того я дважды находил в почтовом ящике конверты с явно провокационными текстами, без указания автора или других выходных данных. Ясно было, что напечатано за рубежом. Я прочитал, отложил в сторону. Потом услышал, что такие же конверты получили и некоторые другие писатели — и отнесли их в КГБ. Я отнес свои в отдел кадров Союза писателей, которым тогда заведовал бывший работник КГБ. Он посоветовал мне самому отдать их в комитет, но я оставил их у него.
И теперь подполковник начал спрашивать: кто бы мог сделать это, откуда? Я ответил: на конвертах нет почтовых штемпелей, их просто бросили в мой ящик. «А как они узнали ваш адрес?» — спросил подполковник, почему-то покраснев. Не то от смущения, не то от раздражения. Я достал с полки большую книгу — справочник Союза писателей СССР. Там имена и адреса десяти тысяч членов СП. И моя фамилия, и адрес.
Два подполковника ушли молча. А я сказал себе: «Прощай, Франция!»
На следующий день встретил в Союзе писателей подполковника-туркмена. Он увел меня в пустой кабинет и сказал: «Генерал сожалел, очень сожалел!» О каком генерале речь, я не спросил. У нас было два генерала в КГБ. Председатель комитета — русский, и его заместитель — туркмен.
Удивительно, но в тот раз я поехал во Францию, в группе Общества дружбы с зарубежными странами. А потом на десять лет меня сделали невыездным. Лишь в 1989 году съездил в Ирак, по линии Союза писателей СССР.
А через два года Советский Союз распался. И в независимом от Москвы Туркменистане царем и богом стал бывший первый секретарь ЦК Сапармурат Ниязов, названный Великим Туркменбаши в нашей стране и диктатором — во всем остальном мире. Однако у нас было немало людей, которые чуть ли не гордились культом. Может, дело в том, что туркмены всегда воспевали и прославляли героя. Кер-оглы — культовый герой национального эпоса. И тут вроде как новый герой, национальный вождь! Воспевайте, прославляйте!
Молчание — знак согласия, но только не для писателей, тем более — туркменских. Туркменский литератор должен был воспевать и прославлять Туркменбаши Великого. А я — молчал. Значит — диссидент, враг. Меня вычеркнули из туркменской литературы. Новое поколение, наверное, даже имени моего не слышало.
Но довольно вспоминать мрачные дни. Я лечу в Амстердам. В страну, которая дала возможность свободно жить моим детям и внукам. Даже не знаю, как их называть. Эмигрантами? Для туркмена это странно. Туркмены и в совет-ские времена никуда не переселялись даже в пределах СССР. Теперь их можно встретить в Азии, Европе, США. А вот я не уехал, свободу ждал в родной стране. И стал, наверное, внутренним эмигрантом? На родной земле. Чего только не бывает на обломках империи! Родная страна отталкивает своего гражданина, становится чужой, как будто в ней поселились незнакомые тебе люди. А ты уже в годах, твое единственное желание — быть похороненным в этой земле, где могилы близких. Главным связующим звеном становится кладбище.
Мой старший сын — гражданин Российской Федерации, приезжает в родную страну как иностранец, каждый раз ждет разрешения, визы.
А младший, Бегенч, с семьей живет здесь, в Нидерландах, работает в центральном офисе организации «Врачи без границ». Она создана на деньги простых граждан Голландии, оказывает гуманитарную и медицинскую помощь жертвам военных конфликтов, природных катаклизмов, эпидемий и опасных болезней в странах Азии, Африки, Южной Америки и даже Европы. В странах, где столкновения на религиозной почве, гражданские войны, произвол полицейских режимов. Эти государства и на свои средства могут прокормить и обеспечить население медицинской помощью, но деньги уходят на счета их диктаторов в иностранных банках. А тот мизер, что выделяется на нужды детей, стариков, инвалидов, подается их прессой как великое благодеяние.
Здесь, в Нидерландах, о работе общественных фондов, созданных на пожертвования голландцев, не говорят, не афишируют их. По христианским понятиям, милосердие оглашению не подлежит. В романе Кнута Гамсуна герои обсуждают помощь голодающим, которую организовал Лев Толстой, о чем тогда широко писали в газетах, говорят, что это не по-христиански.
Кроме сбора материальных средств сотни добровольцев оказывают практическую помощь больным, голодающим. Почему они оставляют благополучную европейскую жизнь и едут туда, где война, кровь, грязь, страдания, горе, риск для жизни? Только человеческое сострадание. Оно выше всего. Никто из добровольцев не считает себя героем, они поступают так, как подсказывает их внутреннее убеждение. И даже отдают за него жизнь.
В центре Амстердама, рядом с офисом «Врачей без границ», под большой чинарой установлена памятная плита с именами сотрудников организации, погибших в Афганистане и Сомали. Чинара — символ долголетия, значит, символ долгой памяти. Благодарная память, как чинары на земле, долго живет в сердцах настоящих людей.
Каждый раз, когда Бегенч едет в Афганистан или Пакистан, нашу семью охватывает ужас. Однажды я сказал: брось это, не рискуй жизнью. Он ответил: «Это моя работа, она мне нравится».
В интернете нашел дневник Линды Бетман, акушерки из Ланкашира (Великобритания), она в 2006 году работала на афганско-пакистанской границе, оказывала помощь афганским беженцам.
«Наш логистический координатор Бегенч Джумагельдыев также известен как "сумасшедший парень", — пишет Линда. — Ему 34 года, он родился в Ашхабаде, в Туркменистане, который входил в Советский Союз до его распада в 1991 г. У него двойное гражданство, туркменское и российское, а также две работы, поскольку он является логистическим координатором в Пакистане и в Туркменистане, проводит по месяцу в каждом из этих мест — очень трудный режим. Мне кажется, только такой человек, как Бегенч, может это выдержать. У него есть жена Алина и пятилетний сын, в декабре они ждут второго ребенка. Его семья, в том числе и родители, живут в Туркменистане, но Алинины родители живут в Москве, поэтому они некоторое время проводят там. Бегенч присоединился к MSF ("Врачи без границ") в 1999 году и работал в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, в том числе в Кашмире... Бегенч очень энергичный человек, он работает и разговаривает в режиме нон-стоп, отсюда и его прозвище. Когда Бегенч рядом, скучно и тихо никогда не бывает! Он говорит на туркменском, русском и английском, его английский очень выразительный, а о других языках я не знаю. Среди его хобби чтение русской, японской, скандинавской классиче-ской литературы, но самая большая любовь (за исключением семьи, конечно) — это футбол. Его любимые команды — "Спартак" (Москва) и "Челси" (Англия). Сейчас Бегенч в Туркменистане, поэтому в Исламабаде очень тихо!..»
Сегодня Бегенч курирует логистику в миссиях MSF в Пакистане, Бангладеш, Южном Судане, Мабане (часть Южного Судана), Афганистане (провинция Гельманд) и Йемене. Не отрываясь от основной работы, окончил Университет Гламоргана (Великобритания) по международной коммерческой логистике.
В Туркменистане он после университета и аспирантуры написал кандидат-скую диссертацию по биологии, готовился к защите. И тут «наш великий вождь всех туркмен мира» Сапармурат Туркменбаши закрыл Академию наук, научные советы. По его учению, они вредны туркменам как пережитки советских времен. Потом на территории Туркменистана закрыли программу «Врачи без границ». Бегенч со своей семьей уехал и живет в Голландии, занимается любимым, очень нелегким и одновременно опасным делом.
Я лечу в Амстердам, в Голландию, страну, в которой живут люди, способные понять страдания человека, помочь ему.
Парк тюльпанов
Нидерланды знамениты тюльпанами. Об этом я столько слышал, читал, смотрел документальный фильм. Нидерланды — удивительная страна. Половина ее территории лежит ниже уровня моря, то есть отвоевана у моря. И на этой рукотворной земле сельское хозяйство, в котором занято около 1 процента населения, приносит стране ежегодно 12 миллиардов евро. Только тюльпаны дают больше одного миллиарда. Население Нидерландов — 17 миллионов.
Мы ездили в парк тюльпанов в солнечный день. В мае такая погода здесь бывает редко.
Кекенхоф в городке Лиссе, всемирно известный как Парк тюльпанов, раскинулся на территории в тридцать два гектара. Попробуйте представить — тридцать два гектара тюльпанов! Он открыт для посетителей с 20 марта до 24 мая, в разгар цветения. За 64 года здесь побывало больше 50 миллионов человек.
Меня ошеломляет, поражает не только разноцветье тюльпанов, но и разнообразие людей. Я смотрю на них, и меня охватывает удивительное чувство. Кажется, на нашей земле все вдруг стало прекрасно, исчезли страдания, слезы, горе, нет расовых различий, религиозной нетерпимости, межнациональной ненависти. Потому что люди со всех концов мира приехали сюда — посмотреть на тюльпаны. Вспоминаю стихотворение балкарского поэта Кайсына Кулиева «Женщина купается в реке». Женщина купается, и вокруг устанавливается великая тишина, никто и ничто не осмеливается нарушить эту тишину. Сейчас для меня каждый тюльпан — прекрасный образ той женщины. Красота объединяет людей. Кажется, они с тихим восторгом смотрят не только на тюльпаны, но и друг на друга, как будто неслышно говорят друг другу: я тоже восхищаюсь тем, чем восхищаешься ты, твоя радость — моя радость. У всех на лицах — легкие улыбки. Они хотят сохранить это прекрасное мгновение, фотографируются на фоне тюльпанов. Говорят, парк тюльпанов — самое фотографируемое место на планете. Этот вечный миг дарит земля Нидерландов, спокойная, богатая земля, неотделимая от красоты ее тюльпанов. Они достойны друг друга.
Красота объединяет людей. Помню, в 1978 году мы с моим другом, талантливым композитором Чары Нурымовым, слушали орган под сводами Нотр-Дам в Париже. Казалось, божественная музыка соединяла людей в одно целое.
Здесь, в парке тюльпанов под ясным небом, музыка цветов, радуга на земле из миллионов тюльпанов. Как волшебный узор в текинском ковре. Как яркие подсолнухи, которые перенес на холсты Винсент Ван Гог.
Цветы Винсента Ван Гога
Этим летом после реставрации открылся музей Ван Гога. Садоводы, выращивая тюльпаны, вкладывают умение, труд, знание. Ван Гог, создавая свои цветы, вкладывал страдания, они питали его талант.
Природа живет по своим законам, искусство рождается из страданий. Без понимания этого нельзя понять Ван Гога. Вот его подсолнухи, вот цветущий миндаль. Красиво, прекрасно! Но эту красоту невозможно соотнести с тюльпанами, выращенными на природе. Любуясь ими, мы на какое-то время забываем свои невзгоды. Глядя на полотна Ван Гога, погружаемся в страдание.
Смотрю на людей в музее и думаю: все ли они знают, в каких муках рождались эти шедевры? Может, какая-то часть не знает, и знать не хочет. Не для того пришли сюда. Сегодня Ван Гог — такой же бренд, как парк тюльпанов. Если ты в Нидерландах, обязательно должен попасть в парк и музей Ван Гога, сфотографироваться там.
Не знаю в мировой культуре другого человека с такой трагической судьбой, как у Ван Гога. Непонятый, отвергнутый, одинокий, больной скиталец. Временами он выл от безысходности. Выйдя из клиники для душевнобольных, поселился в Овере, небольшой деревне возле Парижа. Когда узнал о неизлечимой болезни младшего брата Тео, единственного человека, который понимал его и поддерживал, Винсент Ван Гог решил поставить последнюю точку в своей земной жизни. В книге Анри Перрюшо «Жизнь Ван Гога» описывается тот роковой день — 27 июля 1890 года. Предсмертный монолог его на пшеничном поле по силе сравним с монологами древнегреческих и шекспировских трагедий. А потом — пуля в грудь. Умер в больнице. По свидетельству младшего брата, последними словами художника были: «Печаль будет длиться вечно».
Побывал я в городке Нюэнен. Здесь Ван Гог в 1885 году написал «Едоков картофеля». И не только. В Нюэнене он создал 194 картины. За два года.
Сегодня это уютный, чистый, тихий городок, в двух часах езды на машине от Амстердама. Солнечный, безветренный день. Много туристов. Здесь культурный центр, который, конечно, носит имя Ван Гога. Городок живет и дышит им. Повсюду продаются сувениры, репродукции картин. Обычное явление в нынешнем мире: имя Ван Гога — бренд. Торговая марка.
Конечно, за 130 лет городок изменился. Но сохранились некоторые дома из той жизни. Вот протестантская церковь, в которой служил пастор Теодор Ван Гог — отец Винсента. Его перевели сюда в 1883 году. Вот трехэтажный дом, где жила его семья. От дома до церкви — пять минут пешком. Представляю знакомый по картине облик строгого на вид священника, как идет он по улице, здороваясь с прохожими. По воспоминаниям, он был приятным, мягким человеком, внимательным к своим прихожанам, открытым. Только с сыном Винсентом не смог найти общий язык. Отец хотел, чтобы он продолжил семейную традицию, стал священником. Винсент тоже хотел, учился в миссионерской школе, но потом отказался от стези священнослужителя. Он родился художником, он смотрел на людей, на жизнь глазами художника, творца. Отец считал его занятия живописью несерьезным делом, а уж его манеру рисования и вовсе не признавал. И не только он. Никто из окружающих не признавал в нем художника. Винсент рисовал дома, мельницы, поля и леса, крестьян, ткачей и шахтеров, но они были совсем не похожи на тех, кого люди обычно видят. Винсент дарил рисунки — их выбрасывали. Винсент все равно рисовал, неустанно, одержимо — его считали чуть ли не сумасшедшим. В это время он и создал «Едоков картофеля». Говорили, что людей так не рисуют, они какие-то несимпатичные, смешные, сидят и едят картошку. Ну пусть едят, что здесь особенного, значительного, чтобы воссоздавать их на холсте? Другое дело — короли, герцоги, батальные полотна. А это — пачкотня, этими холстами только дыры на чердаке затыкать.
Сегодня маленькая улочка в городке Нюэнен называется «Едоки картофеля». Именно здесь дом, в котором они жили. Ели картошку. И ткачи Ван Гога тоже жили здесь. Некоторые дома сохранились, а тогдашний облик городка навеки запечатлен в картинах Ван Гога. С тех пор прошло 130 лет. Многое изменилось. Теперь Винсент Ван Гог — не полусумасшедший никчемный мазила, а слава и торгово-туристическая марка Нюэнена. Перед культурным центром — бронзовый памятник художнику, он идет по улице, прижимая к боку альбом для этюдов. Идет рисовать, невзирая на насмешки окружающих.
Сегодня потомки тех окружающих гордятся им. Изменился и еще изменится городок, туристов станет больше, художника будут прославлять еще громче, цена его картин вырастет. А Ван Гог каким был, таким и остался навсегда, — размышляю я, сидя возле памятника. Вдруг он превращается в князя Мышкина, героя романа Федора Достоевского «Идиот». Когда он вернулся в Россию, никому не известный, скромный, болезненный на вид молодой человек, его не заметили. А когда начал говорить правду об окружающем мире, обществе, — над ним стали насмехаться, записали в идиоты. Примерно то же с горечью писал Винсент Ван Гог в письмах к брату Тео — о нравах, глухоте и слепоте общества, о том, что стал чужим для своей семьи, для своей страны.
Но стоило князю Мышкину получить огромное наследство, как отношение к нему резко изменилось, он стал значительным, уважаемым человеком. Ван Гог умер в нужде, но оставил огромное наследство. Сейчас оно выражается в конкретных цифрах, в оценке его картин, в рыночно-туристической инфраструктуре, созданной вокруг его имени, приносящей стране доход. Сегодня Ван Гог — гордость Нидерландов.
Городок Нюэнен заполонен туристами из разных стран. Гуляют, сидят в кафе, наслаждаются солнечным, теплым днем. А бронзовый Ван Гог, как и в прошлом, уходит от людей, туда, где поля, леса, водяные и ветряные мельницы.
Ван Гог уходит. Он в свое время не успеха добивался — хотел понимания. Тогда на него, идущего за город, прижимающего к боку альбом для эскизов, смотрели с насмешкой. А сегодня бронзовый Ван Гог в центре почтительного, благоговейного внимания. Но кажется, что сам он воспринимает это с иронией, как будто отстраняется, уходя своей дорогой — дорогой скитальца-художника, душа которого ищет свет. Обрел он его в конце жизни, поселившись на юге Франции. С этого момента исчезла безысходность, картины его наполнились светом. Ван Гог — светлый художник.
И еще можно сказать, что все невзгоды преодолел и победил его могучий талант. Винсент в переводе с латыни — «Победитель».
Красные фонари
Еще в XVI веке магистрат Амстердама отдал отдельный квартал города в полное владение «жрицам любви», обязав их платить налог в виде 1 талера.
И ныне проституция в Нидерландах легальна: работники секс-индустрии платят налоги и зарегистрированы в Коммерческой палате. Однако уличная торговля телом запрещена: в квартале Красных фонарей вы не увидите девушек, стоящих «на панели» — они в специальных подсвеченных витринах. Фотографировать здесь запрещено: говорят, многие девушки ведут двойную жизнь, втайне от родных и близких.
Квартал Красных фонарей в Амстердаме — туристическая достопримечательность, входит в каждую экскурсионную программу. В тот вечер моим гидом был мой сын Бегенч.
Семидесятипятилетний писатель и его сорокалетний сын идут по улицам, где светятся красные фонари. Идут и смотрят, что происходит вокруг.
В 1960-е годы у нас, в закрытых для широкой публики Домах кинематографистов показывали фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Рим пятидесятых годов, журналист Марчелло приводит своего отца, который приехал из провинции, к знакомым проституткам. Тогда смотреть на это было забавно, смешно, немного неловко, стыдно. А теперь не кино — реальность. Обыденность. Сын просто показывает отцу одну из достопримечательностей города. Не тайный уголок, а квартал, занимающий большую территорию: магазины, рестораны, кафе, жилые дома, театры, даже собор.
Вспоминаю 1978 год, нашу специальную туристическую группу из Общества дружбы с зарубежными странами отправили в Париж. Планировались официальные мероприятия, строгая программа. Тем не менее три человека: я, мой друг-композитор и профессор-хирург тайно поехали на Пигаль, квартал красных фонарей вокруг площади Пигаль. Слышали, что это самое злачное место ночного Парижа. Ну как же не посмотреть своими глазами на аморальный облик загнивающего капитализма!
Представьте наше положение. Не знаем ни французского, ни английского языка, в кармане ни гроша. При этом надо еще прятаться от своих. Ведь в каждой группе есть, и не один, наверное, осведомитель. Мало того, что обвинят в аморальности, так еще страшнее — заподозрят наличие иностранной валюты!
Мы воровато прошли по району Пигаль, посмотрели на обнаженных женщин, красующихся в стеклянных витринах, зашли в секс-шоп, где торговали сами знаете чем. Боже мой, какая мерзость, стыд! Разве мог я тогда представить, что через 25 лет в тоталитарном Туркменистане, где все чиновники на каждом шагу только и говорят, что о вере, Аллахе и Коране, на улице ночного Ашхабада, окутанного страхом, будут стоять женщины «на панели». А у нас ни тогда, ни сейчас еще не наступила эра загнивающего капитализма, который так вкусно пахнет.
Я хожу по улице Красных фонарей в Амстердаме, все это вижу своими глазами. У меня нет потрясения, как в тот раз, тридцать пять лет тому назад в Париже. Просто смотрю на витрины, вижу красивых голых женщин. Они ничем не отличаются от красивых товаров, которые украшают витрины магазинов. Живой товар. Они потеряли таинственность, которая делает женщину желанной не только телом, а любовью, душой. Я не могу представить товаром женщину — источник вдохновения, источник чистоты, красоты. Может быть, женщины в витрине спрятали все эти качества глубоко в сердце, а на время «работы» надели маску?
Законодательство об оказании интим-услуг окончательно оформилось в Нидерландах к 2000 году. У проституток свой профсоюз, защищающий их права. А тем, кто решил оставить сомнительную профессию, помощь в дальнейшем устройстве жизни оказывают государственные социальные службы.
Опрос жителей Амстердама показал, что около 70 процентов не одобряют сексуальный туризм в их город, выступают за то, чтобы закрыть квартал Красных фонарей. Но понятно, что тогда проституция уйдет в подполье. А где подполье — там расцветает криминал. Пример тому — тайные публичные дома в городах России. А уж в восточных республиках бывшего СССР проституция — это жестокая преступность и трагедии беззащитных женщин. Так что установленный в Нидерландах порядок можно считать оптимальным.
Кофешоп
Нидерланды — одна из первых стран, где законодательно разрешили однополые браки. Без шума, митингов. Значит, правительство и народ проявили мудрость и терпимость в понимании проблем людей, которые живут рядом и составляют часть народа. Точно так же приняты закон о проституции и опиумный закон, предотвращающие возникновение нежелательных ситуаций — так считают в Голландии. Можно сказать, Нидерланды опережают события? Здесь основную роль играет принцип: каждый человек — часть общества.
Опиумный закон принят еще в 1928 году, он определил правила работы с наркотическими средствами и ответственность за нарушения. Со временем в него вносились новые и новые поправки, а в конце шестидесятых годов прошлого века был принят подзаконный акт, до сих пор вызывающий неоднозначное отношение и официальных кругов Европы, и некоторых голландских граждан. Акт не легализует наркотики, как повсеместно утверждается у нас, но указывает границу между «запрещенным и наказуемым» и «запрещенным, но ненаказуемым». В кофешопах продажа легких наркотиков не преследуется. При соблюдении ряда ограничений, при строгом контроле.
Захожу в один из них, с экзотическим названием «Али-Баба». Я вообще-то даже дыма сигарет не выношу. Но чего не сделаешь из любопытства. Замечаю, что меня охватывает чувство легкого стыда: раз я сюда зашел, значит, тоже анашист? А если не буду курить, то что я здесь делаю, кто такой? Подумают, что я переодетый полицейский? А если спросят, не смогу объяснить, ни английского, ни голландского языка не знаю. Лучше уйти.
Кофешоп окутан дымом, чувствуется отличие его от табачного. И надо же, этот запах на миг перенес меня в пятидесятый год, было мне тогда десять лет. Наш сосед в ауле, старый наркоман, курил анашу, все время что-то громко рассказывал о народных богатырях, потом начинал петь. С каждым днем становился злее, скандалил, нападал на людей. Потом приехали из города милиционеры и забрали его. Однажды мы, мальчишки, попали к нему в дом. При нас он набрал горсть травы из мешка, измельчил ее и бросил в алюминиевую миску, заполненную горячей золой. Трава начала дымить, а он трубкой, сделанной из камыша, втягивал дым. Тогда и я надышался, закружилась голова, я выбежал из дома и меня долго тошнило.
Какое удовольствие получали сидящие в кофешопе «Али-Баба», не знаю.
Свободная продажа марихуаны в кофешопах — постоянный предмет острых дискуссий в Нидерландах. Многие считают, что из-за нее страна превращается в рай для наркоманов Европы, вал наркотуризма влечет за собой рост преступности. В прошлом году власти трех южных провинций — Лимбурга, Зеландии и Северного Брабанта — запретили продажу марихуаны иностранцам. Естественно, кафе не получали прежней прибыли, некоторые закрылись, потому что основными посетителями были иностранцы. Запрет продержался с мая по ноябрь. В конце прошлого года новое правительство отменило его. Но мало того — как раз в дни моего пребывания в этой стране суд в Гааге вынес решение — правительство должно компенсировать убытки, понесенные хозяевами кафе. Вот такая это страна — Голландия…
И несколько слов — о единственном в мире музее конопли, открытом в 1985 году. Там я узнал, что, согласно французскому трактату XVIII века, «нет более полезного растения для человека, чем конопля, от нее даже больше пользы, чем от кукурузы»... Одна из целей вторжения Наполеона в Россию — получить доступ к российской конопле и перекрыть ее поставки военно-морскому флоту Великобритании... В Китае еще в I веке использовали коноплю в качестве сырья для производства бумаги… Фирма Hemp Flax выпускает текстильные волокна, которые заменяют хлопок… Конопля — лучшая экологическая альтернатива хлопку, поскольку ей не нужны химические удобрения, ее выращивание существенно повышает качество почвы… На сегодняшний день из конопли изготавливают более 50 тысяч товаров.
Размышление в уютном городе
Город Заандам в России называли Саардам. В середине позапрошлого века в России популярной книгой для детей и юношества была повесть Петра Фурмана «Саардамский плотник». Всем ясно, о ком и о чем речь.
Если в названии города есть «дам», значит, землю под него отвоевали у моря, воздвигнув дамбы: Амстердам, Роттердам, Заандам, на берегу реки Заан...
Ветряная мельница — одна из визитных карточек края. С начала XVII по XIX век тысячи ветряных мельниц пилили древесину из Скандинавии, Прибалтики и Германии. Есть здесь и выставка мельниц, они увековечены в картинах Клода Моне — «Мельница в Заандаме» и «Мельницы возле Заандама».
В 1697 году в Саардаме, в доме кузнеца Геррита Киста снимал комнату русский плотник Петр Михайлов, работавший на местной судоверфи — в то время здесь строили едва ли не лучшие в мире торговые корабли. Через двадцать лет Петр Первый приехал в Саардам, пришел к домику, где когда-то жил. Но им владел другой хозяин, а Кист обеднел, работал по найму в чужой кузне. По преданию, Петр пошел туда, но Кист отказался выйти к нему, заявив, что русский царь еще тогда недоплатил ему за постой. Услышав это, Петр вошел в кузницу, обнял старика, выпил с ним вина из серебряного кубка, подарил ему кубок и дал денег на кузню.
Уже в середине XVIII века домик стал музеем, собственностью королевской семьи.
В 1910 году в Петербурге, на Адмиралтейской набережной установили скульптурную композицию «Царь-плотник» работы Леопольда Бернштама. С нее сделали копию, и на следующий год царь Николай Второй подарил ее Саардаму. После революции петербургский памятник снесли и переплавили. И уже на исходе века, в 1996 году с заандамской копии сделали копию и установили на старом месте, на Адмиралтейской набережной. Надпись на постаменте: «Этот памятник подарен городу Санкт-Петербургу Королевством Нидерландов. Открыт 7 сентября 1996 года Его Королевским Высочеством Принцем Оран-ским».
Как всегда бывает в исторических городах, в Заандаме прошлое причудливо переплетается с настоящим. Например, Заандам первым в Европе открыл у себя ресторан сети «Макдональдс».
Я полюбил этот тихий, уютный город. Два месяца провел здесь. Думаю, по нему можно в какой-то мере судить о нравах, характере голландцев. Насколько это возможно для человека постороннего, да еще с советским менталитетом, да еще с незнанием языка. Но у меня было некое связующее звено — семья Бегенча живет здесь уже несколько лет.
Я водил внуков в школу, в спортивные секции, в плавательный бассейн. И ни разу не замечал, даже мимолетно, чтобы учителя, тренеры отнеслись к ним как-то иначе, нежели к детям коренных голландцев. А сами дети даже и не думают о том, что они — иные, отличаются происхождением, цветом кожи…
Здесь много эмигрантов, особенно из Турции. Их сюда в свое время пригласили, так как городу недоставало работников. Верующие турки ходят в свою мечеть. Но того, что называется «компактным проживанием», здесь нет и в помине. Северные европейские страны, в том числе Нидерланды, отказались от такого устройства. Ведь если эмигранты живут обособленно, они медленнее адаптируются к жизни страны, возникают проблемы этнического, языкового, религиозного, культурного характера.
Здесь немало женщин ходят в хиджабах. Иногда наблюдаешь причудливую картину: едет женщина на велосипеде, ноги открыты, а голова и шея закрыты платком. Слава богу, пока в Нидерландах нет конфликтов вокруг хиджаба. Как известно, года два назад в католической школе городка Волендам одну из учениц пытались отстранить от занятий за ношение головного платка. Комиссия по равным возможностям объявила это решение дискриминацией.
Многое наталкивает на размышления. Как эмигранты видят завтрашний день, будущее своих детей? Ведь они, выросшие здесь, вряд ли захотят вернуться в Турцию или Марокко. Смогут ли они полностью адаптироваться к европейской культуре? Разумеется, дети с рождения врастают в голландскую жизнь. А как относятся к этому родители? Своя культура не может быть препятствием для освоения других культур. Родители должны осознавать, что делать упор на свою национальную, религиозную традицию, не учитывая окружающей среды, значит посеять зерна будущих конфликтов.
Отмечу любопытный факт. Большинство голландцев, увидев меня в школе или на улице, обязательно здоровались. Они понимают по некоторым признакам, что ты приезжий, представитель другой нации, знают, что не все приехали сюда по своей воле, есть политические эмигранты, беженцы. Их подчеркнуто доброжелательное отношение означает, что они рады оказать вам помощь, рады, что теперь вы живете без страха, рады, что вы обрели жизнь, достойную человека, что дети ваши живут спокойно, учатся, радуются.
А вот между приезжими из разных стран мира, заметил я, нет той доброжелательности, приветливости, присущей коренным голландцам. Может, они ревнуют эту страну друг к другу? Это наблюдение натолкнуло меня на неприятную мысль. Если возникнет неожиданная необходимость пожертвовать чем-то для страны, которая дала им достойную жизнь, объединятся ли они друг с другом? По-моему, ответ зависит от степени адаптации. И тогда «адаптация» приобретает очень широкий смысл и значение.
Вокруг тишина, благодатное спокойствие. По каналам плавают утки, гуси, лебеди. Ни у кого нет повода для страха. Полицейских не видно, никого не останавливают, не требуют предъявить паспорт. Здесь действительное, а не формальное равенство всех перед законом. В течение двух месяцев я ни разу не видел, чтобы движение на улице перекрывали из-за того, что мчится кортеж какого-нибудь высокопоставленного лица, пусть даже это его величество король Нидерландов.
В Нидерландах не говорят о стабильности в стране, независимости, свободе, высоком уровне жизни. Для них — это норма повседневности, быт, воздух, и отделять что-то от целого, гордиться им — такая же нелепость, как гордиться тем, что у тебя есть рука, нога. Когда постоянно кричат о независимости, как это делается в некоторых постсоветских государствах, значит, с этой независимостью есть проблемы.
Вся моя долгая жизнь прошла в тисках несвободы. Можно сказать, в рабстве. Рабская жизнь порождает рабскую психологию. Как говорил герой романа «Годори» грузинского писателя Отара Чиладзе: «Свобода лишает его рабства, тогда как рабство побуждает мечтать о свободе».
Здесь никто не мечтает о свободе. Ведь о хлебе мечтают голодные, о свободе — заключенные. А есть люди, которых тоталитарные режимы приговорили без суда. Я был одним из них.
В Заандаме сегодня солнечный субботний день. Набережные усеяны гуляющими. Очень много велосипедистов. Здесь почти все передвигаются на велосипеде, и вообще — много двигаются, бегают. Редко встретишь человека, страдающего от лишнего веса.
Сегодня, 25 мая, в Голландии традиционный день музыки на каналах. В центре Заандама, на эстраде вдоль канала играет духовой оркестр. Музыканты — пожилые, дирижер — тоже. Идущие по улице люди останавливаются, слушают, аплодируют, покупают цветы и дарят музыкантам. Потом на эстраду выходит другой оркестр, в его составе молодые люди. Они начинают свою программу с государственного гимна Российской Федерации. 2013 год — Год России в Нидерландах. Неподалеку памятник российскому царю — плотнику Петру Великому.
Тихий, уютный город Заандам дышит благополучием, свободой. Это я особо подчеркиваю, ибо нуждаюсь в свободе и благополучии.
Нидерланды, май-июнь, 2013 год
Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2013, №11
Восемь сотрудников йеменской полиции убиты в понедельник в результате нападения неизвестных на юге страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
По данным местных властей, нападение было совершено недалеко от пункта охраны рядом с газовым терминалом "Бельхаф" (Belhaf) в южной провинции Шабва. Полицейские попали в засаду террористов, когда направлялись к КПП. "Вооруженные люди прибыли к месту засады на двух автомобилях и открыли огонь по полицейским, когда те оказались рядом. Все они погибли на месте", - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
Нападения на сотрудников полиции и военнослужащих в Йемене участились на фоне дестабилизации обстановки в стране. На юге республики не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды", а начатый после прихода к власти в 2012 году нового президента Абд Раббо Мансура Хади общенациональный диалог с целью выработки новой конституции до сих пор не привел к каким-либо положительным результатам.
Пакистан обязали провести массовую вакцинацию против полиомиелита
Страны-участницы Всемирной организации здравоохранения подписали совместную резолюцию о первоочередной важности ликвидации полиомиелита в регионе, сообщает Washington Post.
Представители 21 государства призвали Пакистан в срочном порядке провести вакцинацию всех детей, чтобы предотвратить распространение вируса в регионе. Совместная резолюция была подписана Афганистаном, Бахрэйном, Джибути, Египтом, Ираном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Ливией, Ливаном, Марокко, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией, Сомали, Суданом, Сирией, Тунисом, ОАЭ и Йеменом. Пакистан также поставил подпись под документом.
По данным ВОЗ наиболее остро проблема ощущается в Пакистане, где талибы запретили проведение любых работ по иммунизации населения. В настоящее время полиомиелит эндемичен только в Пакистане, Афганистане и Нигерии, откуда распространяется по странам Азии и Африки. Так, специалисты ВОЗ подтвердили пакистанское происхождение вируса, вызвавшего вспышку заболевания в Сирии. Он был также обнаружен в сточных водах Египта, Израиля и на Палестинских территориях в прошлом году.
Ранее представитель ВОЗ Сона Бари (Sona Bari) объявила о запуске масштабной программы вакцинации во всем регионе: за шесть месяцев специалисты проведут вакцинацию примерно 22 млн детей в Египте, Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Сирии, Турции, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Рост без гарантии
Повышение цен на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока идет медленно, несмотря на все старания поставщиков
Резкое подорожание металлолома, прибавившего в Турции около $20-30 за т в течение октября, поставило перед местными металлургами задачу достижения аналогичного увеличения котировок на готовый прокат. Почти до самого конца октября эта задача решалась не слишком успешно вследствие относительно низкого спроса на конструкционную сталь в регионе. Турецким металлургам не удавалось поднять экспортные цены на арматуру выше отметки $585 за т FOB, хотя предложения от некоторых компаний и в середине октября поступали из расчета $600 за т FOB и более.
Ситуация изменилась только в последних числах октября, когда на турецком рынке стали произошла долгожданная активизация спроса. Местные строительные компании, на протяжении более двух месяцев старавшиеся сократить запасы стальной продукции, приступили к их пополнению. Благодаря этим закупкам внутренние цены на длинномерный прокат прибавили порядка $10 за т. Арматура, в частности, варьируется между $590 и $610 за т EXW в зависимости от колебаний курса турецкой лиры по отношению к доллару.
Новые продажи внутри страны снизили давление на экспортные котировки. Тем более, что и спрос на турецкую арматуру в конце октября – начале ноября заметно оживился. Сообщалось, в частности, о поставках крупных партий продукции в Ирак, Ливан, Йемен, африканские страны. Интерес к приобретению турецкого длинномера в конце октября проявляли европейские покупатели, пока повышение курса доллара по отношению к евро в ноябре не сделало такие сделки проблематичными.
Даже некоторые американские трейдеры на свой страх и риск заключают сделки с турецкими поставщиками, несмотря на то что Комиссия по международной торговле США в конце октября постановило, что импорт арматуры из Турции наносит ущерб национальным производителям данной продукции и продолжило антидемпинговое расследование.
По данным турецких источников, в некоторых случаях цены при экспортных поставках арматуры в начале ноября могли достигать $600 за т FOB, хотя, по большей части, повышение котировок было более скромным – до $585-595 за т FOB. На региональном рынке сохраняются два главных слабых места – относительно низкий спрос на длинномерный прокат в странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, и поставки дешевой китайской продукции.
В конце октября цены на арматуру в ОАЭ сократились на $15-20 за т. Ведущие местные поставщики и катарская Qatar Steel понизили ноябрьские котировки до около $590-600 за т CPT/EXW. Вследствие этого предложения турецких компаний на уровне выше $590 за т CFR (плюс 5%-ная пошлина) не вызывают интереса у местных дистрибуторов. Кроме того, сообщается, что металлурги в ОАЭ, недовольные снижением котировок из-за слабого спроса, обратились к властям с просьбой принять меры для усиления протекционистской защиты внутреннего рынка.
Китайские компании в начале ноября снова понизили цены на длинномерную продукцию. Покупатели в Ливане и ОАЭ получали предложения о поставке арматуры и катанки в январе всего лишь по $535-545 за т CFR. Правда, ближе к середине текущего месяца котировки могут немного возрасти. По крайней мере, китайские экспортеры в последние дни пытаются повысить цены на катанку на $5 за т, до около $505-515 за т FOB.
Очевидно, в дальнейшем турецкие компании будут продолжать попытки повышения экспортных котировок, однако реализовывать их будет все труднее. Рост цен на металлолом приостановился, а увеличение спроса на конструкционную сталь в Турции, судя по всему, имеет краткосрочный характер. Вполне вероятно, что через одну-две недели металлургам придется возвращать цены на прежний уровень.
Что касается производителей стали из СНГ, то они даже не пытались увеличить стоимость своей продукции в ноябре. Цены на арматуру остаются на уровне $570-575 за т FOB, причем, в конце октября ливанские компании могли совершать сделки и по $565 за т FOB, а катанка при поставках в страны Ближнего Востока и Африки варьирует между $560 и $585 за т FOB при весьма слабом спросе.
Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 31 октября – 7 ноября 2013 г.
Обстановка на мировом рынке стали продолжает оставаться относительно стабильной. Меткомпаниям удалось остановить понижение котировок, а некоторые из них предпринимают определенные усилия для роста, но, как правило, эти попытки повышения не поддерживаются потребителями, которые все еще надеются на получение новых скидок от поставщиков во второй половине ноября. Увеличение стоимости сталепродукции наблюдается в последнее время только на рынке длинномерного проката, но там оно обусловлено, скорее, подорожанием сырья.
Полуфабрикаты
Подорожание металлолома в Турции помогло меткомпаниям из СНГ продолжить повышение экспортных котировок на полуфабрикаты. В начале ноября поставки заготовок осуществлялись не менее чем по $505/т FOB, причем, при заключении некоторых сделок с турецкими и египетскими потребителями стоимость этой продукции могла превышать отметку $510/т.
Наибольшую активность проявляли в последнее время турецкие компании. На их рынке заготовки подорожали до $530-545/т EXW, так что прокатчики охотно приобретали украинскую и российскую продукцию по $525-535/т CFR. Кроме того, сообщалось о поставках полуфабрикатов из СНГ в Саудовскую Аравию, страны Северной Африки и Леванта.
Отсутствует на рынке пока только Иран. В конце октября местные компании приобретали казахстанские заготовки по $530/т CFR, но в ноябре новых сделок на этом направлении не было. Правда, иранские компании в небольших количествах приобретали китайскую и индийскую продукцию, поступающую в порты юга страны по $550-560/т.
При заключении декабрьских контрактов металлурги из СНГ, очевидно, рассчитывают на увеличение стоимости заготовок до $510/т FOB и выше, но добиться нового подъема будет сложно. На турецком рынке металлолома падает покупательская активность, а региональный рынок длинномерного проката склонен к стагнации.
В Восточной Азии заготовки в последнее время тоже возросли в цене. Корейские и тайванские компании котируют продукцию в интервале $540-550/т CFR при поставках в страны Юго-Восточной Азии, прибавив до $10/тпо сравнению с концом октября. Аналогичным образом подорожал материал российского и вьетнамского производства, достигнувший $530-535/т.
Правда, реальных сделок по новым ценам пока практически нет. Этому препятствует демпинг со стороны китайских компаний, которые предлагают заготовки по $510-520/т с поставкой в декабре. При этом, китайцы, чтобы избежать уплаты 25%-ной экспортной пошлины, выдают полуфабрикаты за готовый сортовой прокат.
На рынке товарных слябов начало нового месяца не принесло каких-либо заметных изменений. Торговые обороты низкие из-за разрыва в ценах спроса и предложения. Особенно это свойственно Тайваню, где местные прокатчики отказываются приобретать слябы дороже $480/т CFR, а российские экспортеры не намерены снижать цены до менее $470-480/т FOB.
Конструкционная сталь
В начале ноября турецким производителям длинномерного проката, наконец, удалось повысить котировки, частично компенсировав резкое подорожание металлолома. Толчком для этого послужила активизация внутреннего рынка благодаря наметившейся в конце октября активизации строительной отрасли. Цены на арматуру в Турции за последнюю декаду прибавили до $10/т и сейчас находятся в интервале $590-610/т EXW.
При экспорте турецкие компании выставляют предложения по арматуре на уровне $590-605/т FOB, а некоторые компании пытаются добиться даже $610/т FOB и более. Трейдеры характеризуют спрос как достаточно высокий – особенно, со стороны Ирака, Ливана и Йемена. Тем не менее, они вынуждены признавать, что при заключении реальных сделок котировки, как правило, не превышают $600/т CFR, а чаще всего составляют $585-595/т FOB. Повышению сопротивляются, прежде всего, покупатели из Саудовской Аравии и ОАЭ, где длинномерный прокат недавно значительно подешевел. Кроме того, сказывается сокращение объема поставок в США, где продолжается антидемпинговое расследование против турецкой арматуры.
Производители из стран СНГ пока не в состоянии добиться повышения. Стоимость украинской арматуры при поставках в страны Ближнего Востока по-прежнему находится в пределах $570-575/т FOB, а катанка варьирует между $560 и $580/т. В начале ноября в регионе снова подешевел китайский длинномерный прокат, опустившийся до $535-545/т CFR, но эти цены, скорее всего, представляют собой крайнюю точку спада. В начале ноября китайцы повысили экспортные котировки на катанку и арматуру, в среднем, на $5/тпо сравнению с предыдущим месяцем.
В Европе в ноябре прибавил в цене металлолом, что непосредственно отразилось на стоимости длинномерного проката, подорожавшего, в среднем, на 5-10 евро за т. Арматура в Германии и восточноевропейских странах снова вышла на уровень 490-515 евро/тCPT. В то же время, реальный спрос остается низким и теперь уже вряд ли возрастет до весны.
Листовая сталь
Ноябрь начался для китайских производителей стали с первой значимой положительной коррекции за последние два с половиной месяца. Внутренний спрос на плоский прокат несколько оживился, и хотя проблема перепроизводства стали в стране остается исключительно актуальной, настроения участников рынка все-таки немного изменились к лучшему. Предполагается, что котировки на листовую сталь прошли через крайнюю точку спада и ниже уже не опустятся.
В то же время, экспортные цены на китайские г/к рулоны пока на прежнем уровне – $525-535/т FOB, однако толстолистовая сталь за последнюю неделю прибавила порядка $5 за т. Трейдеры отмечают и повышение интереса к закупкам китайской и индийской продукции со стороны покупателей в странах Юго-Восточной Азии, что также дает надежду на прекращение спада. Правда, поставщики из Японии, Кореи и Тайваня пока не усматривают изменений к лучшему. Спрос на их продукцию все еще минимальный, а цены не превышают $545-560/т FOB по декабрьским контрактам.
Не наблюдается роста активности и в странах Ближнего Востока. Местные дистрибуторы обладают достаточными запасами, а реальный спрос в последнее время наблюдается, в основном, со стороны трубопрокатной отрасли. Производители из СНГ пока вне рынка, готовя предложения на декабрь, хотя в конце октября сообщалось о продажах украинских ноябрьских г/к рулонов в страны Персидского залива по $555-565/т CFR.
В Турции цены стабилизировались на отметке $575/т EXW. По мнению местных аналитиков, рассчитывать на их повышение в обозримом будущем сложно. Поэтому и экспортерам из СНГ, скорее всего, не удастся поднять котировки по декабрьским контрактам. К тому же, в конце октября – начале ноября появились новые предложения для Турции со стороны итальянской Riva, готовой продавать г/к рулоны всего по $560-570/т CFR, т.е. менее чем по 400 евро/т FOB. При этом, продукция из Италии, в отличие украинской и российской, не облагается в Турции импортными пошлинами.
На европейском рынке плоского проката котировки в начале ноября не изменились по сравнению с концом прошлого месяца. Спад не завершился только на рынке толстолистовой стали, подешевевшей за последнюю неделю на 5-10 евро за т. Цены на материал коммерческого качества варьируют от менее 450 евро/т EXW в Италии до 490-520 евро/т EXW в Германии и странах Восточной Европы. Кроме того, сообщается о поставках индийского и китайского толстого листа по 430-440 евро/т CFR. Г/к рулоны европейского производства по-прежнему варьируют между 420 и 460-465 евро/т EXW.
Специальные сорта стали
По прогнозу британской консалтинговой компании MEPS, мировое производство в текущем году прибавит 2,9% и достигнет 36,4 млн. т, а в 2014 г. прибавит еще 4,1%, установив новый рекорд на отметке 37,9 млн. т. При этом, если практически весь рост 2013 г. обеспечит один Китай, то в будущем году ожидается небольшая прибавка в США и некоторых азиатских странах.
Тем временем, на мировом рынке нержавеющей стали не происходит значимых ценовых изменений. Все ведущие азиатские компании объявили о сохранении котировок на ноябрь. Точно так же и европейские металлурги не смогли компенсировать снижение доплаты за легирующие элементы в ноябре повышением базовых цен. Как признают поставщики, спрос на нержавеющую сталь в регионе вряд ли возрастет до января.
Металлолом
Цены на металлолом в Турции достигли пика. Местные сталелитейные компании к началу ноября, в основном, завершили процесс пополнения запасов и резко снизили активность. В то же время, поставщики не намерены отступать. Стоимость основных сортов лома прибавила в ноябре порядка 10-15 евро/т в Европе и до $25/т в США, так что экспортеры сохраняют прежний уровень котировок. К тому же, на рынке начинается зимний подъем, вызванный ограниченным объемом сборов в холодное время года.
Цены на американский материал HMS № 1&2 (80:20), как и в конце октября, достигают в Турции $395-400/т CFR, аналогичное сырье европейского происхождения котируется на уроне около $390/т. В конце октября турецкие компании также приобретали российский и румынский лом 3А по $380-385/т и украинский материал по $370/т. Эти предложения также сохраняют силу несмотря на ослабление спроса.
В Азии немного активизировались в последние дни корейские покупатели, заключившие несколько крупных сделок с поставщиками из Японии и России. При этом, цены на японский материал Н2, как правило, составляли не более $355/т FOB, хотя сейчас трейдеры запрашивают за него $360/т FOB и выше, а российский металлолом продавался в Корею по $380-385/т CFR.
Котировки на американский лом в регионе в ноябре стабилизировались, но японские компании все еще настроены на продолжение роста, поскольку внутренний рынок по-прежнему находится на подъеме.
Виктор Тарнавский
Высвобождение Америки
Преимущества ослабления глобального лидерства США
Сокращение участия Соединенных Штатов в мировых процессах крупные мировые державы не рассматривают как риск. Результаты десятилетней активности американцев на Ближнем Востоке убедили эти страны в том, что Вашингтон не готов квалифицированно исполнять лидерские функции на благо общим интересам.
Избранный в 2012 г. на новый президентский срок Барак Обама получил четкий мандат от американцев – отвлечься от мировых дел и навести порядок дома. Неудачи внешней политики Джорджа Буша-младшего привели к росту изоляционистских настроений в США. Только 5% избирателей беспокоят международные проблемы, для остальных важнее преодолеть безработицу и стабилизировать национальное хозяйство.
Однако динамичные перемены на Ближнем Востоке, необходимость завершить войну в Афганистане, не допустить обретения Ираном ядерного оружия и укреплять присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе побуждают Соединенные Штаты по-прежнему интенсивно участвовать в мировых делах. Этому, однако, препятствует не только отсутствие энтузиазма населения, но и относительное сокращение военных и финансовых ресурсов, а также стойкое неприятие американского активизма в мире, в том числе среди ближайших союзников Вашингтона в Европе. Белому дому приходится адаптировать свою глобальную стратегию. Оставляя неизменными заявленные приоритеты, Америка стремится найти способ более эффективного достижения целей.
КОНТУРЫ АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ
Стратегия США характерна для развитых морских держав, основа благополучия которых строится на морской торговле. Это требует контроля ключевых морских коммуникаций путем постоянного передового базирования флота, способного действовать в открытом океане, и создания системы военных союзов, обеспечивающих его пребывание в удаленных точках. Могущество флота позволяет гарантировать неуязвимость американского «острова».
Влияние Соединенных Штатов в мире распространялось в несколько этапов. Важными составляющими этого процесса были острая внутриполитическая дискуссия между экспансионистами и изоляционистами о целях американского присутствия вне своего континента, а также отсутствие жизненной угрозы безопасности США в ходе экспансии – ни один из оппонентов, кроме СССР, не был сопоставим с Соединенными Штатами по совокупной мощи.
В XIX веке сферой интересов США было исключительно их ближайшее окружение в Северной Америке и Карибском бассейне. Принцип взаимного невмешательства Старого и Нового Света в дела друг друга был изложен в 1823 г. президентом Джеймсом Монро: «В интересах сохранения искренних и дружеских отношений, существующих между Соединенными Штатами и [европейскими] державами, мы обязаны объявить, что должны будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности».
Завершив движение континентального фронтира, США начали постепенно втягиваться в мировые процессы. К началу ХХ столетия Вашингтон получил первые опорные пункты на Тихом океане, отвоевав у Испании не только Кубу, но и колонии на Гуаме и Филиппинах. Но подлинно глобальной американскую политику сделало участие в европейских делах. Если после Первой мировой войны в стране все еще продолжалась дискуссия о целесообразности присутствия в Старом Свете, то по итогам Второй мировой Соединенные Штаты прочно закрепили за собой место глобальной державы. Помимо участия американских войск в борьбе с фашизмом, мировой масштаб укрепили три ключевых процесса: создание ООН и НАТО как системы сдерживания Советского Союза, экономическая помощь Европе по плану Маршалла и замещение Франции и Великобритании как главных гарантов порядка на Ближнем Востоке.
Не все американские политики приветствовали такое развитие событий. Лидером изоляционистов в середине ХХ века был сенатор от штата Огайо Роберт Тафт, который утверждал, что конечной целью внешней политики должна быть защита свободы американских граждан – в первую очередь от злоупотреблений властью со стороны правительства. Логика Тафта состояла в том, что ложные приоритеты побуждают Вашингтон требовать от граждан больше, чем необходимо для защиты континента. При этом Тафт считал, что администрация Гарри Трумэна должна была нанести превентивный удар по СССР в 1945 г. и уничтожить исходящую от него угрозу. В силу того, что «время было упущено», Тафт предлагал укреплять оборону по периметру американских границ. И хотя его взгляды были осуждены как устаревшие, рассуждения в духе изоляционизма не исчезли из политического дискурса.
Во второй половине ХХ века американцы, одержав верх над Японией и став основным союзником Южной Кореи после войны на Корейском полуострове, укрепили позиции в Восточной и Юго-Восточной Азии. В 1951 г. США, Австралия и Новая Зеландия образовали военный союз (АНЗЮС). В тот же период была укреплена и модернизирована военная база на острове Гуам в западной части Тихого океана.
После окончания холодной войны глобальное присутствие Соединенных Штатов сократилось в Тихоокеанской Азии, но расширилось на Ближнем Востоке. В 1992 г. парламент Филиппин принял решение о закрытии крупнейших американских баз в регионе. Чтобы частично снизить негативный эффект от этой потери, в том же году Вашингтон заключил соглашение с Сингапуром об использовании военно-морской базы на его территории. В связи с угрозами, исходившими от Ирака и Ирана, начиная с 1995 г. США получили возможность стационарного присутствия в северо-западной части Индийского океана и в Персидском заливе, достигнув соглашения с Бахрейном и Кувейтом.
Любопытно, что период окончания холодный войны ознаменовался новой дискуссией о приоритетах внешней политики, в которой позиции изоляционистов были сильны. Наблюдая относительный упадок мощи Америки на рубеже 1980-х – 1990-х гг., изоляционисты призывали избежать «имперского перенапряжения». Консервативный американский публицист, постоянный представитель США в ООН Джин Киркпатрик писала в 1990 г., что настал конец эпохе, требовавшей от Соединенных Штатов внутренней мобилизации: наступило «нормальное время», и США пора стать «нормальной страной». Киркпатрик настаивала, чтобы Вашингтон сосредоточился на внутренних делах: «Мы должны быть обычной державой, а не сверхдержавой. Мы должны приготовиться психологически и экономически к снижению нашего статуса до уровня обычного государства». Позднее Киркпатрик отошла от идей изоляционизма и примкнула к неоконсерваторам, желавшим преобразования мира в соответствии с американскими идеалами.
Поддержание присутствия в планетарном масштабе требует колоссальных ресурсов. Последние симметричным образом распределены между разными компонентами мощи Соединенных Штатов – от военной силы и программ содействия международному развитию до экспорта популярной культуры и интернет-сервисов. Однако от страны-лидера требуется и нечто большее. В первую очередь – гарантировать стабильность регионального порядка, даже если его нарушение не затрагивает ее жизненные интересы. Для этого необходимо трезво оценивать региональную ситуацию и собственные интересы в связи с ней. Опыт лидерства Вашингтона в Североатлантическом сообществе со второй половины ХХ века имел ряд особенностей, которые не позволяют США эффективно выполнять лидерские функции в мировом масштабе.
Во-первых, в результате уверенного, но позднего вступления в круг великих держав Соединенные Штаты не получили классического европейского опыта конфликтов и сотрудничества, плодом которого является рассудительность в международных делах. В результате процесс рационального осознания Вашингтоном собственных интересов в региональных конфликтах нередко искажается идеологическими схемами. Во-вторых, длительное доминирование в западном сообществе и опыт односторонних решений 1990-х гг. привил США стойкую неприязнь к равенству и неверие в международные институты. Наконец, экономическое благополучие и технологические прорывы десятилетия после завершения холодной войны укрепили веру американского истеблишмента в исключительную – преобразовательную – роль в мире, на которую не должны распространяться закономерности международной политики.
Это делает политический и стратегический опыт Соединенных Штатов несовершенным. Для поддержания мировой стабильности необходимо понимание практической пользы суверенитета и возникающих в связи с ним правил применения силы и самоограничения. В свою очередь такое положение выдвигает особые требования к дипломатии. Навязанные силой перемены, экспорт революции как стратегия могли работать в ситуации подавляющего превосходства США, однако зенит подобного подхода миновал.
Американцы также с трудом осознают, что главный аспект мировой политики – субъективный, человеческий – требует понимания разности национальных общежитий и эмпатии, особенно для управления этой разностью (как в Афганистане и Ираке). Наконец, современный американский универсализм – демократизация – по сути антиисторичен. Соединенные Штаты искусственно ускоряют заведомо медленные процессы, на которые требуются столетия. Вашингтон не учитывает непредсказуемость мирового развития и часто не видит косвенных последствий своей активности. США также упрощают или игнорируют историю, рисуя будущее беспечным и глубоко отличным от прошлого. В действительности победа демократии в мировом масштабе не предопределена, а сами Соединенные Штаты, по выражению Генри Киссинджера, остаются экспериментом с открытым исходом. В этом отношении практики администрации Буша-младшего не новы – президенты такого склада уже руководили страной, новой была только степень свободы действий Вашингтона на международной арене.
В постидеологическом мире, где страны руководствуются прагматизмом, пространство для миссионерских инициатив по демократизации сокращается. Демократия перестает восприниматься как уникальная черта Соединенных Штатов и становится общечеловеческим достоянием, условием устойчивого развития. В этом большая заслуга американцев, однако они утратили монополию на этот институт. Задача осмысления новых обстоятельств международной среды и изменившихся возможностей США выпала на долю команды президента Обамы.АЛГОРИТМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ОБАМЫ
Администрации Барака Обамы пришлось активно участвовать в мировых делах на фоне сокращения ресурсов и катастрофического внешнеполитического наследия республиканцев. Начиная с 2009 г. пост государственного секретаря занимала Хиллари Клинтон. Помимо необходимости завершать две военные кампании в Афганистане и Ираке, на время ее пребывания в Белом доме пришелся крупный региональный кризис на Ближнем Востоке, в котором США должны были принять деятельное участие. Кроме того, в 2010 г. и 2012 г. Америка получила два чувствительных удара как раз на внешнеполитическом направлении – масштабная утечка секретных документов Госдепа в «Викиликс» и гибель четырех американских дипломатов во главе с послом в Ливии. В подобных обстоятельствах Вашингтон не оказывался давно. Сравнить их можно с завершающим периодом правления Джимми Картера (1977–1981), которому провалы в Иране и Афганистане стоили президентского кресла.
Хотя Клинтон не могла приписать себе какое-либо крупное достижение, ей во многом удавалось поддерживать высокий уровень одобрения американской внешней политики среди сограждан. Упреки республиканцев в адрес президента и госсекретаря в том, что те не способны активно продвигать американские интересы, потому что не готовы использовать силу при каждой возможности, больше не увлекали американцев. В их глазах убийство Усамы бен Ладена, решающее влияние США на события в Ливии и Египте и вывод американских войск из Ирака были удовлетворительными результатами.
Первая администрация Барака Обамы заработала международную репутацию именно своим осмотрительным внешним курсом наподобие того, что проводило правительство Дуайта Эйзенхауэра (1953–1961). Существенной ее характеристикой был некий стратегический оппортунизм – способствовать тем действиям оппонентов, которые им вредят, и препятствовать тем, которые приносят пользу. Эту тенденцию укрепил глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Джон Керри, назначенный на пост госсекретаря в 2013 году.
У Керри репутация хорошего переговорщика и эффективного диспутанта. В ходе президентской кампании 2012 г. он «тренировал» Обаму, представляя себя в роли кандидата от республиканцев Митта Ромни на дебатах. Кроме того, Керри выгодно выделяло на фоне Хиллари Клинтон и Сьюзан Райс, отозвавшей свою кандидатуру с поста госсекретаря, развитое чувство эмпатии и умение строить и поддерживать конструктивные отношения. Процедура утверждения Керри в сенате была легкой беседой по сравнению с итоговым отчетом Клинтон в том же комитете несколькими днями раньше. Эмпатия Керри стала своего рода страховкой от внешнеполитического радикализма и гарантией умеренности. Именно эти качества он проявил в ходе дипломатического урегулирования ситуации вокруг Сирии в августе-сентябре 2013 года.
Недостаток у Керри опыта в сфере исполнительной власти компенсировался тем, что в кабинете Обамы сложилась коллективная модель принятия решений, которая отсекала радикальные предложения. И хотя половина команды сменилась в начале 2013 г., другая ее часть сохранила посты. Коллеги Керри в министерстве обороны (Чак Хэйгэл), ЦРУ (Джон Бреннан) и в офисе советника по национальной безопасности (Том Донилон, затем Сьюзан Райс) вместе с самим госсекретарем сформировали ядро совета по национальной безопасности. Важным было и назначение заместителем госсекретаря карьерного дипломата, бывшего посла США в России Уильяма Бернса, второе в истории ведомства. В совокупности эти умеренные фигуры блокировали возможность радикальных инициатив, источником которых нередко выступала постоянный представитель США в СБ ООН Саманта Пауэр.
США НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
Внешнеполитическим приоритетом первого президентства Обамы была переориентация фокуса интересов с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. «Американские военные будут продолжать вносить вклад в безопасность в глобальном масштабе, однако мы по необходимости сместим акцент военного присутствия в сторону АТР», – говорилось в доктринальном документе «Поддержание американского глобального лидерства: оборонные приоритеты XXI века», обнародованном в январе 2012 года.
Особую обеспокоенность у американцев вызывает усиление КНР. Региональная политическая система и система безопасности в АТР сложились при ослабленном Китае и преследовали его изоляцию. Поэтому подъем КНР в его нынешней динамике – угроза региональной безопасности, причем единственная, в которой просматривается перспектива региональной войны.
Целью США является военное сдерживание Пекина путем передового базирования своих сил, формирования военно-политических коалиций и обеспечения прозрачности китайской военной программы. Другим элементом стратегии Вашингтона стало выравнивание уровней торгового баланса с Китаем и другими странами АТР. С этой целью в ноябре 2011 г. Соединенные Штаты объявили о подготовке многостороннего торгового соглашения с участием Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Брунея, Сингапура, Вьетнама, Чили и Перу для создания в АТР преференциального торгового режима. Проект получил название «Тихоокеанское партнерство».
Задача-максимум для Вашингтона – не допустить ревизии сложившегося порядка. Для этого КНР следовало вовлечь в систему тихоокеанских связей на приготовленные для нее роли. Уточнить параметры военной доктрины США в АТР позволяет документ «Стратегическое руководство Тихоокеанского командования ВС США». В соответствии с ним американская военная политика в регионе сконцентрирована вокруг пяти приоритетов: союзники и партнеры, Китай, Индия, Северная Корея и трансграничные угрозы. Первой целью заявлено укрепление военных альянсов и стран-партнеров. Особое внимание уделено поддержке становления Индии как «лидирующей и стабилизирующей силы в Южной Азии». В отношении Китая формулировка иная – «способствовать вызреванию отношений между военными США и КНР», что по существу означало ведение мирогарантийной и мониторинговой активности.
Начало народных волнений на арабском Востоке отвлекло внимание американской дипломатии от Азии и вынудило сосредоточиться на сохранении достижений многолетнего курса Соединенных Штатов в регионе. «Арабская весна», вызванная к жизни помимо прочего неумелыми действиями Америки в Ираке и Афганистане, укрепила мнение Белого дома о необходимости ограничения региональных амбиций в том числе в АТР.НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И ПРИОРИТЕТЫ США
К началу второго десятилетия XXI века американцы по-прежнему активно вмешивались в дела Ближнего и Среднего Востока, однако Вашингтон был вынужден постоянно опускать планку: в Афганистане – от строительства демократии к уничтожению «Аль-Каиды», в Ираке – от борьбы с тиранией к союзу с любыми силами, способными контролировать ситуацию в стране. Драматические цифры опросов общественного мнения в ближневосточных странах показывали, что антиамериканские настроения, достигнув исторического максимума в 2003–2004 гг. (90%), сохранялись на рубеже первого и второго десятилетий XXI века на уровне 70 процентов.
Никто из американских аналитиков не предвидел революционных событий на арабском Востоке. Поведение официального Вашингтона в ходе разрастания народных волнений разительно отличалось от агрессивного, наступательного образа действия США в начале 2000-х гг. и давало пример кризисного реагирования в ситуации неопределенности. Анонимный источник в администрации Обамы сетовал: «Вот что происходит, когда события застают врасплох. На протяжении двух лет мы бессчетное число раз проигрывали ситуации в рамках ближневосточного урегулирования и меры по сдерживанию Ирана. Ни один из этих сценариев не учитывал возможность дестабилизации Египта».
Еще не было случая, чтобы Белый дом отказался присвоить результаты революционного внешнеполитического свершения. Но вот 23 февраля 2011 г., обращаясь преимущественно к международной аудитории, президент Обама произнес: «Перемены, происходящие в регионе, направляются исключительно населяющими его народами. Эти перемены не являются следствием политики Соединенных Штатов или другой внешней силы». Заявление подобного рода закономерно вызвало критику политических оппонентов и избирателей. Недовольны оказались и «прогрессисты» в арабском мире: американцев обвиняли в излишней пассивности. Однако Белый дом не мог позволить себе однозначно поставить на какую-либо из политических сил.
При этом Вашингтон стремился действовать настойчиво и с опережением. И хотя США хотели повлиять на ситуацию в выгодном для себя направлении, они до конца не были уверены в том, что им выгодно. Это порождало непоследовательность американской дипломатии, которая твердо стояла только на двух постулатах: исключении насилия и неприемлемости статус-кво. Определенная доля противоречивости в действиях объяснялась высокой приоритетностью для американцев египетско-израильских отношений, гарантом которых выступал Хосни Мубарак и созданный им режим. Деликатность ситуации состояла в том, что на Ближнем Востоке Соединенные Штаты фактически были вынуждены поддержать протестующих против своих союзников, на которых держались основы региональной системы безопасности. Косвенно это сыграло на пользу идеи демократизации, но повредило непосредственным стратегическим целям Вашингтона и ухудшило среду безопасности в регионе.
США были всерьез озабочены проблемой снижения издержек от революционных событий на Ближнем Востоке. Для сохранения влияния Вашингтону было необходимо сохранить связи с военным истеблишментом стран, получавших на протяжении трех десятилетий американскую помощь. По мере того как волна недовольства в Тунисе и Египте спадала, власть консолидировалась именно в руках военных. Эксперты отмечали, что продолжение курса на оказание финансовой и военной помощи Египту и Тунису нужно Соединенным Штатам для поддержания региональной стабильности.
Углубление кризиса в Ливии поставило перед США вопрос о вмешательстве. На фоне отсутствия значимых национальных интересов Вашингтон избрал линию защиты ливийских граждан от произвола руководства страны. В Белом доме и Пентагоне хорошо понимали последствия втягивания в третью военную кампанию за десять лет. Присоединяясь к действиям европейских союзников по НАТО против режима Каддафи, Вашингтон действовал вынужденно, а потому неохотно. Внося сопоставимый с другими державами вклад, Соединенные Штаты стремились его строго ограничивать. В отношении Триполи Вашингтон действовал в таком «сердечном согласии» с международным сообществом, какое в последний раз наблюдалось в начале 1990-х гг. в ходе первой кампании в Персидском заливе. Более того, на этот раз европейские державы опередили исторически передовые в деле «борьбы за демократию» США.
Следующий региональный кризис разразился в Сирии. Вплоть до осени 2013 г. американцы придерживались упрощенной концепции борьбы демократических масс с диктатурой. И хотя президент Обама констатировал, что сирийские события не угрожают жизненным интересам Америки, он подчеркнул, что применение режимом Башара Асада ОМУ приведет к вторжению. Такая постановка вопроса позволяла избежать действительного вовлечения в ситуацию и одновременно побуждала заинтересованные во вмешательстве силы подтолкнуть сирийское правительство к нарушению обозначенного условия или представить дело так, будто это произошло фактически.
К осени 2013 г. американская аналитика обрела многомерность восприятия сирийских событий. Появились публикации о сложном этно-конфессиональном составе населения Сирии и связанной с этим угрозой дезинтеграции государства в случае победы оппозиции. Вспомнили, что границы в регионе стали следствием договоренности европейских держав, а не естественного процесса формирования национальных идентичностей и государств. Начали просчитывать возможности широкой дестабилизации на Ближнем Востоке. Угроза слияния сирийского и иракского конфликтов, которая возрастала по мере перетекания шиитских и суннитских комбатантов через плохо охраняемую границу, отодвинула на второй план концепцию смены власти в Дамаске под демократическими лозунгами. В американской прессе появились спекуляции относительно разрушения существующих на Ближнем Востоке государств (в частности, Сирии, Ирака, Йемена, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии).Несмотря на большую обеспокоенность положением дел в Ираке, американские власти всячески подчеркивали, что они не стремились вмешиваться во внутренние дела этой страны. Готовность Вашингтона смириться с потерей Ирака, а также неутешительные итоги десятилетия активизма на Ближнем Востоке побудили экспертов задаться вопросами о целях региональной стратегии США. Распространение нестабильности, крушение демократически избранных правительств, рост популярности исламизма и антиамериканских настроений – все это подталкивало к выводу о провале принятой в начале 2000-х гг. линии.
В этом контексте эксперты напоминали о традиции острожной политики в регионе, контуры которой были заложены президентом Картером на рубеже 1980-х годов. Эта стратегия фокусировалась на консервации существующих противоречий и включала четыре основных принципа: предотвращение доминирования одной державы, удержание арабов и израильтян от новой войны, поддержание стабильности союзных правительств в богатых энергетическими ресурсами монархиях Персидского залива и пресечение попыток свергнуть лояльные Соединенным Штатам режимы исламистскими силами. Ни одна из этих целей не предполагала, что американцы откажутся от поддержания «статус кво». В этом смысле неполное десятилетие правления Буша-младшего – когда считалось, что стабильность не может быть целью США на Ближнем Востоке – стало восприниматься в Вашингтоне как отступление от традиции американской региональной политики, а осмотрительность Обамы – как возвращение к ней.
Новые контуры политики на Ближнем Востоке Обама обозначил в выступлении перед членами Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября 2013 года. Президент сделал еще один шаг в сторону реализма. Главной новацией стало расширение временного горизонта достижения целей – Обама заявил, что для принесения демократии на Ближний Восток потребуется «время жизни целого поколения». В лексикон американского истеблишмента вернулись понятия из сферы политики «статус-кво». То, что прежде именовалось «маршем в сторону демократии», Обама назвал угрозой региональной дестабилизации, коллапса государственных институтов, гражданской войны, межэтнических конфликтов. Он подтвердил приверженность дипломатическому урегулированию конфликтов и ставке на решение существующих проблем местными силами без вмешательства извне.
В своем обращении Обама изложил новую формулу региональной политики: «Время от времени мы будем сотрудничать с правительствами, которые не соответствуют в нашем понимании высоким международным стандартам, но будут взаимодействовать с нами по вопросам наших жизненных интересов». Отказ США руководствоваться исключительно ценностями во внешней политике позволил легитимировать связи с военной верхушкой в Египте, захватившей власть в результате переворота. В рамках нового мышления Вашингтон отложил в сторону разногласия о ценностях с Тегераном и предложил Ирану новые отношения на основе взаимного интереса. И хотя политическая программа Обамы более детализирована, чем стратегия Буша, в ней мало конкретики в отношении упомянутых проблем, а также подходов к ближневосточному урегулированию и разрешению сирийского конфликта.
В заключение Обама подтвердил стремление Соединенных Штатов сохранить статус гаранта региональной стабильности на Ближнем Востоке: «Даже когда жизненным интересам Америки ничто не угрожает, мы готовы предотвратить массовые убийства и защитить базовые права человека». По признанию информированных наблюдателей (таких как экс-министр обороны Роберт Гейтс), президент Обама извлек правильный урок из десятилетия американских ошибок на Ближнем Востоке: «В Ираке, Афганистане и Ливии мы много узнали о непреднамеренных последствиях военных действий». Как показывают опросы общественного мнения, следствием этих ошибок стало усиление антивоенных и антиэкспансионистских настроений в США – явление, которое президент Обама связал с угрозой появления «вакуума лидерства» в мировых делах.
Возобновление дискуссии о необходимости ограничения амбиций Соединенных Штатов в наибольшей степени затронуло республиканскую партию, видные члены которой начали выступать с неоизоляционистских позиций. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что США, не имея никаких интересов в Сирии, должны воздержаться даже от ограниченного вмешательства и перейти к тактике сдерживания режима Асада. Это вызвало острую внутрипартийную полемику, в которой активисты во главе с сенатором Джоном Маккейном призвали к бойкоту идей Пола. В этом просматриваются зачатки партийного кризиса, который может сказаться на выдвижении кандидатов на пост президента на ближайших выборах. Эксперты ожидают, что в ходе президентской гонки в 2016 г. к власти могут прийти солидарные с сенатором Полом кандидаты от республиканцев. Особые надежды возлагались на возобновление прагматичных подходов республиканской партии к международным делам, как то было в президентство Эйзенхауэра, Ричарда Никсона и Джорджа Буша-старшего.
* * *
В основе американской фрустрации результатами своего лидерства лежит недовольство тем, что многие крупные страны вне Североатлантического сообщества – включая Россию – отказываются воспроизводить опыт США и идти по предписанному ими пути к демократии и свободному рынку. Не желая платить за внимание и участие Вашингтона в своих делах, они тем самым отрицают значение победы Америки в холодной войне. Внешнеполитические неудачи и относительное снижение возможности влиять на мировые дела побуждают Соединенные Штаты прислушиваться к независимым голосам. Новацией последних месяцев стало возвращение в лексикон американского руководства понятия «две сверхдержавы», которое использовали Обама и Керри для описания российско-американских отношений.
Сокращение участия США в мировых процессах крупные мировые державы не рассматривают как риск. Альтернативу одностороннему американскому доминированию они видят в формировании региональных комплексов безопасности, в которых порядок поддерживается консенсусом местных государств. Они аргументированно указывают на то, что такие системы существуют де-факто в поясе границ России, Китая, в Европе и в Латинской Америке. Результаты десятилетней активности американцев на Ближнем Востоке убедили эти страны в неготовности Вашингтона квалифицированно исполнять лидерские функции на благо общим интересам.
Тем временем США в правление Обамы не отказываются от приоритетной цели по демократизации мира. Пока Соединенные Штаты отступают – снижают планку задач, привлекают ресурсы союзников, раздвигают временные рамки достижения целей. Подлинный пересмотр приоритетов американской политики произойдет, когда и если ресурсы адаптации стратегии окажутся исчерпаны.
А.А. Сушенцов – кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО (У) МИД России.
Ближневосточный «кубик Рубика»: проблемы сборки
Размышления о первом этапе «арабской весны»
Сейчас трудно представить себе войны за территории. В основе будущих столкновений могут лежать только виртуальные, искусственно искаженные стереотипы массового сознания. Сирийский кризис дает в этой связи немало пищи для размышления.
В середине мая в Марракеше, туристической столице Марокко, прошла очередная встреча Ближневосточного диалога Международного дискуссионного клуба «Валдай». Помимо обычного круга «странствующих политологов» в ней приняли участие представители исламских партий и группировок – от египетских «Ан-Нур» и «Джамаа исламия», ливанской «Хезболлы» и палестинской ХАМАС до «Братьев-мусульман» и тунисской «Ан-Нахды». Интерес к встрече предопределила актуальная повестка дня – «Ислам в политике: идеология или прагматизм?».
Как вскоре выяснилось, встреча в Марракеше совпала по времени с завершением первой фазы «арабской весны», причем с провальными результатами. Вместо движения от авторитаризма к демократии регион качнуло в сторону новых форм авторитаризма, лишь слегка прикрытых фиговым листком народного волеизъявления. В Марракеше, за полтора месяца до событий в Египте, эти тенденции только начинали прорисовываться. Но неординарность алгоритма, по которому пошло демократическое переформатирование региона, становилась более или менее очевидна. Один из участников встречи генеральный секретарь Партии национального диалога Ливана Фуад Махзуми сравнил его со сборкой ближневосточного «кубика Рубика».
Попытки собрать ближневосточный «кубик» продолжаются уже многие десятилетия. Порой чудилось, что вот-вот – и за очередным проворотом его граней возникнет желанная гармония цветов и пропорций. Ан нет. Трудно ожидать результата, когда кубиком одновременно манипулируют несколько рук.
КУБИК ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ
Это стало особенно очевидным с весны нынешнего года, когда ближневосточный «кубик Рубика» вдруг задергался, защелкал гранями как счетчик Гейгера, перенастроенный на химоружие. События, закрутившись вокруг Сирии, пошли вширь, начали наползать друг на друга. Похоже, что в движение «кубик» привели два фактора, неочевидно, но тесно связанные между собой – российско-американская инициатива по созыву «Женевы-2» и успехи сирийских правительственных войск в борьбе против мятежников.
Начнем с «Женевы-2», о подготовке к которой Сергей Лавров и Джон Керри объявили 7 мая в ходе визита госсекретаря США в Россию. Имелось в виду, что конференция будет проходить под эгидой ООН на базе заключительного коммюнике «группы действий» по Сирии, выработанного на предыдущей женевской встрече в июне 2012 года. Этот документ предусматривал создание в Сирии переходного органа власти, но не требовал немедленного ухода Асада с президентского поста.
Это вызвало серьезную тревогу, чтобы не сказать панику в рядах сирийской оппозиции и ее региональных спонсоров, в том числе и потому, что к моменту обнародования российско-американской инициативы ни у кого уже не вызывало сомнений, что наметившийся разворот в сторону политико-дипломатического решения обусловлен неблагоприятным для противников Асада развитием военной ситуации. С марта-апреля правительственные войска неспешно, но методично перехватывали инициативу. Был освобожден город Идлиб, контролировавший коммуникации боевиков с Ливаном. В районах, пограничных с Турцией, курды, сохранявшие до этого нейтралитет, начали отвечать на участившиеся провокации со стороны джихадистских групп оппозиции, получавших подкрепления от Саудовской Аравии и Катара через территорию Турции. Обострилась напряженность и в местах компактного проживания друзов вдоль сирийско-израильской границы.
Изменению военно-стратегической обстановки в пользу правительственных войск способствовал и углублявшийся по мере военных поражений раскол между светским прозападным крылом оппозиции, опиравшимся на Сирийскую свободную армию, и группировками радикальных исламистов. В середине мая боевики попытались объединить две свои основные группировки: «Исламское государство Ирака и Леванта», просочившуюся из Ирака и действующую под прямым руководством «Аль-Каиды», и сирийскую «Джабхат ан-Нусра». Объединение не состоялось. Но дало толчок к смене тактики: халифатисты приступили к созданию в «освобожденных районах», пограничных с Турцией и Ираком, «эмиратов», жизнь в которых строилась на основе норм шариата.
В этих условиях 3 и 5 мая, как раз в то время, когда Керри и Лавров готовились объявить в Москве о созыве «Женевы-2», Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по сирийским военным объектам в районе Дамаска, мотивировав их стремлением предотвратить попадание химического оружия в руки джихадистов. Тема неконтролируемого расползания сирийского химоружия фигурировала и в ходе прошедших в начале июня на территории Иордании военных маневров с участием 19 государств. Встык с ними крупные военно-морские учения (41 участник) состоялись в Персидском заливе, вблизи берегов Ирана. Незадолго до этого, 22 мая, в Аммане в очередной раз встретились «Друзья Сирии» – группа, созданная в феврале 2012 г. в Тунисе для координации международной помощи противникам Асада (показательно, что если в предыдущей встрече в Марракеше приняли участие 114 «друзей», то в столице Иордании их было всего 13). Лейтмотивом дискуссий стал вопрос об оказании военной помощи оппозиции, которая связывала свои поражения с отсутствием у нее современного вооружения. Звучали в Аммане и идеи создания в Сирии буферной (с центром в Алеппо) или бесполетной зоны по образцу ливийской. В это же время сенатор Джон Маккейн (а чуть позже и госсекретарь Керри) высказались за бомбардировку сирийской военной инфраструктуры.
Все эти демонстрации были так или иначе связаны со стремлением региональных противников режима Асада, прежде всего Саудовской Аравии, форсировать силовое решение сирийской проблемы, сыграв на опережение российско-американской инициативы по созыву «Женевы-2». Параллельно с попытками реанимировать формат «Друзей Сирии» саудовцы вплотную занялись консолидацией рядов Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС), где наметился тактический союз светских группировок с «Братьями-мусульманами», находившимися под опекой Катара. В ходе перевыборов руководства НКРОС, прошедших в Стамбуле, саудовцы сначала добились отставки его председателя Моаза Хатыба, близкого к «братьям» (единственный член руководства НКОРС, выразивший готовность к диалогу с Асадом в ходе подготовки «Женевы-2»), а потом, в июле, провели на этот пост своего ставленника Ахмеда Джарбу. Однако переломить баланс сил в НКОРС саудовцам на этом этапе не удалось – из «своего» списка в 25 человек провести в руководящий орган оппозиции они смогли только шестерых. В результате подковерная борьба за влияние на сирийскую оппозицию между саудовцами и Катаром обострилась. Региональные спонсоры сирийских мятежников раскололись на две противоборствующие группировки: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию, с одной стороны, и Катар и Турцию – с другой.
27 мая Лавров и Керри в Париже обсудили подготовку к созыву «Женевы-2». Официальный Дамаск согласился на участие в конференции. Сирийская оппозиция, несмотря на давление американцев, такого согласия не дала. Командующий Сирийской свободной армией генерал Идрис категорически отказался от участия в конференции; руководство НКОРС заявило о готовности обсуждать в Женеве только вопрос об отстранении Асада от власти. В дальнейшем под воздействием продолжавшегося изменения военно-стратегической ситуации в пользу Дамаска подходы оппозиции только ужесточалась. К июлю представители НКОРС в качестве условия своего участия в конференции в Женеве добавили (разумеется, неофициально) требование о восстановлении «военного паритета» с правительственными войсками.
Однако 5 июня сирийская армия, усиленная боевыми подразделениями ливанской «Хезболлы», взяла небольшой, но имеющий ключевое стратегическое значение город Кусейр. Это имело решающее значение для последующих событий. И не только потому, что восстанавливало прямую связь Дамаска с приморскими алавитскими районами, включая порты Тартус и Латакия, через которые шли военные поставки Дамаску. Цена победы выше: речь шла о наметившемся морально-политическом переломе в ходе длившейся два с половиной года гражданской войны. Складывалось впечатление, что режим, опирающийся на поддержку широких слоев населения, выстоял в тяжелейшей конфронтации с оппозицией, политическая часть которой выглядела беспомощной в сравнении с мусульманскими экстремистами, наемниками и джихадистами, воевавшими на ее стороне. Пришло время вспомнить, что «Джабхат ан-Нусра» еще в декабре 2012 г. была занесена американцами в черные списки террористических организаций.
После падения Кусейра сирийская оппозиция и ее региональные спонсоры развязали массированную антишиитскую кампанию, обвинив «Хезболлу» и Иран во вмешательстве в сирийские дела. Саудовская Аравия и страны Персидского залива разорвали отношения с «Хезболлой». Их примеру вскоре (после смены власти в Катаре) последовали «Братья-мусульмане» в Египте. В региональные СМИ была вброшена тема возможного раздела Сирии на три анклава – алавитский (шиитский), суннитский и курдский.
Меняющийся региональный контекст событий в Сирии и «арабской весны» в целом подчеркнули и июньские массовые волнения в Турции, вылившиеся в острый конфликт правящей Партии справедливости и развития (ПСР), близкой по своим идейным истокам к «Братьям-мусульманам», со светским средним классом. Одной из составляющих противостояния было недовольство растущей вовлеченностью правительства Реджепа Эрдогана в сирийский кризис на стороне противников Асада, которую турецкие националисты связывали с крайне непопулярной в их среде инициативой ПСР по примирению с курдами. Массовые волнения в Стамбуле показали, что с «турецкой моделью» демократического переформатирования региона далеко не все в порядке. Кроме того, турецко-катарская связка во внешнем круге региональных спонсоров гражданской войны в Сирии оказалась существенно ослабленной. Это, похоже, придало уверенности действиям саудовцев в преддверии предстоявшей смены власти в Катаре и Египте.
14 июня по итогам президентских выборов к власти в Иране пришел умеренный реформатор Хасан Роухани, сразу же обозначивший готовность отойти от политики лобовой конфронтации с Западом, проводившейся его предшественником. В мире заявления нового иранского президента вызвали позитивный отклик. Из региональных держав только Саудовская Аравия и Израиль оценили изменения в Иране как тактическое маневрирование при оставшихся неизменными стратегических целях создания собственного ядерного оружия и экспансии. Проекция подобных подходов на сирийский кризис неизбежно вела к еще более тесному увязыванию сирийского вопроса с задачей изоляции и ослабления «режима аятолл».
Июнь завершился «тихим переворотом» в Катаре. 25 июня эмир Хамед бин Джасем Аль Тани передал власть сыну Тамиму бин Джасему Аль Тани. Подоплека такого шага более или менее ясна. При прежнем эмире Катар стал основным финансовым и медийным (телеканал «Аль-Джазира») спонсором режима «Братьев-мусульман» в Египте и исламской оппозиции в Сирии. Эта линия вошла в острое противоречие с интересами «заливных» монархий, прежде всего Саудовской Аравии, усматривавшей в политическом исламе серьезную угрозу для выживания полуфеодальных режимов на южной периферии Большого Ближнего Востока. Вследствие этого за кулисами катарского переворота многим виделась фигура принца Бендера, шефа саудовской разведки. Прошло всего несколько дней, и саудовцы уверенно вышли из-за кулис региональной политики.ЕГИПЕТ: СБОЙ В СБОРКЕ КУБИКА?
Военный переворот в Египте, грянувший 3 июля, стал одной из тех «ожидаемых неожиданностей», которые заложены в алгоритм «арабской весны». Поддержанный американцами эксперимент со строительством демократии с опорой на «Братьев-мусульман» с самого начала выглядел сомнительно. Понадобился, однако, ровно год, чтобы понять: путь к демократии на Ближнем Востоке будет проходить не по дорожкам, проторенным в соответствии со схемами, разработанными в Стэнфордском университете, а по ухабам вековых традиций, социальных и религиозных предрассудков, многоукладной экономики и расколотого общества, в котором армия является более мощным консолидирующим фактором, чем ислам.
Конечно, за год пребывания у власти Мухаммед Мурси наделал много ошибок, за которые несет личную ответственность. Главное: он не понял, что его задача заключалась в том, чтобы находить национальный консенсус, сплачивать те силы, которые могли бы способствовать решению стоящих перед страной проблем. Но он сосредоточился на вопросах, в наибольшей степени отвечавших интересам исламистов. Продавил конституцию, в которой был фактически узаконен шариат, что вызвало острый конфликт с судейским корпусом и в целом со светской оппозицией, решившей, что «братья» «украли у народа его революцию». Принял конституционную декларацию, серьезно расширившую его полномочия, что стоило ему обвинений в узурпации власти. А затем на волне эйфории от этих, как ему казалось, побед начал продвигать своих людей на ключевые посты в исполнительной власти. В народе этот курс назвали «ихванизацией» страны (от арабского «ихван» – «братья»).
Став президентом, Мурси формально вышел из рядов «Братьев-мусульман». Однако духовный лидер «братьев» играл, по всеобщему убеждению, серьезную, возможно, главную роль в политике, проводившейся при Мурси. В результате складывалось впечатление, что в Египте формировалась система, которая могла бы стать неприемлемым для «заливников» симбиозом суннитской (турецкой) и шиитской (иранской) моделей исламской демократии. От иранской модели было взято теневое исламистское руководство, которое из-за кулис дирижирует политическими событиями.
Мурси серьезно недооценил военных. Он не понял, что исламисты были нужны армии, чтобы сохранить своеобразный «иммунитет от демократии», ограждавший их корпоративные политические и экономические привилегии. Мурси проглядел и изменившееся отношение светской оппозиции к армии как к гаранту необратимости демократических изменений, ставшее главной предпосылкой событий 3 июля. А, судя по всему, координация между ними осуществлялась уже на раннем этапе развития событий.
Однако главные причины скорого и бесславного окончания политической карьеры Мурси были все же коренятся в его сложных отношениях со странами Персидского залива. Как представитель «братьев» Мурси выступал с позиций панисламизма. Этим он отражал философию и политическую программу «Братьев-мусульман», широко представленных по всему исламскому миру. Он попытался, особенно в самом начале своей деятельности, встать над суннитско-шиитскими разногласиями. Первый визит Мурси совершил в Саудовскую Аравию, второй – в Иран. Предложил создать четырехстороннюю комиссию (Египет, Саудовская Аравия, Турция и Иран) для обсуждения сирийских проблем. Наличие в этой комбинации Ирана, конечно, раздражающе подействовало на Саудовскую Аравию и другие страны Залива. Дело в том, что «заливники» исторически очень настороженно относятся к «Братьям-мусульманам». В Саудовской Аравии, Эмиратах их деятельность была запрещена после вторжения американцев в Ирак в 2003 г., когда организация резко осудила приглашение иностранных войск для смены режима в братской арабской стране.
Новый виток разногласий был связан с «арабской весной». Суть их, если говорить кратко, – в неприятии Саудовской Аравией самой идеи соединения ислама и демократии как движения, идущего «снизу» и тем самым несущего потенциальные угрозы монархическим режимам. «Братья-мусульмане», имеющие сетевые структуры по всему исламскому миру, представляют для традиционалистов Залива серьезную опасность в связи прежде всего со своими возможностями апеллировать к массам. В общем-то в этом и состояла главная, неафишируемая причина их запрещения. Своеобразие ситуации только подчеркнуло то обстоятельство, что социальная концепция «братьев» оказалась более совместимой с западными стандартами демократии – в отличие от салафитов и ваххабитов, которых поддерживают в Заливе, поскольку те не покушаются на авторитет и власть абсолютного монарха.
Похоже, что и этот потенциальный конфликт Мурси просмотрел. Уже на второй день после переворота, 4 июля, израильский интернет-портал «Дебка-файл» сообщил о том, что египетские военные координировали свои действия с Саудовской Аравией (ас-Сиси служил там одно время в качестве египетского военного атташе) и ОАЭ во время подготовки переворота. Эта информация затем получила подтверждение и в целом ряде арабских источников, вскрывших ключевую роль в координации усилий по свержению Мурси бывшего премьер-министра Египта Ахмеда Шафика, живущего ныне в ОАЭ. На причастность стран Залива к событиям в Египте указывает и то, что они уже в течение первой недели после переворота оказали существенную финансовую помощь новому режиму.
В целом события, связанные с июльским переворотом в Египте, высветили новую роль, которую начинают играть в контексте «арабской весны» нефтедобывающие монархии Персидского залива. Нажав на рычаги своего финансового влияния, страны Залива стремятся скорректировать ход, а возможно, и содержание «арабской весны», перефокусировать ее лозунги с модернизации социально-политической доктрины ислама на борьбу с экстремизмом (терроризмом). С такой линией действий они связывают перспективу собственного политического выживания. Но здесь уже намечаются новые базовые противоречия. Во-первых, в реальной ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке, родственные саудовцам ваххабиты и салафиты давно уже сами имеют репутацию экстремистов. Как совместить с реальностью вытекающие из этого риски, пока остается открытым вопросом. Во-вторых (и это важнее), «заливники», в т.ч. саудовцы, явно не располагают достаточным политико-дипломатическим и военным инструментарием, необходимым для выхода на лидирующие роли в региональных делах. Показательно в этом смысле, что генерал ас-Сиси, покровителем которого пытаются выступить саудовцы, отказался, несмотря на давление Эр-Рияда, поддержать сценарий американского «воспитательного» удара по Сирии. Для реализации своих региональных амбиций саудовцам придется искать дополнительные ресурсы.ГЛОБАЛЬНЫЙ КУБИК. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Новый этап «арабской весны», начавшийся с военного переворота в Египте, будет, судя по всему, еще более сложным. Ситуация в Ираке, Сирии, Ливии, в меньшей степени в Тунисе и Йемене не настраивает на оптимистический лад. Общим для всех стран является развал государственности, нарастание экономических трудностей на фоне углубления социальной поляризации. Вполне очевидная причина – отсутствие национального консенсуса по «поставторитарной» повестке дня, неспособность ни одной из общественных сил – исламистов разных мастей и оттенков, националистов, либералов прозападного толка – в одиночку выполнить масштабные задачи демократического переустройства.
Но вектор движения региона предопределен логикой глобального развития. В исторической перспективе Большому Ближнему Востоку предстоит адаптировать принципы демократии к местным условиям, прежде всего к традициям и идеологии ислама. Это единственная общеприемлемая основа для формирования национального и регионального консенсуса. Проблема, однако, в том, что задачи нового этапа предстоит решать при участии не скрывающих своей аллергии к демократическим реформам нефтедобывающих монархий Персидского залива, которые в силу своих огромных финансовых ресурсов оказались на авансцене ближневосточной политики. Похоже, что всем нам в очередной раз предстоит убедиться, что деньги при отсутствии идей способны затормозить, но не переломить ход истории.
В этом, по-видимому, состоит и скрытая подоплека накала страстей вокруг Сирии. Интересно, что схемы действий саудовцев в отношении «диктаторского режима» Асада, как и за два месяца до этого против «Братьев-мусульман» в Египте, были принципиально схожими. В обоих случаях речь шла о том, чтобы сформировать повод для силового вмешательства третьей стороны. В Египте – армии, в Сирии – американцев. Причем и в том и в другом случае тактические цели саудовцев совпали с интересами как Турции, так и Израиля, для которого хаос на Ближнем Востоке, вызванный «арабской весной», обернулся растущими угрозами безопасности. В результате давление на Барака Обаму в вопросе удара по Сирии достигло критического уровня. В целом по ходу развития сирийского кризиса порой складывалось впечатление, что мировая супердержава сама стала объектом манипуляций своих ближневосточных клиентов.
Это исключительно опасное развитие событий, поскольку основной смысловой нагрузкой второго этапа «арабской весны» и для саудовцев, и для Израиля будет Иран. Шиитская модель поведения – экзистенциальная угроза не только для еврейского государства, но и для полуфеодальных монархий Персидского залива. Это основная причина неприятия ими сирийского режима, являющегося главным союзником Тегерана в регионе. Именно данное обстоятельство и определило глобальный резонанс сирийского кризиса как имеющего в подтексте взрывоопасные темы Ирана и суннитско-шиитской конфронтации.
В целом регион явно приближается к опасной черте. Процессы, рожденные «арабской весной», выходят из-под контроля, причем не в последнюю очередь по причине отсутствия у Запада адекватного видения стратегической перспективы и побочных следствий демократизации региона. Не выдержала столкновения с реальностью ставка американцев на «Братьев-мусульман» как пионеров политического ислама. В Ираке, Ливии, ряде других ближневосточных государств усиливаются тенденции к дезинтеграции. Во весь рост встает проблема радикального ислама, имеющего – хочется признавать это кому-то или нет – выраженную антизападную направленность. Вполне очевидно, что в этих условиях на первый план выходит задача выработки скоординированной линии международного сообщества для предотвращения выхода региональной ситуации в неконтролируемое русло.
Но, как показало развитие сирийского кризиса, великие державы, вовлеченные в ближневосточные дела, говорят на разных языках. В чем причина такой разобщенности? Ответ, если попытаться вникнуть в суть проблемы, очевиден: миропорядок, приходящий на смену холодной войне, выстраивается хаотически, как набор конструктивных и не очень двусмысленностей. Окончание блокового противостояния после распада Советского Союза, глубокие политические сдвиги в странах Восточной Европы, на Балканах восприняты на Западе (во многом справедливо) в качестве исходной точки глобальной трансформации международных отношений. Однако окончание холодной войны не сопровождалось разработкой договоренностей о содержании и формате такой трансформации. Не адаптированы к изменившемуся балансу сил в мире и действующие структуры обеспечения международной безопасности, включая ООН. Следствием этого стало создание страховочных механизмов глобальной стабильности – «восьмерки», затем «двадцатки» с параллельным расширением зоны ответственности НАТО.
В этих условиях ценности, победившие в холодной войне, – демократия, права человека, рыночная экономика – начали восприниматься как необходимая предпосылка устойчивого развития и одновременно регулятор и критерий прогресса. Как результат на Западе, прежде всего в США, сформировалось понимание своей лидирующей (доминирующей) роли в мировых делах, базирующейся на продвижении демократии как главного компонента нового миропорядка.
Однако реальная картина мира после окончания холодной войны оказалась гораздо сложнее. Императивы геополитики, конфликт индивидуальных и групповых интересов по-прежнему превалируют над идеологией. Россия в этих условиях действует – и это, на наш взгляд, единственно возможная для нее позиция – в логике ялтинско-потсдамской системы, базирующейся на безусловном признании приоритета принципа государственного суверенитета и центральной роли ООН. Что касается Соединенных Штатов и их союзников, то они давно уже живут в иной системе политических и правовых координат, в которой продвижение демократии в мире поставлено выше суверенитета.
Это базовое, понятийное расхождение наглядно проявилось и во время сирийского кризиса, ставшего, в сущности, частным случаем разбалансированности общей ситуации в мире. На разных этапах кризиса Владимир Путин убежденно говорил о недопустимости использования силы против суверенного государства без санкции Совета Безопасности ООН. А Обама страстно отстаивал право президента и Конгресса США принимать решение о нанесении военного удара против страны, заподозренной в преступлении против человечности.
Парадокс в том, что при этом речь явно не шла о конфликте интересов в традиционном понимании. Соображения конкурентной борьбы, в частности в связи с путями доставки газа из Катара или Ирана в Европу, которые на определенном этапе назывались главной причиной конфликта вокруг Сирии, возможно, имели место. Но дело все же не в этом. Стратегические задачи главных мировых игроков – России, Соединенных Штатов и Евросоюза – на Ближнем Востоке совпадают в главном – стремлении сохранить стабильность в этом взрывоопасном регионе.
К счастью, на критическом этапе сирийского конфликта, когда речь зашла об использовании силы в связи с обвинениями режима в применении химического оружия против гражданского населения, ресурс здравого смысла и у внешних игроков, и у Дамаска оказался достаточным, чтобы остановить сползание к силовому сценарию, чреватому непредсказуемыми последствиями. Чрезвычайно важным уроком сирийского кризиса стала поддержка парламентами и общественностью широкого круга стран курса, проводимого президентом России. Но достигнутый успех – тактическая передышка, далеко еще не победа. Стратегический прорыв может быть связан только с окончательным политико-дипломатическим урегулированием сирийского кризиса, важным для общего оздоровления обстановки на Ближнем Востоке.
Уместен, на наш взгляд, и более далеко идущий вывод: для избежания рецидивов перехода локальных кризисов в опасную фазу нужно договариваться по базовым понятиям формирующейся новой системы глобальной безопасности. Задача архисложная, требующая «двухтрековой дипломатии», поскольку речь пойдет о вещах, которые практические политики всегда считали уделом идеалистических мечтаний философов. О нравственной основе глобализующегося мира, о самоограничении как предпосылке гармоничного развития, о разных моделях демократии, религиозной и этнической толерантности, гражданских правах и нравственных обязанностях, положении национальных меньшинств. О Западе и Востоке, которым в XXI веке приходится сходиться, несмотря на глубоко вошедшую в наше сознание максиму Редьярда Киплинга. Наконец, о давно назревшей необходимости привнести в международные отношения те же принципы плюрализма мнений, которые лежат в основе демократических систем на национальном уровне. И о многом другом, без чего урегулировать новые локальные кризисы будет все труднее.
Такая постановка вопроса только на первый взгляд кажется оторванной от реальности. Мир стремительно и, повторим, хаотически меняется. Угрозы глобальных потрясений перемещаются из традиционной сферы геополитики в область «мягкой силы». В новые времена трудно представить себе войны за территории. В основе будущих столкновений могут лежать только виртуальные, искусственно искаженные стереотипы массового сознания. Сирийский кризис как кульминация «арабской весны» дает в этом отношении немало пищи для размышления.
Крайняя сложность задачи понятна. Гармонизация мира через гармонизацию наших представлений о нем – скорее, процесс, чем результат. Процесс, в котором помимо политиков и дипломатов должны участвовать историки, философы, бизнесмены, студенты, домашние хозяйки. Представители развитых демократий и исламисты, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Саудовцы, израильтяне, иранцы, русские, американцы, китайцы, французы, поляки – все. Организацию такого диалога вполне могла бы взять на себя ООН. Его естественное место – в социальных сетях интернета.
Сегодня это может показаться очередным проявлением российской прекраснодушной мечтательности. Но завтра – кто знает? – из этого может вырасти алгоритм сборки не только ближневосточного, но и глобального «кубика Рубика». В эпоху интернета народ умнеет быстрее своих правителей.
П.В. Стегний – доктор исторических наук, чрезвычайный и полномочный посол, член Российского совета по международным делам.
Непропорционально великая держава
Как Катар воспользовался обстоятельствами, но может стать их жертвой
По иронии истории позиция главного защитника и покровителя восстаний в Северной Африке досталась абсолютной монархии. В условиях всплеска протестной активности арабских масс Катар смело занял сторону «народа», открыто агитируя за перемены в соседних странах.
Первые два года «арабской весны» были отмечены небывалой политической активностью крошечного государства – Катара, который играл ведущую не только региональную, но, пожалуй, и мировую роль во время событий в Ливии, а потом в Сирии. В условиях всплеска протестной активности арабских масс Доха смело заняла сторону «народа», открыто агитируя за перемены в соседних странах. По иронии истории позиция главного защитника и покровителя восстаний в Северной Африке досталась абсолютной монархии.
В отличие от властей большинства стран региона, которых «арабская весна» откровенно напугала, катарское руководство чувствовало себя уверенно. Ситуация в стране оставалась стабильной, форма правления относительно прогрессивна по сравнению со многими соседями, но при этом централизована и управляема сверху вниз. Главное – правящий режим воспринимался как легитимный и в стране, и за ее пределами. Обладая богатыми источниками «мягкой силы» и при этом не будучи связанными с престарелыми и недееспособными режимами в Тунисе, Египте, Ливии, катарские лидеры воспользовались массовыми протестами в этих странах, чтобы резко нарастить свою региональную роль – вроде бы из альтруистических побуждений. Отсутствие внутренних сдерживающих факторов при принятии решений позволило официальным лицам во главе с бывшим эмиром шейхом Хамадом бен Халифа Аль-Тани и его премьер-министром шейхом Хамадом бен Джассим Аль-Тани превратить Доху в главного внешнего игрока на фронтах сирийской гражданской войны. Однако свертывание «арабской весны» в Египте в июле 2013 г. бросает опасный вызов новому эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамад Аль-Тани, который взошел на трон за неделю до поразительного «демонтажа» всех революционных завоеваний в Египте.
КАТАР И ИСЛАМИЗМ
До 2011 г. катарская региональная и внешняя политика была сосредоточена на дипломатическом посредничестве. Энергичные усилия по достижению мирного урегулирования в Ливане, Йемене, Судане и других странах арабского и мусульманского мира снискали Дохе славу «неустанного миротворца». Страна стала пользоваться заслуженной репутацией вполне беспристрастного и честного поверенного, не обремененного историческим багажом, который лишал мобильности региональных тяжеловесов: Египет и Саудовскую Аравию.
Наиболее убедительно миротворческие усилия Катара можно объяснить желанием создать благоприятный имидж государства и тем самым – условия для проведения независимой внешней политики. Это своеобразная попытка преодолеть «дилемму безопасности», с которой сталкиваются небольшие страны наподобие Катара, через позиционирование себя в качестве нейтрального, но влиятельного партнера непохожих региональных и международных акторов. Монархия обрела больше пространства на мировой арене, нежели то, на которое могло рассчитывать такое маленькое государство, а позитивный образ позволяет привлекать иностранные инвестиции, бизнесменов и туристов.
Демонстративное поведение Катара во время «арабской весны» поначалу кажется отступлением от описанной стратегии, однако коррективы курса скорее вызваны резким изменением обстоятельств, чем фундаментальным сдвигом подхода. Палестинский ученый Халед Хруб считает действия Дохи естественным продолжением ее активной и все более настойчивой внешней политики в последнее десятилетие. Во время событий 2011 г. катарские правители были уверены в том, что согласованных и организованных беспорядков у них дома не случится, поэтому посчитали возможным вести себя более напористо по всем направлениям. К тому же решительные действия в отношении стран и режимов, Катару неблизких (в отличие от правящей в соседнем Бахрейне семьи Аль-Халифа, которой позволили и даже помогли жестоко подавить волнения), способствовали тому, чтобы перенаправить внимание вовне от проблем, связанных с отсутствием либерализации внутри самого Катара.
Реакция Дохи на «арабскую весну» стала продолжением более ранних тенденций. После 1995 г., когда к власти пришел Хамад бен Халифа Аль-Тани, внешнюю политику Катара отличало стремление к постоянному уравновешиванию явно конкурирующих между собой политических сил. Так, и в 2011 г. монархия заявила о себе в качестве союзницы Запада в арабском мире (требования гуманитарной интервенции в Ливии и политического урегулирования в Йемене), одновременно активно поддерживая исламистские движения в регионе. Решение использовать свое влияние и вес для поддержки исламистов, зачастую связанных с «Братьями-мусульманами» и региональными ответвлениями этого движения, также было кульминацией длительных перемен. Гидо Штейнберг, эксперт в области политического исламизма, отмечает, что в какой-то момент «Доха признала: исламисты станут следующей крупной силой в североафриканской и ближневосточной политике, и поэтому начала прилагать усилия для сближения с ними... Вокруг Юсуфа аль-Карадауи [живущий в эмиграции в Катаре египетский идеолог “братьев”] стало формироваться сообщество “Братьев-мусульман” в изгнании».
Формально Катар придерживается ваххабизма и ханбалистской школы исламского права, а ее акцент на повиновении правителю явно идет вразрез с популизмом движения «братьев», призывающего простых мусульман к противодействию властям, если того требуют обстоятельства. Это не помешало укреплению связей, которые берут начало с наплыва в страну «Братьев-мусульман», спасавшихся от гонений со стороны националистических и социалистических движений в Египте времен Насера в 1950-е и 1960-е гг., и из Сирии после резни в Хаме, устроенной Хафезом Асадом в 1982 г. для истребления радикальных исламистов. Многие из тех, кто нашел убежище в Катаре, устроились на работу учителями и госчиновниками, формируя политические взгляды молодого поколения. То же наблюдалось и в других странах Персидского залива. Однако если Кувейт и (в меньшей степени) Саудовская Аравия попытались одомашнить или «окультурить» гостей, Доха расширяла и диверсифицировала связи с региональными ветвями этого движения, не позволяя его активистам развернуться внутри Катара. Хотя аль-Карадауи и его сообщники получили возможность высказывать свои взгляды на канале «Аль-Джазира» после его создания в 1996 г., их пребывание в Катаре было негласно обусловлено тем, что они не станут вмешиваться во внутренние дела эмирата и комментировать происходящие там события. Как отмечает Бернард Хейкель, «Катару удалось искусно управлять энергией “братьев” и направлять ее во внешний мир».
Благодаря взаимодействию с видными деятелями исламистского движения Катар наладил тесные связи со многими оппозиционными лидерами, готовыми играть ведущую роль в революционных волнениях в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и Йемене. Поначалу лейтмотивом народных бунтов и восстаний служили общие требования политических и экономических свобод, уважения человеческого достоинства и социальной справедливости. Заводилы не выдвигали специфических исламистских лозунгов и не ставили целей и задач создания исламского государства. Однако организационный потенциал исламистов предопределял тот факт, что они смогут лучше воспользоваться открывающимися электоральными возможностями и ростками представительной демократии.
Это позволило Катару оказывать двоякое воздействие на страны, переживавшие волнения: благодаря личным связям с бывшими изгнанниками, вернувшимися из Дохи на родину, и через институциональное влияние, поскольку «братья» стали влиятельным игроком в этот переходный политический период.ИДЕАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ
С точки зрения соотношения ресурсов и потребностей Катар находится в уникальном положении. Он практически обезопасил себя от любого выражения недовольства в политической или экономической сфере. Уровень ВВП на душу населения в 440 тыс. долл. во много раз превышает показатель развитых стран Европы и Северной Америки. Чувство комфорта и безопасности, превалирующее среди граждан, неизбежно ведет к политической апатии и заглушает стремление к демократическим преобразованиям – жители Катара не склонны раскачивать лодку. Ежегодный опрос арабской молодежи показал, что число тех, кто считает демократию важным институтом, сократилось с 68% в 2008 г. до 33% в 2010 году. Это резко контрастирует даже с соседними государствами, такими как ОАЭ, где процент заявивших о важности демократии существенно вырос с 58% в 2008 г. до 75% в 2011 году.
Аналогичные результаты выявил Опрос об общемировых ценностях, проведенный (впервые в истории) в декабре 2010 г. научно-исследовательским подразделением Катарского университета. Накануне «арабской весны», начавшейся в разгар сбора анкет, эта крупнейшая и наиболее показательная выборка настроения продемонстрировала, что почти две трети респондентов (64%) считают «экономический рост» национальным приоритетом на предстоящее десятилетие. Цифра существенно превышала число тех, кто желает видеть более «представительную» демократию (16%) или даже «мощную оборону» (15%). Более того, катарцы заявили о гораздо более высоком уровне доверия государственным институтам (полиция, армия, суды и государственные учреждения), чем их сверстники в других арабских странах: 75% и 74% соответственно полностью удовлетворены полицией и армией; для сравнения – в Марокко этими институтами довольны лишь около 30%.
Примечательно, что катарская общественность не продемонстрировала такого же уровня доверия международным организациям: лишь 8% верят в работу ООН. Анализируя полученные данные, Юстин Генглер изSESRI и Марк Тесслер из Мичиганского университета отметили, что гражданское общество и общественная жизнь в Катаре «не подрывают устои традиционного общества и господствующего режима, а скорее являются их продолжением: наиболее активны те, кто получает максимальную выгоду и кто может больше всего потерять от любого пересмотра политического статус-кво».
Это не означает, что в катарском обществе не существует разных мнений. Интеллектуалы и ученые начали выражать сомнения в правомерности стратегий национального развития в эпоху головокружительного экономического роста. Особое беспокойство вызывает демографический дисбаланс, в результате которого граждане становятся в собственной стране постоянно сокращающимся меньшинством, если оценивать их как процент от общего населения. В преддверии чемпионата мира по футболу в 2022 г., подготовка которого предусматривает осуществление крупномасштабных и очень дорогих проектов, начинает ощущаться дефицит финансовых ресурсов, а также инфраструктуры для абсорбирования множества новых рабочих рук. Свыше 130 тыс. человек прибыли для работы в Катаре только с января по май 2013 года. Государственные и социальные службы просто не справляются с таким наплывом. То же можно сказать и об индустрии жилищного строительства, которая за тот же период смогла вывести на рынок только 10 тыс. квартир. Общее чувство неловкости и дискомфорта сквозит, например, в комментариях бывшего министра юстиции Наджиба аль-Нуаими для «Бюллетеня стран Персидского залива»: «Катар слишком много тратит последние пять лет, оставляя внутренние дела в плачевном состоянии. Если это продолжится до 2016 г., нам придет конец. Катар просто развалится как государство... На 2016 г. приходятся очень большие выплаты по облигационным займам, и если государство не сможет заплатить по долгам, с нами будет то же, что с Дубаем в 2008 году».
Несмотря на некоторые пессимистические прогнозы, чемпионату мира по футболу, право на проведение которого Доха выиграла буквально накануне «арабской весны», уделяется огромное внимание. Он призван позиционировать страну как тихую и безопасную гавань на фоне волнений, охвативших ближневосточный регион, продемонстрировать растущую роль эмирата на международной арене.
НА ВОЛНЕ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ
На ранних этапах «арабская весна» не представляла прямой угрозы Катару или его интересам за рубежом, напротив, очень способствовала их продвижению. Репутация Каддафи позволила Дохе, не опасаясь издержек, занять позицию обличителя диктатуры и тиранических режимов. Аналогичную возможность Катар получил, когда Сирия при Асаде лишилась легитимности на международной арене. В обоих случаях переход от посредничества в конфликтах к политике вмешательства был представлен как естественное развитие катарской дипломатии. Ее эффективность определялась двумя факторами – вертикальным устройством элиты, где решения принимаются строго сверху вниз, и способностью мобилизовать все возможности государственного капитализма для достижения поставленных целей. Кроме того, цели Катара несколько неожиданно оказались в одном русле с «общемировыми ценностями», что способствовало международной легитимации политики Дохи.
Неудачи в проецировании жесткой силы, которые испытали на Ближнем Востоке ведущие мировые державы (кампании в Ираке, Афганистане), открыли окно возможностей для обладателей «мягкой силы», на аккумулирование которой Катар потратил много сил начиная с 2000 года. По мере того как глобализация меняет само понятие «силы» в мировой политике и общее представление о каналах, по которым она может транслироваться, Катар и, в меньшей степени, ОАЭ смогли продемонстрировать, что небольшие страны способны играть непропорциональную их размерам роль на мировой арене. Растущая эффективность «мягкой силы», стабилизирующая роль суверенных фондов благосостояния, а также умелые инвестиции по миру позволили Катару выгодно разыграть свои козыри.
Во время кризисов в Ливии, а затем в Сирии наглядно появилось нечто новое: объединение различных инструментов «мягкой силы» с арсеналом силы жесткой, военной, для достижения определенных целей в регионе. Этот подход лежал в основе не слишком разрекламированного сдвига Дохи от дипломатического посредничества к интервенционистской внешней политике. Таким образом, действия Катара в 2011–2013 гг. можно рассматривать как последовательное продолжение его стратегии улучшения государственного имиджа и независимой внешней политики, но одновременно как реакцию на новые реалии Ближнего Востока.ПИК И НАЧАЛО СПАДА
В течение нескольких месяцев 2011 г. казалось, что «арабская весна» – это переломный момент во взаимоотношениях Запада и арабского мира, поскольку происходившие одно за другим восстания бросали вызов стереотипным представлениям западных людей о данном регионе. На ранних этапах волнений те нации, лидеры которых были достаточно дальновидны, чтобы возглавить процесс, получали политические, экономические и оборонные преимущества. Активность Катара (особенно в Ливии), умелое использование инструментов жесткой и «мягкой» силы находили отклик среди западных держав, которые считали эту страну своим ближневосточным рупором, агентом миротворчества и демократизации. Подобное признание увенчало десятилетние усилия Катара и позволило избавиться от негативного имиджа, осложнявшего взаимоотношения администрации Джорджа Буша с Дохой. Катар сыграл ключевую роль и в поддержании отношений между Западом и арабским миром на раннем этапе сирийского кризиса. Тогда эмират призвал Лигу арабских государств к решительным действиям после того, как работа СБ ООН забуксовала.
Успех лидеров Катара очевиден, о нем можно судить по комплиментам, звучащим на Западе. Министр обороны Франции Жерар Лонже выразил чувства многих, когда на радостях заявил (по поводу участия Катара в создании бесполетной зоны в Ливии), что «впервые Европе удалось достичь с арабским миром такой степени взаимопонимания». Еще более высокая похвала прозвучала из уст Барака Обамы по окончании его встречи с эмиром Катара в Белом доме в апреле 2011 г.: «Думаю, нам не удалось бы сформировать широкую международную коалицию, включающую не только страны НАТО, но и арабские государства, без лидерства эмира». Однако вечером того же дня на обеде для частных доноров в Чикаго тон Обамы был несколько иным. Не зная о том, что микрофон включен, он высказался об эмире следующим образом: «Довольно влиятельный парень, пропагандирующий демократию на Ближнем Востоке. Реформа, реформа, реформа – об этом денно и нощно вещает “Аль-Джазира”. Но сам он не слишком спешит реформировать свою страну. В Катаре демократизация идет ни шатко ни валко. Одна из причин в том, что доход на душу населения в Катаре – 145 тыс. долл. в год. Это позволяет легко гасить любые конфликты».
Ливийская кампания стала кульминацией в процессе «взросления» Катара и превращения его в заметный фактор международной политики. Но далее начался вполне естественный спад. Активное внешнее вмешательство, в том числе катарское, в Сирии не предотвратило сползания страны в пучину кровавой гражданской войны. Вскрылись факты теневого и не всегда приглядного участия Дохи в ливийском кризисе. Излишняя напористость стала вызывать ревность влиятельных соседей. В общем, недовольство Катаром начало расти, а это уже подрывает основы, созидавшиеся годами, в частности, репутацию эмирата как дипломатического посредника, поскольку его беспристрастность под вопросом. Повсеместно усиливается скептицизм относительно мотивов Дохи, особенно после того, как стало известно о рискованных играх катарского руководства, поддерживавшего «Братьев-мусульман» в Северной Африке и других местах. Главная опасность, по словам Лины Хатиб, в том, что «отсутствие последовательной внешней политики повышает риск дестабилизации в Катаре под воздействием внешних и внутренних факторов, и это идет вразрез с одним из главных мотивов катарской внешней политики: сохранение внутренней безопасности и стабильности».
Новое руководство, пришедшее к власти в Катаре 25 июня 2013 г., столкнулось с необходимостью противостоять этой негативной динамике. Отстранение через неделю от власти в Каире правительства «Братьев-мусульман» вынудило Доху работать в режиме сдерживания кризиса и заставило нового молодого эмира шейха Тамима бен Хамад Аль-Тани дистанцироваться от задиристой политики своего отца и, что еще важнее, от политики Хамада бен Джассима. Катар, щедро поддержавший в финансовом отношении каирское правительство «братьев», не участвовал в финансовой и топливной помощи переходному правительству, сменившему в июле президента Мурси, ее предоставили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ на общую сумму в 12 млрд долларов. Прежнее руководство эмирата публично поддержало политические силы и группировки, которые затем себя дискредитировали или были вытеснены на периферию политической жизни, нынешнее руководство вынуждено действовать на новом поле региональной политики. И эти новые условия почти диаметрально противоположны благоприятному для Дохи раскладу сил в начале «арабской весны», когда национальные интересы Катара совпадали с целями мятежников в странах Северной Африки.
Кристиан Коатс-Ульрихсен – научный сотрудник Института публичной политики Джеймса Бейкера при Университете Райса.
Более сотни человек погибли в течение недели вооруженных столкновений между боевиками шиитской племенной конфедерации "Аль-Хуси" и салафитами в северойеменской провинции Саада, сообщают в четверг арабские СМИ.
Начавшиеся в прошлую среду бои между шиитами и салафитами в Сааде после непродолжительного перемирия в понедельник, заключенного при посредничестве спецпосланника ООН Джамаля бин Омара, продолжаются до сих пор. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Салафиты обвиняют боевиков "Аль-Хуси" в применении "артиллерии и танков" при обстреле селения Дамадж. Со своей стороны, боевики "Аль-Хуси", называющие себя "Ансар Аллах" (сподвижники Аллаха), обвиняют салафитов в том, что к ним в Дамадж прибывают сотни боевиков из-за рубежа. По утверждению "Аль-Хуси", иностранцы превращают Дамадж в военный лагерь, что является "вопиющим нарушением суверенитета страны". Район селения Дамадж является суннитским анклавом в шиитской провинции Саада. Обосновавшиеся в этом районе несколько десятков лет назад сунниты создали в Дамадже религиозный учебный центр, который получил широкую известность среди салафитов, приезжающих сюда на учебу из различных мусульманских стран.
Выступая в четверг по телевидению, президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади призвал противоборствующие стороны к сдержанности, подчеркнув, что межобщинные столкновения в Сааде угрожают "сохранению стабильности и безопасности страны".
Вооруженные столкновения в провинции Саада периодически вспыхивают с 2011 года. Нынешние бои на севере Йемена происходят на фоне кризиса внутренней безопасности в стране. На юге страны не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды", а начатый после прихода к власти в 2012 году нового президента Абд Раббо Мансура Хади общенациональный диалог с целью выработки новой конституции до сих пор не привел к каким-либо положительным результатам.
Вооруженные столкновения в районе селения Дамадж в северойеменской провинции Саада между боевиками шиитской племенной конфедерации "Аль-Хуси" и местными салафитами, начавшиеся в среду и продолжившиеся в четверг, привели к новым жертвам, сообщают арабские СМИ.
По данным салафитов, с их стороны количество погибших возросло до 30 человек, среди которых один из руководителей религиозного учебного центра в селении Дамадж шейх Мухаммед Хазан. О потерях среди шиитов ничего не известно. Как сообщали СМИ, в среду при артобстреле салафитской мечети в Дамадже погибли 10 человек.
В заявлении, размещенном на одном из сайтов в интернете, шииты "Аль-Хуси", назвавшие себя "Ансар аллах" (сподвижники аллаха), обвиняют салафитов в том, что к ним в Дамадж прибывают боевики из-за рубежа, что является "вопиющим нарушением суверенитета страны".
Район селения Дамадж является суннитским анклавом среди шиитского большинства провинции Саада. Обосновавшиеся в этом районе несколько десятков лет назад сунниты создали в Дамадже религиозный учебный центр, который получил широкую известность среди салафитов, приезжающих сюда на учебу из различных мусульманских стран.
Вооруженные столкновения между шиитами группировки "Аль-Хуси" и йеменскими салафитами в провинции Саада периодически вспыхивают с 2011 года. В настоящее время Дамадж почти полностью окружен отрядами шиитского ополчения, которые стремятся к полному изгнанию салафитов из провинции, считающейся оплотом "Аль-Хуси".
Последняя вспышка вооруженных столкновений на севере Йемена происходит на общем фоне осложнения ситуации с внутренней безопасностью в стране. На юге страны не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды", а начатый после прихода к власти в 2012 году нового президента Абд Раббо Хади общенациональный диалог с целью выработки новой конституции страны до сих пор не привел к каким-либо положительным результатам.
Власти Польши обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой провести назначенные на 3 декабря слушания по делу о секретных тюрьмах ЦРУ в закрытом режиме, без участия прессы и любых сторонних лиц, сообщает агентство Reuters.
Речь идет о жалобе уроженца Йемена Валида Мохаммед бен Атташа, который в настоящее время содержится в американской тюрьме в Гуантанамо. Он утверждает, что в период с 29 апреля 2003 года по 4 сентября 2006 года спецслужбы США в разных секретных центрах подвергали его пыткам. Одним из таких мест якобы был представительский особняк на территории школы разведки в поселке Старе-Клейкуты на северо-востоке Польши.
Дело о секретных тюрьмах ЦРУ ведется с 2008 года, его материалы засекречены. Накануне прокуратура Кракова заявила об очередном продлении срока расследования этого дела до 11 февраля 2014 года.
Жалоба в ЕСПЧ была подана в мае 2011 года по трем основаниям: унижающее достоинство обращение на территории Польши в одной из секретных американских "тюрем", отсутствие эффективного расследования со стороны польских властей и вывоз Валида Мохаммед бен Атташа с территории Польши, несмотря на существовавшую угрозу его жизни.
Первая подобная жалоба уже рассмотрена, ЕСПЧ вынес по ней решение 13 декабря 2012 года, отмечается в сообщении еврокомиссара. ЕСПЧ признал нарушение прав гражданина Германии ливанского происхождения Халеда эль-Масри.
Мужчина был похищен в декабре 2003 года сотрудниками ЦРУ в Македонии. Он подозревался в причастности к террористической организации "Аль-Каида". Из Македонии эль-Масри переправили в тюрьму в Кабуле. Однако в мае 2004 года он был отпущен. В декабре 2005 года эль-Масри подал жалобу в Американский союз защиты гражданских свобод, однако она была отклонена. После этого он обратился в ЕСПЧ, который признание нарушение его прав.

Религию невозможно отделить от политики
Алексей Малашенко
«Отечественные записки»: Алексей Всеволодович, сейчас много говорят о том, что в мире наблюдается ренессанс иррационализма. Как Вы думаете, так ли это?
А. М.: Я не совсем понимаю, почему противопоставляют рационализм и иррационализм. Одного без другого не бывает. Если рассуждать о религии, то на первый взгляд она представляется иррациональной — в контексте социально-экономического развития, политики, того, что можно назвать прогрессом, научным или еще каким-то. Но это тот самый иррационализм, который придает устойчивость рационализму. Он его, если угодно, скрытый противовес, «тормоз». Необходимо нечто, что сопротивляется безудержному движению, создает силу трения, заставляет осмотреться, подумать, быть осторожным. Без противодействия движению, без «тормозов» оно становится опасным.
Если мы посмотрим на нашу жизнь, то заметим: самое приятное, что мы делаем, — иррационально. Когда, например, слушаешь музыку, ходишь в театр, книги читаешь, вкусно ешь, пьешь, — для чего это? Это же иррационально, даже бессмысленно. Точно так же, как когда начинаешь поститься, изображать из себя аскета, религиозного человека — это тоже иррационально. В чем практический смысл веры в Бога? Наверное, религия с ее обязательным консерватизмом — и есть такой тормоз.
ОЗ: Как, по-Вашему, за последние десятилетия состоялось в России исламское возрождение или нет?Если да, то в каких формах?Если нет, то почему?
А. М.: Хороший вопрос. После того как распался Советский Союз, казалось, что термин «ренессанс» безупречен для описания постсоветского состояния религии — когда-то я написал книжку под названием «Возрождение ислама в современной России». Но, во-первых, ислам и не умирал. Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин как-то заметил, что речь шла не о возрождении ислама, а скорее о его легитимизации. Этот термин заслуживает внимания. Феномен, который мы называем «возрождением» или «легитимизацией», в постсоветское время имел место и в исламе, и в православии. Это был возврат религии в нормальное состояние, преодоление советского атеизма, навязанного большевиками людям безбожия. Религия была для большевиков едва ли не главным конкурентом в борьбе за общество, за человека. Не хочу повторять такую банальность, что коммунизм — это тоже религия. Кстати, и он был иррациональной идеологией. Главное, что требовалось, — верить в него.
Но вернемся к возрождению ислама. На практике это было восстановление свободы вероисповедания, снятие формальных и неформальных запретов на отправление религиозных обрядов, возврат верующим мечетей, строительство новых храмов (до 1989 года в России, по одним данным, была 41 мечеть, а по другим — 90, сейчас счет идет уже на тысячи), создание системы религиозного образования. И, наконец, — право на религиозную идентичность. Но появились и проблемы. Смотрите: в России сегодня — не только в России, везде, но у нас это более заметно и более конфликтно, — три идентичности: национальная, то есть российская, гражданская; этническая и религиозная. Не обязательно гражданская идентичность («я — россиянин») и религиозная («я — мусульманин») совпадают, они могут и конфликтовать. И последнее — политизация религии. Она сегодня имеет место и в православии. В исламе же связь политики и религии присутствовала всегда. Когда идут разговоры о том, что надо отделить религию от политики, стать поголовно «се-куляристами» — это замечательно, но невозможно, а применительно к исламу это и вовсе абсурд. Ислам изначально был обращен на решение светских, в том числе политических, государственных проблем. Пророк Мухаммед, создатель ислама, был великим политиком. Не будь у него политического таланта, политической напористости, дипломатичности, даже хитрости, ислам бы не состоялся.
ОЗ: Ислам — не только религия, это интегральная система, где и общественная жизнь, и политика соединены. В силу этого обстоятельства ведь и пострадали христианство и ислам от атеизма по-разному. Необходимым условием для христианства, для православия в частности, является полноценное существование церкви. Но ислам-то по-другому строится.
А. М.: Вы абсолютно правы. Только к этому надо добавить еще одну вещь: во-первых, в России ислам — религия меньшинств, а бороться против идентичности меньшинств даже при тоталитарном режиме было не так-то просто. Выстраивая отношения с исламом, большевики нуждались в консенсусе. Я имею в виду в первую очередь Среднюю Азию и Кавказ. Там без компромисса с традиционным обществом, без того чтобы позволить людям сохранять ислам как регулятор социальных отношений, установить советскую власть было невозможно. В Средней Азии басмачи вели против большевиков джихад. Кстати говоря, это было чем-то похоже на Афганистан. Пока басмачей не сделали председателями колхозов и вообще не дали им какую-то советскую должность, война казалась вечной.
Ну а дальше в мусульманских регионах СССР наступило мирное или, если угодно, «полумирное» сосуществование государства и религии. Игрались традиционные и комсомольские свадьбы, чтение стариками Корана порой шло под видом встреч ветеранов, коммунистов иногда хоронили дважды — по советскому и исламскому обряду. Большевики нутром чувствовали, что ислам — это та сила, с которой бессмысленно воевать.
Обратите внимание на то, что татарский ислам был задавлен почти так же, как и православие. Татары были более русифицированы, жили в центре России, в общем — были «свои ребята». И потому давили «своих мусульман» точно так же, как и православных. Я думаю, что из отношения государства к татарам-мусульманам и родилось замечательное идиотское выражение: «мусульманская церковь».
ОЗ: Есть прекраснодушная идея, что в России исторически сложился уникальный симбиоз православия и ислама. Но у меня всегда было такое ощущение, что это просто соседство по коммунальной квартире: все друг друга тихо ненавидят, но вынуждены жить вместе — уходить некуда. Что Вы думаете по этому поводу?
А. М.: У нас были попытки христианизации татар. Екатерина II в конце XVIII века поняла, что это невозможно, хотя и после нее православные миссионеры пытались действовать в этом направлении среди татар. Не получилось это, и не могло получиться. Что касается симбиоза... какой там симбиоз? «Поскреби русского — найдешь татарина» и наоборот. Но сколько мусульманина ни «скреби», никакого православного не получится. Христианство и ислам — это религии-конкуренты. Каждая доказывает свое превосходство. Особенно ислам, идеологи, богословы которого считают, что он взял лучшее из всех предыдущих традиций и является самым последовательным монотеизмом. Последнее — правда. В исламе имеется жесткий и честный принцип — таухида (строгое Единобожие, не предусматривающее наличия каких-либо еще богов или неких странных персонажей, например Троицы).
Сосуществование православия и ислама — неизбежное и вынужденное. Существует взаимопонимание, но остается и конкуренция. Конкуренция за человека. И когда мы говорим о диалоге между этими двумя религиями — это на самом деле не диалог, а необходимость признания вечного мирного сосуществования и дискуссии. Это очень сложно, особенно с учетом политического фактора. Но уж такова наша общая судьба.
ОЗ: Каковы, по-Вашему, перспективы такого сосуществования?
А. М.: Православно-исламские отношения в России в принципе нормальны. Однако мусульман, точнее многих представителей мусульманского духовенства, раздражают амбиции РПЦ быть «религией номер один», политические претензии, разговоры о «святой Руси». В Конституции РФ декларировано равенство религий. Теоретически так и должно быть. Но, с другой стороны, православие — религия большинства населения, церковь всегда (до 1917 г.) тесно сотрудничала с государством. Думаю, здесь трений не избежать.
А вот что помогает сосуществованию двух самых многочисленных конфессий России, так это их антизападничество. У них общий раздражитель — западное христианство, вообще секулярный Запад. И это — точка для согласия. Дескать, вот он, наш противник, а вот мы, при всех наших различиях, будем ему оппонировать. Любопытное обстоятельство: в РПЦ с уважением относятся к фундаменталистам Ирана, известно, что представители церкви посещают эту страну и ведут задушевные беседы со своими шиитскими коллегами.
ОЗ: Согласны ли Вы с тем, что существует такое явление в мире вообще и в России в частности, как исламофобия?Если да, то каковы природа и корни этого явления?
А. М.: Это явление существует, и я к нему подхожу двояко: во-первых, на чисто эмоциональном уровне это «нехорошо»: нельзя ненавидеть любую другую религию, ксенофобия здесь вредна и опасна. В то же время при объективном, так сказать, академическом подходе оказывается, что у исламофобских настроений есть объяснимые корни. У мусульман, у ислама огромное количество неизрасходованной энергии, религиозных, политических амбиций. Что имеется в виду? Ислам — последняя, самая совершенная религия, ее пророк Мухаммед — «печать пророков», и, кажется, мусульманский мир «обречен», заведомо обречен на то, чтобы быть «самым-самым». Но мусульмане проигрывают экономическое, политическое и военное состязание Западу, да и России, точнее, проигрывали Российской империи. Они себя чувствуют ущемленными: они были колонизированы и оказались в подчинении у иноверцев. А шансы на победу у ислама были: арабы пересекли Пиренеи, османы осаждали Вену, казалось бы, еще немножко, но... Не получилось.
Все это воспринимается очень болезненно. Особенно если учесть, что ислам предлагает оптимальную, прямо-таки идеальную модель государства — «исламское государство», идеальную модель экономики, самое совершенное устройство общества на основе данного Всевышним шариата. Наконец, все мы, верующие, рано или поздно должны прийти к исламу, перейти в ислам, то есть мир станет исламским.
И при таком потенциале — проигрыш. Отсюда раздражение, желание доказать, что «мы не хуже вас», не слабее, заодно и стремление отомстить за унижение, за то, что Запад хочет навязать мусульманам свою волю, свои ценности. Крайняя форма таких настроений — терроризм. 11 сентября Америка (а заодно весь Запад) была наказана. Отсюда же такая болезненная реакция на карикатуры на пророка, на фильмы с критикой исламского отношения к женщине и прочее.
Все это вместе взятое вызывает недоумение, раздражение у немусульман, провоцирует их страх перед исламом и является источником неприязни к исламу, исламофобии.
ОЗ: То есть исламофобия подпитывается у немусульман соответствующим поведением, реакцией мусульман?
А. М.: В каком-то смысле да.
ОЗ: А она имеет, по-Вашему, религиозные корни в христианской среде, в иудейской — эта исламофобия? Или это не религиозной природы явление?
А. М.: Исламофобия тесно связана с политикой, Мы уже говорили, что все религии политизированы. Там, где политика, — случается и кровь. Кровь удваивается, когда политика проводится именем Бога. Ведь тот, кто встал на путь «священной войны», исламской ли, христианской, отвечает не перед нацией, не перед государством или президентом, не перед своей совестью, но перед Аллахом.
ОЗ: Существует известная напряженность между исламом и иудаизмом. В чем ее корни?
А. М.: С чего все началось? Когда пророк Мухаммед формулировал исламские идеалы и нормативы поведения, когда получал откровения от Всевышнего, он уже был знаком с иудаизмом и христианством. Поэтому, с одной стороны, он учитывал опыт более ранних монотеизмов, а с другой — творил новое учение. От старого видения было необходимо дистанцироваться: «Я у вас много заимствовал, но мое учение лучше, поэтому вам лучше его принять». В Медине, куда Мухаммад и его сподвижники перебрались в 622 году, иудеи были их ближайшими соседями. У пророка не задались отношения с иудейскими племенами: Бану Кейнука, Бану Хазрадж, Бану Аус и Бану Надир. Однажды иудеи не поддержали его в сражении с язычниками. В отместку Мухаммад одних иудеев изгнал из города, а других уничтожил. То были прежде всего политические игры. Но они были замешаны на религии.
ОЗ: Мусульмане постоянно говорят: «Мы не против евреев, но против сионизма». Но то, что мы сейчас имеем, в реальности больше похоже на антисемитизм. Если я Вас правильно понял, антисемитизм имманентно в исламе присутствует?
А. М.: Возможно, мое суждение покажется неприемлемым. Но все же... Отношения между арабами и евреями — это отношения двух братских семитских народов. Хорошо известно, что в любой семье, если братья ненавидят друг друга, то ненавидят основательно. С другой стороны, в Израиле живет больше миллиона арабов, и они прекрасно уживаются с евреями. В Израиле один мой коллега, еврей, как-то разговаривал по телефону с другим «лицом еврейской национальности» на арабском языке. Я говорю: «Как?» — «А вот так, — отвечает, — некоторые его тоже знают». Мол, здесь все свои.
Не думаю, что мусульман так уж волнует иудаизм. Антисемитизм сегодня неотделим от антисионизма. Сионизм же — идеология собирания евреев у горы Сион, создания там еврейской этнорелигиозной общины, государства. Когда Великобритания в 1918 году предложила евреям для этого «кусочек Палестины», началась миграция, которая после Второй мировой войны стала обвальной. На территории, которую арабы считали своей, возник Израиль. В 1948 году арабы решили его уничтожить. Была война, которую они проиграли. Начался бесконечный ближневосточный конфликт, в который были вовлечены Америка, СССР, Европа. Сионизм стал средоточием арабской ненависти.
К сожалению, этот конфликт ужасен тем, что он никогда не будет решен — слишком тесно переплетены в нем политика, межэтнические отношения, религия. Это вечный конфликт. Правда, покойный лидер Палестинского движения сопротивления Ясир Арафат утверждал, что его «решит арабская матка», то есть демография. Но похоже, что и матка эта его тоже в ближайшем будущем ничего не решит.
ОЗ: Сейчас говорят о двух тенденциях: секуляризации и клерикализации, хотя, опять же, для ислама различение этих двух понятий достаточно условно. Так куда мы идем? К секуляризму или к клерикализму? Если посмотреть на это с точки зрения ислама.
А. М.: Ох, как все непросто. Идеальный вариант — это отделение религии от политики. Но это невозможно. В исламе тем более. Как говорил покойный Хомейни, «отнять у ислама политику — это значит кастрировать его». Хотя вообще-то есть даже теория исламского секуляризма, книжки об этом пишут. Но секуляризма в исламе нет. Есть попытка мягкого сочетания религии и решения мирских проблем. Ислам — самая обмирщенная религия, вовлеченная в решение светских вопросов.
Посмотрите, как политизируется православие, хотя его идеологи публично в этом стесняются признаться. А глобализация — казалось бы, вообще светская штука, — там разве не задействована протестантская этика, причем конкретного протестантизма? Есть, между прочим, католическая этика труда и протестантская этика труда. Об этом еще Вебер писал.
Мы находимся в дурацком положении: все «нормальные современные» люди — за отделение религии от политики, но это невозможно. Следовательно, мы вынуждены с этим считаться, приспосабливаться к данному обстоятельству, но и религию тоже приспосабливать, реформировать ее, не давая ей уж слишком много воли.
ОЗ: Вам не кажется, что «арабская весна»расставила иные акценты в этом вопросе? В частности, показала, что авторитарным режимам существует только одна альтернатива — демократический исламизм, условно говоря. Или что-то иное?
А. М.: Мы с Вами мыслим очень схоже. Вы произнесли слово «альтернатива», а у меня была книжка «Исламская альтернатива и исламистский проект». В 1950—70-е годы были национальные модели, был арабский социализм, были египетские, алжирские, сирийские, йеменские социализмы, наши советники даже Карла Маркса пытались внедрить к арабам. Была попытка внедрить классическую рыночную экономику, было подражание Западу, был французский язык — все было... и все провалилось. Кеннеди сказал, что Тунис должен стать западной (или американской — точно не помню) витриной. Потом настало время авторитарных режимов, которые застопорили развитие. Дальше — «арабская весна», приведшая к власти исламистов. Самое время подумать об исламской альтернативе. Это не значит, что все поголовно ее поддерживают: ну, может быть, половина, а может быть, еще меньше, но зато это активная, амбициозная публика, полагающая, что перемены можно совершить, идя по пути ислама. А что? В Америке плохо, в Европе плохо, Советский Союз развалился, свои правители развели семейственность, коррупцию, а ислам — вот он. Вот пророк Мухаммед, когда-то основавший справедливое исламское государство. Я утрирую, примитивизирую даже. Но суть дела именно такова.
Другой вопрос — насколько реально это самое исламское государство? Покажите мне его! Получается, что исламское государство было только во времена пророка в VII веке. А дальше? Многие пытались его построить, но безрезультатно. Исламская альтернатива, производные от нее исламское государство, исламская экономика — это на поверку мифология, иррационализм, если помните, с чего мы начинали разговор. Не может быть исламского государства. Зато может быть странный синтез с другими моделями. «Братья-мусульмане» в Египте пришли к власти, используя демократические принципы.
Возьмите исламские банки. Формально все замечательно — никакого ссудного процента нет. Но вникните в их схему — и вы обнаружите, что мошенничать внутри исламской банковской системы можно не меньше, чем в обыкновенной, так сказать, «христианской». К чему я веду? Мусульмане обижаются, когда говоришь: нет и не будет исламского государства, исламской экономики... Но здесь важно другое — борьба за их создание будет продолжаться. Так мы в СССР пытались построить коммунизм. Но коммунизм — это что-то такое связанное с «именем Ленина», человека, которого можно любить, можно не любить, а тут — «именем Аллаха». С этим не поспоришь!
Интересно, как поведут себя братья-мусульмане в Египте, где у них есть шансы удержаться у власти? Там новая исламизированная конституция, заговорили о шариате. Но ведь помимо шариата и работать надо, реформы проводить. А проведение реформ — дело очень непростое. Реформы требуют жертв, благосостояние каких-то социальных групп придется приносить в жертву. В этой ситуации возможны разные сценарии. Первый: все хорошо, все получается, «все сидят спокойно». Второй: получается плохо, с издержками — или вообще наступает новый виток кризиса. Тут тоже два варианта: а) общество устами радикалов скажет: ваша ошибка в том, что слишком робко обращаетесь к исламу, дайте больше шариата; б) другие люди заявят: не способны вы, братья-мусульмане, спасти страну на исламской основе. Хватит. Устали мы от ислама. Второй сценарий более вероятен, а по какому варианту он пойдет — сказать не берусь.
ОЗ: В 2001 году вышел номер «Отечественных записок», посвященный исламу. Воды с тех пор утекло немало. Как изменилась за это десятилетие ситуация в исламе вообще и в российском в частности? Я тут, лично для себя, вот на что обратил внимание: ведь именно в это время появился такой феномен, как «русский ислам»...
А. М.: Есть два феномена, которые называются «русским исламом», что Вы имеете в виду?
ОЗ: Я имею в виду приход к исламу этнических русских, в том числе достаточно известных людей, и попытку его превращения — хотя бы в общественном мнении — в некий новый феномен, и одновременно резкое сдувание этого феномена.
А. М.: По данным Русской православной церкви, не считая «мусульманских жен», всего насчитывается 2—3 тысячи мусульман славянского происхождения. Сами мусульмане говорят о десятках тысяч. Думаю, десятки тысяч — вполне реальная цифра. Тем не менее «русского ислама» как массового устойчивого феномена не существует. Заметим, что некоторые идеологи ислама, например Гейдар Джемаль, считают, что чисто русские мусульманские общины вообще не нужны.
ОЗ: Собственно, это и больше соответствует исламскому духу.
А. М.: Конечно. Исламизация русских звучит эффектно, но это не переломная для российского общества тенденция. Отметим два момента: первый — русские неофиты нередко настроены радикально, даже экстремистски, они участвовали в теракте в Домодедово, действуют в Дагестане (жертвой русской мусульманки в прошлом году пал духовный лидер дагестанских тарикатистов шейх Саид Афанди Чиркейский). Это уже серьезно. Они и дальше будут действовать весьма агрессивно.
Второй момент — есть любопытная литература, в основном беллетристика, на тему исламизации России. Сюжеты попадаются разные — и про то, как Москва застраивается мечетями, и как исламская Россия воюет против НАТО и, заметьте, побеждает. Делается заключение, что восстановление России как великой державы возможно, если она примет ислам. Люди читают, обсуждают это. Пока смешно. Но ведь есть другие увлекательные материалы — реконструкция прошлого, авторы которых рассуждают о том, каким был бы сейчас мир, если бы в свое время Россия все-таки приняла ислам.
ОЗ: То есть, по-Вашему, в русский ислам идут только радикальные элементы, часто леворадикально настроенные... Ну, если даже не русские, то те, для кого ислам не является традиционной религией?
А. М.: В «чужую» религию всегда переходят тогда, когда разочарованы в своей. Кто-то идет к протестантам, а кто-то — сюда, в ислам. Люди ищут себя, пути для самовыражения, хотят быть сопричисленными к неведомой духовной и материальной силе. Среди русских мусульман есть бывшие «афганцы», бывшие «чеченцы». Наверно, принятие ислама кому-то нужно для повышения самооценки, собственной значимости.
ОЗ: Ну, есть ведь и ищущие такие, либеральные, очень мягкие мусульмане...
А. М.: Это вы о суфизме. Интерес к исламскому мистицизму был всегда. Хотя знаете, у нас на Северном Кавказе и суфизм политизируется.
ОЗ: И последний вопрос, может быть, по месту, но не по важности: какой Вы видите политику государства, ее перспективы в отношении ислама?
А. М.: На этот вопрос я не отвечу, потому что нет российской политики на Кавказе, а то, что есть, — это безобразие полное, нет национальной политики, нет религиозной политики. Государство, власть требуют от религии, от ислама только одного — лояльности. Поэтому, будь вы хоть четырежды бен Ладеном, если повесите на стену портрет Путина, серьезных проблем у вас не будет.
Беседовал Валерий Емельянов
Опубликовано в журнале:
«Отечественные записки» 2013, №1(52)
Демонстративный отказ Саудовской Аравии войти в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН и более чем жесткие заявления Нетаньяху о том, что США в отношении ядерной программы Ирана обманывают сами себя, стали прологом возникновения нового ближневосточного альянса. Союз Эр-Рияда и Тель-Авива – это классический пример «дружбы против кого-то», когда в основе партнерства лежит страх. Страх перед Исламской Республикой Иран. Страх за собственное будущее.
Являясь долгое время двумя краеугольными камнями американской системы присутствия на Ближнем Востоке, своеобразными «непотопляемыми авианосцами» в регионе, и Тель-Авив, и Эр-Рияд все же сохраняли между собой определенную дистанцию. Открытый союз ортодоксальной суннитской монархии и «островка западной демократии в мусульманском мире» выглядел достаточно противоестественно. Все знают, что политика – дело грязное, что в ней всегда присутствует элемент «сделки с дьяволом», но одно дело знать, а другое – во всем этом участвовать. Поэтому и дому Саудов, и Тель-Авиву до определенного времени приходилось свои отношения скрывать.
Моментом истины для этих государств стал президентский срок Барака Обамы. Демократы запутались сами и запутали своих союзников. Казавшееся незыблемым стратегическое партнерство Вашингтона с двумя этими государствами оказалось под угрозой. Сначала Белый дом откровенно «кинул» антисирийскую коалицию, которая без ВВС США справиться с Башаром Асадом не в состоянии, и все свои расчеты строили именно с учетом американского военного удара. Сейчас – новая напасть, декларируемое Вашингтоном намерение нормализовать отношения с Ираном, что для Израиля и Саудовской Аравии означает крушение всех внешнеполитических усилий последнего десятилетия.
Какое уж тут соблюдение приличий. Обвинения в лицемерии со стороны мусульманского мира дом Саудов как-нибудь переживет, а вот шиитское «исламское пробуждение» может закончиться для него физическим устранением с политической арены. Аналогичная ситуация и в Израиле. Союз с мусульманскими фундаменталистами, которые до сих пор публично рубят головы преступникам и запрещают женщинам ездить за рулем автомобиля – меньшее зло по сравнению с усилением Ирана, который прекрасно помнит, какая страна являлась движущей силой необъявленной войны и калечащих санкций против Исламской Республики. Не от хорошей жизни, а исключительно из-за кризиса американской внешней политики Барак Обама оказал миру серьезную услугу – заставил Эр-Рияд и Тель-Авив сбросить маски и сделать тайные двусторонние договоренности достоянием и израильского общества, и мусульманской уммы.
Уйти, чтобы остаться
Другое дело, что услуга эта – с «двойным дном», своеобразная проверка ближневосточных партнеров США на прочность, на способность играть более самостоятельную роль в отстаивании американских интересов в регионе. Разговоры о том, что «США сокращают свое присутствие на Ближнем Востоке», что «центр тяжести американской внешней политики смещается в сторону Юго-Восточной Азии и Тихого океана» – имеют под собою основания. Но лишь отчасти. Один из нынешних архитекторов внешней политики США, Сьюзан Райс, в отношении Ближнего Востока выразилась достаточно определенно: «Мы не можем заниматься только одним регионом 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Президент Обама решил, что наступил хороший момент для того, чтобы сделать шаг назад, посмотреть критично и открыто на то, как мы представляем себе этот регион». Оценка ею же «азиатско-тихоокеанского региона» выдержана в совершенно иной тональности: «Там целый мир, – сказала она. – И у нас есть интересы и возможности в том целом мире». Собственно, ее слова – это продолжение идеи Хилари Клинтон о «повороте в сторону Азии», которые и сама Клинтон, и Обама высказывали еще два года назад. Только вот следует ли воспринимать эти заявления нынешней администрации как намерение Вашингтона уйти с Ближнего Востока? Воспринимать можно, верить – нельзя.
Американская внешняя политика – это, в первую очередь, бизнес, продолжение экономической экспансии «свободного рынка» другими средствами. Главное для американской политической элиты – сохранение баланса между извлекаемой прибылью и расходами на обеспечение безопасности извлечения. И сейчас баланс сместился. В результате того, что США откровенно переоценили собственные возможности в деле «переформатирования» Ближнего Востока, что они с грацией слона разрушили сложившуюся там систему сдержек и противовесов, сегодня им приходится слишком много вкладывать в регион. Американская экономика такого объема вложений откровенно не тянет. И самый лучший выход из ситуации, который Белый дом и избрал, - переложить значительную часть собственных расходов на местных игроков, на Израиль, на Саудовскую Аравию, на египетских военных… Никуда США с Ближнего Востока уходить не собираются, речь идет лишь о своеобразном аутсорсинге, о передаче части функций по поддержанию безопасности своим стратегическим партнерам. Естественно, не забывая извлекать прибыль и от военной помощи, и от стабильности, которую эти партнеры будут устанавливать.
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»
Разумеется, в этом ближневосточном «финте Обамы» присутствует немалая доля внешнеполитического социал-дарвинизма, дескать – выживет сильнейший, и своим выживанием докажет право на стратегическое партнерство с США. Отсюда – откровенное недовольство и Эр-Рияда, и Тель-Авива, которые привыкли вытворять все, что захочется, не особо задумываясь о последствиях, потому как на случай осложнения отношений с соседями рядом с ними всегда оказывался один из флотов США.
Теперь им предстоит действовать самостоятельно, но их одиночество лишь иллюзия. Военные базы США в Аравии остаются на своих местах. Все оружейные контракты продолжают действовать. Экономическая конъюнктура позволяет той же Саудовской Аравии поддерживать самый высокий в мире уровень расходов на военные нужды по отношению к ВВП – 8,9%. Политическое влияние дому Саудов обеспечивают «прикормленные» ранее политические движения и военизированные группировки от Ливии до Пакистана. Основная угроза для Эр-Рияда – Тегеран. Ведь династия понимает, что если Исламская Республика даже в условиях калечащих санкций сумела нарастить свой внешнеполитический потенциал, сумела остаться ключевым игроком на Ближнем Востоке, сумела выиграть в Сирии - то страшно даже представить, какого положения сумеет добиться Иран, не расходующий свой потенциал на противостояние с США и Евросоюзом.
Из сходной логики исходит и Тель-Авив. Только совсем уж ангажированный наблюдатель может «не замечать», что именно Иран, Сирия и Хезбалла являются реальными и последовательными сторонниками справедливого решения палестинского вопроса. Все остальные игроки используют израильско-палестинские переговоры сугубо в корыстных интересах, готовы в любой момент торговаться и продаваться, меняя палестинцев на политические преференции. ХАМАС откровенно запутался в поисках спонсора и покровителя, антиизральского в ХАМАСЕ, по большому счету, только риторика. Кроме того, Сирия и Хезбалла – это непреодолимое препятствие для расширения израильского контроля над Левантом.
Израильская истерика по поводу иранской ядерной программы, которую Тель-Авив представляет как главную угрозу региональной и международной безопасности, имеет и еще одну сторону, усердно замалчиваемую в медиа. Наметившийся выход Ирана из международной изоляции позволит Тегерану все решительнее и настойчивее поставить вопрос о создании на Ближнем Востоке «зоны, свободной от ядерного оружия». А это – начало конца израильского ядерного арсенала. В условиях противостояния с Ираном существование этого арсенала вполне оправдано в глазах Запада. В условиях нормализации отношений с Тегераном международного сообщества – ядерное вооружение Израиля будет признано избыточным и встанет вопрос о его ликвидации. Словом, Эр-Рияд и Тель-Авив обречены на антииранский альянс, и эта обреченность заставляет их забыть о том, как они будут выглядеть в глазах мировой демократической общественности и мусульманской уммы.
Когда лекарство хуже болезни
Иранофобия Тель-Авива и Эр-Рияда носит маниакальный характер, является своеобразной болезнью, поразившей десятилетия назад мозги политических элит этих стран. Но их альянс вполне может обернуться для всего региона гораздо более худшими последствиями, чем даже американская экспансия. Демонстративный отказ Саудовской Аравии от места в Совете Безопасности ООН, нелестные высказывая Эр-Рияда о «деградации» этого международного института, имеют еще одно, мало кем замеченное последствие. Фактически, Эр-Рияд заявил, что мнение ООН для него ничего не значит и прислушиваться к нему он не намерен. Аналогичная позиция Израиля с его хроническим наплевательским отношениям ко всем резолюциям этой международной организации также очевидна. На практике это будет означать, что и Израиль, и Королевство теперь на ООН в решении палестинского, сирийского, шиитского и других актуальных вопросов, влияющих на региональную безопасность, - ориентироваться не намерены.
Кровавые репрессии, развязанный Эр-Риядом в собственной Восточной провинции, в Бахрейне и Йемене, поддержка домом Саудов международного терроризма во всем мире и спонсирование самых ортодоксальных и отмороженных групп исламских экстремистов пойдет теперь по нарастающей. Тель-Авиву теперь тоже нет особого смысла демонстрировать свою «готовность к политическому диалогу по Палестине», как-то ограничивать себя в борьбе с иранской ядерной угрозой, методами которой Тель-Авив считает диверсии и убийства, наращивать военное противостояние Хизбалле и Башару Асаду. Израильско-саудовский альянс в повседневной жизни региона обернется новым витком «государственного терроризма», ростом активности «джихадистов» в Сирии и Ираке, нестабильностью Ливана.
*****************
Нам следует ожидать активизации необъявленной войны против Исламской Республики Иран. Причем, суннитские экстремисты Джундаллы и израильская агентура в Иране будут действовать в привычной и для Эр-Рияда, и для Тель-Авива манере – нагло, агрессивно, не останавливаясь перед большой кровью. Недавние события в Белуджистане, в ходе которых погибло семнадцать иранских пограничников, боестолкновения с боевиками PJAK на границе с Ираком – это первые, но очень тревожные сигналы того, что израильско-саудовский альянс против Тегерана приступил к активным действиям. В дальнейшем боестолкновений и крови станет только больше, потому как данный альянс – это война. Война необъявленная, но от того лишь более жестокая и изощренная. Война, которая соберет кровавый урожай дестабилизации во всем регионе.
Игорь Николаев,
Специально для Иран.ру
Краткий очерк о производстве денег и способах выявления фальшивок.
Все ли мы знаем о деньгах, о признаках подлинности банкнот и монеты и их платежеспособности? Отвечая на этот вопрос, каждый вспоминает о случаях, в которых большинство из нас, возможно, оказывались (а может быть, еще окажутся), когда при оплате за покупку кассир «вежливо» отказывал в приеме какой-либо купюры или даже монеты, а мы искренне недоумевали, почему не принимают на вид вполне нормальные деньги.
В этой статье мы попробуем научиться определять подлинность банкнот и монеты (не имея оборудования и применяя лишь наши органы чувств), узнаем, с какими повреждениями можно смело ими расплачиваться, а в каких случаях и где можно поменять поврежденные деньги на целые и невредимые.
Для начала необходимо иметь хотя бы поверхностное понимание того, как изготавливают деньги. В России исключительным правом эмиссии (выпуска) денег обладает Центральный банк Российской Федерации, а изготавливаются банкноты и монеты на ФГУП «Гознак» – в Москве (банкноты и монеты), Санкт-Петербурге (монеты) и Перми (банкноты). В Перми, кстати, находится самое крупное предприятие «Гознак», на котором печатают банкноты и чеканят монеты, в том числе для других государств (Ангола, Йемен, Лаос, Камбоджа, Гватемала, Ливан, Малайзия, Индия и др.).
В настоящее время на территории России имеют хождение денежные знаки образца 1997 года – это банкноты достоинством 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей и монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10, 25 рублей. Купюра достоинством 5 рублей уже не выпускается, однако продолжает оставаться законным платежным средством на территории Российской Федерации.
Кроме того, Банк России выпускает в обращение юбилейные, памятные и инвестиционные монеты (рис.1). Для их изготовления, как правило, используются сплавы из драгоценных металлов (платина, золото, серебро или их комбинации). Такие монеты выпускаются в обращение ограниченным тиражом, а приобрести их можно в кредитных организациях по цене, отличной от номинала. Все монеты из сплавов драгоценных металлов относятся к категории высшего качества – «пруф», именно поэтому их помещают в защитные прозрачные капсулы сразу после чеканки.
Есть особенность и у банкнот – в 2013 году впервые будет осуществлен выпуск банкноты достоинством 100 рублей с вертикальным расположением изображения, посвященного XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году (рис.2). Такие банкноты и монеты, хотя и являются законным средством платежа, зачастую не используются в этом качестве, а «оседают» в коллекциях нумизматов.
Рис.1 Рис.2
В планах «Гознака» дальнейшая модернизация технологии изготовления денежных знаков. Например, рассматривается вопрос о внедрении в структуру банкнот микрочипов, а также возможный переход на пластиковые деньги, то есть изготовленные из полимеров. Первым среди центральных банков выпуск пластиковых купюр начал Резервный банк Австралии (в 1988 году). Сейчас многие центральные банки мира уже используют банкноты из полимеров, в их число входит Банк Канады, а в скором времени выпуск таких денег может начать Банк Англии. Безусловно, выпуск пластиковых банкнот обходится дороже, но они существенно долговечней бумажных денег и имеют ряд других преимуществ (более экологичны, сложнее подделать и др.).
Для банкнот изготавливают специальную бумагу, обладающую высокой прочностью к физическому износу, путем сложного технологического процесса. Бумага имеет сетчатую структуру, в которую в процессе производства внедряются цветные синтетические волокна (некоторые из них имеют свечение под воздействием ультрафиолетовой (УФ) лампы, а также магнитные свойства) и защитная нить. Водяные знаки изготавливаются также в процессе производства. Затем на готовые листы будущих купюр разными способами печати наносятся изображения – высоким (серийные номера), офсетным (цветные изображения, как правило, узоров и фона основного изображения), металлографским (основное изображение, метки для людей с ослабленным зрением, основные надписи и эмблемы). На банкнотах отдельных достоинств, в зависимости от модификации, некоторые элементы изображения выполнены трафаретным способом печати.
Для того чтобы «сходу» выловить подделку у себя в кармане достаточно знать, что труднее всего или почти невозможно подделать бумагу, следовательно, по характерным признакам можно определить ее подлинность, а именно: бумага «Гознака» имеет на просвет слабо заметную сетчатую структуру и нечеткие границы водяных знаков (зачастую злоумышленники изображают водяные знаки с помощью обычных белил, в таком случае «липовый» водяной знак имеет четкий контур и яркое свечение под воздействием УФ-лампы), белые купонные поля банкноты не имеют никаких остатков краски, характерных для подделок, изготовленных на копировально-множительной технике. В структуре бумаги и на ее поверхности присутствуют синтетические волокна различных цветов (в зависимости от номинала и модификации банкноты) и защитная нить.
Изображения на банкнотах должны быть четкими, без наплывов на границах примыкания элементов, выполненных разными цветами, а метка для людей с ослабленным зрением и надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» – слегка выпуклыми на ощупь. Кроме того, на лицевой стороне банкнот всех достоинств ниже основного изображения присутствует узорная лента со скрытым эффектом, на которой под различными углами зрения проявляется надпись «РР» (Российский Рубль), так называемый «кипп-эффект» (рис.3). Легкостью для злоумышленников является воспроизведение на подделке микроперфорации – мельчайших проколов бумаги в виде повторения номинала купюры. Присутствие защитной нити в структуре бумаги с «ныряющим» эффектом также не является для мошенников непреодолимой задачей, поэтому на подделках она часто воспроизводится двумя способами – видимые части защитной полосы изображаются либо с помощью металлизированной краски, которая при незначительном механическом воздействии на нее «осыпается», либо путем наклеивания тончайшей фольги, что также можно с легкостью выявить, поддев острым предметом.
Рис. 3
Люди, обладающие достаточно острым зрением, могут разглядеть микротекст. Он встречается на каждой купюре в позитивном и негативном исполнении, а также с плавным переходом от одного типа к другому. При этом границы микротекста четкие, без наплывов краски.
Другие элементы защиты банкнот от подделок могут быть различимы только при использовании специального оборудования. В основном это свойства красок, обладающие различными эффектами. Например, краска с инфракрасным (ИК) эффектом – под воздействием инфракрасного спектра света на банкноте видно только ту часть изображения, в которую в процессе изготовления были внедрены специальные пигменты, обладающие отражающим свойством ИК-излучения, при этом другие элементы изображения не видны вовсе. Для выявления ИК-эффекта используется прибор с ИК-излучателем (для выявления физических свойств краски с ИК-эффектом можно, к примеру, прибегнуть к обычной бытовой видеокамере с ИК-излучателем, через визор которой будет виден данный эффект). Внедренные в структуру бумаги защитные волокна и часть изображения обладают УФ-эффектом – под воздействием УФ-лампы наблюдается свечение отдельных элементов изображения (разные, в зависимости от номинала и модификации банкноты) и некоторых защитных волокон. Еще одно уникальное свойство применяемых красок и внедренных в бумагу синтетических волокон – магнитное. Действительно, на банкнотах всех достоинств (в зависимости от модификации) присутствуют краска и волокна, обладающие магнитными свойствами, а увидеть этот эффект возможно только с помощью специальных приборов, например, магнитоскопа.
Существует еще ряд свойств, выявление которых основано на знаниях о специфике различных методов и способов нанесения красок на бумагу. Останавливаться на них не будем, так как выявление таких свойств возможно только с применением приборов, используемых для проведения полноценной экспертизы денежных знаков.
Все чаще в торгово-сервисных точках встречаются приборы с ИК-излучением, которые пришли на смену УФ-лампам. Это происходит по нескольким причинам.
Во-первых, приборы с УФ-излучением не так эффективны в борьбе с фальшивками, так как фальшивомонетчики уже давно научились обрабатывать бумагу и соответствующую часть изображений средствами, подавляющими УФ-свечение.
Во-вторых, подделать ИК-свойства краски довольно сложно технологически и требует значительных финансовых затрат.
Наконец, в-третьих, довольно часто встречаются подлинные деньги, имеющие яркое свечение в УФ-свете, что связано с воздействием на банкноты агрессивной среды (мыльные, порошковые растворы и пр.). Наиболее распространенный случай – это деньги, оставленные в карманах нашей одежды, которая подвергается стирке.
Интересный факт: способ определения подлинности купюры под ультрафиолетовыми лучами был изобретен в начале 1990-х годов в НИИ «Гознак», однако из-за отсутствия патента (в свое время «Гознак» не запатентовал множество разработок) «Гознак» с этого изобретения не получает ни копейки.
Гораздо реже встречаются поддельные монеты. Изготовление монет происходит методом чеканки, именно чеканки, а не штамповки (некоторые виды подделок монет как раз и называют «штамповкой»). Метод чеканки позволяет воспроизвести четкий оттиск на заготовке даже мелких элементов изображения, чего в отличие от распространенных способов подделок монет (штамповка, литье и др.) достичь практически невозможно. Кроме того, фальшивые монеты, выполненные способом литья, будут иметь на поверхности углубления и неровности, иметь глухой звук, а если провести такой монетой по белому листу бумаги, как правило, оставляют след темно-серого цвета (оксидная пленка). Разумеется, большинство фальшивомонетчиков занимаются подделкой монет наибольшего достоинства – 5 и 10 рублей, однако чаще всего подделывается именно 5-ти рублевая монета, так как по сравнению, например, с «десяткой», имеет меньше степеней защиты. Основное отличие 10-рублевых монет – это наличие скрытого эффекта, расположенного в цифре «0», изменяя угол зрения, мы можем увидеть меняющуюся надпись «руб» и «10» (рис.4).
Рис. 4
Обращаясь к технологии чеканки монет, следует отметить, что чеканка обычных разменных монет происходит на заготовках, которые в зависимости от номинала монеты выполняются из различных по составу сплавов, а также однородных (моно-) и неоднородных (би-) композиций металлов и сплавов. К биметаллической по структуре относится и 5-рублевая монета – медная основа с тонким мельхиоровым покрытием аверса и реверса, нанесенным на основу способом плакировки (термомеханическое воздействие), а со второй половины 2009 года – стальсодержащая основа с покрытием из никеля, нанесенного способом гальванотехники. При этом если в первом случае магнитные свойства не проявляются, то монеты со стальсодержащей основой такие свойства имеют. И это еще один способ определения подлинности 5-рублевой монеты.
Факты выявления поддельных монет в России редки, однако это не значит, что поддельные монеты совсем не имеют хождения. Во многом это объясняется современным уровнем нашей жизни и высоким темпом деловой активности, нашей ментальностью, ведь мы просто не обращаем внимания на «мелочь» в кармане.
Но что делать, если все-таки «попался» с фальшивкой? Зачастую в торгово-сервисных точках кассиры просто предлагают поменять сомнительную купюру, и на этом весь «криминал» заканчивается. Однако, например, в банках такой ход событий практически исключен. Если у кассира в банке вызовет сомнение подлинность банкноты, есть два варианта развития дальнейших событий. Первый – вам могут предложить передать данную купюру для проведения экспертизы (в данном случае необходимо составить в произвольной форме заявление и опись с реквизитами купюр, передаваемых на экспертизу). Второй – если у кассира не останется сомнений в том, что ваши деньги фальшивые, на место прибудет наряд полиции (по вызову одного из сотрудников банка), который оформит изъятие фальшивок и доставит вас в отделение для выяснения обстоятельств появления их у вас на руках. Других законных средств избавляться от подделок нет.
Еще одной причиной отказа в приеме ваших денег в качестве платежа может стать наличие повреждений на банкнотах или монетах. В процессе хождения банкноты и монеты изнашиваются, утрачивают некоторые свойства защиты, истираются изображения и т.п. Существует два типа денег – платежеспособные и неплатежеспособные.
К первому типу относятся подлинные, неповрежденные или с незначительными повреждениями деньги, а также с признаками брака предприятий «Гознак». К незначительным повреждениям банкнот, как правило, относятся отсутствующие уголки (края), отверстия (проколы), посторонние надписи, оттиски штампов, несильные загрязнения, пятна, а что касается монет – это следы незначительного механического воздействия (царапины, вмятины). Деньгами с такими повреждениями можно рассчитываться в любой торговой точке. Если ваша наличность по какой-то причине все же сильно повреждена (воздействие агрессивной среды, обожжена после пожара, составлена из нескольких фрагментов, повреждена животными и др.), и вам отказали в приеме, можно обратиться в кредитную организацию (банк), где проведут обмен на целые (неповрежденные) деньги бесплатно при условии подлинности ваших денег и сохранении не менее 55% от общей площади банкноты. Исключение – операции с иностранной валютой и разменные операции с валютой Российской Федерации, за которые кредитная организация вправе взимать комиссию.
Второй тип, неплатежеспособные – их не поменяют даже в банке. К данному типу относятся поддельные деньги и подлинные со следующими повреждениями: отсутствует более 45% от общей площади банкноты (по любой причине); характер повреждений не позволяет восстановить целостность банкноты до минимально допустимого размера (55% общей площади); монеты, утратившие изображение в такой степени, что это препятствует однозначному определению номинала и типа монеты. Однако Банк России и здесь предусмотрел возможность обмена неплатежеспособных, но подлинных банкнот и монеты в особом порядке. Исключительным правом обмена неплатежеспособных, но подлинных денежных знаков обладает только сам Банк России, который по заявлению «пострадавшего» может произвести их обмен в случае, если остаточная площадь банкноты составит не менее 30%. В такой ситуации необходимо направить свое заявление в Банк России или другой уполномоченный орган в его структуре с изложением обстоятельств, которые привели к повреждениям, не позволяющим их обменять в кредитной организации, приложив к заявлению документы, подтверждающие факт стихийного или иного бедствия (справка о пожаре, стихийном бедствии, протокол ДТП, другие подтверждающие документы).
К сожалению, такие случаи нередки. Однако бывает, что повреждения порой носят поистине экзотический характер. Так, Банком России рассматривались заявления граждан, сообщающих о повреждениях банкнот «мышевидными грызунами» или, например, обожженных (обугленных), но не вследствие пожара, а в результате «сработавшей в неподходящий момент духовки», когда один из супругов прятал там свою «заначку», которую в итоге принес на экспертизу в чугунной сковородке, дабы окончательно не разрушить то, что от нее осталось. Курьезных случаев в практике обмена поврежденных денег хватает, и в большинстве случаев Банк России идет навстречу «пострадавшим», обменивая такие деньги.
// Андрей Анорин, ведущий экономист Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Краснодарскому краю – для Bankir.Ru
Число жертв среди гражданского населения только одном в Пакистане от применения там США дронов составило не менее 400 человек, и эти данные могут оказаться заниженными, говорится в опубликованном в пятницу докладе ООН.
В этой связи в документе содержится призыв к Соединенным Штатам рассекретить информацию о применении беспилотников и точное число жертв среди мирных жителей. Документ составлен для Генеральной Ассамблеи ООН специальным докладчиком по вопросу о защите прав человека в борьбе с терроризмом, англичанином Беном Эммерсоном.
Правительство Пакистана предоставило ему "документированные статистические данные, по меньшей мере, о 330 ударах с беспилотных летательных аппаратов в районе племенных территорий федерального управления, имевших место с 2004 года". По информации правительства, отмечается в докладе, общее число убитых в результате ударов с беспилотных летательных аппаратов составило не менее 2,2 тысячи, а число тяжело раненых - не менее 600 человек.
Правительству Пакистана удалось подтвердить, что "в результате ударов с беспилотных летательных аппаратов было убито не менее 400 гражданских лиц и еще 200 были сочтены возможными некомбатантами", сообщает Эммерсон.
В Афганистане, по его данным, за первые шесть месяцев 2013 года миссия ООН по содействию документально подтвердила 15 убитых и семь раненых среди гражданского населения в ходе семи раздельных операций беспилотных летательных аппаратов, целью которых были антиправительственные силы. В Йемене, по разным данным, по той же причине погибли от 21 до 58 мирных жителей.
Как подчеркнул Эммерсон, "участие ЦРУ в боевых контртеррористических операциях в Пакистане и Йемене является практически непреодолимым препятствием для прозрачности" применения дронов. Спецдокладчик ООН не считает, что соображения национальной безопасности оправдывают сокрытие данных о жертвах среди гражданского населения.
Компания QPM (Qatar Project Management) подписала соглашение о сотрудничестве с Марокканским агентством развития туристической инфраструктуры (Société Marocaine d’Ingénierie Touristique, SMIT). SMIT будет оказывать катарской компании консалтинговые услуги, стороны будут развивать сотрудничество в девелоперской отрасли, обмениваться опытом проектного менеджмента в сфере развития туристической инфраструктуры.
После того, как QPM открыла несколько региональных представительств в Саудовской Аравии, Марокко и Египте, это помогло компании реализовать проекты не только в этих странах, но и в соседних с ними государствах региона – Йемене, Судане, Ливии.
Qatar Project Management – крупнейшая в Катаре и одна из крупнейших в Персидском заливе девелоперских компаний.
“Aujourd’hui”
Саудовская Аравия все больше толкает США в объятия Ирана
Многие аналитики традиционно считали, что американо-саудовское партнерство непоколебимо и США всегда будут в этом союзе на главных ролях. Однако арабские «революции» и вторжение саудовских войск на Бахрейн в феврале 2011 года, а также выступления саудовских шиитов Восточной провинции в поддержку своих «собратьев» по вере опрокинули эти представления. Саудовская Аравия отвергает возможность вмешательства в свои внутренние дела и обещает отрезать пальцы тем, кто предпримет подобные попытки, заявил 9 марта 2011 года на пресс-конференции в Джидде министр иностранных дел страны Сауд Аль-Фейсал. А чуть раньше МВД КСА выпустило заявление, запрещающее проведение в королевстве каких-либо акций протеста. Позже госдепартамент США также выпустил заявление, в котором указывал на права саудовских граждан на мирные акции протеста, а также право народов на самовыражение. Сауд Аль-Фейсал в ответ подчеркнул, что «ясная позиция КСА заключается в том, что проведение реформ в обществе не может быть достигнуто при помощи митингов и демонстраций».
Ряд аналитиков по Ближнему Востоку в последние несколько месяцев прогнозируют ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США по причине противоположных взглядов на разрешение сложившейся ситуации в странах региона, в том числе из-за арабских «революций» и саудовской оккупации Бахрейна, осуществленной по мандату Совета сотрудничество арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). «Это не так. Мы не вмешивались в дела американцев, мы стремимся к этим отношениям и чувствуем, что США также дорожат ими», - сказал глава МИД Саудовской Аравии. Но саудовцы действовали жестко и решительно, невзирая на стратегическое партнерство с Вашингтоном. Тогда госсекретарь Хиллари Клинтон, находившаяся в Каире, заявила: "Чем скорее они (примечание автора - правительство и оппозиция на Бахрейне) сядут за стол переговоров и попытаются найти ответы на законные требования народа, тем быстрее будет найдено решение". А затем она деликатно покритиковала саудовские власти за насилие в отношении шиитских волнений в Восточной провинции КСА и заикнулась о демократии. В результате, саудовский король отказался от встречи с ней, а ее визит в Эр-Рияд, намеченный к проведению после поездки в АРЕ, был вообще отменен.
Учитывая нынешние крайне непростые реалии на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, Саудовская Аравия начала как никогда раньше испытывать необходимость в обновлении руководства спецслужб для мониторинга над ситуацией и прогнозирования в целях принятия важнейших политических решений. Особенно в сфере модификации отношений с США, которые перестали безоговорочно вставать на сторону КСА. Исходя из того, что за последние 2,5 года внутриполитическая ситуация во многих странах арабского мира претерпела кардинальные изменения, саудовской разведке стали необходимы люди, способные выполнять функции своеобразных «кризис-менеджеров», к которым, без всякого сомнения, можно отнести принца Бандара бин Султана бин Абдель Азиза Аль-Сауда. Смена руководителя саудовских спецслужб, произошедшая 19 июля 2012 года, была произведена довольно своевременно и правильно. Для Саудовской Аравии, являющейся политическим и энергетическим «гигантом» региона Персидского залива наряду с Ираном, помимо дальнейшего углубления стратегического партнерства с США на нынешнем этапе важно с максимальной долей профессионализма решить целый ряд первоочередных задач. К таковым относятся, прежде всего, ситуация в Сирии и связанное с ней дальнейшее развитие событий в Ливане, иранская ядерная программа и судьба «Хизбаллы», выстраивание партнерских отношений с Египтом и его военной верхушкой, участие в качестве ключевого регионального игрока в урегулировании палестино-израильского конфликта, дальнейшее проникновение в Йемен, дальнейшее ведение «подковерной» войны с Ираном за определение политического будущего Ирака, не говоря уже о внутриполитических угрозах, с которыми столкнулось королевство в свете непрекращающихся шиитских волнений как в Восточной провинции КСА, так и в соседнем Бахрейне.
В данном контексте нельзя сбрасывать также со счетов информационный скандал, в центре которого оказалась принцесса Ламья, дочь бывшего главы саудовской разведки принца Мукрина. Согласно появившихся в арабских СМИ в начале мая 2012 года сообщений, принцесса под прикрытием саудовских секретных служб вывезла из Каира миллиарды долларов, принадлежавших семье Хосни Мубарака, воспользовавшись находящимися в Красном море саудовскими королевскими яхтами, а также чартерными авиарейсами. Нельзя исключать и того, что смещение принца Мукрина с должности главы Управления общей разведки стала своеобразным оправдательным шагом семьи Аль-Сауд перед новым египетским руководством, призванным хоть каким-то образом сгладить имеющиеся у сторон противоречия вокруг персоны Хосни Мубарака и его семьи.
Повторный выход на авансцену политической жизни королевства принца Бандара бин Султана, находившегося последнее время в своеобразном «информационном забвении», стало попыткой семьи Аль-Сауд перейти к прагматичной, бескомпромиссной и более агрессивной внешней и внутренней политике с целью возвращения себе статуса безоговорочного регионального лидера. Особенно актуальным это выглядит в свете выхода КСА в течение последних трех лет на главные роли на Ближнем Востоке, вызванного событиями т.н. «арабской весны». Нельзя сказать, что Бандар бин Султан имеет менее скандальную репутацию, нежели смещенный с поста главы саудовских спецслужб принц Мукрин. За годы работы на должности посла Саудовской Аравии в США Бандар бин Султан стал источником многочисленных сплетен, которые с удовольствием тиражировали все ведущие мировые СМИ. Его имя фигурировало в коррупционных расследованиях, проводимых Скотланд-Ярдом в связи с подкупом британских должностных лиц, причастных к подписанию многомиллиардных контрактов на поставку современных видов вооружений в Саудовскую Аравию. Широко известен Бандар ибн Султан также среди американского политического и делового истеблишмента, успевшего наладить с ним тесные связи, учитывая, что саудовский посол пробыл на посту главы дипмиссии КСА в Вашингтоне целых 22 года. Известен он и тайными связями с некоторыми ведущими деятелями Израиля правого толка, в том числе по вопросам, связанным с ХАМАС и ПНА, а также контактами с произральским лобби в США.
Захлестнувшие Ближний Восток «демократические» потоки породили тревогу в Вашингтоне и европейских столицах. Все западные государства официально приветствовали победу «демократии», а на деле – радикального исламизма, в арабском мире, но опасаются потерять «дружественных тиранов», с которыми Запад уже давно ведет дела. С Ливией было проще, по крайней мере, для США, поскольку Америка практически не поддерживала Муаммара Каддафи. Но настоящим испытанием для Америки на преданность делу «демократии» является ее самый давний союзник - КСА. Эр-Рияд выступает в качестве важнейшего нефтедобывающего партнера, на которого Вашингтон давно уже полагается в вопросах стабилизации мирового нефтяного рынка. КСА также является крупным покупателем вооружений. И что самое важное, королевская семья щедро делится своим богатством в Вашингтоне, заводя многочисленных и влиятельных друзей.
Эр-Рияд является, по сути дела, тоталитарной теократией. Горстка дряхлых старцев и 7000 принцев стали истинным наказанием для этой страны с 27 миллионами населения. Там нет ни выборов, ни гражданских свобод, а люди немусульманского вероисповедания не могут свободно отправлять свои религиозные обряды даже дома. Саудовское правительство распространяет исламский фундаментализм (в виде салафизма – самого реакционного и экстремистского направления идеологии ваххабизма) по всему миру, а граждане страны оказывают существенную финансовую помощь террористам. Однако американское руководство никак не подталкивает членов королевской семьи к осуществлению демократических реформ. При этом, никак нельзя сказать, что обеспеченные принцы интересуются американскими политическими ценностями. Режим в Эр-Рияде всегда использовал все силы и средства, необходимые для самосохранения. А сейчас Саудовская Аравия переняла вашингтонскую стратегию и начала насаждать свои ценности за рубежом, начав с Бахрейна и Сирии. Эр-Рияд тогда решил силой задушить зарождающееся демократическое движение в Бахрейне и сохранить диктатуру семьи шейха Халифы, а затем смести светский режим Башара Асада, которому он мстил и за свое поражение в Ливане после убийства премьер-министра Харири.
Саудовский режим сохраняет абсолютную политическую власть, отвергая выборы, как "не соответствующие исламским убеждениям". Даже скромные реформы короля Абдаллы вызывают активное противодействие в королевской семье. Будущее режима кажется неопределенным и беспросветным. Власть практически полностью сосредоточена в руках сыновей бин Сауда. Однако среди стареющих братьев существуют серьезные разногласия по женской линии. Король и наследный принц - в преклонном возрасте и часто болеют. Скоро бразды правления перейдут к следующему поколению и последствия здесь могут оказаться самыми непредсказуемыми. К этой взрывоопасной смеси следует прибавить также межплеменные и региональные разногласия и распри. Казалось бы, саудовское королевство должно стать вполне очевидным объектом американского воздействия с целью демократизации. Однако даже администрация Буша не подталкивала страну к реформам. Не было никаких встреч с диссидентами, не было критики со стороны заезжих американских лидеров, не было даже холодного приема саудовским официальным лицам.
Эр-Рияд пришел в ужас, когда стал свидетелем мощных протестов на Ближнем Востоке. Новые информационные технологии дают королевской династии возможность скрывать от своих граждан всепроникающую коррупцию, бесхозяйственность и бедность. Однако режиму при поддержке армии и хорошо вооруженной национальной гвардии удалось избежать массовых демонстраций. Небольшие толпы собирались в ряде городов, особенно на востоке страны, где сосредоточены шииты, однако их быстро разогнали. Когда протесты за границей начали шириться, король объявил об увеличении социальных расходов на 36 миллиардов долларов. Режим также произвел аресты своих критиков и привел силы безопасности в состояние повышенной готовности.
Радикализация населения королевства, которое вначале хочет пока лишь реформ, может распространиться по всему Персидскому заливу. На самом деле, Саудовская Аравия очень сильно рискует, поскольку все это может сыграть на руку Ирану. Эр-Рияд уже обвиняет Тегеран в том, что он провоцирует беспорядки среди шиитов, но реалии таковы, что, наоборот, Иран вовсе не является движущей силой в этих действиях, в подстегивании шиитов Восточной провинции и Бахрейна на выступления.
Действия Эр-Рияда могут взбаламутить и иракскую политику. Лидер антиамериканских шиитов Муктада аль-Садр (Moqtada al-Sadr) уже призывает к протестам против действий Саудовской Аравии. Даже глава иракских шиитов аятолла Али аль-Систани, являющийся самым почитаемым среди шиитов духовным лицом и обычно избегающий политики и тот подверг критике Эр-Рияд за закручивание гаек. Действия саудитов грозят привести к еще большему расколу между суннитами и шиитами во всем регионе.
Пока что саудовская монархия кажется жизнеспособной и стойкой, однако ее отношения с США становятся все более натянутыми. Но самые крупные проблемы у королевской семьи Саудов носят внутренний характер. Речь идет об отсутствии у нее легитимности. Вполне можно предположить, что на будущие угрозы они станут реагировать с жестокостью. Вот как это объясняет саудовский министр внутренних дел Найеф бин Абдул-Азиз, являющийся, по сути дела, вторым претендентом на трон: "Что мечом завоевано, мечом и сохраним".
По сути, если режиму будет брошен вызов, он, конечно же, будет надеяться на поддержку Вашингтона. И очень многие заинтересованные лица из Вашингтона выступят именно за такой курс. Однако администрация вряд ли сможет выразить поддержку режиму, нарушающему почти все основополагающие принципы (демократии, права человека, свобода слова и т.д.), за которые выступают США. Вашингтон при таком вопиющем положении вещей не может даже спрятаться за фиговым листком реформ.
А над всей этой сумятицей в регионе спокойно наблюдает Иран. Глупое вторжение администрации Буша в Ирак сняло с Тегерана одно из важнейших ограничений. А теперь Королевство Саудовской Аравии вручило шиитскому Ирану мощный инструмент для расширения числа сторонников в арабском мире. Администрации США сейчас приходится отказываться от широко рекламируемой видимости теплых взаимоотношений между Вашингтоном и Эр-Риядом. Сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, будет по-прежнему иметь большое значение. Но Вашингтону придется установить дистанцию между США и саудовским режимом. А заодно продолжить нормализацию отношений с Тегераном, который сможет заменить КСА в качестве главного стратегического партнера и мощного стабилизирующего фактора в Персидском заливе.
Владимир Алексеев,
Специально для Иран.ру
Невостребованность
Итоги сентября на мировом рынке стали
Невостребованность – именно это слово выглядит сегодня ключевым для понимания текущей ситуации на мировом рынке стали. Избыточные мощности в глобальной металлургической отрасли препятствуют повышению цен на стальную продукцию, даже когда спрос на нее увеличивается в силу действия сезонных факторов, как, собственно, и произошло в сентябре текущего года. Впрочем, основные проблемы отрасли заключаются не столько в избытке предложения, сколько в недостаточном спросе. Причем, его существенное увеличение в обозримом будущем выглядит маловероятным.
Дорога в тупик
Чтобы разобраться в причинах нынешнего кризиса в мировой металлургии, нужно вернуться даже не в 2008 год, а еще дальше, в 80-е годы, когда товарный рынок западных стран, с одной стороны, полностью оказался под контролем крупных транснациональных корпораций, а, с другой, стал насыщенным, сделав невозможным дальнейший экстенсивный рост или, по крайней мере, сильно затруднив его.
«Большой бизнес» нашел ответы на эти вызовы. С конца 80-х годов производственные мощности по выпуску практически всей продукции, кроме наиболее технически сложной и наукоемкой, стали переноситься в страны «третьего мира». Многократное сокращение расходов на рабочую силу в производственном звене позволило корпорациям значительно нарастить свои прибыли и создать новые рабочие места для американцев и европейцев в сферах дизайна, маркетинга и продаж, где теперь создавалась основная добавленная стоимость. Одновременно распад Советского Союза, ликвидация соцлагеря, открытие для внешней экспансии таких крупных экономик как индийская и китайская создали новые рынки сбыта и открыли новые возможности для роста.
Но в начале 2000-х эти резервы оказались в основном исчерпанными. Глобализация закончена. Новых рынков, которые могли бы обеспечить продолжение экстенсивного роста, в мире больше нет. Эффект от перенесения производства в государства «третьего мира» получен всеми игроками и перестал быть конкурентным преимуществом.
Де-факто в мировой экономике использовались три возможных выхода из этого тупика. Но во всех случаях последствия оказались катастрофическими.
Во-первых, все крупные корпорации мира применяют различные схемы «налоговой оптимизации», чтобы уменьшить долю прибыли, которую нужно «отстегивать» государству. Масштабы этого явления огромны. По оценкам Европейской комиссии, «недобор» налогов и сборов составляет в странах ЕС порядка 1 трлн. евро в год. Американская Internal Revenue Service полагает, что в 2012 году американские корпорации легально укрыли от внутреннего налогообложения около $2 трлн. доходов. Вследствие этого процесса государствам стало не хватать денег для покрытия социальных обязательств и финансирования проектов. Отсюда проистекают резкий рост государственного долга в последние годы и разрушительная для экономики политика «жесткой экономии».
Во-вторых, с целью сокращения затрат корпорации начали проводить массированные сокращения рабочей силы в западных странах. Причем, если в 80-90-е годы «лишними» становились промышленные рабочие, в основном, сумевшие найти новые места в офисах или в сфере услуг, то теперь под сокращения попадают, главным образом, разнообразные агенты по продаже и офисные клерки, имеющие лишь очень ограниченные возможности для альтернативного трудоустройства. Рост безработицы привел к сужению потребительского рынка в западных странах, подорвал благополучие малого бизнеса, занятого, в основном, в сфере услуг, и запустил замкнутый «порочный круг». Чем хуже рыночная конъюнктура, тем более жесткую политику проводят корпорации, увольняя новых сотрудников. Но чем больше увольнений, тем более угнетенным оказывается потребительский рынок и тем хуже конъюнктура.
В-третьих, последний подъем первой половины 2000-х происходил, в основном, за счет дешевого и доступного заемного капитала. Все, можно сказать, брали взаймы у будущего, но теперь пришло время расплачиваться по этим долгам. Обрушение пирамиды ипотечного и потребительского кредитования привело к «сгоранию» обесценившихся активов на триллионы долларов, заставило правительства вливать эти триллионы в банки, чтобы возместить им эти потери, нарушило стабильность финансовой системы в мировом масштабе и привело к резкому сокращению банковского финансирования для реального сектора экономики.
Что касается мировой металлургической промышленности, то основные ее мощности создавались во время бурного роста 90-х – первой половины 2000-х годов и для обеспечения этого роста. Причем, хотя с момента кризиса 2008 года прошло уже пять лет, возвращения к прежним объемам потребления не происходит, что и делает значительную часть глобальной сталелитейной отрасли невостребованной.
Конечными потребителями стальной продукции являются прямо либо опосредованно или домохозяйства, удовлетворению потребностей которых так или иначе служит большая часть реального сектора мировой экономики, или государства, реализующие различные проекты – от локальных до общенациональных. Однако оба этих направления сейчас находятся в тупике. Западные государства пытаются выйти из бюджетно-долгового кризиса посредством сокращения затрат на госаппарат (в самом широком смысле слова, включая врачей и учителей), социальные программы и госинвестиции. Но все это объективно лишь ухудшает ситуацию в экономике.
Мы ждем перемен
Поэтому немногим менее 1% экономического роста Германии, где сохранилась работающая промышленность, выглядят блестящим результатом на фоне стагнирующего Евросоюза. Американская же экономика, как ни странно, фактически находится на «нефтегазовой игле». Основными источниками ее роста в последние годы были сначала сланцевый газ, резкое увеличение поступлений которого вызвало массированный приток инвестиций в буровое оборудование, газопроводы и энергетику, а затем сланцевая нефть, добыча которой с 2011 года растет со скоростью 13-16% в год. Иных факторов экономического восстановления в западных странах нет и не появится при сохранении нынешней государственной политики.
По другому пути пытался пойти Китай, превратившийся к началу 2000-х в «мастерскую мира». Государство, ставшее основным партнером западных компаний, строивших в КНР свои заводы и фабрики, вкладывало свою долю доходов в инфраструктуру и повышение жизненного уровня населения. За счет этого производство стали в стране с 2000 по 2013 год выросло более чем в 6 раз. Только по официальным прогнозам оно может достигнуть в текущем году 780 млн. т, причем, как признают сами китайцы, еще до 50 млн. т в год могут оказаться вне сферы внимания официальной статистики.
Правда, сейчас производственные мощности китайской металлургии тоже оказываются невостребованными. Резервы роста и в этой стране подошли к концу. Китайский подъем опирался, прежде всего, на западный потребительский рынок, который после 2008 года резко сузился, а сейчас находится в состоянии стагнации. Рассчитывать на существенное улучшение здесь пока не приходится.
Китайские власти после 2008 года предпринимали просто титанические усилия, чтобы заместить «внешний» рост «внутренним». Были реализованы широкомасштабные программы по строительству инфраструктуры, приведшие, в частности, к появлению «мертвых» городов, в которых почти никто не живет, и дорог, ведущих из ниоткуда в никуда. Но сейчас и этот фактор перестал работать, просто потому что нельзя наращивать инвестиции в строительство до бесконечности. В последние месяцы в Китае стремительно разрастается пирамида потребительского кредитования, но это сопряжено с большой вероятностью краха по образцу США и Европы 2008 года.
Поэтому, как отмечали участники состоявшейся 25 сентября конференции «Прогноз-2014. Рынок черных и цветных металлов»,выход из нынешнего экономического кризиса, вероятно, возможен только за счет радикальной смены модели организации мировой экономики, создания нового уклада. По крайней мере, нынешняя модель либерального капитализма, основанная на отрыве финансовой сферы от реального сектора, преобладании денежных методов регулирования и господстве транснациональных корпораций над государствами и экономикой, явно выглядит не эффективной и разрушительной. Она завела мир в тупик, выхода из которого не видно – по крайней мере, при использовании привычных инструментов и традиционных (для данного уклада) мер.
Основная трудность здесь видится в том, что в мировых политических и экономических кругах пока нет не только понимания, какими должны быть изменения, но и осознания необходимости этих изменений. Либеральная модель по-прежнему доминирует в государственной политике. В частности, к применению таких типично либеральных инструментов как сокращение государственных расходов и ограничение «социалки» призывает в последнее время и российское правительство.
По этой причине процесс «смены трендов» в мировой экономике может значительно затянуться, а сами перемены – сопровождаться серьезными катаклизмами. Тут впору вспомнить о том, что способом разрешения кризиса 1929 года, тоже потребовавшего смены экономической модели, в конечном итоге, стала Вторая Мировая война.
Для мировой металлургической отрасли любое развитие событий, скорее всего, приведет к сокращению потребления стальной продукции или, как минимум, к снижению темпов роста. Если поиски выхода затянутся, то мир ждет длительная стагнация, напоминающая депрессию в экономике Японии, которая началась в конце 80-х с обвала рынка недвижимости и продлилась до начала 2000-х. Но и «новая» экономика, скорее всего, будет подразумевать более бережное расходование природных ресурсов и ограничение безудержного, необоснованного, избыточного потребления.
Поэтому металлургам не обойтись без значительного сокращения производственных мощностей. Только за счет этого мировой рынок стали может достичь баланса спроса и предложения в ближайшие годы. При этом, первыми кандидатами на сокращение выглядят компании Евросоюза и Китая, где перепроизводство наиболее выражено. Однако оптимизация мощностей вряд ли произойдет быстро. Металлургическим компаниям тяжело принимать решения по сокращению выпуска, так как они нуждаются в постоянном притоке наличных для обслуживания своей задолженности. Кроме того, против закрытия предприятий выступают государственные и местные власти, которым не нравится перспектива массовой ликвидации рабочих мест в промышленных районах.
Возможно, понадобится еще один год спада, когда низкие цены на стальную продукцию будут сочетаться с относительной дороговизной сырья, чтобы европейские и китайские компании приступили к реальному выводу из строя избыточных предприятий. По крайней мере, участники конференции «Прогноз-2014. Рынок черных и цветных металлов» не видели особых причин для оптимизма при оценке перспектив мировой металлургической отрасли на будущий год. В то же время, для российского рынка прогноз на 2014 год выглядит несколько более благоприятным, ожидается небольшое расширение спроса и повышение цен.
Первый месяц осени
Теперь переходим непосредственно к сентябрю 2013 года, который, по большому счету, разочаровал металлургов. Ожидавшегося в начале осени сезонного подъема деловой активности не произошло. Спрос на стальную продукцию почти везде остался ограниченным, потребители воздерживались от создания значительных запасов.
В Китае, где реально наблюдалось некоторое оживление, росту цен воспрепятствовал избыток предложения. Из-за этого стоимость проката на внутреннем рынке в течение всего месяца медленно ползла вниз. Во второй половине сентября китайским компаниям пришлось пойти на уступки и при экспорте. Вследствие ослабления позиций китайцев пришлось отказаться от намеченного повышения производителям из других стран Восточной Азии.
Правда, здесь свою роль сыграл еще один фактор, а именно, рекордное падение курса индийской рупии по отношению к доллару в начале сентября. Это – вместе с экономической депрессией в самой Индии, вызвавшей стагнацию внутреннего рынка, – привело к экспортной экспансии индийских металлургических компаний, предлагавших свою продукцию по заниженным ценам.
На Ближнем Востоке рыночную ситуацию заметно ухудшил другой краткосрочный фактор – кризис в Сирии, едва не приведший к полномасштабной войне, в которую могли бы быть втянуты и другие страны региона. Если учесть также и высокий уровень политической напряженности и в других странах региона – Ливии, Египте, Йемене, а также изменения в законодательстве Саудовской Аравии, в значительной мере сократившие использование труда гастарбайтеров, не удивительно, что в экономике региона наблюдался спад, а спрос на стальную продукцию был ограниченным. Соответственно, в течение сентября понизились котировки как на длинномерный, так и на плоский прокат.
Европейские и американские металлургические компании начали сентябрь с повышения котировок и кое в чем преуспели. Однако, в конечном итоге, этот подъем не был в полной мере поддержан рынком из-за недостаточного спроса. Во второй половине сентября производителям пришлось перейти к политике стабилизации цен (безотносительно к валютным колебаниям).
В октябре поставщики стальной продукции, очевидно, постараются повторить попытку подъема цен. Иного выхода у них все равно нет. Во-первых, металлургам приходится нести относительно высокие затраты на сырье и энергоносители, из-за чего многие компании сегодня убыточны. Во-вторых, в начале четвертого квартала в очередной раз ожидается расширение спроса на стальную продукцию.
Тем не менее, вероятность того, что металлургам в этот раз удастся настоять на своем, не слишком велика. На мировом рынке стали сохраняется избыток предложения, так что на нынешнем рынке доминируют покупатели. Скорее всего, в октябре они постараются сохранить цены неизменными, чтобы потребовать от поставщиков новых уступок перед концом года. По крайней мере, для возобновления длительного роста цен сейчас нет серьезных перспектив.
Виктор Тарнавский
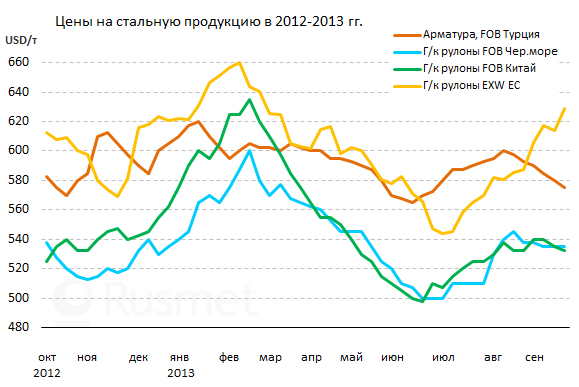
Йеменские военные взяли под контроль штаб одного из армейских подразделений на юге страны, который в понедельник был захвачен связанными с "Аль-Каидой" боевиками, передает агентство Франс Пресс.
Боевики из группировки "Ансар аш-Шариа", захватившие командную структуру в портовом городе Эль-Мукалла - административном центре провинции Хадрамаут - были переодеты в форму сотрудников из центрального аппарата службы безопасности. Перед захватом трехэтажного здания, расположенного на прибрежном утесе напротив военной базы, они взорвали перед его воротами заминированный автомобиль. В результате нападения погибли четверо военнослужащих, оставшийся гарнизон боевики взяли в заложники.
Армейское командование сообщает, что боевики, число которых составляло около 20 человек, почти не оказали сопротивления, когда военные начали ответный штурм здания. Захватившие его экстремисты были взяты в плен, некоторые из них ранены. О потерях при штурме среди военнослужащих не сообщается.
В Йемене с 2011 года сохраняется нестабильная обстановка после смены власти. На территории Йемена действует местная ячейка "Аль-Каиды" - группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове", являющаяся одной из самых активных террористических группировок в мире.
Пентагон меняет место дислокации беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в Джибути после того, как местные чиновники выразили озабоченность по поводу возможного столкновения беспилотников с коммерческими самолетами, сообщает Defense News 25 сентября.
После терактов 11 сентября 2001 года база Кэмп-Лемоньер, расположенная рядом с международным аэропортом Джибути, взяла на себя важную стратегическую обязанность в качестве места дислокации Сил специального назначения США для ударов по формированиям исламистских террористических организаций «Аль-Каида» в Йемене и «Аль-Шабаб» в Сомали.
С января 2011 года случилось пять аварий, связанных с беспилотниками MQ-1 Predator, и правительство Джибути потребовало от США прекратить полеты БЛА с базы Кемп-Лемоньер, где размещены около 3000 американских военнослужащих.
По соглашению с властями Джибути американские военные переместят базу беспилотников с Кэмп-Лемоньер на аэродром Чабеллей, расположенного примерно в 10 км к юго-западу от столицы. Решение перебазировать беспилотники обойдется в 800 млн долл США для модернизации инфраструктуры Кэмп-Лемоньер и в 13 млн долл для создания условий для полетов беспилотников с аэродрома Чабеллей. Переход на новое место базирования обсуждается уже более шести месяцев.
Другие американские самолеты, в том числе транспортники и истребители, будут по-прежнему использовать Кэмп-Лемоньер. На этой базе также дислоцированы около десятка французских военных самолетов.
На украинском «Стиролбиофарме» откроется новый цех
Ко дню фармацевта в компании ООО «Стиролбиофарм» состоится открытие цеха по производству препаратов в сиропных и суспензионных лекарственных формах. Цех спроектирован и построен с учетом требований международных стандартов качества, оснащен современным фармацевтическим оборудованием. Процесс выпуска сиропов и суспензий осуществляется в помещениях высочайшего класса микробиологической чистоты, использующих принцип «чистых помещений» согласно требованиям GMP. Скоро на прилавках украинских аптек появятся горловские муколитические сиропы «Амброксол» и «Фенспирит», жаропонижающий сироп «Тайленд», суспензия «Нифуроксазид» и сироп «Лактулоза для лечения желудочно-кишечных болезней, говорится в сообщении пресс-службы компании.
ООО «Стиролбиофарм» – современный производитель лекарственных средств, работающий в соответствии с требованиями международного специализированного сертификата качества GMP. Завод компании, располагающийся в Горловке Донецкой области, является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий Украины.
С момента своего создания компания «Стиролбиофарм» ориентирована на выпуск эффективных и конкурентоспособных лекарственных препаратов. Основные усилия фармацевтической компании «Стиролбиофарм» направлены на программу импортозамещения. В рамках этой стратегии компания постоянно модернизирует производство, совершенствует систему контроля качества выпускаемой продукции и развивает портфель производимой продукции. Фармпрепараты «Стиролбиофарма» по праву завоевали доверие врачей и потребителей, партнеров и клиентов.
История компании начинается в 1996 году, когда на Горловском химическом гиганте—концерне «Стирол» - было организовано фармацевтическое производство по производству твердых лекарственных форм. Проект нового фармацевтического предприятия в Горловке был выполнен Торонтским Институтом Фармацевтических Технологий (Канада) в полном соответствии с требованиями канадских (НРВ) и американских (FDA) требований международного стандарта GMP. Продуктовый портфель нового фармпредприятия был скромным: витамин С 500 мг. апельсиновый, ацетилсалициловая кислота 325 мг., парацетамол 325 мг. Но это было начало. И фармацевтический гигант—фирма «Пфайзер»,чьи акции сегодня включаются в базу расчётов промышленного индекса Доу-Джонса, начинала с производства лимонной кислоты.
Сегодня ассортимент продукции ООО «Стиролбиофарм» составляет более полусотни фармацевтическиех препаратов твёрдых и жидких лекарственных форм различных фармакотерапевтических групп; витамины, анальгетики, противовоспалительные, антиаллергические, противомикробные, БАДы и др. средства. Общая годовая мощность фармацевтического производства в Горловке составляет 8 млрд.979 млн. шт. таблеток и капсул, а также 34 млн. 560 тыс. шт. шприц-тюбиков.
По многим вопросам компания «Стиролбиофарм» является первой в Украине - своего рода первопроходцем. В августе 1998 года компания «Стиролбиофарм» первой среди фармпредприятий постсоветского пространства получила сертификат на предмет соответствия Good Manufacturing Practice (Надлежащая производственная практика) согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения и Европейского Экономического Сообщества. «Стиролбиофарм» первым и единственным из фармацевтических предприятий Украины создал экспериментально-биологическую клинику (виварий) для проведения доклинических испытаний лекарственных препаратов.
На «Стиролбиофарме» работают с осознанием того, что будущее успешной фармацевтической компании должно основываться на гибких бизнес-процессах, способных преодолевать вызовы постоянно меняющегося окружения. Так «Стиролбиофарм» первым среди украинских фармацевтических предприятий начал работать в соответствии с новой глобальной концепцией «зелёной экономики», внедрив в производство ряд объектов альтернативной энергетики, которые позволили компании стать первым в стране газонезависимым предприятием. В настоящее время электроэнергию на «Стиролбиофарме» получают из возобновляемых бесплатных и неисчерпаемых источников—ветра и солнца. А для отопления используют не дорогостоящий природный газ, а бросовую биомассу и органические отходы.
Признанием качества является и то, что продукция горловских фармацевтов экспортируется в многие страны: она хорошо знакома потребителям Латвии, Азербайджана, Йемена, Беларуси, Молдовы, России, Литвы, Ливана. В планах компании дальнейшее усиление позиций в экспортном направлении, дальнейшее наращивание продуктового портфеля за счёт инновационных препаратов. Ассортимент производимой в Горловке продукции должен пополнится антираковыми и суппозиторными препаратами, современными новейшими антибиотиками, интерферонами, настойками и мазями. На «Стиролбиофарме» планируется производить субстанции—вещества, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для производства и изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность.
Украинские пограничники открыли огонь при задержании в ночь на субботу группы нелегальных мигрантов в Сумской области вблизи границы с Россией, сообщает в субботу украинское агентство УНИАН со ссылкой на сумской пограничный отряд.
Информацию о возможном перемещении группы незаконных мигрантов пограничники получили заранее. Около 3.00 (4.00 мск) в районе села Рожковичи были задержаны гражданин Сомали и гражданин Йемена, а также сопровождавший их украинец. Из сообщения не ясно, пытались ли нелегалы попасть на территорию России или же, наоборот, проникли на Украину с российской территории.
"В ходе задержания нарушители отказались выполнять законные требования пограничного наряда, начали оказывать сопротивление, которое в дальнейшем перешло в физическое нападение на пограничников. Только после трех предупредительных выстрелов вверх и двух выстрелов в сторону правонарушителей из устройства для отстрела резиновых зарядов злоумышленники отказались от своих намерений", - говорится в сообщении.
О произошедшем проинформированы правоохранительные органы, начаты оперативно-следственные действия. Виктор Авдеенко.
Политика уступок
Цены на длинномерный прокат на Ближнем Востоке продолжают снижаться
После инцидента с применением химического оружия в Сирии 21 августа правительство Турции, как известно, выступило на стороне агрессоров, заявив о готовности присоединиться к нападению на южных соседей. Однако войны пока так и не случилось, а вот кризис, вызванный военными приготовлениями, нанес весьма сильный удар по турецкой экономике.
В частности, в конце августа значительно снизилась активность в национальной строительной отрасли, причем, восстановления не произошло и до сих пор. Из-за этого внутри страны сократился спрос на длинномерный прокат. Курс турецкой лиры совершал беспорядочные колебания. В течение последнего месяца он варьировался в интервале от 1,945 до 2,07 лиры за доллар. Из-за этого потребители стальной продукции начали откладывать закупки.
Сирийский кризис привел к уменьшению спроса на турецкий длинномерный прокат и на внешних рынках. Из-за роста политической напряженности в регионе сократили импорт арматуры такие страны как Ливан и Ирак, а покупатели в ОАЭ и Саудовской Аравии не проявляют особой активности с середины августа и конца июля соответственно. Экспорт в Ливию практически прекратился, так как страна фактически находится на грани новой гражданской войны.
Наконец, новое правительство Египта, оказавшееся в сирийском конфликте по разные стороны «фронта» с Турцией, объявило о возможном введении антидемпинговых пошлин на турецкую стальную продукцию. Несколько ранее, в начале сентября, о возбуждении антидемпингового иска против турецкой арматуры заявили американские производители длинномерного проката. Единственной страной, расширившей в последнее время закупки данной продукции, стал Йемен.
Внутреннюю котировки на арматуру в Турцию в последние три недели относительно стабильны в долларовом эквиваленте на уровне около $580-595 за т EXW, хотя местные компании постоянно меняют котировки в лирах, приспосабливаясь к скачкам курса. Однако на внешних рынках цены неуклонно идут вниз. С начала сентября турецкая арматура подешевела более чем на $10 за т. В середине месяца сделки заключались из расчета, в среднем, $580 за т FOB.
Негативное воздействие на рынок, безусловно, оказало удешевление китайской продукции. Попытка китайских компаний добиться роста цен на длинномерный прокат в начале сентября не удалась. Ближе к середине сентября стоимость этой продукции сократилась примерно на $10 за т, вернувшись на уровень конца августа. Китайская арматура предлагается теперь в Ирак по $565-575 за т CFR, как и месяц тому назад.
Из-за слабого спроса на уступки были вынуждены пойти и производители из стран СНГ. Котировки на украинскую арматуру опустились до $550-560 за т FOB из-за отсутствия интереса у крупнейшего (после России) покупателя – Ирака. Белорусский метзавод предлагает арматуру на экспорт по $580 за т FOB с предоплатой, но пока без особого успеха. Катанка украинского производства продается в страны Африки и Ближнего Востока по $565-585 за т FOB, тогда как в начале сентября цены были, в среднем, на $10 за т выше.
В последнее время на ближневосточном рынке синхронно дешевеют длинномерный прокат, заготовки и металлолом. Однако металлурги надеются, что спад уже подходит к концу. Дистрибуторы и конечные потребители уже истратили большую часть запасов, так что в скором будущем можно будет рассчитывать на активизацию спроса. Правда, на серьезный рост цен производители вряд ли смогут рассчитывать. Более вероятным вариантом выглядит стабилизация в конце сентября – начале октября.
Виктор Тарнавский
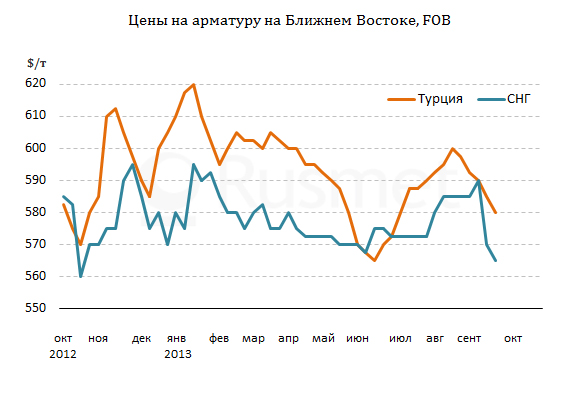
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит две новые жалобы в связи с делом о секретных тюрьмах ЦРУ, говорится в сообщении Комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Муйжниекса, обнародованном в среду.
"В ближайшем будущем суд может вновь изобличить безнаказанность, которая отличает программу ЦРУ, если он решит изучить жалобы, поданные Абу Зубайда против Польши и Литвы, а также аль-Нашири против Польши и Румынии", говорится в сообщении. Оба заявителя, подозреваемые в терроризме и содержащиеся на базе Гуантанамо, жалуются на то, что страны, против которых были поданы жалобы, не провели должного расследования обстоятельств их задержания, передачи Соединенным Штатам, а также жестокого обращения с ними.
Первая подобная жалоба уже рассмотрена, ЕСПЧ вынес по ней решение 13 декабря 2012 года, отмечается в сообщении еврокомиссара. ЕСПЧ признал нарушение прав гражданина Германии ливанского происхождения Халеда эль-Масри.
Мужчина был похищен в декабре 2003 года сотрудниками ЦРУ в Македонии. Он подозревался в причастности к террористической организации "Аль-Каида". Из Македонии эль-Масри переправили в тюрьму в Кабуле. Однако в мае 2004 года он был отпущен. В декабре 2005 года эль-Масри подал жалобу в Американский союз защиты гражданских свобод, однако она была отклонена. После этого он обратился в ЕСПЧ, который признание нарушение его прав.
Что касается Абу Зубайда, то, согласно данным, которые были разглашены при участии WikiLeaks, он был задержан в марте 2002 года в Пакистане. В сентябре 2006 года он был переведен в Гуантанамо. О том, где мужчина провел более четырех лет, в документах не говорится, но сообщается при этом, что он якобы принимал участие в планировании терактов 11 сентября в США и состоял в "Аль-Каиде".
Абд аль-Рахим аль-Нашири, главный подозреваемый в причастности к террористической атаке в Йемене в октябре 2000 года, был задержан в ОАЭ два года спустя и также оказался в конечном счете в Гуантанамо. Владимир Ядута.
Пустыня
Цены на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока снижаются из-за слабого спроса и роста политической напряженности
Экономика стран Ближнего Востока в очередной раз оказывается заложницей политики. Двухнедельное балансирование на грани войны в Сирии все больше сказывается на положении дел не только в соседних Иордании и Ливане, но и в таких странах как Израиль и Турция. Большинство экспертов однозначно связывают ослабление турецкой валюты с событиями в Сирии. Кроме того, в последнее время в стране снизился уровень деловой активности, в частности, в строительной отрасли.
За последние две недели турецкие металлургические компании были вынуждены повысить внутренние цены на арматуру на 3-4%, чтобы компенсировать удешевление местной валюты по отношению к доллару. Однако в долларовом эквиваленте котировки немного понизились и составляют в настоящее время около $580-600 за т EXW. Спрос со стороны национальной строительной отрасли невысокий, поэтому металлургам пришлось пойти на уступки при экспортных поставках, чтобы заключить контракты на сентябрь.
Турецким производителям арматуры так и не удалось преодолеть рубеж $600 за т FOB, к которому они прикоснулись в начале августа. В первых числах сентября котировки сократились до около $585-595 за т FOB, причем, цены заметно тяготеют к нижней границе этого интервала. По словам трейдеров, цены выше $590 за т FOBвозможны сейчас только при поставках в африканские страны.
В целом покупательская активность на ближневосточном рынке длинномерного проката остается низкой. В Саудовской Аравии правительство в середине июля приняло новые правила регулирования рынка труда, установив для всех местных компаний квоту размером не менее 10% для саудовских граждан. Одновременно были резко ужесточены требования по отношению к использованию труда иностранных рабочих. Это привело к оттоку гастарбайтеров из страны и падения активности в строительной отрасли вследствие дефицита рабочей силы. Соответственно, уменьшился и спрос на конструкционную сталь.
В течение всего августа саудовские компании практически не проявляли интереса к импорту арматуры и только в самом конце месяца начали принимать предложения турецких поставщиков на уровне порядка $585 за тFOB. Примерно по тем же ценам приобретают турецкую арматуру и компании из ОАЭ. На местном рынке длинномерного проката продолжается стагнация. Национальные производители и катарская Qatar Steel в результате оставили на сентябрь те же цены, что и в предыдущем месяце, – порядка $620-630 за т EXW/CPT.
В Северной Африке спрос на турецкую арматуру резко упал. В Египте обстановка в последнее время немного успокоилась, но из-за хронического дефицита валюты дистрибуторы прекратили размещать заказы за рубежом. В Ливии, наоборот, разгорается новый конфликт. Большая часть портов страны блокирована, а добыча нефти упала почти что до нуля. Если в первом полугодии Ливия импортировала довольно значительные объемы длинномерного проката, то в августе и начале сентября сделки на этом направлении практически прекратились.
В итоге большая часть турецкого экспорта арматуры приходится в последнее время на Ирак, Йемен и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о небольших поставках в Ливан, хотя местные компании в обозримом будущем вряд ли будут нуждаться в значительных объемах импорта. В текущем месяце в страну должны поступить крупные партии китайской арматуры и катанки. В настоящее время данная продукция с поставкой в ноябре предлагается по $570-590 за т CFR, что на $30-50 за т меньше, чем могут обеспечить турецкие или украинские компании.
Производители из СНГ по-прежнему находятся, по большей части, вне рынка. Украинская арматура предлагается в Ирак по $590 за т FOB, но реальных сделок не было уже несколько недель. Катанка украинского производства продается по $570-575 за т FOB в Израиль и $590-600 за т FOB/DAP в страны Африки и Юго-Восточной Европы. Однако объемы поставок по-прежнему невелики, а многие потребители требуют от поставщиков понижения котировок, по меньшей мере, на $5-10 за т.
Виктор Тарнавский
.jpg)

Почему мы разъединяемся?
Диалектика интеграции и дезинтеграции
Резюме: Между бывшими союзными республиками невозможно ничего «восстановить». Сотрудничество постсоветских стран друг с другом строится на совершенно новой основе, почти ничего общего не имеющей с былым пребыванием в одной стране.
Парадигма модерна, подразумевающая существование государств-наций как основы политического мироустройства, ныне зачастую видится методологически устаревшей или как минимум устаревающей, несмотря на этимологию («модерн» и означает «современность»). Не спасла ее и изначально вроде бы успешная попытка влить молодое вино в старые мехи: с некоторых пор в Европе и Америке основами государств-наций принято считать уже не этнические нации, но способы самоорганизации граждан вне зависимости от их этнокультурной, расовой или религиозной принадлежности. Однако даже по итогам этой весьма непростой трансформации модерный взгляд на политику все равно кажется отсталым. Ему противопоставляется представление о том, что современный мир движется в сторону глобализации, интернационализации и космополитизации всего – от процесса принятия политических и экономических решений до механизмов культурного взаимодействия.
Тезис о постепенном снижении роли национальных государств и передаче ряда полномочий с национального на наднациональный уровень (ЕС или Совет Европы) становится почти общепринятым и давным-давно перешел с сугубо научного, академического уровня на уровень массовых, газетных дискурсов. «Весь мир объединяется» – этот рефрен звучит на многих языках в разных частях мира. В частности, он очень популярен на бывшем советском пространстве. Однако это только первая часть формулы, вторая часть которой не всегда произносится вслух и не всегда осознается, но всегда предполагается и звучит так: «а мы разъединяемся» или «а вы разъединяетесь».
Однако первая часть формулы неверна, поскольку противоречит фактам. Глобализация не столь глобальна, как кажется на первый взгляд. За пределами «золотого миллиарда» государства-нации продолжают образовываться взрывным образом – Бангладеш, Южный Судан, Эритрея, Восточный Тимор, Босния и Герцеговина, Словакия. На планете продолжаются те же самые явления, через которые проходила Западная Европа с ХVII по начало ХХ века. Сейчас, как и тогда, в мире создаются новые нации со своими эльзасами и лотарингиями, судетами и силезиями, триестами и данцигскими коридорами. Множество процессов такого рода далеко не завершены, так что будет ли, и в какой конфигурации, в ХХII веке существовать, скажем, Курдистан или Турецкая Республика Северного Кипра, нелегко предвидеть, не говоря уже о таких проблемных случаях, как, допустим, Сомали или Афганистан. Брюссельскому горожанину XV века трудно, наверное, было предсказать, в каком государстве через пятьсот лет будет находиться город, в котором он живет: в Бургундии или, например, в Бельгии. Строго говоря, история могла разрешиться по-разному.
На сегодняшний день этнические чистки, обмены населениями и даже геноциды остаются частью гигантского процесса нациестроительства, идущего повсеместно и при этом протекающего схожим образом, как будто все эти «националисты, создающие нации» начитались Эрнеста Геллнера. Разумеется, речь не идет лишь о разъединении – случается и обратное или его попытки. Только содержание у таких объединений, как правило, то же, что и у разъединений. Присоединение Гонконга и Макао к материковому Китаю, воссоединение Южного и Северного Вьетнама, возникновение одного Йемена – проявления процесса создания наций-государств. Точно так же, как отнюдь не признаком постмодернизма или космополитизма было объединение Германии Бисмарком. Почти никто в мире не сомневается, что когда и если в Северной Корее наступит коллапс, она сольется с южной частью полуострова, а не, предположим, с Японией или Китаем – как и ГДР объединилась с ФРГ, а не с Польшей.
Весь ли мир?
Утверждение «весь мир объединяется» неверно не только на уровне фактов. Действительно, ведь на деле имеется в виду не математическое большинство стран или народов, а та часть мира, которую говорящие считают модельной (она и сама предлагает себя остальному человечеству в качестве образца для подражания). Соответственно, утверждение «весь мир объединяется, а мы…» означает примерно следующее: «Наиболее успешная часть человечества преодолевает модель наций-государств и переходит к более передовым видам сотрудничества, а у нас это не получается, потому что мы хуже». Тут одновременно с представлением об отсталости государств-наций и желательности глобализации заложена и парадигма политического транзита, в соответствии с которой все народы мира поступательно проходят через примерно одни и те же этапы развития, а страны за пределами Европы и Северной Америки просто отстали.
При всей ее умозрительности парадигма транзита хорошо усвоена представителями и «отсталого», и «передового» мира. Беда в том, что строится она как раз на представлениях о модерном нациестроительстве. Особенно это заметно в контексте практических последствий ее применения. Постулат «весь мир объединяется» на практике трактуется так: «нам, отсталым, надо стать передовыми, и тогда мы сможем объединиться». То есть в смысле общественных институтов и форм государственного устройства нам надо стать такими, какими были западные страны, прежде чем объединились – а именно успешными государствами-нациями. Которые, впрочем, устарели – весь мир-то объединяется! Но можно ли построить успешное государство-нацию, заведомо зная, что оно является устаревшей формой государственности, не соответствующей требованиям времени? А если нельзя, то как нам стать передовыми?
Правда, в научном сообществе представление о транзите и тем более «отсталости» уже не вполне политкорректно, и для многих ученых очевидна поверхностность такого рода универсалистских моделей в принципе. Как отмечает, например, Ульрих Бек, универсализм «провинциален, потому что абсолютизирует (исходя из ложных предпосылок) опыт западноевропейской и американской модернизации, искажая тем самым социологический взгляд на ее специфику».
Более того, неясно, воспринимать ли евроинтеграцию как закономерное следствие модерна или же как тренд, противостоящий модерну. Иными словами, можно ли считать появление инструментов типа Шенгенского соглашения или Европейского суда результатом успешно пройденного этапа национального строительства, или, наоборот, лишь острая необходимость наднациональных институтов и форм взаимодействия после ужасов двух мировых войн сделали возможным примирение различных национальных проектов.
Ведь у Евросоюза имелся исторический аналог, причем в том же регионе, вполне возможно, ставший его предтечей. Это Австро-Венгерская империя в самых поздних формах ее существования, которые не смогли развиться дальше ввиду ее краха. Правда, тогда мало кто видел в Австро-Венгрии модель для развития всего человечества. В глазах современников это был самобытный путь одной конкретной империи. Так или иначе, вопрос о том, можно ли миновать стадию модерна и прийти к тому же результату, остается открытым.
Кроме того, целеполагание тут тоже неочевидное. Невозможно судить о процессе, находясь внутри него. Евросоюз – пока эксперимент, причем никогда и нигде больше не проводившийся. Еще рано судить, будет он успешен или нет, не говоря уже о том, можно ли – и нужно ли – повторить его в других местах. Но стоит задать вопрос – почему любые попытки интеграции до сих пор не приводили ни к чему подобному ни в Латинской Америке, ни в Азии, ни в Африке? По причине ли «отсталости» или недостаточной модернизации? И вообще, какие именно исходные условия нужно воспроизвести, чтобы повторить опыт? Попытки стать «такими, как» могут приводить к разным результатам. Процессы, осознаваемые как «вестернизация», длятся столетиями. Как показывает опыт России или Турции, они меняют общества, но к желаемому результату не приводят. Получается другая Россия и другая Турция, но все равно не Голландия и не Франция.
Даже присоединение к Европе новых стран – причем не Сомали или Афганистана, а Болгарии с Румынией – вызывает напряжение внутри европейского проекта. Если ценой гигантских финансовых вливаний и политических усилий эти государства и удастся «европеизировать», на это при самых благоприятных обстоятельствах уйдут десятилетия. И наоборот, успешный пример быстрой интеграции – Восточная Германия – иллюстрирует как раз торжество идеи модерна «одна нация – одно государство». «Wir sind das Volk» («Мы – один народ») гласил слоган той революции, а ее символом стало разрушение Берлинской стены. По крайней мере, для немцев это была стена в первую очередь между двумя Германиями, а не двумя Европами.
Предположим, несмотря на все противоречия и сомнения, мы все же верим в модель единой Европы, в возможность и необходимость догоняющего развития остальных. Тут возникают новые вопросы. Можно ли стать «передовыми» благодаря каким-то сознательным усилиям? Кому уже удалось пройти этот путь или хотя бы продвинуться по нему, и почему? Сколько на это уйдет времени? А что между тем случится с теми, кого мы догоняем – будут ли они нас ждать, застыв на месте, или это вечный бег Ахиллеса за черепахой?
Советский интернационализм как колыбель наций
Для того чтобы поговорить на эту тему, удобно взять какой-нибудь конкретный пример. Бывший Советский Союз для этой цели почти идеален. Во-первых, потому, что народы, его населяющие, сравнительно долго прожили в едином политическом пространстве: от примерно 130 до примерно 500 лет. Во-вторых, потому, что это объединение было чрезвычайно жестким. Существовало единое государство, причем в последние 70 лет тоталитарное, то есть создававшее железной рукой по всему своему пространству единые механизмы управления и матрицы культурно-социальной реальности. В-третьих, потому, что оно развалилось сравнительно недавно, так что живы и вполне еще бодры люди, которые в нем выросли и состоялись. Ну и наконец, в-четвертых, потому, что на постсоветском пространстве, по крайней мере на дискурсивном уровне, в данный момент довольно сильна объединительная парадигма. Даже среди тех, кто не желает сближения, хорошим тоном считается тосковать по тому, что развалилось.
Создание СССР – хрестоматийный пример того, как политические проекты могут воплощаться с точностью до наоборот, вопреки желаниям их создателей и адептов. Российская империя развалилась в одночасье. За пару лет возникли некие первичные конфигурации различных протогосударственных проектов, от экзотического ЛитБела и Объединенного монгольского государства до воюющих по всем своим периметрам Армении или Украины. Война, именуемая Гражданской, трактовалась в советской традиции – да часто и сейчас по инерции – как война между различными социальными группами. Между тем реально она также, если не в первую очередь, была войной между нациями, прото-нациями, этническими группами и религиозно-культурными конгломератами.
При этом политический проект белых – «единая и неделимая Россия» – в реальности работал на распад России, уже одним этим лозунгом восстановив против себя практически все нерусские элиты, да и рядовых представителей нерусских национальностей. И наоборот, большевики, на словах провозглашавшие право на любые виды этнокультурных и каких угодно свобод и «самоопределения вплоть до отделения», реально стремились, по крайней мере в первые годы после прихода к власти, к мировой революции, выходящей за пределы «одной отдельно взятой страны», и тем самым на практике способствовали сохранению империи. Из СССР получилась, пусть и оригинальная и специфическая, но форма Российской империи, подкрепленная затем уже Сталиным всякого рода символикой, от погон до почитания героев русской истории как общенациональных.
Смогли «сбежать» только поляки и финны, которые в Российской империи были аналогами австро-венгерских наций и обладали наиболее развитыми национальными движениями и мифологиями, не говоря уже о формальных автономиях. Другой империи, распавшейся в то же время, – Османской – не удалось воссоздать себя. Вместо большевиков с их «вплоть до отделения» там были кемалисты, фундамент проекта у которых был не социальный, а националистический. Кемалисты очень напоминали большевиков социально и даже культурно, но национализм лишил их возможности сохранить Османскую империю. Османизм младотурок оказался ими самими же и повержен, и логичным исходом было сохранение исключительно тюрконаселенных земель с этническим нивелированием населения. Кого-то убили, кого-то изгнали, кого-то ассимилировали. Можно было идти дальше по пути создания государства-нации, каковым Турция сейчас и является, если пренебречь курдской проблемой.
В России было бы так же, если бы государство осуществилось только на руссконаселенных землях, то есть сработал не большевистский, а черносотенный проект. Но проект большевиков предполагал большее – и удалось воплотить его в жизнь. Никакого аналога кемализму тут быть не могло, и никакого распада, как в Австро-Венгрии, тоже. Большевики стремились воссоздать единое пространство и даже поначалу надеялись его расширить, а нерусские национальные элиты были слишком слабы, чтобы суметь этому противостоять. В итоге и образовалось то, что образовалось: империя «позитивной дискриминации» на первые примерно 15 лет существования СССР и кузница модерна, т.е. создания политических прото-наций – в последующие годы вплоть до сегодняшнего дня, когда этот процесс еще продолжается, но уже в новых независимых государствах.
В Российской империи процессы нациестроительства хотя и шли, но чрезвычайно неравномерно. Волей истории и географии в составе России объединились совсем разные сообщества, возможно, она была наиболее разнообразной с этой точки зрения континентальной империей. И Австро-Венгрия, и Османская империя принципиально более однородны. Морские же империи типа Британской или Французской могли позволить себе роскошь не создавать на всей своей территории единой политической сущности. Именно поэтому они вводили в метрополиях элементы демократии, не распространяя их на колонии, и именно поэтому сравнительно легко ушли из колоний, не потеряв себя. В России же в одной стране уживались охотники и собиратели, степные и пустынные кочевники, старые земледельческие культуры и бурно развивавшиеся городские сообщества.
Во время и после Гражданской войны способом сохранения всего этого пространства под единым управлением была федерализация, по крайней мере формальная и как минимум поначалу, до затвердевания новых форм имперского государства. Процесс образования Советского Союза – с чрезвычайно интересной динамикой поиска оптимальных внутренних и внешних границ, выстраивания сложных асимметричных иерархий территорий и этносов, «резания по живому» одних территорий и культур и объединения других – довольно хорошо описан, но, конечно, требует дальнейшего изучения. Каждый отдельный случай создания (или не-создания) национально-территориальных единиц, делимитации границ и определения административных уровней безумно занимателен, часто сюрреалистичен (как, например, в случае с Карело-Финской или Еврейской автономиями), но всегда обладает неким общим качеством, которое нас и интересует: советские территориальные единицы образовывались и строились по этнокультурному принципу.
В зачатке этот принцип существовал и в Российской империи, в виде формальных и неформальных исключений, от Великого княжества Финляндского и Остзейского генерал-губернаторства до Северного Кавказа или Бухарского эмирата. Однако в СССР он формализован и стал универсальным, вся страна была нарезана на квазиэтнические домены. «Квази» потому, что реальное управление при этом оставалось чрезвычайно централизованным и осуществлялось через структуры, мало общего имевшие с этим делением. Тем не менее у населения оформлялись ментальные карты, этнические идентичности укреплялись, а часто и создавались, языки кодифицировались, на них создавались литературные тексты, для культур задавалась некая система стандартов. Скажем, титульному народу автономной республики полагался педагогический институт и драматический театр, а союзной – еще и академия наук, университет и опера. Примечателен сам термин «титульный народ»: не народ, составляющий большинство в союзном или автономном образовании, но тот, именем которого названо это образование. То есть «владелец домена» с соответствующими привилегиями.
Это было классическое нациестроительство. Там, где наций не было, их создавали и даже придумывали им подходящее название из подручного материала. Вполне закономерным результатом стало появление национальных элит и генерирование идеологий национальных самоопределений. К 60-м гг., после смерти Сталина и с общим ослаблением режима, в разных республиках начали формироваться политические институты национализма, как в подпольно-диссидентском виде, так и в ослабленном, интеллигентском. Кроме того (что, может быть, важнее), национализмы – именно в политическом смысле – начали проявляться и в среде официальной «привилигенции», т.е. признанной властями художественной и научной интеллигенции, и отчасти даже среди собственно коммунистических элит.
Политическая элита советских наций, обретя после смерти Сталина некую стабильность, двигалась дальше к идее как можно более реальной автономии от московской элиты. Возможно, начало распада СССР точнее всего датировать именно 60–70-ми гг. ХХ века. Недаром именно в это время начинается слом миграционной парадигмы славянских народов с «центр-периферия» на «периферия-центр». Вместо того чтобы в соответствии с моделью колонизации, преобладавшей на протяжении 500 лет российской истории, двигаться из центра империи на ее окраины, русские, украинцы и белорусы поехали обратно. Возвращение русских в Россию – явление, принявшее форс-мажорные формы в период распада СССР, – возникло гораздо раньше. Очевидно, славянское – да и вообще нетитульное – население почувствовало себя неуютно в местах, куда когда-то приехали их отцы и деды. Начался процесс гомогенизации этнических доменов. Нации, уже привыкшие быть титульными, превратились в государственные. Вся логика предыдущего процесса вела к тому, чтобы рано или поздно он перешел некую черту и пошел дальше – к строительству политических идентичностей.
Крайне странно было бы ожидать в таких условиях строительства надэтнических или просто неэтнических сообществ, скажем, таких, как дальневосточные или уральские республики. Такого рода экзотические проекты, естественно, были, но остались маргинальными. Нации создавались именно в тех границах, которые были этнизированы семьюдесятью годами раньше. Даже этнические конфликты (с единственным исключением в виде Приднестровья) развивались именно по логике этих ментальных карт. И Карабах, и Южная Осетия, и Абхазия – это все автономные единицы матрешечной структуры союзных республик бывшего СССР. В советской Грузии армян и азербайджанцев по отдельности больше, чем абхазов в Абхазии и осетин в Южной Осетии вместе взятых. Причем и армяне, и азербайджанцы живут и жили в Грузии компактно. Опять же нельзя сказать, что там не было и нет противоречий и проблем, но ничего похожего на кровавые конфликты в Южной Осетии и Абхазии не произошло. Даже и приднестровское исключение вполне ложится в парадигму «автономии». Тирасполь был неформальной столицей региона, принципиально отличавшегося от остальных регионов Молдавии не только в культурно-языковом, но и в социально-историческом смысле. Неформальный аналог автономии.
В таком контексте естественно, что как только, неважно по каким причинам, центр ослаб, процесс продолжился с резким ускорением, изменив форму, но не изменив направления. «Коренизация» теперь уже не элит, но всего населения всех без исключения новых независимых государств радикально продолжилась в очень разных формах, от прямого юридического давления на этнокультурные меньшинства, как в Латвии и Эстонии, до погромов и депортаций, как в Киргизии или Азербайджане. Кое-где нетитульные народы пытаются ассимилировать, кое-где – выдавить. Но смысл процесса везде един. Тот самый, геллнеровский: «Националисты создают нации».
Интеграция хлодвигов с гарибальди
Еще одна популярная ныне формула – «Мы же в двадцать первом веке живем!» – тоже далеко не всегда работает. Мы живем в разных веках. В терминах европейской истории есть места на Земле, где люди живут в XIII веке, где-то в XVII, кое-где в деспотиях типа ранних ближневосточных, вроде Шумера или Ассирии, кое-где даже и в каменном веке. Большая часть постсоветского пространства живет в XVIII – начале XIX столетия в категориях западноевропейской истории или в начале XX века – в терминах истории восточно- и центральноевропейской. Это эпоха становления наций-государств, с наложениями друг на друга многочисленных этнических проектов, которые и создают конфликты – открытые, кровавые или холодные.
Более того, страны и народы находятся в разных веках одновременно. Религиозные войны образца XIV столетия могут соседствовать с созданиями гражданских религий в духе века XIX, и даже накладываться друг на друга или выступать как конкурирующие проекты. Архаизации общественных механизмов соседствуют с гомогенизацией населений, создание политических идентичностей – с отторжением всего того, что не подходит. Пространство становится все неоднороднее. Говорить о постсоветском пространстве как о неком единстве сейчас уже не очень разумно. Эстония гораздо ближе к Финляндии, а Таджикистан – к Афганистану, чем Эстония – к Таджикистану. Узбекистан гораздо больше похож на Иорданию, чем на Украину, и так далее. Сохраняется инерция, воплощенная, например, в знании русского языка в старших поколениях или в архитектуре зданий советской постройки, но это натура явно уходящая. В процессе нациестроительства страны все больше отдаляются друг от друга. Их взаимодействие и тем более интеграция могут быть только ситуативными, как могла бы быть ситуативной интеграция хлодвигов с гарибальди.
По иронии истории, государства, которые еще 20 лет назад были принципиально более унифицированы, чем европейские страны сейчас, находятся в данный момент в противофазе к объединяющейся Европе (даже учитывая все кризисные явления в еврозоне). Это не означает, что никакие объединительные тенденции невозможны. Группы стран внутри бывшего СССР имеют общие черты. Кроме того, есть жесткие политико-экономические интересы, которые способствуют поиску взаимовыгодных способов решения проблем – от транспортировки энергоносителей до сотрудничества в области обороны. Но сотрудничество ни в коей мере не следует понимать как движение в направлении интеграции и тем более объединения. Наоборот, постсоветские республики используют любые возможности взаимодействия с другими странами для упрочения своей независимости, строительства собственных «отдельностей». Тем более невозможно ничего «восстановить». Сотрудничество бывших советских республик друг с другом строится на совершенно новой основе, почти ничего общего не имеющей с пребыванием в одной стране в прошлом.
Эти процессы будут только углубляться. Лет через 10–15 начнет физически уходить поколение элит, выросших в Советском Союзе и обладающих общими культурными кодами, то есть умеющих общаться как свои, а не как иностранцы. Процесс моноэтнизации продолжится. В Центральной Азии, кроме Казахстана, и на Южном Кавказе славян уже практически не осталось. В Казахстане еще высок процент этнических русских, но община уменьшается и стареет. В Молдавии полным ходом идет процесс культурной молдовенизации и даже румынизации. Конечно, славянские страны бывшего СССР в этом смысле отличаются, однако процесс строительства политических наций там идет довольно интенсивно, в нем совершенно нет места интеграционным тенденциям, наоборот. Экономикам и политиям бывают нужны союзники, они их и находят в различного типа объединениях, но ожидать, что они будут существовать в рамках общих правил, как страны, которые шли к этому (а не от этого) как минимум десятилетиями, вряд ли стоит.
Может показаться, что из действующей на этом пространстве классической модерной парадигмы следует невозможность конструктивного взаимодействия. Это не так. Как показывает практика, эта парадигма допускает вполне успешную кооперацию на утилитарной основе. Тезису о том, что государства-нации отмирают, можно соположить наблюдение, что государства-нации строятся и поэтому нужны друг другу. Как, скажем, Саудовская Аравия нужна США или Германия – Италии. Такие типы взаимодействия, типологически очень похожие на союзы, существовавшие в Европе XIX – начала ХХ века, могут и будут выражать нужды формирующихся государств, постепенно отсекая менее важное и укрепляя то, без чего неудобно идти дальше.
А так как географическая и коммуникационная взаимодополняемость постсоветского пространства сохранится надолго, если не навечно, то будут и взаимные интересы и сотрудничество. Возможно даже, что дойдет и до глубоких форм, таких как унификация законодательных норм и передача части полномочий на наднациональный уровень. Вероятно, часть такого рода процессов будет проходить внутри именно того пространства, которое мы еще называем постсоветским. Тогда теоретически возможна и интеграция. И мы можем гадать, насколько она окажется успешной, как мы пытаемся судить сейчас о будущем европейского проекта. Очень многое зависит от того, насколько успешно будет развиваться уже начавшийся процесс разъединения и становления политических наций, чему, вероятно, могло бы способствовать осознание этого процесса как важного и закономерного в первую очередь самими его субъектами.
А.М. Искандарян – директор Института Кавказа (г. Ереван).
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























