Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Владимир Пучков встретился с Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером
Сегодня в рамках рабочей поездки в Женеву глава МЧС России Владимир Пучков встретился с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Основное внимание было уделено дальнейшему расширению гуманитарного взаимодействия.
«Взаимодействие между нашими организациями имеет многолетнюю историю, и мы имеем возможность «сверить часы» по всем направлениям сотрудничества. Думаю, что во многом благодаря этому оно развивается успешно и поступательно», - сказал Владимир Пучков.
В ходе встречи Владимир Пучков подвел итоги работы МЧС России в международных гуманитарных операциях и оказания гуманитарной помощи населению стран, пострадавших в результате кризисов и конфликтов, за последние годы. Он отметил, что за трехлетний период - с марта 2012 года по октябрь 2015 года - авиацией МЧС России осуществлено 49 рейсов с целью выполнения эвакуационных мероприятий и доставки в Сирию грузов гуманитарной помощи в разные страны.
«Всего за указанный период доставлено 1146,24 тонн гуманитарных грузов, эвакуировано 1429 человек», - сказал глава МЧС России.
Владимир Пучков отметил постоянные рабочие контакты МЧС России с МККК, которые полностью соответствуют с Договору о сотрудничестве, подписанном Академией гражданской защиты МЧС России и Региональной Делегацией МККК 5 лет назад.
«Осуществляется регулярный обмен информацией, проведение совместных мероприятий, эксперты МККК привлекаются для чтений лекций по тематике международного гуманитарного права в соответствии с учебными планами», - сказал глава МЧС России.
Глава МККК обратил внимание министра России на работу глобальной лаборатории в области оказания гуманитарной помощи, которая недавно была открыт ав Швейцарии и предложил МЧС России принять участие в совместных разработках.
«Все, что касается гуманитарной лаборатории, МЧС России готово поддержать. У нас есть свои подходы в области оказания гуманитарной помощи. Кроме того, мы взаимодействуем с Российской академией наук и готовы работать в тесном взаимодействии со специалистами из Лозанны и Европы», - отметил глава МЧС России Владимир.
В свою очередь Петер Маурер сказал, что у МККК много проектов.
«Мы заинтересованы в двухстороннем сотрудничестве с МЧС России по оказанию гуманитарной помощи и обмену опытом с российским чрезвычайным ведомством», - сказал Петер Маурер. Он добавил, что делегация МККК в конце ноября приедет в Москву для дальнейшего взаимодействие.
«Мы хотели бы ознакомиться с вашими технологиями в области гуманитарной деятельности», - сказал он.
В ходе рабочей встречи Владимир Пучков и Петер Маурер также обсудили гуманитарную ситуацию в Юго-Восточных регионах Украины, выразив уверенность в том, что это стало новой отправной точкой двустороннего взаимодействия.
«В период с августа 2014 года и по настоящее время МЧС России, во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организовало 56 гуманитарных конвоев. При этом очередная гуманитарная колонна полностью сформирована и уже на днях отправится в Донбасс», - рассказал министр. Он добавил, что Российская Федерация и в дальнейшем намерена последовательно продолжать и наращивать усилия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению Юго-Востока Украины до тех пор, пока этого будет требовать ситуация.
«Я предлагаю продолжать наше сотрудничество. Мы готовы включить в состав нашей гуманитарной колонны ваш груз и представителей», - подчеркнул Владимир Пучков.
В свою очередь представители Международного комитета Красного креста положительно оценили работу МЧС России в вопросах помощи гражданам юго-востока Украины.
«Позвольте подчеркнуть, что мы положительно оцениваем любую помощь Российской Федерации. Мы заинтересованы в продолжении плотного взаимодействия не только на юго-востоке Украины, но и во всех остальных вопросах, касающихся нашей совместной деятельности», - сказал Питер Маурер.
Вместе с этим, глава МЧС России подчеркнул реализацию Минских договорённостей.
«Хотел бы подчеркнуть реализацию всех Минских договоренностей. При осуществлении гуманитарных миссий мы выполняем всю работу строго ориентируясь на то, что прописано в соответствующих документам», - сказал министр.
В заключение встречи Глава МЧС России поблагодарил Петера Маурера за содержательную и продуктивную беседу. Он отметил конструктивную позицию МККК и личные инициативы его руководителя.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса, Москва, 25 октября 2016 года
Как сказал поэт, «мороз и солнце – день чудесный». Мы стараемся продолжать выполнять свою работу. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Т.Штерцеля и всех членов Ассоциации европейского бизнеса в России за возможность в очередной раз выступить перед членами Ассоциации. Наше регулярное общение стало доброй традицией, которую мы хотим всячески поддерживать.
Сегодня деловым кругам, «бизнес-дипломатии» принадлежит особая роль в поддержании доверия и взаимопонимания между народами. Мы знаем о вашем стремлении наращивать взаимовыгодное сотрудничество, продолжать активно работать на российском рынке, о вашем понимании контрпродуктивности конфронтации и логики санкций. Ценим и разделяем такой подход.
К сожалению, с момента нашей последней встречи ситуация в мировых делах не стала проще. Продолжает кровоточить регион Ближнего Востока и Севера Африки, пламенем войн охвачены Сирия, Ирак, Йемен, Ливия. Особую опасность для всех нас представляет беспрецедентный всплеск терроризма и экстремизма. Многочисленные акты террора в самых разных частях мира, захлестнувший Европу поток беженцев говорят о том, что построить «оазисы безопасности», отгородиться стенами от угроз и вызовов невозможно. Они общие для всех нас и решать их необходимо сообща.
Нынешнее не самое радужное, мягко говоря, положение дел – прямое следствие порочной практики геополитической «инженерии», вмешательства во внутренние дела суверенных государств, смены неугодных режимов, в том числе силовым путем. Нас искренне удручает, что после окончания «холодной войны» США и некоторые их союзники не отказались от архаичной политики сдерживания. Глубокую озабоченность у нас вызывают такие действия, затрагивающие национальную безопасность России, как приближение военной инфраструктуры и силового присутствия НАТО к нашим границам, развертывание системы ПРО в ее европейском и азиатском сегментах.
Кризис на Украине пытаются использовать для достижения собственных геополитических целей, не считаясь с принципом равной и неделимой безопасности, что лишь усугубляет и без того непростую ситуацию на нашем общем континенте. Россия последовательно добивается политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса на основе честного всеобъемлющего выполнения Минских договоренностей. Для этого, как мы вновь убедились на недавней встрече в Берлине в «нормандском» формате, Киев должен последовательно пройти свою часть пути: законодательно закрепить особый статус Донбасса, провести конституционную реформу и амнистию, организовать местные выборы. Эти вопросы мы стремимся решать через диалог в рамках «нормандской четверки», но окончательное слово, безусловно, за межукраинским форматом. Этот формат создан в виде Контактной группы и ее соответствующих подгрупп.
Как я уже сказал, эту ситуацию мы обсуждали в Берлине 19 октября. Рассчитываем, что наши западные партнеры по «нормандскому» формату убедят украинское руководство заняться делом и прекратить разыгрывать политический фарс.
В качестве очередного предлога для усиления давления на Россию, для пресечения любых позитивных инициатив на российском направлении со стороны отдельных стран-членов Евросоюза стала использоваться ситуация в Сирии. Россия, как вы знаете, последовательно выступала и выступает за скорейшее мирное и справедливое урегулирование сирийского кровопролитного конфликта. В качестве главных задач видим полное искоренение террористической угрозы на территории этой страны и параллельный запуск всеобъемлющего политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН и соответствующих решений, принятых в рамках МГПС. Пути достижения этих целей также обсуждались в Берлине во время переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с лидерами Германии и Франции 19 октября, перед этим они обсуждались в т.н. «лозаннском» формате. Наш вывод остается прежним: важнейшее условие – безотлагательное и полное отмежевание т.н. умеренной сирийской оппозиции от ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и им подобных. Наши американские партнеры обещали нам это сделать 8 месяцев назад, но до сих пор ничего не произошло. Трудно поверить в беспомощность США, которые постоянно заявляют о своей исключительности и незаменимости в мировых делах. Наверное, эти качества, если американский народ и руководство их ощущают, необходимо использовать во благо — решить проблему изолирования террористов и обеспечить их уничтожение.
Российские ВКС размещены в Сирии по просьбе легитимного правительства. При этом мы заинтересованы в том, чтобы борьба с терроризмом велась коллективно на прочной международно-правовой основе. Об этом чуть больше года назад во время своего выступления на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин. Сожалеем, что наши европейские коллеги, ЕС, свернули сотрудничество с нами в сфере антитеррора, как и во многих других областях. Нас, конечно, удивляет, что прагматичные члены ЕС, которые традиционно славились приверженностью реальной политике, вслед за русофобским меньшинством требуют в отношениях с Москвой поставить политику выше экономики. По крайней мере, когда мы слышим такие заявления от руководства Германии, нас это удивляет. Наверное, мы совсем ошибались, когда делали оценки о немецком характере на протяжении многовековых связей с этой великой страной.
Тем не менее политику ставят выше экономики. Как следствие стратегический обзор отношений с Россией, который был проведен на заседании Европейского совета неделю назад, 20-21 октября, показал, что ЕС по-прежнему не готов выработать прагматичную, отвечающую собственным интересам линию применительно к нашей стране. Если читать итоговый документ по обзору отношений с Российской Федерацией, то итоговое заключение саммита содержит только одну фразу: «на заседании Евросовета состоялись дебаты о стратегической линии в отношениях с Россией». Мы знаем, об этом писали в прессе, что такая фраза закамуфлировала довольно серьезные, порой даже полярные, суждения о том, как дальше вести дела с Москвой. За этой достаточно нейтральной фразой, конечно, скрываются противоречия.
Но мы исходили из того, что Евросоюз должен сначала сам разобраться в своих делах. Поэтому нас сильно удивило, что Председатель Евросовета Д.Туск взял на себя смелость, выйдя к журналистам, невзирая на свой статус, который должен обеспечивать обобщающие подходы, выступил как бы от имени всех членов Евросоюза с откровенно русофобских позиций, с русофобской характеристикой состоявшейся дискуссии. Он даже утверждал, что ни у кого нет сомнений, что главная цель России – ослабить Европейский союз. Ничего не может быть дальше от истины, чем подобные голословные утверждения. Мы не раз говорили и доказывали на деле, что мы хотим видеть ЕС, единым сплоченным и самостоятельным. Мы убеждены, что только в таких условиях потенциал этого колоссального по своей значимости проекта может быть полностью реализован.
Рассчитываю, что недальновидная позиция, в т.ч. которую я только что описал, и с которой выступил Председатель Евросовета Д.Туск, не будет впредь поддерживаться, поскольку она негативно отражается на всем комплексе российско-есовского взаимодействия, прежде всего на его торговой и инвестиционной составляющей. Не буду приводить статистику, она вам знакома. Скажу лишь, что разрушая устоявшиеся связи, в Брюсселе, по сути, отказываются от концепции, которая на протяжении двух последних десятилетий лежала в основе нашего диалога, – поступательного сближения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих экономик в интересах повышения их конкурентоспособности за счет естественных преимуществ, которыми они обладают. Долгосрочный отягчающий фактор – утраченное доверие, восстановить которое будет весьма непросто.
Отдельная тема – перспективы сотрудничества в энергетике, которая на протяжении долгого времени играла цементирующую роль в российско-есовских отношениях. Россия всегда была надежным поставщиком углеводородов, а наша газовая инфраструктура десятилетиями «затачивалась» под потребности именно Европы. Несмотря на неоднократные предложения Еврокомиссии, которые мы слышали на протяжении последних двух лет, о том, чтобы вернуться к полноформатному энергодиалогу, слова Брюсселя пока остаются словами.
Блокируются либо тормозятся такие совместные чисто коммерческие проекты, поддержанные странами-членами ЕС и европейскими энергокомпаниями, как, например, «Южный поток» и «Северный поток-2». Между тем, большинство серьезных экспертов утверждают, что, учитывая планы ЕС по декарбонизации экономики и снижение объемов добычи газа в европейских странах, в обозримом будущем странам-членам ЕС без российских энергоносителей обойтись будет трудно.
Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку», предусматривающее в том числе строительство пока одной нитки газопровода в направлении Европы, в частности Греции. После неудачи с «Южным потоком» будем готовы продлить ее на территорию Евросоюза лишь после получения на бумаге недвусмысленных официальных гарантий реализации этого проекта.
Ни для кого не секрет, что значительная часть антироссийских установок как в энергетической, так и в других сферах рождается в Вашингтоне, а потом осуществляется в Европе в рамках пресловутой «трансатлантической солидарности». Парадокс в том, что подобная политика американцам ничего не стоит: потерь они особых не несут и даже рассчитывают заставить европейцев переключиться с российского газа на более дорогой американский сжиженный природный газ. Европейцам решать, насколько данная ситуация отвечает их интересам, особенно в условиях, когда Старый свет ищет свое место в мировой политике, сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами.
По нашим наблюдениям, далеко не все в ЕС довольны нынешней ситуацией. В политических, деловых и общественных кругах многих стран все активнее выражается несогласие с политикой санкций, общественное мнение консолидируется в пользу нормализации отношений с Россией. Надеемся, что в Евросоюзе смогут преодолеть «инерцию мышления», станут самостоятельно определять свои приоритеты без оглядки на внерегиональных игроков, а также не идти на поводу у русофобского меньшинства внутри самого ЕС.
Попытки прибегать к наказаниям путем санкционного давления за независимый внешнеполитический курс, за отстаивание справедливости в международных делах результатов не дали и не дадут. Об этом сказал еще Александр Невский, я имею ввиду его знаменитую фразу «Не в силе Бог, а в правде». Как нам обещали два года назад из Вашингтона, «порвать в клочья» российскую экономику не удалось и не удастся. Уверен, что вы знакомы с ее состоянием и вас не нужно убеждать, что Россия достаточно уверенно стоит на ногах, адаптировалась и к незаконным рестрикциям, и к конъюнктуре мировых рынков углеводородов.
Мы продолжаем наращивать плодотворное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Это касается торгово-экономической области и любой другой. Мы открыты к взаимодействию со всеми, кто готов работать с нами на взаимоуважительной основе, на основе баланса интересов, а таких в мире – абсолютное большинство.
Как известно, Президент В.В.Путин выдвинул инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства с участием широкого круга стран, входящих в ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Об интересе к нашему предложению свидетельствуют итоги саммитов Россия-АСЕАН в мае и ШОС – в июне этого года. Россия твердо привержена формированию таких экономических пространств, которые носили бы открытый характер, опирались бы на принципы ВТО, а не создавали бы риски разрушить глобальную торговую систему путем продвижения закрытых региональных проектов наподобие транстихоокеанского и трансатлантического партнерств.
При этом хочу еще раз сказать, что делая акцент на «восточный вектор», мы не только не отказываемся от идеи создания с Евросоюзом единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, но считаем эту идею весьма перспективной для обеспечения устойчивого развития всего евразийского континента, неотъемлемой частью которого являются территория ЕС и территория России. Как сказала после саммита ЕС Канцлер ФРГ А.Меркель: «We share the same landmass». Это немного отличается от того, что мы раньше называли стратегическим партнерством, но хотя бы география заставляет нас мыслить в русле взаимодействия, а не разбегания в разные стороны. Убежден, что взаимодополняемость экономик и поступательное объединение рынков позволило бы нам эффективнее решать многие проблемы, включая ускорение роста. Это касается и России, и ЕС. Это позволило бы обеспечить всем нам достойное место в складывающейся полицентричной системе мироустройства, повысив конкурентоспособность в этих процессах России и ЕС.
Мы давно предлагаем начать диалог между ЕАЭС и ЕС. То, как наладить взаимодействие между ними, обсуждали в ходе Петербургского экономического форума Президент В.В.Путин и Председатель Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер. Мы передали Еврокомиссии наши соответствующие предложения. По некоторым признакам, они не очень хорошо известны странам-членам, но мы все-таки попросили Еврокомиссию, чтобы эти предложения были распространены среди стран, входящих в ЕС. Мы уважаем принципы, на которых работает ЕС, включая делегирование значительной части компетенции Брюсселю, но утаивать от стран-членов конкретные предложения, с которыми выступает Россия, точно неправильно.
Очевидно, что наши усилия по выстраиванию диалога едва ли могут увенчаться успехом, если мы будем игнорировать закрепленные в Уставе ООН основополагающие принципы межгосударственного общения, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела. Конечно, необходимо отказаться раз и навсегда от «игр с нулевым результатом» и приступить к предметной работе по формированию в Евро-Атлантике архитектуры равной и неделимой безопасности, когда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других. Под этим давно подписались все страны-члены ОБСЕ, страны, входящие в Совет Россия-НАТО, который сейчас тоже «заморожен». На деле этот красивый, торжественно провозглашенный принцип не реализуется. Хотя именно в создании архитектуры равной и неделимой безопасности мы видим единственно возможный фундамент для выстраивания эффективного общего экономического и гуманитарного пространства.
Надеюсь, что в этих устремлениях мы все являемся единомышленниками. Рассчитываю, что мы будем вместе продвигать, способствовать продвижению положительной, устремленной в будущее повестки дня, доводить до широкой общественности перспективы и выгоды от нашего конструктивного взаимодействия. Мы ценим то, как вы подходите к сотрудничеству с российскими партнерами в соответствующих областях и отраслях экономики и торговли. Считаем важным поддерживать сотрудничество между бизнес-структурами. Знаю, что периодически возникают вопросы, которые мы стараемся решать через специальные механизмы, созданные при Правительстве России. Убежден, что ваш интерес в том, какую политику проводит Россия на международной арене, является весьма обнадеживающим. Если и говорят, что политика должна стоять выше экономики, наверное, мы должны доказать, что экономика является лучшим базисом, на котором можно выстраивать разумную, а не идеологизированную политику.
Благодарю за внимание и готов ответить на ваши вопросы.
Вопрос: Компания «Сименс» имеет очень долгую и богатую историю в России. Мы на российском рынке находимся уже 160 лет и осуществили достаточно много проектов в Российской Федерации в сфере инфраструктуры и энергетики. К сожалению, я должен констатировать, что тема санкций сейчас негативно влияет на наш бизнес в России. Как Вы видите изменение данной ситуации? Мы надеемся, что санкции будут прекращены. Видите ли Вы какие-либо позитивные перспективы в этом вопросе? Видите ли Вы эти позитивные перспективы в связи с выборами в США? Скажется ли их результат как-то положительно на развитии российско-американских отношений?
С.В.Лавров: Я не буду комментировать перспективы выборов в США. И так уже искусственно, по крайней мере, у американской общественности создается впечатление, что Россия активно вмешивается в эти процессы. Наверное, кандидатам особенно и нечего сказать по реально важным для американских избирателей вопросам, если Россию превращают в главную тему дискуссий: кто является чьей марионеткой и т.д. и т.п. Для меня это просто поразительно: даже с учетом весьма серьезной специфики американской политической культуры, нынешняя кампания является уникальной и, по-моему, не делает чести нашим американским коллегам.
Что касается санкций, то вы знаете, что этот инструмент был использован нашими западными партнерами под предлогом их как бы возмущения тем, что произошло в Крыму, тем, что люди в Крыму, включая легитимно избранный еще по украинским законам Верховный Совет, отказались признать антиконституционный государственный переворот, совершенный на утро после того, как оппозиция вместе с президентом В.Ф.Януковичем подписала соглашение об урегулировании кризиса. Под этим документом свои подписи поставили министры иностранных дел Германии и Польши и руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции. Эти подписи не продержались и суток. Когда состоялся государственный переворот, нам стали достаточно стыдливо говорить о том, что президент В.Ф.Янукович сбежал из Киева. Во-первых, президент Украины В.Ф.Янукович поехал в Харьков. Как бы к нему ни относиться, как бы ни оценивать проводимую им политику, он был легитимно избранным главой государства и в качестве такового был всеми признан. Никуда он из страны не убегал, он был в Харькове. Во-вторых, соглашение, которое подписали оппозиция и В.Ф.Янукович, засвидетельствованное Германией, Францией и Польшей, совершенно не было посвящено судьбе В.Ф.Януковича, кроме того, что он обязывался провести досрочные выборы, которые он точно проиграл бы. Соглашение было посвящено политическому урегулированию. Первым пунктом этого соглашения стояло создание правительства национального единства. Вот, что главное. Когда состоялся переворот, А.П.Яценюк поехал на Майдан и торжественно и победоносно заявил, что сформировано «правительство победителей». Почувствуйте разницу: «национальное единство» или «победители» и «побежденные». Эти «победители» тут же приняли закон, который, правда, не был подписан, хотя был все же принят, который резко ущемлял позиции русского языка на Украине. Целый ряд высказываний тех, кто совершил госпереворот, просто свидетельствовал о том, что они намерены принудительно и силовыми методами подрывать позиции русского языка и русской культуры, искоренять русскую культуру. Как сказал печально знаменитый лидер партии «Правый сектор» Д.А.Ярош, который теперь из лидера радикал-националистической группировки стал депутатом Верховной Рады Украины, «русский никогда не будет думать по-украински, никогда не будет чтить украинских героев, поэтому русских из Крыма нужно изгнать». Я это так подробно объясняю, чтобы было понятно, в какой ситуации вводились санкции. Народ Крыма взял свою судьбу в свои руки через, повторю, по всем параметрам легитимный Верховный Совет, избранный по украинскому закону. В Донбассе сказали, что они не признают переворот и просили оставить их в покое, чтобы они могли жить дальше. Не Донбасс напал на остальную часть Украины. Когда в январе — начале февраля кризис на майдане достигал кульминации, было сделано несколько заявлений НАТО и ЕС, призывающих В.Ф.Януковича не использовать армию против собственного народа. Когда после переворота мы поинтересовались у стран НАТО, как насчет аналогичного призыва к новой администрации, которая пришла к власти через силовую смену режима, то нам уже не говорили, что не надо использовать армию против собственного народа. Когда началась т.н. «антитеррористическая операция» против собственного народа, отказавшегося принять итоги переворота, Брюссель призывал к тому, чтобы новые власти применяли силу против протестующих пропорционально. Между «не использовать» и «применять пропорционально» тоже есть небольшая разница.
Кстати говоря, рассуждая о том, как те или иные страны относятся к смене режима путем переворота, давайте просто перенесемся из Украины в Йемен, где пару лет назад тоже произошел государственный переворот. Президент Йемена М.Хади был вынужден бежать в Саудовскую Аравию, где он пребывает и по сей день. Уже два с лишним года все мировое сообщество требует, чтобы президента М.Хади вернули в Йемен и подтвердили его легитимность. На наш вопрос к европейским политикам, занимающим такую позицию, почему нельзя было такую же принципиальность проявить на Украине и заставить оппозицию выполнить то, под чем они подписались с участием Франции, Германии и Польши (все равно там были бы досрочные выборы, которые В.Ф.Янукович проиграл бы), нам ничего не отвечают. Такое отношение наводит на мысль, что почему-то к Йемену и йеменской политической системе относятся с большим уважением, чем к украинской, а на Украине можно продолжать ставить эксперименты. Страна от этого страдает уже не один десяток лет.
Надеюсь, все освежили в памяти, когда и за что принимались эти санкции. Мы никогда не инициируем дискуссию относительно того, когда они могут быть сняты, потому что теперь, когда мы поняли, какие решения могут приниматься в западных столицах – в Вашингтоне и Европе – мы считаем своей главной задачей и хотим обеспечить себе такую ситуацию, когда мы будем не то что бы на сто процентов независимыми, но в ключевых, жизненно важных вещах для экономики, государства и социальной сферы мы не будем полагаться на милость тех или иных наших партнеров. Безусловно, не без труда, но у нас это получается.
Об этом неоднократно и подробно говорили Президент России В.В.Путин и Председатель Правительства России Д.А.Медведев. Насколько эти санкции будут длительны, повторю, вопрос не ко мне. Я теперь уже ничему не удивляюсь, потому что вслед за «украинскими» санкциями ЕС, как я понял, очень долго искал ответ на вопрос, как им быть после подписания Минских соглашений. Дело в том, что санкции вводились несколькими «волнами», одна из которых (в сентябре 2014 г.) состоялась практически день в день с подписанием первых Минских соглашений в начале сентября. Я знаю, что потом у некоторых глав государств и правительств были проблемы, потому что вроде бы обнаружилось, что договаривались через неделю после прояснения того, будут ли подписаны Минские договоренности или нет, главы правительств и государств вернутся к обсуждению вопроса о возможном введении пакета санкций в сентябре 2014 года. Оказывается, он был введен брюссельской бюрократией, что вызвало не публичные, но достаточно жесткие претензии со стороны, по крайней мере, отдельных стран-членов ЕС. То же самое касается и следующего пакета санкций. По сути дела он введен в момент, когда подписывались Минские договоренности февраля 2015 года. Потом была изобретена формула, заключающаяся в том, что санкции будут сняты, как только Минские договоренности будут выполнены. Получается, что ЕС помогает Президенту Украины П.А.Порошенко, который не хочет или не может выполнить то, что он выполнить обязался. Сейчас ему фактически дают в руки инструмент, который ему позарез нужен: чем дольше он будет саботировать выполнение своих обязательств по Минским договоренностям, чем дольше они будут оставаться на бумаге, тем дольше будут сохраняться антироссийские санкции, которые он предъявляет своему электорату в качестве доказательства эффективности своей политики. Это если буквально. У меня даже нет сомнений, что все это – звенья одной цепи.
Я понимаю, что долго отвечаю на этот вопрос, но он важен для того, чтобы понимать, какую политику проводят западные правительства. Наши американские партнеры, включая и моего коллегу, не раз нам говорили, что мы представить себе не можем, как моментально нормализуются все отношения России и США после урегулирования кризиса на Украине.
Я не наивный человек, и не думаю, что и мои собеседники, которые говорили мне такие вещи, глядя в глаза, наивные люди. Значит, за этим скрывается что-то другое. Я в тот момент еще у них спрашивал, не захотят ли они потом ввести санкции в связи с Сирией. Они говорили, что только в связи с Украиной. Сейчас Сирия уже вовсю упоминается как очередная тема, за которую можно зацепиться русофобам и, спекулируя на страданиях людей и гуманитарных аспектах сирийского кризиса, можно попытаться всех остальных — не русофобов — затащить в очередную антироссийскую санкционную кампанию. Это просто неприлично, непорядочно и цинично. Надеюсь, что все это понимают. Я не могу гадать, насколько это понимание будет учитываться при принятии конкретных решений, насколько это понимание сможет переломить абсолютно очевидный заказ в некоторых столицах на усиление антироссийской политики. Это очень сложно предвидеть особенно с учетом того, что происходило в последние годы. Могу только подтвердить, что мы никогда не будем идеологизировать наши подходы, мы всегда будем открыты для честного взаимовыгодного разговора, для преодоления проблем, возникших не по нашей вине. Но делать это будем впредь не на основе «business as usual», а только поняв, что наши партнеры действительно готовы работать честно.
Даже в нынешней ситуации мы взаимодействуем и достаточно небезуспешно работаем с теми, кто имеет мужество и понимает свой реальный интерес в сотрудничестве с Россией. Уверен, что, в конце концов, все наносное будет сметено, все то, что вбрасывается в сферу экономического взаимодействия и нацелено на подрыв этой сферы ради достижения неких геополитических результатов и внутриполитических раскладов с учетом электоральных циклов, будет смыто чистой волной экономических интересов.
Вопрос: Как можно было бы дальше активно следовать в фарватере унификации технических стандартов между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом? Я продолжаю верить, что рано или поздно единое экономическое пространство может стать реальностью.
С.В.Лавров: В долгосрочном плане для взаимодействия от нас требуется унифицировать стандарты и регламенты. Мы к этому готовы. Стоит это дорого, поэтому требуется время. Президент России В.В.Путин неоднократно касался этой темы в своих контактах с европейскими партнёрами. В том числе и поэтому мы достаточно долго (около 18 лет) вели переговоры относительно нашего присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Мы «выторговывали» себе время, чтобы у нас окрепла банковская система, страховая сфера, чтобы на какой-то период было защищено сельское хозяйство, согласованы различные периоды защиты внутреннего рынка. Эти сроки нам были нужны в том числе для того, чтобы модернизировать нашу систему технических регламентов. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы делать это с учетом и даже в значительной степени на основе соответствующих норм и стандартов Европейского Союза.
Если мы приступим к строительству общего экономического пространства, к этой теме нам придется вернуться. Я не специалист в этих вопросах, но с точки зрения политического преломления этой задачи, наверное, нельзя будет просто сказать, что мы поссорились, а теперь помиримся и начнем переходить на общие стандарты и регламенты. Придется как-то политически провести «разбор полетов» и понять, насколько мы и вы, Евросоюз, можем сразу приступить к долгосрочным проектам, которые сформируют нормы, стандарты, регламенты на длительную перспективу, насколько все это будет защищено от возможных новых вспышек идеологизации, политизации экономического сотрудничества.
Повторю, я не эксперт в этих вопросах, но такая тема должна неизбежно возникнуть прежде, чем мы начнем просто работать над выстраиванием ткани общего экономического пространства. Нам нужно будет определиться и с политикой, и со своими взаимными обязательствами в этой сфере.
Вопрос: Мой вопрос о финансировании. Это внутренний вопрос, но он также касается взаимоотношений между Россией, Бразилией, Индией и Китаем и будущего успеха банковской системы, которая бы позволила стране диверсифицировать свои ресурсы и инвестировать в такие проекты, как строительство жилья для людей с низким доходом, развитие образовательной системы и здравоохранения. Есть Банк, объединяющий страны БРИКС. Какие есть возможности в этом плане?
С.В.Лавров: Наверняка, живя в России, Вы следите за дискуссией, которая идет вокруг политики Центрального банка. Ставка рефинансирования обсуждается экспертами, наверное, с диаметрально противоположных позиций, с точки зрения выбора между макроэкономической стабильностью и ускорением роста. Я не готов давать какие-либо советы или оценки в этой сфере. Не считаю себя компетентным в этом вопросе. Но то, что эта задача является одной из наиболее актуальных в дискуссиях в рамках Правительства, между Правительством и Кремлем, между ними и ЦБ, Вы, наверняка, видите собственными глазами. Знаю, что нам в очень непростых условиях приходится решать задачи финансовой и макроэкономической стабильности. Но заверяю Вас, что у Президента и Правительства России нет недооценки тех шагов, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить экономический рост. Как это будет сделано, не знаю. Это задача тех, кто работает на этом направлении.
Мы будем стараться делать все, чтобы обеспечить благоприятный внешний фон. Рассчитываю, что и вы, присутствующие в зале, готовы этому способствовать. У вас есть каналы прямого общения с Правительством Российской Федерации. Уверен, что все пожелания и рекомендации, которые будут сформированы на базе вашего личного опыта в России, на базе того, как вы видите перспективы, будут рассмотрены самым внимательным образом.
Вопрос: Одна из целей Ассоциации европейского бизнеса – следить за условиями торговли и инвестициями в Россию, в особенности за реализацией соглашений с ВТО, которые Россия подписала несколько лет назад. Вне формата санкций некоторые министерства Российской Федерации, например, сельского хозяйства, пошли на решения, которые противоречат реализации подписанных Россией соглашений с ВТО: например, запрет на свинину, налогообложение винодельческой продукции. Как бы Вы как Министр иностранных дел могли нам помочь в общении с Вашими коллегами, представляющими российские министерства, попросить их все-таки с уважением относиться к договоренностям, подписанным Россией.
С.В.Лавров: Есть другая точка зрения о том, что мы не нарушаем никаких соглашений, а это сделал Евросоюз. Я сейчас тоже не буду вдаваться в подробности. В политическом плане мы заинтересованы в том, чтобы все эти споры были урегулированы к обоюдному удовлетворению. Я знаю, что мои коллеги в Министерстве экономического развития занимают ту же позицию. Их предпочтением является не идти в Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО, а договариваться напрямую, по-доброму, в несудебном, в неарбитражном порядке. Насколько я слышал, аналогичный подход преобладает и в Еврокомиссии. Мы всячески будем это поощрять.
Есть и путь «сугубо легалистский»: идти в ОРС и там погрязнуть в обоюдных претензиях на очень длительный период. Компании, министры, комиссары друг друга знают очень давно, все прекрасно понимают, где какая проблема может быть решена. Как говорят у нас, «сам Бог велел» договариваться напрямую.
Вопрос: Мой вопрос касается инициативы импортозамещения, внедряемого в России. Есть ощущение, что оно как-то связано с санкциями. Действительно ли это так? Какой подход по импортозамещению сейчас отрабатывается в России?
С.В.Лавров: Это не наш выбор. Не хотели и не хотим впадать в самоизоляцию. Но в ситуации, когда были введены санкции, когда под них попали российские банки, которые кредитовали наше сельское хозяйство, ничего не делать означало бы оставить наших сельхозпроизводителей в менее выгодной конкурентной позиции по сравнению с европейскими экспортерами продовольствия и сельхозпродукции, которые, как Вы знаете, получают льготное кредитование, огромные субсидии, в разы превышающие те, что были «выторгованы» нами при вступлении в ВТО. Это то, что касается рынка продовольствия.
Что касается отраслей, от которых напрямую зависит наша способность развивать свою экономику, инфраструктуру, получать современные технологии, обеспечивать нашу обороноспособность, то здесь никто не будет задавать вопрос, почему мы занялись импортозамещением перед лицом такой массированной атаки из некоторых ведущих западных столиц, их заявлений, что это «всерьез и надолго». Когда мы слышим, как я уже сегодня упоминал, что наша главная цель, якобы, ослабить Евросоюз, поэтому нужно мобилизовать единый антироссийский фронт, как мы можем полагаться в ключевых вещах для обеспечения безопасности страны на то, что нам будут продавать нужные нам технологии и комплектующие. Мы все будем делать сами, уже делаем, мы практически уже стали самообеспеченными в целом ряде сфер.
Повторю, это не означает, что мы захлопнули дверь и больше никого сюда не пустим. Примеров тому множество, как даже в этой ситуации. Те, кто действительно заинтересован нормально с нами торговать, всегда могут договориться о таких формах сотрудничества, которые, не нарушая наши встречные меры, обеспечивают нормальное ведение бизнеса.
Вопрос: Последние годы мы видим, что изменилась официальная позиция министров иностранных дел, которые становятся т.н. «менеджерами по продажам» во всех странах и занимаются гораздо больше экономикой, чем политикой. Вы уже семь лет здесь с нами работаете. Как Вам кажется, изменилась ли Ваша официальная позиция или она осталась такой же: больше внешней политики, меньше экономики? Или Вы, как и в других странах, стали «директором по продажам» страны, который часто повышается до «генерального директора компании»? Насколько это Вам интересно в качестве следующего шага в карьере?
С.В.Лавров: У нас несколько иная иерархия. В МИД нет «менеджеров по продажам», но есть Генеральный директор — он занимается обеспечением нашей работы с точки зрения административной, хозяйственной и финансовой деятельности.
Что касается моего круга ведения, и чем мне приходится в основном заниматься. Не хочу быть нескромным, но меня достаточно часто показывают по различным телевизионным каналам. Наверное, два процента времени я уделяю ответам на вопросы по экономике, все остальное время посвящается политическим кризисам, которые разрастаются и которым конца, к сожалению, пока не видно. Политика диктата оказывается очень заразительной. Вслед за американцами, которые отучились полагаться на дипломатические методы, и как только что-то выходит не по их задумке, сразу хватаются за санкционный инструментарий, к огромному сожалению, ЕС идет по тому же пути: как только они наталкиваются на необходимость достаточно тщательно и сбалансированно выработать подход к той или иной проблеме, как только понимают, что их подходы на сто процентов не могут быть приняты, они тоже начинают грозить санкциями. Работая над урегулированием украинского и сирийского кризисов, мы не можем отделаться от впечатления, что в том и в другом случае применяется одна и та же логика. На Украине произошел переворот — виновата Россия, поэтому Минские договоренности, которые должен выполнить Киев, должны стать критерием снятия санкций с России. По Сирии. Мы с американцами на очень солидной основе в деталях договорились, ставили последнюю точку после того, как Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент США Б.Обама в Китае согласовали очень важный аспект этих договоренностей. Договоренности приняты, американцы из них вышли, потому что опять обвинили нас в том, что не прекращаются боевые действия. То, что они восемь месяцев не могут выполнить свое обязательство убрать умеренные вооруженные формирования с тех территорий, которые занимает «Джабхат ан-Нусра», на это они разводят руками — не получилось.
В случае с Украиной — Киев не выполняет, санкции против нас. В случае с Сирией — американцы не выполняют обещания отмежевать оппозицию от террористов и грозят нам санкциями. Вот и вся логика. В такой ситуации, конечно, мы добиваемся справедливости, добиваемся того, чтобы все, о чем мы договаривались, делалось. Это является вкладом в обеспечение благоприятных внешних условий для экономического развития нашей страны. Когда мы эту абсолютно неприемлемую логику подхода к отношениям с нами поломаем, то, наверное, будут сняты преграды для нормального экономического сотрудничества.
Конечно, в принципе у нас есть концепция внешней политики, сейчас завершается подготовка ее новой редакции, но ее ключевые направления остаются без изменений. Наша главная задача — обеспечивать максимально благоприятные внешние условия для экономического развития страны, повышения благосостояния наших граждан и обеспечения возможности для наших граждан и нашего бизнеса свободно, без какой-либо дискриминации работать во вне нашей страны, на международной арене. Это касается экономических и инвестиционных проектов, а также просто туристических и иных поездок наших граждан.
Вопрос: Мне уже в седьмой раз предоставляется честь встречаться с Вами, одним из мудрейших людей, находящихся в эпицентре внешней политики. Полностью согласен с Вашим анализом Украины, даже сам исследовал этот вопрос.
Как Вы пару раз уже говорили, один из вопросов, связанных с сирийским конфликтом, это неспособность американцев отделить «Нусру» от антиправительственных сил, учитывая тот факт, что они потратили более 500 млн. долл. США на подготовку, тренировку антиправительственных сил, на борьбу с ИГИЛ. Всего же они рекрутировали фактически 10 человек. Считаете ли Вы, что у них есть способности и желание отмежевать «Нусру» от антиправительственных сепаратистов?
С.В.Лавров: Помню статистику, которую вы сейчас упомянули насчет того результата, который был достигнут после вложения 500 млн. долл. США. Эта программа продолжается, и мы об этом знаем. Регулярно обсуждаю это с Госсекретарем США Дж.Керри. Буквально вчера, в очередной раз я у него поинтересовался, как обстоят дела с размежеванием «умеренных» и террористов. Не хочу подозревать Госсекретаря США Дж.Керри и правительство США в целом, что они сознательно затягивают процесс этого размежевания, но от этого не легче.
Когда мы начинали помогать сирийскому правительству в Алеппо, мы создали коридоры, по которым могли выйти все мирные жители, которые захотят. Два коридора были созданы для боевиков. Тогда нас американцы сильно критиковали, говорили, что это похоже на этническую чистку и спрашивали, куда уйдут боевики, потому что у многих там семьи, родные очаги, дома, домашний скарб. Вчера по телефону я спросил у Госсекретаря США Дж.Керри, как насчет Мосула, где готовят операцию по освобождению этого города от террористов, который, как и Алеппо, нужно освободить от террористов. В Мосуле с таким же призывом, как мы делали в Алеппо, выйти оттуда американская коалиция обращается к жителям города. Точно так же, как и в Алеппо, оставлен коридор, чтобы ушли боевики, а там не боевики, а чисто террористы ИГИЛ. Я спросил Госсекретаря США Дж.Керри, что он думает о том, что они призывают мирных жителей уйти от своих очагов, с насиженных мест, из своих домов, на что он ответил, что это совсем другое дело. Я это серьезно говорю. Я спросил почему. Он ответил, что в Мосуле они заранее планируют, а у нас в Алеппо не спланированно и страдают мирные люди. Но по оценкам ООН, если операция в Мосуле, которая, судя по всему, пойдет как планировали, количество беженцев, которые убегут из своих домов и от своих очагов, может достичь от нескольких сотен тысяч до почти миллиона человек.
Наверное, нам всем необходимо определяться с приоритетами. Если мы хотим бороться с терроризмом и пресечь терроризм хотя бы в его нынешней, достаточно опасной стадии, то мы должны продумать комплексные меры, которые должны максимально защищать гражданское население, но не должны основываться на желании выиграть что-то еще, выиграть в одностороннем порядке. Например, в Мосуле нужно победить за пару-тройку недель, поскольку будут определенные события, а в Алеппо необходимо все прекратить немедленно, потому что там гибнут и страдают мирные жители. В Мосуле они тоже страдают, но мы об этом говорить не будем.
Уже нужно перестать быть наивным человеком, но мне все еще хочется верить, что люди будут с тобой сотрудничать честно, но получается не всегда.
Вопрос: Мне кажется, что вопрос о террористической кампании должен объединить различные мнения и людей в ЕС. Хочу вернутся именно к теме ЕС и спросить о том, как Вы видите роль России через двадцать лет во взаимоотношениях между ЕС и Россией.
Я хотел бы также согласиться с тем, что политиков нельзя сравнивать с теми, кто отвечает за продажи, но с другой стороны, работая в компании «Porshе» в России, надеюсь, что мои продавцы будут внимательно следить за тем, как политики защищают свой национальный бренд, который с ними ассоциируется, так, как делаете это Вы. Завтра мы планируем встречаться с губернатором Алтайского региона. Я знаю, что Вы тоже общаетесь с этим человеком и бываете там. Каким образом Вы сочетаете исполнение всех своих обязанностей и оставляете время для решения личных вопросов?
С.В.Лавров: Если я расскажу все, у меня могут быть неприятности на работе.
Что касается отношений между Россией и ЕС через 20 лет, как в утопии «Город солнца», я сторонник того, что совсем не утопично мечтать, а может быть даже не столько мечтать, сколько заниматься тем, чтобы через 20 лет мы все-таки создали то самое общее экономическое, гуманитарное пространство, которое опиралось бы на систему равной неделимой безопасности, когда никто не будет друг друга пытаться обмануть, никто не будет пытаться создавать какие-то зоны влияния, никто не будет пытаться науськивать общих соседей на то, чтобы с одним из соседей дружить, а с другим — нет. Все это, к сожалению, сейчас имеет место, поэтому искоренять придется многое, «изгонять бесов» из каждой страны. Но я бы был сторонником того, чтобы двадцатилетний период, который лежит перед нами, увенчался именно общим экономическим, гуманитарным пространством. Это однозначно, существенно и резко повысило бы конкурентоспособность ЕАЭС и ЕС, повысило бы конкурентоспособность всех нас в ситуации, когда мир становится все более конкурентным, охватывает очень многие сферы, появляются новые полюса, которые определяют будущее мировой экономики, торговли и инвестиций.
Вопрос: Как Вы оцениваете изменение гендерного индекса в Европе и в мире в целом? Ряд авторов говорят, что в отличие от предыдущих времен, когда преобладал мужской рационализм, сейчас мы имеем дело с более эмоциональными, женскими, чувственными ценностями?
С.В.Лавров: Под эмоциональными Вы имеете ввиду более жесткие, чем у мужчин, или как?
Вопрос: Более эмоциональные.
С.В.Лавров: Но эмоции бывают негативные и позитивные. Пока мы достаточно ровно и позитивно относимся к тому, что представители двух традиционных полов занимают важные позиции. В этом смысле гендерное равенство наверняка пробивает себе дорогу. Мы в России тоже активно поддерживаем всех, кто талантлив, независимо от того, мужчина это или женщина. У нас в Министерстве мы стараемся выдвигать женщин на важные посты. Здесь присутствует М.В.Захарова. Многие из вас, наверное, уже с ней познакомились и знаете насколько эффективно она работает, насколько быстро реагирует на все, что требует реакции с нашей стороны. В принципе подчеркну еще раз, я не хочу разбирать конкретные примеры, но это нормальный процесс. Не нужно впадать в другую крайность — делать принадлежность к женскому полу критерием, который должен все решать. Я все-таки за то, что женщин не надо обижать, не надо делать им поблажки. Женщины не менее умны, энергичны и эффективны, чем мужчины. Если делать выбор просто на основе профессиональных качеств, я думаю, этого будет достаточно и это будет справедливо.
Вопрос: Одна из самых больших проблем в Европе – иммиграция, особенно страдает от нее Италия. Почему Россия не предлагает помощи в решении этого вопроса? Это могло бы стать положительным шагом в сторону нормализации отношений с Европой?
С.В.Лавров: Международное гуманитарное право требует, чтобы беженцы, подпадающие под категорию «беженцы» и спасающиеся от политических или природных катаклизмов в своих странах, к которым не приравниваются экономические мигранты, допускались в те страны, в которых они хотят остаться или провести какое-то время. Насильно затаскивать беженцев невозможно. Я видел статистику, на сколько граждан ЕС приходится один мигрант. Согласно ей, на несколько сотен европейцев приходится один мигрант. Если вы возьмете ту же матрицу и примените ее, скажем, к Иордании, Ливану или Турции, там речь идет о двух-трех десятках. Так что получается немного разная картина, разная нагрузка.
У нас были единичные случаи, когда через нашу территорию беженцы из региона Ближнего Востока (скорее, это были мигранты, потому что у них у всех были деньги, они покупали сначала велосипеды, потом машины) ехали в Норвегию, они хотели туда. Российская территория была им удобна по тем или иным причинам. Мы никого не выгоняли, никуда насильно не выселяли. Более того, в тот период, о котором мы говорим, Россия приняла более миллиона украинцев из Донбасса. Треть из них обратилась за постоянным статусом беженца в расчете потом получить вид на жительство и гражданство, а остальные просто признаны беженцами по критериям Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Огромная нагрузка легла, прежде всего, на Ростовскую область. Затем практически все российские регионы предложили свои возможности. Большинство беженцев из Донбасса разъехались по тем адресам, которые были им приемлемы.
Мы тоже несем эту нагрузку, и тоже были вынуждены принимать людей, оказавшихся в беде, под обстрелами, ставших «мишенью» т.н. антитеррористической операции, объявленной против лиц, отказавшихся принять государственный переворот. Мы все-таки считаем, что страны, которые принимают решение, влекущее за собой потоки мигрантов и беженцев, должны тоже осознавать свою ответственность. Я не говорю сейчас о том, как вам в ЕС нужно делить этих беженцев: принимать ли квоты и чем все это может закончиться. Повторю, что есть международное право, требующее принимать беженцев в тех странах, куда они хотят попасть. Экономические мигранты в эту категорию не входят, поэтому применительно к ним должно вырабатывать линию каждое правительство или, если хотите, весь Евросоюз. Это разные вещи. Мигранты, которые приезжают с большим количеством наличных денег, имеют с собой атрибуты состоятельных людей, это проблема страны, куда они попадают.
Давайте не будем забывать, что первые потоки беженцев начались с момента операции в Ливии, когда в нарушение резолюции СБ ООН, которая ввела оружейное эмбарго, туда поставлялось оружие. Об этом, не стесняясь, говорила, по крайней мере, одна страна-член ЕС, требовавшая свержения режима. Потом была вторая резолюция СБ ООН, устанавливавшая режим «бесполетной зоны» над Ливией и означавшая, что просто нельзя допускать полетов авиации М.Каддафи. Эта резолюция была грубо использована для того, чтобы начать смену режима путем бомбардировок. Ливия, в итоге, превратилась в рассадник терроризма, в территорию, через которую пошли первые потоки мигрантов, прежде всего, в Италию. Вы все хорошо знаете, что этот бизнес зародился именно на ливийской территории. Потом уже из Африки южнее Сахары по этому коридору пошла новая волна из других стран.
Знаете, в начале 2012 г. мне позвонил бывший тогда министром иностранных дел Франции Л.Фабиус и сказал, что в Мали очень тяжелая ситуация. Там был французский контингент, который готов сдержать напор террористов, идущих на Мали с севера. Он просил нас проявить понимание в СБ ООН, чтобы Совет Безопасности каким-то образом это все осветил. Я сразу ответил, что мы, конечно, проявим понимание, потому что в Мали, действительно, террористическая угроза. Но я спросил моего друга Л.Фабиуса, отдают ли французы себе отчет в том, что эти террористы, которые шли на Бамако, были вооружены тем оружием, которое им в Ливии поставляла Франция в расчете на то, что они свергнут М.Каддафи, а потом с ними можно будет договориться. Он сказал, что они это осознают, это «с’est la vie». Обидно, что «с’est la vie» превращается в политику. Очень надеюсь, что мы таких ошибок больше повторять не будем.
Вопрос: Проживая в Москве, мы имеем возможность услышать Ваше мнение. Это поразительно, потому что в западной прессе часто пишут о третьей мировой войне или вероятности новой «холодной войны». С Вашей точки зрения, насколько действительно ситуация складывается именно таким образом?
С.В.Лавров: Знаете, многие говорят, что идет идеологическая и не только идеологическая третья мировая война с риском превратиться в «горячую», либо второе издание «холодной» войны. Все-таки мы имеем разные ситуации. У нас сейчас нет никаких идеологических противоречий. Демократия, свободный рынок восприняты той и другой стороной. Другое дело, что не может быть демократии, которая «стрижет» всех под одну гребенку. Не может быть оправдания тому, что называют «демократизаторство» любой ценой: разрушение обществ, наплевательское отношение к их традициям, культуре, ценностям. Мы видели, к чему это привело в Афганистане, Ираке, Ливии. Сейчас пытаемся предотвратить аналогичный сценарий в Сирии.
Свободный рынок тоже достаточно емкое понятие, куда вмещается не одна, и даже не дюжина, а намного больше различных экономических систем. Сингапур, США, можно привести массу других примеров, которые доказывают, что не может быть единообразного стандарта для всех и вся. Точно так же, как и политический режим, государственное устройство не должны приноситься в жертву желанию к определенной дате в календаре предъявить своим избирателям сообщение о том, что в Ираке установлена демократия, как было объявлено в мае 2003 г. Это было провозглашено победой демократического мира.
У нас нет идеологических противоречий, которые делали бы неизбежной «холодную войну». С другой стороны, во время «холодной войны» были какие-никакие, пусть неписаные, но все-таки правила, которым стороны следовали, всячески стараясь не создавать каких-то ситуаций, которые могут быть восприняты другой стороной как опасный «сюрприз».
Сейчас ситуация иная, потому что правила подвергаются большому сомнению. Вроде бы, после «холодной войны» были написаны новые правила, когда создавался Совет России-НАТО. Та самая равная и неделимая безопасность, когда никто не будет пытаться укреплять свою безопасность, ущемляя безопасность других. Это политическое обязательство было принято и провозглашено на высшем уровне. Потом началась эпопея с ПРО, когда наши американские коллеги вышли из соответствующего договора. Президент России В.В.Путин не раз вспоминал, как в то время Президент США Дж.Буш младший в ответ на вопрос, зачем они это делают, сказал, что это борьба США против Ирана. Если это задевает интересы России, то пусть она принимает любые ответные меры, мы – не враги, и Россия может делать все, что считает необходимым для обеспечения своей безопасности. Буквально.
Потом были попытки договориться по ПРО. Нас поставили перед фактом, что будет либо так, как задумали они, либо они с нами не будут разговаривать. Затем нам обещали обеспечить круглосуточное дежурство российских офицеров на объектах, которые тогда планировались в Польше и Чехии. К.Райс и Р.Гейтс предложили это, когда приезжали. Мы сказали, что это, конечно, не совместная работа, но хоть что-то. По крайней мере, мы будем видеть, что происходит, и что эти противоракетные системы не будут использоваться против интересов России. А потом и это отозвали. Никакого круглосуточного дежурства предложено не было. Сказали, что по нашему желанию они будут рассматривать на разовой основе возможность для нашего посещения. После этого нам стало понятно, что провозглашенный на высшем уровне политический лозунг о неделимости безопасности не работает. Тогда, для того чтобы этот девиз, это провозглашенное главами государств политическое обязательство, не осталось на бумаге, мы предложили, придать ему юридически обязывающий характер, кодифицировать его в Евроатлантическом договоре (Договоре о евроатлантической безопасности). Нас даже слушать не стали, сказав буквально следующее: «юридические гарантии безопасности будут даны только тем, кто вступит в НАТО», что однозначно противоречило обязательству обеспечения равной и неделимой безопасности. Уже тогда было ясно, что курс на расширение НАТО был идеологической и геополитической целью, задачей было сдерживание России, отрыв от нас не только соседей, но даже просто государств, желающих нормально сотрудничать с нами. Это правило, которое, казалось бы, было сформулировано для периода после «холодной войны», не сработало. Сейчас не срабатывают правила, которые формируются по ходу действия.
Что касается Минских договоренностей, то вроде бы, нашли, каким образом преодолеть кризис, но договоренности не выполняются. Поскольку киевские власти пользуются полным покровительством наших американских коллег и отдельных европейцев, то они и делать ничего не хотят, а нам говорят, что им трудно это сделать, поскольку у них там начнутся народные волнения. То же самое по Сирии. Договорились с США, но они настаивают, что нужно по-другому. В Алеппо так, а в Мосуле – иначе.
Ситуация гораздо более флюидная, чем в эпоху «холодной войны». Нет никаких идеологических причин для того, чтобы нам ссориться друг с другом, но ожесточенность некоторых наших партнеров, в том числе публичная, зашкаливает гораздо больше, чем в период «холодной войны». Я уверен, что историки когда-нибудь найдут термин для описания нынешней эпохи. Надеюсь, что это будет скоро, и она долго не продержится, хотя надежды, как вы знаете, не всегда сбываются.
Вопрос: Вы говорили о том, что существуют проблемы с «Северным потоком–2», с т.н. «Турецким потоком», сложившиеся вследствие политизации этих вопросов. Мы получаем газ из СССР и России уже на протяжении 45 лет, и в течение этого периода было зарегистрировано лишь 13 дней, когда российский газ не поступал в Европу. Это является признаком надежности и говорит о том, что мы выбрали и имеем правильного партнера.
Соглашение по «Северному потоку–2» было подписано во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Пять транснациональных компаний, включая «Газпром», заключили это соглашение между собой. Поразительно, что все было построено исключительно на коммерческой основе. Однако наши друзья, члены ЕС, в частности, Польша приняли закон, положивший, по сути, конец этому проекту, вследствие чего западные партнеры были вынуждены выйти из консорциума.
Мое заявление сводится к следующему. Я считаю, что ситуация, в которой был подписан первый контракт на поставку газа из СССР, характеризовалась большими противоречиями в период «холодной войны», но проект прошел путь до своего запуска. Сегодня мы сталкиваемся с аналогичной ситуацией, когда еще нет «холодной войны», но обстановка в отношениях между Россией и Европой, Россией и США довольно критическая. Вице-президент США Дж.Байден в Стокгольме выступил с заявлением, в котором сказал, что «Северный поток–2» – это «мертвый» проект для Европы. Спасибо г-ну Дж.Байдену за подобный совет, но это не способ решения проблемы. Таким образом готовится «мягкая посадка» американского сланцевого газа на европейском континенте.
С.В.Лавров: Дж.Байден сказал не только это. Недавно мы вспоминали, как два года назад (в 2014 г.) он выступал в каком-то американском университете и уже тогда сказал (точную цитату можно найти в Интернете, передам только смысл), что в Сирии нет умеренных оппозиционеров, все там – террористы и экстремисты. Сейчас мы напоминаем об этом нашим американским коллегам, а они говорят, что он, мол, высказывал свое собственное мнение.
Насчет того, что Вы сказали о попытках сорвать «Северный поток–2», то я разделяю Ваши оценки. Но давайте не будем забывать о том, что призыв поставить в ситуации нынешних отношений между Россией и Западом политику выше экономики прозвучал именно из Германии. Именно в Германии было сказано, что ради антироссийского единства бизнес должен страдать. Я просто не хочу обижать ни поляков, ни немцев. Эту ситуацию создали путем постоянного инерционного наращивания конфронтации, когда, как Вы абсолютно правильно сказали, чисто коммерческий выгодный проект, который сокращает стоимость транзита, пытаются сделать каким-то «жупелом» и требуют искусственно сохранять ненадежные каналы транзита в Европу. А каналы действительно ненадежные как политически, так и физически. Все это знают.
Олимпийские чемпионы-армейцы посетили российскую авиабазу в Киргизии
На российской авиабазе в Канте (Киргизия) прошла акция «Кинодесант» в рамках Года кино, во время которой известные спортсмены ЦСКА встретились с военнослужащими Воздушно-космических сил.
В акции приняли участие олимпийские чемпионы майор Алексей Мишин (греко-римская борьба), лейтенант Джамал Отарсултанов (вольная борьба) и Хаджимурат Гацалов (вольная борьба).
Поездка была приурочена к 13-й годовщине российской авиабазы в Канте. Армейские чемпионы проявили неподдельный интерес к акции, с удовольствием проведя мастер-класс для российских военнослужащих и воспитанников детско-юношеских спортивных школ Киргизии. Затем для олимпийцев провели экскурсию по авиабазе.
«Никогда не думал, что окажусь здесь и увижу многое своими глазами, – поделился своими впечатлениями майор Алексей Мишин. – Мы пообщались с нашими солдатами и офицерами. Все они оказались скромными, но в тоже время сильными и мужественными. Настоящие воины».
Ранее представители ЦСКА посетили российских военнослужащих на авиабазе в Сирии. В посадке деревьев на территории базы Хмеймим приняли участие заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка подполковник Светлана Ишмуратова (биатлон), двукратная олимпийская чемпионка майор Елена Исинбаева (прыжки с шестом), олимпийская чемпионка капитан Анна Чичерова (прыжки в высоту), победители Олимпиады-2016 капитан Софья Великая (сабля), капитан Алексей Черемисинов, прапорщик Артур Ахматхузин и Тимур Сафин (все – рапира), младший сержант Сослан Рамонов (вольная борьба), а также серебряные олимпийские призеры Сергей Каменский (пулевая стрельба) и Аниуар Гедуев (вольная борьба).
Центральный спортивный клуб Армии
Операция в Мосуле может стоить Турции потери геополитического статуса (I)
Петр ИСКЕНДЕРОВ
Начатая правительством Ирака и западной коалицией во главе с Соединёнными Штатами операция по освобождению Мосула от террористов запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ) вне зависимости от её конечного военного результата может развалить саму коалицию и провести новые линии противостояния на Ближнем Востоке. Это вытекает, прежде всего, из противоречивых интересов основных участников операции, по-разному понимающих смысл борьбы с ИГ, будущее территориально-политическое устройство Ирака и свои цели в этой борьбе.
Ключевую роль в развале действующей под эгидой США коалиции вольно или невольно способна сыграть Турция.
Интересы Анкары и лично президента Эрдогана в Ираке можно свести к достижению четырёх геополитических целей.
Во-первых, сделать Турцию ключевым участником решения проблем Ближнего Востока, для чего необходимо укрепить её военно-политические позиции в регионе. Во-вторых, противодействовать росту влияния курдских сил, в том числе играя на противоречиях турецких, сирийских и иракских курдов. В-третьих, не допустить усиления влияния Ирана, этого основного конкурента неоосманистов, нацеленных на восстановление влияния Анкары среди мусульман Закавказья, Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии. В-четвёртых, держать под контролем маршруты транспортировки энергоресурсов, влияя тем самым на перспективы конкурирующих проектов (в первую очередь, российских и иранских).
Среди четырёх означенных целей одна традиционно особенно важна для турецких властей. Речь идёт о курдах. Анкара откровенно недовольна составом участников начавшейся операции по освобождению Мосула. Прежде всего, участием в операции по освобождению города курдских отрядов, действующих при американской поддержке. Такое же недовольство вызывает привлечение к наступлению на Мосул шиитской милиции.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что его страна будет вынуждена «принять меры в случае необходимости». Он также предложил Багдаду согласиться на участие в операции по освобождению Мосула армии Турции, но натолкнулся на решительный отказ своего иракского коллеги Хейдара аль-Абади.
Именно Хейдар аль-Абади отдал 17 октября приказ о начале наступления на Мосул с участием полицейских сил и национальной гвардии, но боевые возможности этих вооружённых формирований оцениваются не очень высоко, отчего к операции были привлечены лучше подготовленные подразделения курдов и шиитов. Последние при этом больше ориентированы не на Багдад, а на Тегеран.
Турецкие СМИ высказываются еще более жёстко, чем Бинали Йылдырым, усматривая в военно-политическом сотрудничестве США и курдов прямой вызов интересам Турции. Издание Akşam считает, например, что для турецких властей возникает императив изменения своей внешнеполитической ориентации. «Сегодня очевидно, что отношение [Турции] к Западу вступило в новую фазу. Сначала сирийский вопрос, затем события в Мосуле. Даже если отбросить в сторону поддержку, которую западные «службы» оказывают таким террористическим организациям, как Рабочая партия Курдистана / партия «Демократический союз», FETÖ Фетхуллаха Гюлена… нельзя не видеть, что антагонизм по отношению к Западу в Турции не есть нечто преходящее. Он перестаёт быть предпочтением одной правящей партии и становится институциональным выбором государства», - пишет Akşam.
Однако операция в Мосуле может обернуться для Турции более значительными геополитическими потерями, чем укрепление влияния курдов и углубление противоречий с Вашингтоном. Речь идёт о начале глубоких перемен в масштабах всего Ближнего Востока, в результате чего Анкара рискует оказаться в одиночестве перед лицом усиления позиций России, Ирана и Сирии. Как подчеркивает турецкое издание Odatv.com, «после попытки государственного переворота террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена 15 июля позиции Турции в дипломатии стали еще слабее. А влияние России и Ирана в регионе окрепло. Их пространство для маневра расширилось в связи с сирийскими ходами России и ядерным соглашением, которое Иран заключил с Западом… Снова стало очевидно, что в борьбе против ИГИЛ, в сирийском вопросе США и ЕС нуждаются в России и Иране. Это усилило положение Асада. Турция не смогла увидеть, что в ссоре с Россией, Ираном, Ираком, Сирией, Египтом она не сможет стать региональной силой, центром притяжения, энергетическим узлом. Поэтому она была отстранена, окружена, изолирована», - заключает Odatv.com, отмечая, что политика Турции в Северном Ираке «зашла в тупик».
Растущая изоляция Турции стала прямыми следствием политики США в регионе, создающей новые узлы противоречий. Один из элементов данной политики - стремление администрации Барака Обамы привлечь на свою сторону Иран, с тем чтобы, во-первых, противодействовать формированию военно-политического альянса Москвы и Тегерана, во-вторых, получить дополнительный рычаг воздействия не только на Турцию и Ирак, но и на монархии Персидского залива, особенно на Саудовскую Аравию и Катар.
Сегодня политика США на Ближнем Востоке направлена на то, чтобы «заполучить Иран, и обнаружилось это прежде всего в Ираке», замечает турецкое издание Star gazete и продолжает: «В противовес сложившемуся в Сирии альянсу «асадовский режим - Иран - Россия» США пустились на поиски баланса «багдадский режим - Иран - США» в Ираке. Эта инициатива, с одной стороны, пошатнула союз «руководство Эрбиля [главный город Иракского Курдистана. – П.И.] - США» в Ираке, с другой - осложнила позиции Турции и Израиля… Нельзя сказать, что этой политикой США ради того, чтобы заполучить Иран, подавляли Турцию, Израиль, Саудовскую Аравию, не позволяя им стоять на пути у Ирана; достаточно было, чтобы возникла ситуация «Иран на стороне США». В итоге США и Иран не смогли перетянуть на свою сторону, и доверие своих традиционных союзников потеряли», - делает вывод турецкое издание.
Существуют серьёзные сомнения и относительно военной составляющей операции в Мосуле, на чём тоже, разумеется, способно сыграть турецкое руководство. «Действия западной коалиции в Сирии и Ираке являются такими же непоследовательными и неправильными, как и всё, что мы в последнее время делаем на Ближнем Востоке, начиная от вторжения в Ирак и поддержки химерических восстаний в ходе «арабской весны», до катастрофической и глупой интервенции в Ливии», - пишет британский The Spectator. Автор статьи, ссылаясь на данные ООН и Международного комитета Красного Креста, предупреждает о том, что «более одного миллиона жителей станут беженцами в результате «славного» освобождения Мосула». И ответ на вопрос, куда устремятся эти беженцы, известен заранее: в Турцию, чтобы оттуда попробовать перебраться в Европу вслед за сотнями тысяч беженцев из Сирии. Что ж, это даст президенту Эрдогану ещё один рычаг в давлении на Европейский союз.
(Окончание следует)
Операция в Мосуле может стоить Турции потери геополитического статуса (II)
Петр ИСКЕНДЕРОВ
Мосул расположен в одной из крупнейших нефтегазовых областей Ирака, а сама эта страна входит в тройку мировых лидеров по запасам нефти, хотя после американского вторжения в 2003 году нефтедобыча в Ираке резко упала. В то же время иракский север - это территория, контролируемая курдами. И то и другое делает Мосул для Турции стратегически важным.
Доказанные запасы нефти в Иракском Курдистане (в первую очередь, на месторождениях Киркука, примерно в 150 километрах к юго-востоку от Мосула) составляют 4 млрд баррелей. В то же время, согласно некоторым экспертным оценкам, ещё неразведанные запасы могут превышать эту цифру в 15 раз, достигая 60 млрд баррелей (40 % углеводородных ресурсов всего Ирака).
В последние годы Турция много делает, чтобы получить контроль над нефтью северного Ирака. В частности, в январе 2014 года заработал нефтепровод, связавший месторождение Хурмала к юго-западу от Эрбиля с сетью трубопроводов на турецкой территории, обеспечивающих доставку нефти в средиземноморский порт Джейхан. Вопрос был решён путём подписания в июле 2012 года соглашения между Анкарой и региональным правительством Иракского Курдистана в обход Багдада. Соглашение предусматривает поставки Турцией в Эрбиль продуктов нефтепереработки (прежде всего, топлива) в обмен на сырую нефть с месторождений северного Ирака. Кроме того, власти Эрбиля, всё так же минуя Багдад, заключают нефтяные контракты с ExxonMobil, Total, Chevron и Marathon. К 2019 году суточная добыча нефти на месторождениях Иракского Курдистана может подняться до 2 млн баррелей (в 2014 году - 400 тысяч баррелей).
Север Ирака важен для Турции не только с точки зрения получения оттуда сырья и торговли нефтепродуктами, но и в плане обретения «контрольного пакета» в трансконтинентальных проектах транспортировки энергоресурсов в Европу с месторождений Прикаспия и Средней Азии. Эти проекты либо завязаны на Ирак, Сирию, Турцию, либо могут идти в меридиональном направлении – через Иран к терминалам Персидского залива.
Активизация военных действий в районе Мосула с середины октября последовала за достигнутыми летом текущего года договорённостями между правительством Ирана и региональным правительством Иракского Курдистана о сооружении трубопровода мощностью до 250 000 баррелей в сутки для перекачки сырой нефти в Иран. Труба должна соединить нефтяное месторождение Койсинджак в Иракском Курдистане с иранской провинцией Керманшах, где развита нефтепереработка. В дальнейшем новый трубопровод должен быть подключён к разветвлённой иранской нефтепопроводной системе с подачей нефти к Персидскому заливу. Технические аспекты проекта оговорены, остаются его политическая и коммерческая составляющие.
Существенно, что данный проект может быть увязан с прокладкой через территорию Ирана международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», начинающегося в России. Как подчеркнул в августе в интервью азербайджанскому информагентству «АзерТАдж» президент России Владимир Путин, проект «Север – Юг» «направлен на создание оптимальных возможностей для перемещения транзитных грузов из Индии, Ирана, стран Персидского залива на территорию Азербайджана, Российской Федерации и далее в Северную и Западную Европу».
В настоящее время у Турции нет возможностей помешать ни упрочению позиций Ирана в регионе, ни перспективной переориентации энергетических потоков с широтного на катастрофическое для турецкого транзита меридиональное направление. Не поможет и военное присутствие Турции в северном Ираке. В частности, это касается расквартированных на нескольких базах в провинции Дахук в 30 километрах от турецкой границы двух тысяч турецких военнослужащих и бронетехники.
В таких условиях предпочтительным вариантом для Анкары может стать дестабилизация северного Ирака и, возможно, районов иранского Курдистана, а также игра на противоречиях в лагере иракских курдов - с учётом того, что если Демократическая партии Курдистана Масуда Барзани ориентируется на Анкару, то Патриотический союз Курдистана Джаляля Талабани поддерживает тесные связи с Тегераном.
Чтобы играть подобающую роль в событиях, которые только начинают разворачиваться на севере Ирака, Турция должна выйти из ситуации, в которой, как отмечает турецкое издание Birgün, она «сброшена со счетов».
«Мосул - город стратегического значения, богатый нефтяными месторождениями... Причина кризиса, который привёл к региональной схватке между Анкарой, Багдадом, Эрбилем, Тегераном и Вашингтоном, сводится к тому, как произойдет передел этого города после ИГИЛ... Иракское правительство, курдская администрация, суннитские арабские племена, шиитские силы, США, Россия, Иран, Турция, Саудовская Аравия стремятся иметь право голоса в отношении Мосула», - пишет Birgün.
Президенту Турции Эрдогану предстоит разложить, возможно, свой самый сложный геополитический пасьянс. И отправным моментом здесь может стать стремление максимально затянуть операцию по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства», чтобы турецкая игра на неизбежных противоречиях между многочисленными участниками этой операции стала более успешной.
По информации турецких СМИ, ещё до начала операции в Мосуле Анкара разработала три плана действий - «А», «В» и «С». План «А» предусматривал участие в операции в составе международной коалиции, но он сразу же провалился из-за сопротивления этому Багдада. План «В» был нацелен на достижение тайного соглашения Анкары и Эрбиля на предмет пропуска турецких войск в Мосул. Однако и этот план был сорван в силу осторожной позиции иракских курдов и конкретно Барзани, заявившего, что «если Анкара хочет участвовать в операции, она должна договориться с Багдадом».
Согласно плану «С», Турция должна возглавить коалицию суннитских племён со всего Ирака, которая представлена примерно 400 лидерами, но реализация данного плана означала бы для Турции прямой конфликт с Багдадом, шиитским ополчением (а значит, и с Тегераном) и, скорее всего, с Соединёнными Штатами.
Остаётся тот самый план «D». Его, скорее всего, и держат в голове турецкие руководители: дестабилизация всего северного Ирака с использованием в том числе отрядов ИГ. С этой точки зрения скорое падение Мосула для Анкары нежелательно.
Что не сумел Эштон Картер в поездке к линии фронта у Мосула?
Николай БОБКИН
Начавшаяся 17 октября наземная военная операция по освобождению Мосула продолжается. Армия Ирака и части курдского ополчения открыли два новых фронта к северо-востоку от города. Шиитские добровольческие отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» во взаимодействии с курдскими отрядами пешмерга наступают на Мосул с запада. Наступающим удалось взять под контроль несколько десятков населённых пунктов. Мосул сейчас в полукольце, в его южных окрестностях начались уличные бои, но уже первые боестолкновения подтвердили, что лёгкой битва за Мосул не станет.
Вокруг Мосула началась сложная геополитическая игра. Тон в ней опять же задают США. Не надо думать, что для Вашингтона иракский Мосул и сирийский Алеппо – одно и то же. Цели заявлены общие – борьба с терроризмом, но если в Сирии правительство США ещё силится переложить ответственность за гуманитарные последствия операции на Россию, Иран и правительство Башара Асада, то за Мосул отвечать придётся исключительно Белому дому. Других вариантов нет.
Не потому ли администрация США упорно стремится не допустить прямого участия американских войск в мосульской операции? В Ираке сегодня американский военный контингент насчитывает более 4800 человек, а в районе Мосула в рядах иракской армии – всего около сотни военнослужащих сил специальных операций. Пентагону, впрочем, не привыкать воевать чужими руками.
В Ираке только что побывал министр обороны Эштон Картер, пытавшийся оценить прогресс в боевых действиях по штурму Мосула. На встречах с американскими офицерами ему пришлось услышать серьёзные предупреждения о недопустимости форсирования военной операции. Успехи наступающих на окраинах Мосула не стоит преувеличивать. В городе остались до 5000 боевиков ИГ. Они не покинут Мосул ни при каких условиях. Они препятствуют выходу из города мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом, а работа ООН по строительству лагерей для заселения туда перемещённых лиц из Мосула мало что даёт.
Мосульской операции предшествовали воздушные удары, которые США и международная коалиция начали наносить ещё 15 октября, но их эффективность в борьбе с рассредоточенными отрядами обороняющихся невысока. Главные задачи возложены на сухопутные силы. Их численность превышает 60 тысяч человек, но многократный перевес в данном случае не гарантирует лёгкой победы. Как только бои дойдут до центральных кварталов города, защитники Мосула пустят в ход миномёты, реактивные снаряды, террористов-смертников, другие средства нетрадиционной вооружённой борьбы.
В качестве примера решимости террористов применить любые средства приводится пример преднамеренного поджога боевиками завода по производству серы к югу от Мосула; в результате от токсичных газов в рядах наступающих пострадали более 1000 человек; среди пострадавших были и американские военнослужащие. Командующий американской коалицией генерал-лейтенант Стивен Таунсенд предостерёг главу Пентагона: пока окраины Мосула обороняются пассивно, но это может измениться в любой момент.
Эштон Картер, похоже, к советам генерала не прислушался. Он пообещал премьер-министру регионального правительства Курдистана Нерчивану Барзани «воздушную поддержку», если курды пойдут вперёд. И самоуверенно заявил, что США «воодушевлены прогрессом» военной кампании. Более того: оказывается, американский министр обороны уже размышляет об «отчаянной потребности в стабилизации и реконструкции» Мосула. После американской воздушной кампании потребность и вправду может быть отчаянной – только не в реконструкции, а восстановлении города из руин.
Сугубо в военном отношении незапланированная поездка Картера на линию фронта у Мосула может лишь дезорганизовать наступление. Чем занят Пентагон? Вместо своего участия в операции пытается подтолкнуть наступающих к более скорым действиям в обмен на обещанную воздушную поддержку. Делает это американский министр обороны без оглядки на возражения правительства Ирака, которое, нужно признать, теперь к советам США стало прислушиваться реже.
Ведь с первых дней у администрации Обамы многое не получается. Не получилось заблокировать участие в наступлении на Мосул шиитских отрядов. Не прошла идея о формировании отдельного фронта из курдских отрядов пешмерга; сегодня курды воюют вместе с иракской армией и шиитским ополчением. Не удалось добиться от Багдада согласия на привлечение к наземной операции турецких сухопутных войск, а ведь это было одной из главных задач Картера, прилетевшего в Ирак из Анкары.
Сегодня Турция заявляет о поддержке наступающих курдов огнём артиллерии и танков, а иракское военное командование отрицает участие Турции в мосульской операции. С этим Багдаду и Анкаре ещё придётся разбираться.
Что же касается политики администрации Обамы, в ней слишком заметно стремление использовать сражение за Мосул в интересах предвыборной борьбы демократов за Белый дом. Только не выйдет ли всё наоборот: не похоронит ли Мосул шансы Демократической партии на президентских выборах?
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе последних теледебатов с Хиллари Клинтон заметил: «Мы возьмем сейчас Мосул, и знаете, кто получит выгоду? Иран». По мнению Трампа, Иран захватывает Ирак, и из-за политики Обамы Америка не получит ничего, затеяв операцию по взятию Мосула.
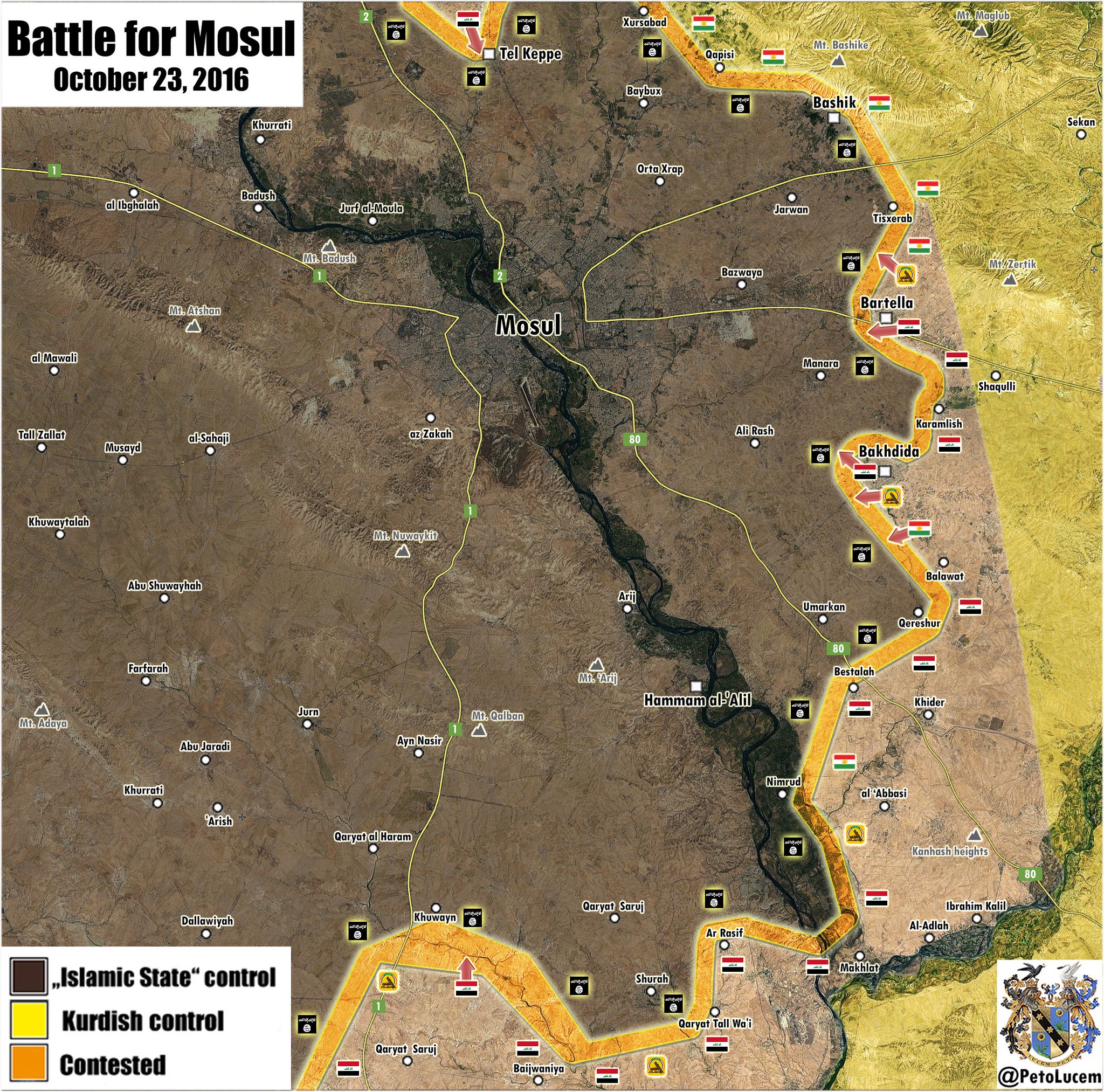
Британские и американские таблоиды бьют тревогу из-за новой российской ракеты РС-28 "Сармат", которую на западе называют "Сатана-2".
Сразу несколько крупных СМИ, в частности, газета The Sun пообещала своим читателям "ядерный ад".
"Эксперты предупреждают: путинская "Сатана" сотрет с лица Земли восточное побережье Америки за несколько минут, если начнется Третья мировая война", — говорится в статье.
Газета приводит комментарий американского автора Пола Крейга Робертса, ранее написавшего о том, что одна такая ракета может уничтожить почти весь Нью-Йорк, а пять или шесть — все восточное побережье.
Британская Daily Mail, в свою очередь, назвала ракету "самым серьезным предупреждением Западу". По версии этой газеты, "Сармат" сотрет с лица Земли уже не восточное побережье США, а Англию и Уэльс. Daily Mail даже сделала иллюстрацию, демонстрирующую "зону разрушения" в случае удара российской ракеты по Великобритании.
Американская газета The New York Post пишет, что "наводящие ужас ядерные ракеты "Сатана" способны создать ад на Земле".
"Российское ядерное оружие — это "замаскированный дьявол", — говорится в статье.
Таким образом западные таблоиды отреагировали на появление на сайте Государственного ракетного центра имени академика Макеева изображения опытно-конструкторской работы "Сармат".
Предполагается, что РС-28 "Сармат" заменят ракеты Р-36м "Воевода". Ожидается, что в эксплуатацию они будут введены с 2018 года.
Несколько дней назад западные таблоиды впали в истерику из-за другого российского вооружения — авианосной группы ВМФ во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов". Несколько дней назад направляющиеся берегам Сирии корабли вошли в пролив Ла-Манш.
"Русские идут". — писала по этому поводу The Sun, пояснив, что "атомные военные корабли Владимира Путина" продвигаются к Ла-Маншу, а ВМС Великобритании якобы готовятся поднять по тревоге свой флот.
Таблоиды даже составили собственные "планы перехвата" российских кораблей.
По последним данным, 25 октября российская авианосная группа до 21:00 по московскому времени планировала провести в водах Португалии.
Соединенные Штаты рассчитывают, что новое перемирие в Алеппо будет более успешным, чем предыдущие, заявил официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.
"Мы постоянно говорим, что приветствуем любое снижение насилия. Но это должно соответствовать обязательствам по доставке гуманитарной помощи, что является главной целью (перемирия), и чего до сих пор не произошло", — заявил Кирби на брифинге.
"Конечно, мы приветствуем заявленные намерения продлить эту паузу (в боевых действиях). Мы надеемся, что это продление каким бы долгим оно ни было, будет более успешным в смысле намерений и целей, чем было пока", — добавил он.
"Гуманитарная пауза" начала действовать в Алеппо утром 20 октября. ВКС РФ и сирийские правительственные войска не наносили удары по террористам, что позволило как жителям, так и боевикам выйти из города по специально созданным коридорам. Для выхода из Алеппо было предусмотрено восемь коридоров: шесть для мирных жителей и два для боевиков.
Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина российская сторона приняла решение продлить на сутки "гуманитарную паузу" в Алеппо, официальный Дамаск этот шаг поддержал.
США 3 октября объявили, что прекращают двустороннее сотрудничество с Россией по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве Сирии между авиацией двух стран.
США серьезно относятся к развернутым в Сирии российским системам ПВО, заявил во вторник директор американской национальной разведки Джеймс Клэппер.
В ходе дискуссии в нью-йоркском Совете по международным отношениям Клэппера спросили, может ли Россия применить эти свои системы в отношении американских самолетов. В ответ он сказал, что "мы очень серьезно относимся к этим системам".
"Это очень мощные системы… И я не думаю, что русские разместили бы их, если бы у них не было намерений как-то их использовать", — сказал глава нацразведки. Он признал, что у него есть понимание того, "почему они разместили эти системы".
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что в Сирию доставлена батарея ЗРК С-300, предназначенная для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха. Также в Сирии продолжают нести дежурство комплексы С-400.
Дмитрий Злодорев.
Вся деятельность Запада в Сирии противоречит нормам международного права, только Россия находится там на законных основаниях, заявил в интервью RT бывший заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ и экс-депутат бундестага Вилли Виммер.
По его словам, ключевой задачей является облегчение гуманитарной ситуации, которая наблюдается сегодня в Сирии, кровопролитие необходимо остановить как можно скорее.
При этом, указал Виммер, не стоит забывать, кто именно начал гражданскую войну в Сирии.
"Когда разнообразные организации по защите прав человека начинают во всем винить одно конкретное государство, не стоит забывать, что страны, ответственные за разжигание этой войны, это США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Катар. Я не стал включать в этот список Израиль в связи с ситуацией, сложившейся в его непосредственном окружении. Выражая недовольство по поводу того, что в Сирии страдает мирное население, необходимо учитывать, кто заварил всю эту кашу. Интересный факт: вся деятельность Запада в Сирии противоречит нормам международного права. Они действуют вразрез с Уставом ООН. Даже действия немецких военных в Сирии противоречат конституции нашей страны и Уставу ООН", — сообщил он.
"Единственная страна, которая действует в Сирии в соответствии с международным правом, — это Российская Федерация, поскольку свободно избранный президент страны обратился к России за поддержкой в соответствии с международным правом", — подчеркнул Виммер.
За сутки в Сирии был зафиксирован 61 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований — в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Латакия, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
"За сутки зафиксирован 61 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (26), Дамаск (21), Хама (11) и Латакия (три)", — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минобороны России.
Заявившие о прекращении боевых действий вооруженные формирования в провинции Алеппо обстреляли населенный пункт Азизи и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо. В провинции Дамаск под огнем оказались населенные пункты Джаубар и Кафер-Батна, высота с отметкой 612, позиции правительственных войск в районе населенного пункта Дума и фермы в населенном пункте Кусайр, в провинции Латакия – населенные пункты Раша, Айн-эль-Кантара и гору Абу-Али.
Террористы обстреляли в провинции Алеппо населенные пункты Ханану-шималия, Эль-Хадер, Бакиртая, Маарата, Шурфа, а также кварталы "1070", Хай-эль-Ансари, Ашрафия, Сулейман-Халяби, "3000", Рамуси, Шейх-Максуд, станцию сотовой связи "Сириятел", телевышку и базар в квартале Хай-эль-Антари, военную академию Эль-Асад, торговый центр "Кастелло", склад цементного завода, позиции правительственных войск в районе квартала "1070" в городе Алеппо.
В провинции Дамаск под огнем оказались населенные пункты Хараста, Хауш-Насри, позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Бир-эль-Сабиль, Дума, Джаубар, больница Ибн-эль-Валид, аграрный институт населенного пункта Хауш-Харабу, фермы в населенном пункте Бала-эль-Кадима, лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Мазраат-Махмуд. В провинции Хама террористы обстреляли обстреляли населенные пункты Махарада, Маан, Каукаб, ТЭС в населенном пункте Махарда, железнодорожную станцию в населенном пункте Каукаб.
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, заключили в документе.
Цель коалиции в операции по освобождению Мосула — не уничтожение боевиков, а принуждение к их перемещению в Сирию, таким образом США хотят укрепить террористов в Сирии, чтобы не допустить победы президента Башара Асада, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
"Информация из Ирака вызывает массу вопросов к США: под бомбовыми ударами возглавляемой ими коалиции гибнут не террористы, а мирные жители. Очень даже похоже, что цель операции по освобождению Мосула не уничтожение боевиков, а их принуждение к перемещению из Ирака в Сирию", — сказал он журналистам.
По мнению сенатора, США понимают, что судьба запрещенной группировки ИГ будет решаться не в Ираке, а в Сирии, и поражение террористов будет одновременно означать победу Асада.
"Этого американцы не хотят допустить ни при каких обстоятельствах. Вот почему они в буквальном смысле гонят боевиков из Ирака в Сирию в качестве подкрепления тамошним террористам", — считает он.
Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения в течение суток возросло до 847, сообщил во вторник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинциях Латакия (3) и Хомс (2). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 847", — говорится в сообщении.
Кроме этого, продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Число, вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, за сутки не изменилось — 69, добавили в российском центре.
Отмечается, что российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь сирийскому населению. Так, за минувшие сутки в военный госпиталь населенного пункта Зигрин провинции Латакия доставлено 120 килограммов гуманитарных грузов — 120 комплектов постельного белья. Помимо этого, выдано около тонны гуманитарной помощи жителям населенного пункта Шахба провинции Эс-Сувейда.
"Администрацией города Алеппо совместно с российским Центром примирения враждующих сторон 24 октября 2016 года с 21.30 до 22.00 из района Бустан Аль-Каср организован выход 48 мирных жителей", — рассказали в ведомстве.
Евросоюз призвал сирийские власти и их союзников возобновить гуманитарную паузу в Алеппо, чтобы иметь возможность срочно доставить гуманитарную помощь в восточную часть города, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христоса Стилианидиса.
"Мы призываем сирийские власти и их союзников возобновить гуманитарную паузу в Алеппо и предоставить письма о содействии, чтобы допустить (в город) составленной несколькими агентствами (гуманитарной) колонны, как это предполагается октябрьским планом ООН по доставке помощи", — заявили Могерини и Стилианидис.
Они отметили, что "все стороны должны недвусмысленно продемонстрировать готовность дать возможность провести операции по оказанию гуманитарной помощи срочно нуждающимся в ней сирийским гражданским лицам и предоставить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарным организациям в стране".
"Все стороны конфликта должны прекратить обстрелы гражданских районов и медицинских учреждений в городе Алеппо. Преднамеренные нападения на гражданских лиц, включая гуманитарный и медицинский персонал, и на гражданскую и медицинскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права и могут являться военными преступлениями", — говорится в заявлении представителей ЕС.
Гуманитарная пауза в Алеппо действовала в течение трех дней с 20 октября, боевикам и мирным жителям были предоставлены коридоры для выхода из осажденных восточных районов города, однако боевики помешали желающим выйти.
Владимир Добровольский.
Russia, Turkey, Israel and a New Balance of Power
F. William Engdahl
If nature abhors a vacuum, geopolitics does so even more. The vote by a majority of the citizens of Great Britain to exit the dysfunctional construct misnamed the European Union is a symptom of something far deeper and more tectonic. It’s as if a huge dam ruptured and the flood is transforming the world space. The dam is the invincibility of Washington and the United States as world sole superpower, world hegemon, trying desperately to hold the world flow back. The vacuum, created by the precipitous decline of US global power, is being answered across the world, the most surprising perhaps being the apparent concord between Vladimir Putin, Bibi Netanyahu and, of all people, Recep Tayyip Erdogan.
The pace of international developments and the failure of the United States to provide compelling positive and constructive leadership in recent years–markedly so since September, 2001–is rapidly creating what Washington and the oligarchs who control it see as their worst nightmare: the end of the American Century.
Brexit, despite “orders” to the British people in April from the President of the United States to remain, showed it is now possible to buck American dictats. Now Russia, Israel, and of all countries, Turkey, have opened up triangular talks to forge new cooperation on issues as broad and strategic as natural gas pipelines to Europe, ending political and military support by Turkey to DAESH and cooperation and intelligence-sharing among the three in ending the Syrian conflict. Only last November, as a Turkish jet shot down a Russian fighter jet over Syrian airspace and Erdogan refused apology, such talks would have been deemed impossible.
US Secretary of State, John Kerry, and Vice President Joe Biden have been intensely involved in recent months in convincing Israel and Turkey to reopen relations, partly with an eye to get the large volumes of Israeli offshore gas from its Leviathan field to replace at least a major dependency of Turkey on Russia’s Gazprom.
Last June, several days after the British exit vote, Israel and Turkey announced they had reached a reconciliation agreement. It restores full normalization between Israel and Turkey after six years of animosity. Intelligence and security cooperation, joint military exercises, and investments in energy and defense are part of the comprehensive deal.
According to DEBKAfile, an online blog close to Israeli intelligence, the new agreement is part of a larger agenda of similar agreements involving Israel, Turkey, Egypt and Jordan that are aimed at going after the notorious Muslim Brotherhood terrorist cult so beloved by the Obama Administration, by Hillary Clinton and by David Petraeus. The Muslim Brotherhood, focus of my latest book, The Lost Hegemon: Whom the gods would destroy, has been intimately tied to the CIA since the early 1950’s and is the mother organization out of which came the Afghan Mujahideen in the 1980’s, Al Qaeda of bin Laden, Al Nusra Front in Syria and DAESH or ISIS. They are seemingly everywhere these days.
Central to the Israel-Turkey deal is a provision that Turkey will buy significant volumes of Israeli offshore gas from her Leviathan field.
The Brown Bear in the Soup
John Kerry has been frantically involved brokering the Israel-Turkey restoration of ties. On June 26 he called Netanyahu to Rome to finalize the deal with Turkey just announced. Washington’s motives are anything but peaceful. She wants Israeli gas to replace Russian gas—today 60% of all Turkish gas consumption–for Turkey, and for Israel to line up in Syria along with Turkey against Bashar al Assad in order for Washington to open the way for US control of Middle East gas and oil pipelines through Syria, a huge geopolitical prize that has eluded Washington now for five years of its failed war.
Imagine the horror then on John Kerry’s ashen stone face when he learned of another development involving Turkey and Israel. Erdogan, reportedly on Israeli urging, extended a public apology to Russia for the November, 2015 shoot-down of the Russian jet, and agreed to pay compensation to the Russian state and the family of the murdered pilot. Erdogan did the unexpected. He publicly apologized and met all Russian preconditions for restoring diplomatic relations. There is an old New York expression, “The fly in the soup,” indicating some detail that ruins the broth. For Kerry, Washington and the oligarchs who run them, Putin has just become the huge Russian Brown Bear in the US Middle East soup.
Turkey Apologizes, Russia Opens talks
The same day as the Israel-Turkey reconciliation agreement, Russian Presidential spokesman, Dmitry Peskov, announced that Turkish President Recep Tayyip Erdogan had sent a message to Russian President Vladimir Putin saying “I am sorry” for the downing of a Russian jet. Erdogan expressed his “sympathy and deep condolences” to the family of the killed pilot and “asked to be forgiven.” Turkey also agreed to pay compensation. That was pretty “humble pie” for the Turkish President.
Reports are that Israel was behind brokering the reconciliation, something definitely not on the Washington agenda. It was apparently the focus of a series of increasingly friendly meetings in the past months between the Israeli Prime Minister in Russia and Putin. The emerging deal now includes Russia, Turkey and Israel in a complex new political alignment that will radiate far beyond Syria or gas fields of the region.
As I wrote at the time of the April meeting in Russia between Netanyahu and Putin, “Netanyahu and Putin discussed the potential role of Russia’s state-owned Gazprom, the world’s largest natural gas producer and marketer, as a possible stakeholder in Israel’s Leviathan natural gas field. Russian involvement in the stalled Israeli gas development would reduce financial risk for Israeli offshore gas operations and increase the gas fields’ security, as Russian allies like Hezbollah in Lebanon or Iran wouldn’t dare target Russian joint ventures.
“If the Russian reports are accurate, it could portend a major new step in Putin energy geopolitics in the Middle East, one which could give Washington a major defeat in her increasingly inept moves to control the world’s center of oil and gas.”
This seems to be what’s unfolding now. If true, it is one of the shrewdest geopolitical chess moves by Russia we have seen. Far from an anti-Russian move by Erdogan to buy Israeli gas and push Gazprom out, Russia, Israel and Turkey are now in talks to combine forces to focus on the huge EU gas market. By feeding both Israeli gas and Russian gas through Turkey, Erdogan gets his Turkish gas hub dream, independent of his felt need to steal it from Syria or Iraq. DEBKAfile carried an earlier report, since removed, that part of the deal between Putin and Erdogan would also include cessation of Turkish covert aid to DAESH in Syria.
Russian Gazprom participation in Israel’s Leviathan gas development, now with a pipeline to Turkey and ultimately bringing Israeli gas in a joint venture with Gazprom to the EU markets, combined with revival of the Turkey-Gazprom Turkish Stream project bringing Russian gas under the Black Sea through Turkey to the Greek border–Russia would find its influence in the Middle East, the world’s most unstable region simply because it is the region with the greatest known abundance of oil and gas, far stronger. This, while US influence crumbles by the hour.
It’s perhaps no coincidence that less than 48 hours after both the Russian-Turkish reconciliation and the Israel-Turkey-Russia developments became clear to the world, a major suicide bomber attack, killing more than 40 and injuring hundreds in the Istanbul International Airport took place. On the same day, a revival of dormant DAESH attacks in Russia’s Dagestan resumed, prompting a declaration of Russian Special Forces’ counter-terrorist operation regime in three mountain regions of Dagestan bordering Chechnya. Would that be John Kerry’s false flag way of thanking Erdogan and Putin both? If so it’s pretty pathetic.
Под Мосулом запахло боевым газом
США и их союзники в Ираке готовятся к химической атаке ИГ
Михаил Ходаренок
Командование сил коалиции, сосредоточенных вокруг Мосула, всерьез опасается, что ИГ применит химическое оружие для защиты своего главного оплота в Ираке. Такое оружие у исламистов точно есть, признают американские генералы. Готовясь к худшему сценарию, командование снабжает солдат США и их союзников противогазами и антидотами.
Факт существования химического оружия у «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) уже никем не ставится под сомнение. Хотя реальная угроза его применения со стороны вооруженных формирований исламистов во время боев за Мосул расценивается как незначительная, оно внушает страх противникам ИГ, пишет американское издание Defense News со ссылкой на многих высокопоставленных военных.
Угроза химической атаки отражается на планировании применения войск и провоцирует на протяжении последних двух лет многочисленные авиаудары западной коалиции против ИГ по складам с боевыми отравляющими веществами и средствам его доставки.
«В настоящее время фактор применения химического оружия в данном конкретном пункте не имеет тактического или оперативного значения», — уверен генерал Джозеф Вотель, командующий Центральным командованием армии США и отвечающий за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.
По его словам, возможное применение химоружия расценивается как угроза низкого уровня.
«И тем не менее химическое оружие там есть, и мы должны учитывать этот фактор», — сказал генерал Вотель на встрече с военными экспертами в неправительственной организации «Центр за американский прогресс».
ИГ организовало в подконтрольных ему районах производство кустарных химических боеприпасов, начиненных ипритом и хлором (последний используется в качестве удушающего боевого газа), пишет Defense News. Наиболее опасен из этих двух веществ иприт. Это боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия. При поражении воздушно-капельным ипритом страдают преимущественно органы дыхания, при поражении жидко-капельным ипритом — кожа. Даже незначительные дозы этого токсичного вещества, как правило, приводят к смерти.
Ранее уже были зафиксированы несколько подтвержденных химических атак со стороны ИГ против сил Иракского Курдистана.
Однако применение боевых отравляющих веществ еще ни разу не было по-настоящему эффективным и результативным. Американские военные чиновники уверяют, что пока ни одна из атак ИГ с применением химоружия так и не вызвала ни одного смертельного отравления.
20 сентября американские войска сообщили о возможном применении иприта против иракской авиабазы Кайяра. Это подконтрольный вооруженным силам Ирака аэродром, где находятся несколько сотен американских солдат, оказывающих помощь иракским армейским подразделениям в тыловом обеспечении операции по штурму Мосула. Однако проверка в лаборатории якобы химических боеприпасов показала, что в их фрагментах не содержится боевых отравляющих веществ.
За несколько недель до штурма Мосула американские официальные лица сообщали о нескольких ударах по объектам, где могло быть размещено химическое оружие ИГ. 14 сентября был нанесен авиаудар по складу химического оружия ИГ близ Аль-Хувейджи, 23 сентября подвергся бомбардировке и был уничтожен завод по производству химического оружия ИГ в окрестностях Кайяры, 13 октября под Мосулом был нанесен авиаудар по средствам доставки химического оружия.
Американские военные чиновники неоднократно предупреждали о риске применения боевых отравляющих веществ со стороны ИГ в этом регионе. В Ираке и Сирии ранее существовали программы по производству химического оружия. На территории, подконтрольной ИГ, остались предприятия, способные производить компоненты для создания химического оружия в промышленных масштабах.
Риск применения химоружия в Ираке существует, считает и заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
«Террористы ИГ никакими конвенциями в плане применения химоружия не связаны, и, если оно у них есть, они его обязательно применят, — говорит Храмчихин. — Никаких ограничений и тормозов у террористов не существует».
Части и подразделения армии США, развернутые в Ираке, специально подготовлены для противодействия химическим атакам террористов. Американские солдаты и офицеры снабжены современными противогазами, защитными костюмами и медицинскими препаратами-антидотами (при необходимости), пишет Defense News.
По заверению официальных лиц США, чтобы защитить от химических атак иракские подразделения, американские военные поставили вооруженным силам Ирака более 40 тыс. противогазов.
Произведенный в ИГ иприт, как правило, находится в форме полуфабриката, представляет собой порошок, смешанный с маслом в кустарной посуде. Исламисты пытаются начинять отравляющими веществами обычные снаряды и мины. Пока нет доказательств производства иприта в ИГ в качестве боевого газа, что было бы намного более смертоносной формой этого отравляющего вещества.
Нет убедительных доказательств и того, что ИГ импортирует иприт из других стран, заявляют американские официальные лица.
Применение химического оружия более высокого качества могло бы вызвать катастрофические жертвы в регионе. Однако даже сам факт наличия боевых отравляющих веществ у формирований ИГ, пусть даже и в кустарном виде, вызывает большую тревогу у западной коалиции.
«Само по себе наличие химического оружия у противника уже вызывает определенное психологическое воздействие на войска. И мы вынуждены считаться с возможностью применения боевых отравляющих веществ против соединений коалиции и американских войск в зоне конфликта», — утверждает генерал Вотель.
По его словам, химоружие — это вещи, о которых мы обязательно должны знать. «ИГ — враг, приспосабливающийся на этой войне к самым различным обстоятельствам и пользующийся всеми доступными ему видами оружия. Мы не уважаем его идеологию, но относимся с уважением как к противнику», — добавил американский военачальник.

«Добро пожаловать русскому газу». Антонио Фаллико — о бизнес-контактах России и Италии
Председатель совета директоров Банка Интеза на Евразийском форуме в Вероне рассказал в интервью Business FM о настоящем и будущем российско-европейских отношений в условиях экономических санкций
Контакты российского и европейского бизнеса, несмотря на санкции, активно продолжаются, а сами меры давления в основном зависят не от европейских властей, а от предвыборной риторики в США. Такое мнение высказал один из организаторов Евразийского форума в итальянской Вероне, председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
В дни, когда проходил форум и обсуждалось настоящее, прошлое и будущее в отношениях между Россией и Европой, мы наблюдаем очередное обострение, разговор о новых санкциях, который пока остался разговором. Вы постоянно находитесь на острие этих отношений, расскажите, что вы думаете о ближайшем будущем. Ждет ли нас все-таки новое ухудшение отношений с Европой прямо сейчас в связи с Сирией, и можете ли вы предположить какие-то новые санкции, какими они могут быть, если будут?
Антонио Фаллико: Я бы отличал период, когда происходят предвыборные кампании, от периода нормального, когда нет особых эмоций. Мы можем спокойно начать разговаривать после завершения предвыборной кампании в США. Мы находимся сейчас на двух совершенно разных уровнях отношений. Из-за событий в Сирии мы видим, что политические и геополитические отношения осложнились, и американцам удалось привлечь на свои позиции практически все европейские страны. Но вчера, как вы видели, на сессии Европейского совета в Брюсселе не прошло предложение Германии, Франции и Англии о введении новых санкций против России из-за Сирии. Одной из стран, которые выступили против этого, были как раз Италия, Испания, Греция и другие. Что касается политики, я могу сказать, положение достаточно холодное, если не сказать замерзшее. В том, что касается бизнеса, экономических отношений, события развиваются активно, сотрудничество продолжается. Итальянские и европейские компании приходят в Россию, российские компании приходят в Европу. Наш форум как раз подтверждает, что диалог продолжается в бизнесе, в том числе на самом высоком уровне, поэтому я бы предложил вернуться к вопросам политических отношений после 8 ноября, когда в Америке состоятся президентские выборы. В остальном мы продолжаем работать, финансировать там, где мы можем финансировать, поэтому я не думаю, что с июня нынешнего года что-нибудь в этом плане изменилось.
Что касается европейских и американских банков и финансовых институтов, хорошо известно, что под санкциями находится часть российских компаний, но страх распространился, по крайней мере, на какое-то время на российский рынок в целом. Сохраняется ли эта ситуация сейчас, или европейские банки стали смелее?
Антонио Фаллико: Вы правы, конечно. Санкции коснулись не только именно тех секторов, против которых они были направлены. Санкции подорвали доверие между разными сторонами, и это является очень негативным фактором. Но у меня складывается впечатление, что за последние восемь месяцев положение меняется, в том числе для тех финансовых учреждений, про которые вы упоминали. Поэтому я полагаю, что одержит верх разум, в том числе для политиков, и это позволит работать более направленно, в том числе финансовому сектору.
У банков в Европе, как нам кажется из России, сейчас довольно сложная ситуация, и они вынуждены, как говорят, парковать деньги в Европейском центральном банке (ЕЦБ) под отрицательную ставку, то есть не то что не зарабатывать, а нести убытки. Они говорят, что не находят других вариантов размещения денег, а мы в России в последние восемь месяцев как раз наблюдаем приток, как говорят, горячего капитала на российский рынок. Это в основном, конечно, управляющие компании, частично связанные в том числе с банками. Насколько этот фактор отрицательной доходности в Европе толкает европейские деньги в России, насколько это серьезный и долговременный фактор?
Антонио Фаллико: ЕЦБ продолжит действовать в рамках количественного смягчения наверняка как минимум до марта следующего года. Но если этими методами не удастся оживить экономику в Италии, Германии, Франции, в других странах, наверняка возникнет вопрос, что делать с этой ликвидностью, как вы правильно говорили. Я знаю, что многие европейские, итальянские банки и банки других стран ставят перед собой вопрос, что им делать с ликвидностью. Им нужны новые рынки. Я не сомневаюсь, я полон оптимизма в этом отношении, что как только появится возможность, значительная часть этих средств будет искать выход в финансировании крупных проектов, которые существуют в России и не только, в том, что я хотел бы назвать Евразией, евразийским пространством.
Для Италии, как я заметил, болезненная тема, связанная с «Северным потоком — 2». Как говорят здесь, Германия — один из лидеров в политике санкций против России. Тем не менее самый крупный новый проект планирует осуществлять Германия. Все планы «Южного потока» пока были заблокированы именно Еврокомиссией. Я сам не раз пытался понять, чем «Северный поток» отличается от «Южного» как с точки зрения функциональной, так и с точки зрения юридической, и все мои попытки не удались. Может быть, вы понимаете?
Антонио Фаллико: Как и вы, я этого не понимаю. Я понимаю разницу в весе между странами, поскольку речь идет о германском проекте, поэтому, скажем так, Германии все можно. Ставки очень высоки, вопрос в том, кто станет европейским газовым хабом. Судя по всему, победу одержала Германия. Я должен сказать, что Италии тоже было предложено существенным образом участвовать в этом проекте, но Италия, видимо, перепуганная судьбой «Южного потока», даже не ответила на это предложение. Поэтому, когда на питерском форуме в прошлом году были подписаны документы о планах строительства «Северного потока — 2», многие очень удивились, но я нет, потому что мы оказались несоответствующими.
Сейчас отношения с Турцией выглядят так, что они вновь налажены, «Турецкий поток» вновь запущен, но пока только с прицелом на турецкий рынок. На ваш взгляд, планы «Южного потока» для Южной Европы, пусть через Турцию, уже закрыты, или они могут все-таки вернуться на повестку дня?
Антонио Фаллико: Здесь надо принимать во внимание всю европейскую бюрократию. Но если мы абстрагируемся от этого, то получается, что Южная Европа, в частности, Италия, ее южная часть, нуждается в закупках газа. С точки зрения энергетической безопасности я скажу «добро пожаловать» русскому газу. Сейчас переговоры прошли относительно части, которая касается турецкого участка газопровода. В том, что касается возможного прихода в Италию, то разговоры еще не начинались, насколько я знаю.
Начинались, они чуть было не дошли до трубы вплоть до границы Италии, были подписаны соглашения, но потом были закончены. На ваш взгляд, это действительно законченная тема? «Северный поток — 2» ведь может перекрыть общие потребности Европы, просто газ пойдет через Германию.
Антонио Фаллико: Я не думаю. Видите ли, «Северный поток» интересен для северной Италии, но не для южной. Один пример: представим себе Алжир. Что-нибудь произойдет в Алжире, скончается нынешний президент, начнутся какие-то события, которые не позволят больше качать алжирский газ в Италию. Что нам делать? Вы уже знаете, что из-за политических событий в Ливии южная Италия не может получать в полной мере ливийский газ. Поэтому российский газ может быть фактором энергетической безопасности для южной Италии.
Я вернусь обратно к форуму. В той ситуации, в которой мы живем в последние годы, если раньше он был площадкой для всех, то сейчас, мне кажется, участие в этом форуме со стороны экспертов, европейских и итальянских политиков и бизнесменов тоже уже говорит об их отношении к диалогу с Россией. В этой связи, насколько много тех, кто приезжает сюда и высказывает альтернативную для Западной Европы точку зрения на отношения с Европой, и насколько противоположная точка зрения является господствующей? Каковы пропорции этих двух мнений в Европе?
Антонио Фаллико: Мы частная организация, у нас нет глобальных амбиций. Мы хотим оживить диалог между Италией и Россией, между Италией, Евросоюзом и Евразийским союзом с точки зрения бизнеса, с точки зрения конкретных проектов. Я могу сказать, подводя промежуточные итоги, потому что форум еще не закончился, что со стороны бизнеса, и не только итальянского и российского, интерес значительно вырос, в том числе в отсутствие политического представительства на нашем форуме. Я не хочу показаться нескромным, но на нашем форуме присутствуют предприятия и компании, которые олицетворяют собой примерно 90% торговли и сотрудничества между Россией и Италией. Я должен сказать, что не столько санкции сами по себе, сколько атмосфера, которую они создают, замораживают выполнение контрактов или протоколов о намерении примерно на 36 млрд долларов. Поэтому даже если мы смогли бы просто разморозить существующие контракты, про которые я говорю, значит, мы бы уже смогли внести свой небольшой вклад в улучшение торгово-экономических отношений.
Я бы в конце вернулся к нашей самой первой теме. Вы сказали, дождемся результатов выборов 8 ноября. Вы, конечно, не занимаетесь политикой, но все-таки каков ваш личный прогноз, после этого все станет лучше или хуже?
Антонио Фаллико: Я вам скажу честно, что я думаю: кто бы ни стал президентом США, он вынужден будет быть реалистом.
Илья Копелевич
Нефтяники всех стран – объединяйтесь!
Предстоящая 24 октября встреча в Вене главы Минэнерго РФ Александра Новака и генсека Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо должна будет еще раз подтвердить намерения всех стран-экспортеров «черного золота» достичь договоренности о стабилизации нефтяного рынка.
Напомним, 28 сентября в Алжире на неформальной встрече стран ОПЕК были согласованы ограничения добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации договоренности пока нет. Ожидается, что окончательное решение должно быть принято на официальной встрече организации экспортеров, которая пройдет 30 ноября в Вене.
ОПЕК рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран, прежде всего, – России. И рассчитывает явно не напрасно, поскольку президент Российской Федерации Владимир Путин 12 октября в Стамбуле в ходе Всемирного энергетического саммита поддержал заморозку добычи: «Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК по фиксации лимитов на добычу и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится в конкретные договоренности, дав позитивный сигнал рынкам и инвесторам». Очевидно, что данные слова главы РФ очень четко определили вектор работы российских нефтяных компаний и не оставили вопросов для дискуссии.
Вместе с тем, судя по последним заявлениям мировых финансовых институтов, странам производящим нефть надо готовиться к серьезной схватке с противниками стабилизации рынка «черного золота». Недавнее сообщение МВФ о том, что стоимость нефти до 2021 года не поднимется выше $60 баррель, свидетельствует о наличии у ОПЕК и России серьезных противников. И хотя прогноз валютного фонда может быть скорректирован, однако ни у кого не вызывает сомнений, что противники повышения цен на нефть очень четко заявили о своих планах на ближайшую пятилетку.
Но, как известно, ничто так не объединяет, как наличие общих врагов. Поэтому в последнее время отраслевые эксперты призывают всех производителей углеводородного сырья, вне зависимости от способа добычи, жить не сиюминутными финансово-политическими интересами, а горизонтом событий как минимум в 5-7 лет. По их мнению, нельзя ради укрепления валюты одной страны, в данном случае США, жертвовать всей мировой добычей. Только благодаря повышению стоимости нефти до уровня, когда добыча будет выгодна на всех типах месторождений, удастся предотвратить нехватку «черного золота» и, как следствие, стагнацию мировой экономики. По их мнению, сейчас все производители реальной, а не виртуально «фьючерсной» нефти оказались в одной лодке – всем нужны более высокие цены. С этой точки зрения любые договоры стран-производителей нефти должны стабилизировать рынок.
На днях глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Евразийском форуме в Вене, рассказал о своих прогнозах развития мирового рынка углеводородов. По его мнению, в мы в обозримом будущем должны увидеть завершение периода избытка предложения на рынке: «В ближайшие полтора года мы должны увидеть завершение периода избытка предложения на рынке и начало процесса нормализации ситуации с коммерческими запасами нефти и нефтепродуктов. В этот период общий уровень добычи нефти в США, по-видимому, останется ниже максимумов 2015 года. Цена на нефть превысит $55 за баррель. Сохранится низкий уровень инвестиционной активности в крупных и сложных проектах, прежде всего развиваемых «мейджорами», так как экономика этих проектов требует более стабильных и более высоких цен», – цитировал Сечина ТАСС.
По его прогнозам, в среднесрочной перспективе появится определенная нехватка нового предложения нефти, но речь вряд ли пойдет о физическом дефиците. Сечин также не исключил, что через 3-5 лет мировому рынку может потребоваться договоренность не о заморозке добычи, а об экстренном ее наращивании. При этом объемы потребления нефти до 2040 года могут увеличиться на 15 млн баррелей в сутки, а потребность в дополнительных мощностях добычи – составить не менее 40 млн баррелей в сутки: «Практически все прогнозы, включая расчеты, выполненные «Роснефтью», показывают на горизонте 2040 года дополнительный прирост объемов потребления нефти в суточном измерении не менее, чем на 15 млн баррелей. Вычтем из этого ожидаемые экспертами дополнительные к текущим объемам добычи сланцевой нефти, оптимистично оцениваемые в 6-8 млн баррелей в сутки, и прибавим объемы естественного 5-7% снижения добычи на месторождениях, вышедших на зрелую стадию – это свыше 30 млн баррелей в сутки. В итоге мы можем получить потребность в дополнительных мощностях добычи не менее 40 млн баррелей в сутки», – заявил глава «Роснефти».
Он отметил, что нынешняя ситуация на рынке нефти вынудила Саудовскую Аравию поменять свою стратегию. По словам Игоря Сечина, Саудовская Аравия перешла от борьбы за расширение доли на нефтяном рынке к поиску союзников в стабилизации цен на нефть из-за дефицита бюджета страны. Глава «Роснефти» заметил, что в 2015 году дефицит государственного бюджета Саудовской Аравии оставил 15% от ВВП, а в 2016 году дефицит бюджета составит 10-12% от ВВП. «Такой уровень не является устойчивым даже на пятилетнем горизонте. Саудовской Аравии требуется либо резко сократить уровень расходов, в первую очередь за счет снижения занятости, либо повысить уровень нефтяных доходов. Это и послужило стимулом к изменению в самое последнее время позиции этой страны – переходу от борьбы за расширение рыночной доли к поискам союзников в стабилизации цен на рынке», – сказал Сечин.
Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в этой связи заметил, что по совокупности добыча нефти в странах ОПЕК постоянно снижается, так как большинство участников этой организации уже исчерпало запасы месторождений нефти с низкой себестоимостью и находится у нисходящего плеча «Колокола Хабберта» (кривая Хабберта – математическая модель добычи нефти с резким ростом до пика и симметричным спадом). «И только небольшая часть стран-экспортеров, которые сосредоточены возле богатого нефтью с низкой себестоимостью Персидского залива, продолжают удерживать высокие показатели добычи, которые были характерны для стран ОПЕК в 70-80 годы прошлого века. В золотое время этой организации», – отметил эксперт в интервью «Нефти и Капиталу».
По его словам, себестоимость добычи нефти растет практически везде: «Сначала мы едим вкусную вишенку с торта, потом крем, а потом уже жуем невкусный бисквит. Так действуют все газо- и нефтедобытчики», – отметил Анпилогов.
Сейчас Россия благодаря большому количеству запасов труднодоступной нефти оказалась на одной доске с ОПЕК. «В настоящее время Россия обладает мощным рычагом давления на нефтяной рынок. Ее добыча уже в течение 10 лет стабильно находится в пределах 10 млн баррелей в сутки. Наша страна создала новые транспортные возможности: построены танкеры ледового класса, открыты новые нефтеносные провинции. Все это позволяет Российской Федерации диверсифицировать поставки углеводородов – не опираться традиционно исключительно на европейский рынок, а участвовать в биржевой торговле, поставляя нефть по нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» в Юго-Восточную Азию. И вот тут возникает вопрос: зачем гнаться за увеличением объемов продаж, если они сильно уменьшают цену нефти, но из-за увеличения себестоимости добычи, дополнительные объемы уже не могут окупить поставки?» – замечает Алексей Анпилогов.
По его мнению, за последние 15 лет спрос на нефть растет неснижающимся темпом – 1 млн баррелей в день: «То есть каждый новый год мир потребляет на 365 млн баррелей нефти больше, чем в предыдущем. Все эти дополнительные объемы должны каждый год появляться на рынке. И с достаточно управляемой себестоимостью, не допуская как кризиса спроса, так и кризиса предложений. Ведь нефть, в отличие, скажем, от какао-бобов, не дает каждый год стабильных урожаев, а нуждается в постоянной разведке месторождений, их обустройстве и промышленной эксплуатации. В силу этого, с моей точки зрения, прогноз МВФ о том, что цена нефти до 2021 года будет не выше $60, может осуществиться только в случае жесточайшего кризиса мировой экономики, который как раз и способен остановить этот рост потребления нефти. В противном случае мы вступаем в ту самую ситуацию длительного роста цены нефти, которая была в 90-е годы, после того как в середине 80-х было обрушение цены на нефть. Тогда были практически полностью остановлены программы геологоразведки. И потом на протяжении десятилетия отрасль медленно карабкались вверх, цены за это время выросли в 2,5 раза», – пояснил эксперт.
Президент фонда «Основание» предполагает, что несмотря на заявления МВФ цена на нефть все же будет расти. Россия и ОПЕК как раз и работают над тем, чтобы сбалансировать этот рост, который позволит сделать его устойчивым как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения производителя: «Российская Федерация выделила для себя комфортные условия удержания нынешнего уровня добычи без его резкого роста. И, фактически, это наиболее благоприятный сценарий. России не выгодно сейчас наносить удар по ОПЕК, поскольку мы плывем с этой организацией в одной лодке. Объективно российская нефть отнюдь не самая дешевая, соответственно, любое картельное соглашение с ОПЕК, США, Канадой, да и любым другим игроком – действует на благо нефтяной отрасли России и социального благополучия всей страны», – уверен Алексей Анпилогов.
При этом он отметил, что в нынешних условиях рост мировой экономики обеспечивается за счет нефти, причем дорогой – сланцевой, нефти Крайнего Севера или тяжелой нефти. Поэтому сбалансированная цена «черного золота» должна быть выше, чем себестоимость добычи из всех источников.
Член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Рустам Танкаев считает, что уже в течение как минимум трех лет ОПЕК является дискуссионным клубом: «В первые месяцы на заявления ОПЕК еще была какая-то реакция. Сейчас, судя по результатам выступлений членов ОПЕК за последние 8-9 месяцев, мировой рынок перестал реагировать на заявления членов этой организации. Поэтому ОПЕК уже не регулятор и интерес, с этой точки зрения, не представляет», – заявил эксперт в интервью «Нефти и Капиталу».
Россия очень сильно влияет на мировой нефтяной рынок, поскольку является абсолютным лидером по добыче и экспорту нефти и нефтепродуктов. «Объемы экспорта нефти из России и Саудовской Аравии примерно равны, хотя сейчас Россия немного обгоняет саудитов. Это происходит по двум причинам, и обе причины сейчас весьма печальны. Первая – это выросшее потребление нефти на внутреннем рынке Саудовской Аравии из-за участия страны в военных действиях сразу на трех фронтах: Йемен, Сирия, Ирак. Фактически за этими военными действиями стоит противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Вторая печальная причина заключается в том, что в России в результате кризиса резко упало потребление нефтепродуктов. За 2015 год оно сократилось на 5,1%, и в настоящее время нефтепотребление в Российской Федерации в три раза ниже, чем таких странах как Канада и Норвегия, где природные условия похожи на российские. В этом году потребление жидкого углеводородного сырья продолжат падать. Это главный фактор, благодаря которому растет экспорт из России. Саудовская Аравия жжет свое топливо в танках, а мы его продаем его всем кому не лень, потому что у нас самих на него нет денег», – уточнил эксперт.
Рустам Танкаев заметил, что замораживание добычи для отечественных нефтяных компаний чрезвычайно неприятно, но в нашей стране «музыку заказывает» президент и правительство. «Наши нефтяные компании получают постоянный доход от экспорта, так как после уплаты всех налогов прибыль их составляет примерно $100 с тонны. Поэтому компании не зависят от того, какие цены на мировом рынке. Они очень хорошо защищены от колебаний стоимости барреля, так как у нас плавающая таможенная пошлина и НДПИ. Но правительство наше от этих колебаний совсем не защищено. И ему нужны более высокие цены на нефть, поэтому правительство в лице министра энергетики и ведет бесконечные переговоры с ОПЕК о фиксации уровня добычи», – пояснил эксперт.
Рустам Танкаев напомнил, что на Россию приходится 20% всей международной торговли нефтью и нефтепродуктами: «Мы вместе с Саудовской Аравией обеспечиваем 40% мировой торговли, без нас соглашение подписывать не имеет смысла. Тем не менее, есть конфликт интересов между государством и нефтяниками, но государство главнее. Оно владеет нефтяниками. И оно приказало фиксировать добычу. При этом фиксация для других стран вообще не имеет никакого значения. Так как из нефтедобычи ушли огромные деньги, сокращены проекты по увеличению добычу. И у них добыча, в принципе вырасти не может», – заметил он.
Эксперт добавил, что у России с ОПЕК совершенно разная структура экспорта и другая маркетинговая политика. «Мы создаем СП с главными потребителями нефти, это позволяет нам четко фиксировать свою долю рынка. Доминирует в подобных структурах конечно «Роснефть», так как она является главной нефтяной компанией РФ. Сейчас во время кризиса у нее лучшие в мире финансовые показатели», – сказал Танкаев. По его словам, ОПЕК стремится захватить большую часть рынка с помощью демпинга. «Взаимодействие с ОПЕК необходимо. Однако это не значит, что нам надо играть по тем же правилам и вводить квоты», – добавил он.
По его прогнозу, соглашение с организацией экспортеров «черного золота», скорее всего, будет подписано. Однако нефтяные компании его постараются обойти или выполнять будут безрадостно: «Для России главное восстановить потребление на внутреннем рынке, иначе экспорт все равно будет расти. Что же касается интересов населения и промышленности, то наше правительство никогда не уделяло этим аспектам особого внимания. Если бы у нас потребление вышло на уровень нормальной развитой страны – такой как, например, Канада, то мы могли бы увеличить добычу до 700 млн тонн в год, технически это возможно. Экспорт бы не пострадал: потребление сейчас 100 млн тонн в год, нужно 300 млн тонн – экспорт 400 млн тонн, в сумме эти показателей – 700 млн тонн в год. При нынешнем уровне выработанности месторождений отбор начальных извлекаемых запасов соответствует 2%. 700 млн тонн в год – это как раз и есть 2%, сейчас он 1,3%. Поэтому технически повысить добычу возможно, но организовать увеличение внутреннего потребления некому», – резюмировал эксперт.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что сейчас все большее влияния на нефтяные цены оказывают именно финансовые институты, поскольку нефтяные цены формируются на биржах, а там чаще торгуют так называемой бумажной нефтью: «Если посмотреть на заявления банков США и МВФ все они говорят примерно на одни и те же темы, о некоем кризисе перепроизводстве. То есть они открыто играют на понижение нефтяных цен. Их позиция достаточно консолидированная, но она никак не отражает реального положения дел в мировой нефтяной отрасли», – заявил эксперт в интервью «Нефти и Капиталу».
При этом он отметил, что консультативные переговоры России с ОПЕК о заморозке добычи пока не имеют никого влияния, поскольку на данном этапе и Россия и картель ограничиваются заявлениями о намерениях. Никаких серьезных шагов никто не предпринимает.
В преддверие встречи с ОПЕК глава Минэнерго РФ еще раз подчеркнул, что Россия в 2017 г. может увеличить добычу нефти до нового рекордного уровня – 548 млн тонн. При этом на данный момент Россия по-прежнему настроена на заморозку добычи нефти, а не на ее сокращение, как предлагает ОПЕК. «Это наша основная позиция, она не изменилась», – отметил министр.
Тем не менее, можно предположить, что чем бы ни закончился диалог России с Организацией стран экспортеров нефти, и к какому бы решению ни пришли страны входящие в картель 30 ноября, нарастающий кризис в сфере добычи углеводородов постепенно будет сближать позиции всех производителей «черного золота». Поскольку возможная нехватка сырья будет гораздо опаснее переизбытка.
Вместе с тем, по мнению вице-президента «ВР Россия» Владимира Дребенцова, превышение спроса над предложениями может возникнуть уже через 4 года: «Дефицит на рынке нефти возникнет года через четыре. Мы знаем, сколько инвестиций было не осуществлено в 2014-2016 годах, потому что планы инвестиционные компании сократили. Это были проекты, которые отложили. Учитывая, что это проекты минимум на пять лет, то инвестиции, которые не осуществились в 2015 году, скажутся в 2020-м», – говорил Дребенцов на Евразийском форуме.
Екатерина Дейнего
Х5 Retail Group планирует полностью перейти на прямой импорт к концу 2019 года
По сообщению «Известий», компания Х5 Retail Group, объединяющая сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», намерена довести долю прямого импорта фруктов и овощей до 100% в ближайшие три года.
Сейчас ритейлер напрямую покупает за границей около 20% фруктов и овощей.
К концу 2019 года X5 Retail Group хочет перейти на 100-процентный прямой импорт фруктов и овощей, при котором она будет заключать все договоры с иностранными поставщиками напрямую и ввозить в Россию продукцию самостоятельно. Об этом «Известиям» сообщил представитель компании.
«При прямом импорте сеть самостоятельно заключает договоры с иностранным производителем, а значит, знает точную цену продукции, может управлять сроками отгрузки и поставки, что невозможно при работе с дистрибьюторами», — говорят в Х5.
В 2015 году ритейлер самостоятельно поставлял из-за рубежа до 20% импортной продукции — в основном фрукты и овощи. Сейчас у компании более 100 контрактов с иностранными производителями.
После заключения договора с производителем ритейлер самостоятельно доставляет продукцию в Россию, где пользуется услугами таможенных брокеров и логистических партнеров, которые предоставляют услуги экспедирования товаров с использованием их складов, объяснили в торговой сети. Подобная схема прямого импорта позволяет сети покупать продукцию почти на 5% дешевле, чем если бы сеть заключала договоры с оптовым партнером на территории России.
Еще около 5% экономии даст ритейлеру собственная логистика на территории России. Для этого Х5 до конца 2016 года откроет два склада на арендованных площадях, на которые будет поставляться исключительно продукция компании из-за рубежа. Такая схема также сокращает длительность путешествия овощей и фруктов из-за границы на три дня. В этом году у компании начнут функционировать склады в Санкт-Петербурге и Новороссийске по 6 тыс. кв. м каждый, в 2017 году подключится еще один — в Центральном федеральном округе. В первую очередь на созданных складах будут обрабатываться апельсины, мандарины, лимоны, персики и нектарины.
Торговая сеть сотрудничает с поставщиками из ЕАЭС и СНГ, а также из Грузии, Сирии, Ирана, Марокко, Сербии, Македонии, Молдавии, Египта, Израиля, Китая, Индии, ЮАР, Новой Зеландии, Мексики, Эквадора, Колумбии, Аргентины и Чили.
По прогнозам компании к концу текущего года средняя доля иностранных фруктов и овощей, поставляемых напрямую, составит около 50% от общего объема импорта в этой категории. Доля свежей плодоовощной продукции в товарообороте сетей «Перекресток» и «Пятерочка» в III квартале 2016 года составляет около 7–8%. Объем импорта в каждой категории разный, его среднее значение в Х5 уточнить не смогли.
Госсекретарь США Джон Керри в понедельник в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым высказался за продолжение переговоров по сирийскому урегулированию в многостороннем формате в Женеве, сообщил представитель госдепартамента Джон Кирби.
"Они обсудили ситуацию в Алеппо, и госсекретарь выразил свою обеспокоенность возобновлением авиаударов и наземных атак режима (правительства Сирии) и России. Они говорили о важности продолжения многосторонних дискуссий в Женеве и о том, как можно искать пути по достижению перемирия и доставки гуманитарной помощи нуждающимся людям в Алеппо", — заявил Кирби на брифинге.
Он добавил, что никаких подробностей переговоров в Женеве на данный момент нет. "Они продолжаются", — сказал Кирби.
ООН сожалеет, что во время гуманитарной паузы в сирийском Алеппо не были получены гарантии для проведения гуманитарной операции в городе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы сожалеем, что адекватные гарантии еще не были предоставлены для оказания гуманитарной и медицинской помощи в осажденных районах восточного Алеппо и призываем все стороны способствовать немедленной медицинской эвакуации больных и раненых и членов их семей", — сказал Дюжаррик журналистам.
Правительственные войска в воскресенье начали наступать на юге Алеппо после окончания трехдневной гуманитарной паузы, когда боевики и жители могли покинуть осажденную восточную часть города. Террористы уходить отказались и под угрозой смерти запретили выходить мирным гражданам.
Ольга Денисова.
Россия передаёт Турции разведданные для операции в Сирии
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе недавнего визита в Турцию руководства России
Россия уже начала передачу Турции разведывательной информации, необходимой для проведения операции «Щит Евфрата». Об этом в понедельник, 24 октября, со ссылкой на информированный военно-дипломатический источниксообщает газета «Известия».
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе недавнего визита в Турцию руководства России.
«В составе российской делегации был начальник Генерального штаба ВС РФ Виктор Герасимов, который провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны достигли договоренности относительно передачи разведданных, которые могут быть полезны турецким военным при проведении операции “Щит Евфрата”. Также стороны обсудили, какая именно информация, как и в каком формате будет предоставляться», — сообщил источник «Известиям».
В свою очередь, как заявил газете первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, «Турция негласно присоединилась к пулу обмена разведывательной информацией, созданному Россией, Сирией, Ираком и Ираном».
«Мы передаем турецкой стороне данные радиоперехвата, радиотехнической и оптико-видовой разведки, которые могут представлять для нее интерес. В ответ они тоже делятся информацией. У турок очень эффективные спецслужбы и очень хорошая агентура в Сирии», — заявил Клинцевич.
В конце августа Турция и союзные ей сирийские повстанцы начали военную операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки ИГИЛ (ИГ, организация запрещена на территории РФ) на территории Сирии в районе Джараблуса. При этом турецкая сторона также заявляла, что операция направлена и на освобождение территории от курдских отрядов наравне с силами ИГИЛ.
10 октября в Стамбуле прошли переговоры лидеров РФ и Турции. На совместной с пресс-конференции по итогам встречи президент Турции Реджем Тайип Эрдоган завил, что в ходе российско-турецких переговоров «многосторонним образом был рассмотрен вопрос по Сирии».
«Мы рассмотрели вопрос, связанный с операцией „Щит Евфрата“. Осуществили оценку, каким образом мы можем сотрудничать в этом направлении», — заявил тогда Эрдоган.
В начале августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров лидеров двух стран в Петербурге, сообщил журналистам, что Турция и Россия договорились о создании механизма по Сирии, который будет включать дипломатов, военных и представителей разведки.
Эксперты считают, что сотрудничество с Турцией по сирийской проблематике может принести РФ большую пользу, чем сотрудничество с США.

Колдуны войны
два фронта, Сирия и Донбасс, достаются России немалой ценой – ценой напряжения военных, политических и моральных сил.
Александр Проханов
В Берлине состоялись переговоры в нормандском формате. Президент Путин встретился за круглым столом с президентом Франции Олландом, канцлером Германии Меркель, президентом Украины Порошенко. Эта поездка далась Путину нелегко. Ещё несколько месяцев назад, когда украинские диверсанты проникли на территорию Крыма, убили полицейского, были задержаны и уличены в терроризме, возмущению Путина не было предела. Он заявил, что порывает с нормандским форматом, что Порошенко для него больше не существует, и отношения Украины с Россией переходят в новую бескомпромиссную фазу.
Недавно президент Франции Олланд в оскорбительной для Путина форме заявил, что отказывается встретиться с ним, если тот прилетит в Париж на открытие православного центра. А до этого Меркель, давно превратившись из друга России в её ярого врага, сказала, что Россия заслуживает ужесточения санкций. Выступление же Порошенко во время его скандинавского визита выходит за все рамки приличия. И всё-таки Путин полетел в Берлин, в стан неприятелей, и сел за стол переговоров один против трёх недругов.
Переговоры в Берлине мало что дали, хотя некоторые – микроскопические – сдвиги в лучшую сторону они обнаружили. Но урок берлинской встречи состоит в поведении президента России, который, невзирая на оскорбления, нарушения дипломатических норм, всё-таки поехал в Берлин и тем самым проявил высшую дипломатическую пластичность, продемонстрировал предпочтение национальных интересов России сиюминутным обидам. Именно так поступают крупные государственные деятели, ведущие дипломатическую схватку с превосходящими силами противника.
У России два фронта: Донбасс, где продолжает грохотать артиллерия, безнаказанно убивают мирных жителей и героев новороссийского сопротивления, как это произошло с Моторолой. И Сирия, где конфликт с каждым днём разрастается, вовлекая в себя всё новые и новые военные и политические ресурсы. Эти два фронта достаются России немалой ценой – ценой напряжения военных, политических и моральных сил. В случае победы на американских выборах Хиллари Клинтон, этой воинственной русоненавистницы, вполне вероятно открытие третьего фронта – на Кавказе, куда хлынут несметные деньги на поддержку террористов, как это уже было во время двух чеченских войн. Возможен и четвёртый фронт: в республиках Средней Азии, где слабые, несформировавшиеся режимы уже подвергаются атакам экстремистов, и оранжевые революции, свержения законных правительств весьма реальны. Не допустить возникновения третьего и четвёртого фронтов, снизить военные риски на донбасском и сирийском направлениях – вот сегодня цель русской дипломатии, цель президента Путина. Этой цели противостоит всё нарастающее многоаспектное воздействие на Россию со стороны Запада, задача которого – разрушить представление русских о своём государстве, о своей истории, о своих лидерах, о своём историческом пути. Это воздействие столь обширно и тотально, что многие уже перестали жеманиться и говорят о «холодной войне», той войне, что разрушила Советский Союз без единого выстрела. Советское государство окружали множеством региональных конфликтов, направляли информационные удары на базовые ценности нашей страны, превращали их в пыль, опираясь при этом на те слои населения, что уповали на Запад, испытывали враждебность к советскому строю.
Сегодня такого рода воздействия на российское общество изощрённее прежних. Они адресованы каждому общественному слою отдельно и всему обществу в целом. Особенно мощным воздействиям подвергается президент России. Его оскорбляют, демонизируют, пытаются сбить с намеченных целей, искушают, обольщают, обманывают, грозят Гаагским трибуналом, пугают чудовищным компроматом. России обещают термоядерную войну, в которой государство сгорит. Предрекают международный трибунал, на котором страна, её лидеры и военные предстанут преступниками, совершающими злодеяния против человечества. России угрожают всё новыми санкциями и крахом экономики. Русских обвиняют в хакерских атаках на американские структуры и обещают ответные кибератаки, которые парализуют всю российскую экономику, приведут к серии глобальных катастроф. На Россию направлено мощное организационное оружие Запада, способное разрушать любые организации: не только корпорации, но и само государство, саму общественную целостность. Авторами этих воздействий являются политики, экономисты, политологи, социальные психологи, историки, мастера информационной войны, специалисты по теории образов и управляемого хаоса, религиозные деятели, экстрасенсы, литераторы, знатоки русской культуры. Все эти «колдуны войны» ставят целью парализовать возрастающую мощь государства российского. Остановить его продвижение в мире. Лишить союзников, загнать в стратегическую ловушку.
Но мы научены горькими уроками Советского Союза, который не выдержал давления, был обольщён западной пропагандой, имел элиту и лидера, которые предали Родину. Сегодня русский народ оснащён трагическим опытом потери своего государства. Во главе России стоит лидер, обладающий политической волей, прозорливостью и мистическим опытом, который указывает ему верные пути среди лабиринтов современной политики. Вот почему президент Путин поехал в Берлин и сел за стол переговоров с недругами России, которые все трое в своей совокупности оказались слабее его.
Who is Going to Pay for the Crimes in the Aleppo Province?
Martin Berger
The Western media outrage that usually follows any step Moscow and Damascus take in the fight against designated terrorist organizations in Syria suddenly subsided when Belgian warplanes attacked the Kurdish village of Hassager in the province of Aleppo on October 18.
For over a week Brussels has been trying to deny the fact that two F-16s bearing Belgium paint schemes committed a war crime in Syria, despite the fact that Moscow provided the Belgian military and the nation’s political leaders with documented evidence that two Belgian planes were operating in this area after taking off from the Muwaffaq Salti Air Base in Jordan. These jets flew over Iraq, and then at 2:37 AM they crossed the Syrian border about 70 miles northeast of the mountains of Deir ez-Zor, then they refueled in the air via a US Stratotanker KC-135, and at 03:35 AM they began bombing Hassager. At 4:19 AM, after refueling yet again, they carried on patrolling the airspace to the north of Aleppo.
By refusing to acknowledge the involvement of its F-16 aircraft in the October 18 attack, Brussels exhibits its inability to control the actions of its own military.
There could be no error in the identification of these two planes, since after entering the detection zone of radar, any aircraft is identified by its unique attributes and then the data about it is stored in a database. That is how a profile of every aircraft operating over Syria is created, and confusion is unlikely. Therefore, upon entering the detection zone any aircraft in Syria is immediately identified. And since these two planes have repeatedly entered Syria’s airspace, as Russian officials claim, they were capable of establishing immediately that those jets were flown by the Belgium Air Force.
Belgian politicians have repeatedly questioned the reasoning behind the Belgian Armed Force’s participation in illegal US operations in Syria. Therefore, it is possible that the White House and the Pentagon have decided to “tie with innocent blood” those Belgian politicians to their cause, Sending Belgian pilots on such a mission is a particularly significant step from the point of view of Washington, since it’s becoming increasingly apparent that ISIS militants surrounded in eastern Aleppo by Syrian troops won’t be able to carry on fighting for much longer. But the US is still trying to save them – since the liberation of Aleppo will be a major victory for the Syrian government and Bashar al-Assad himself. That is why in Washington, Paris, Brussels and other capitals of NATO countries have threatened Russia and Syria by declaring the ongoing airstrikes in Aleppo “war crimes”, while the head of EU foreign ministries at the EU Council meeting on Syria on October 17, urged the West to bring charges of “war crimes in Syria” to the International Criminal Court.
Therefore, one can only stand in awe at the lack of any adequate assessment of the Belgian Air Force attacks that occurred on October 18, not just from Washington, but also from the EU.
Maybe EU politicians have assumed that the attack was committed by Britain and not Belgium, and the EU will not be compelled to bear any responsibility for these actions? Or is it possible that Brussels hasn’t received instructions from Washington yet, since they are clearly unaccustomed to making any official statements on their own.
It’s also possible that by remaining silent about war crimes in and around Aleppo, Washington and Brussels want to show the world that they can still act with impunity, as it was in Libya, Iraq and a number of other countries. Then, it seems that this continues, since on the night of October 18, the United States Air Force attacked a densely populated part of the Iraqi city of Mosul, at the very same moment when the city was being shelled by cluster munitions and incendiary shells launched by US allies. We already have video footage of a bombed kindergarten in the town of Tal Afar, west of Mosul. In addition, social networks are filled with pictures of the atrocities that the militants supported by the US are committing.
So who will pay for the civilian deaths in Hassager?
- Washington, that has already paid compensation to the family of an Italian citizen Giovanni Lo Porto who was murdered by a US drone.
- Or the Belgian authorities and the EU?
What do you think?
And will there finally be any objectivity in the actions of European and American politicians? Or to achieve this, does one have to replace the entire ruling political establishment in the West?
«Большую поддержку ИГ оказывают мирные жители»
Официальный представитель Иракского Курдистана в России рассказал «Газете.Ru» о штурме Мосула
Инна Сидоркова
Официальный представитель регионального правительства Курдистана в России доктор Асо Джанги Бурхан Талабани по телефону из курдской Сулеймании рассказал «Газете.Ru», чем затрудняется операция по освобождению Мосула от ИГ (запрещенная в России организация), какую роль в ней играют курды, шииты, Турция и США, а также о ситуации в подвергшемся нападению боевиков Киркуке.
— Насколько успешно прошла первая неделя операции по взятию Мосула?
— Могу сказать, что начало было довольно успешным. Однако все происходит очень медленно. Усугубляют ситуацию и события в Киркуке. Вечером в четверг более 100 террористов, среди которых есть чеченцы и выходцы из Узбекистана, проникли в город и заняли там несколько зданий. С пятницы в Киркуке, откуда я сам только что вернулся, идут серьезные бои. Уже 70 человек погибли, более 200 раненых. Хотя большинство боевиков ликвидированы, противостояние все еще продолжается. По нашим данным, сотня наиболее подготовленных боевиков пришла в Киркук из Мосула, чтобы отвлечь и рассредоточить внимание коалиции и всех остальных, кто проводит операцию по освобождению города.
— Атака на Киркук была неожиданной для пешмерги?
— Да, последние два года этот город полностью контролировали курды, и там было очень спокойно. Никто не ожидал такого внезапного нападения.
— Что еще замедляет ход операции по освобождению Мосула?
— Вокруг много заминированных территорий, поэтому процесс будет идти очень-очень медленно. Большое количество времени займет зачистка и самого Мосула. Другая проблема в том, что большую поддержку ИГ оказывают мирные жители. В этом районе живут в основном арабы-сунниты, а в правительстве Ирака доминируют арабы-шииты. В свое время Саддам Хусейн жестоко себя вел по отношению к шиитам.
Теперь многие в Мосуле переживают, что шииты будут мстить, поэтому ИГИЛ для них защита.
— Сколько боевиков ИГ в Мосуле сегодня?
— Около 4–5 тыс.
— Эта война на уничтожение всех сочувствующих ИГ? Или будут переговоры с боевиками?
— Одно время действительно обсуждалось открытие коридора для ухода боевиков, но сегодня это уже не очень актуально.
Потому что и официальный Багдад, и коалиция во главе с США понимают, что если эти боевики попадут в Сирию, то рано или поздно они все равно вернутся в Ирак и снова начнут войну.
— А у пешмерги был опыт переговоров с боевиками ИГ?
— Я никогда не слышал, чтобы иракские курды вели переговоры с террористами этой организации. С ними нельзя договариваться. Есть только один выход — их уничтожение.
— Жители Мосула, которые сочувствуют ИГ, после освобождения города будут наказаны? Как их будут судить?
— Это очень сложный вопрос. Они ведь могут отречься от своих действий и заявить, что никогда не поддерживали ИГ и не участвовали ни в какой войне против курдов и правительственной армии Ирака.
— В какие сроки, по мнению руководства Иракского Курдистана, город будет освобожден от боевиков?
— Нужно несколько недель. Пока все идет по плану.
— Пешмерга формально входит в коалицию во главе с США или выступает как часть правительственных сил Ирака?
— Армия иракских курдов выступает как отдельный игрок. Есть договор между НАТО и пешмергой, а также между пешмергой и иракской правительственной армией. Согласно оговоренным правилам, курды будут действовать только за пределами Мосула, в сам город заходить не будут. В него войдут только полиция и правительственные войска. Но пока иракская армия далеко от города, до атаки еще, наверное, дня два. Мы, в свою очередь, уже освободили несколько деревень, осталось еще немножко.
— Сколько иракских курдов принимает участие в операции?
— Более 15 тыс. Думаю, что хотя бы половину нужно вернуть в сторону Киркука, потому что для нас важнее защищать Киркук, чем Мосул. Отмечу, что в составе пешмерги нет ни одного иракского или американского солдата.
— Какой тактике следует пешмерга?
— Иракские курды согласовывают свои действия с центром координации в Багдаде и Курдистане. Обычно перед тем, как курды должны начать наступление, обозначенные районы бомбят истребители коалиции. Затем, когда американцы дают зеленый свет, пешмерга начинает наземное наступление.
— Есть ли какая-то координация с сирийским и турецким ополчением курдов?
— Нет. У нас задачи разные. И места расположения тоже разные. Мы находимся далеко друг от друга, потому что YPG (курд. Yekîneyên Parastina Gel, отряды народной самообороны сирийских курдов. — «Газета.Ru») и турецкие курды будут атаковать со стороны сирийской границы и юга Мосула, а пешмерга — с севера.
— Во вторник Турция объявила о том, что тоже участвует в освобождении Мосула. Как турки взаимодействуют в Ираке с Рабочей партией Курдистана, которую считают террористами?
— Конечно, все переживают. До сегодняшнего дня турецкая армия еще не предпринимала никаких действий.
Все — и курды, и коалиция, и Ирак — против вмешательства Турции, потому что это только осложняет задачу. К тому же никто не верит в реальное желание помочь.
— Какие, на ваш взгляд, цели преследует Турция в Ираке?
— У нас есть подозрения, что Стамбул помогает определенным группам боевиков. Также очень вероятно, что турки хотят атаковать турецких и сирийских курдов, которых они тоже считают террористами. Мы очень надеемся, что американцы и Багдад не позволят им участвовать. У турок под Мосулом есть огромная база Баашика, которая существует уже несколько месяцев. Там находятся около 3 тыс. турецких военных.
— Какие у Курдистана собственные задачи в операции по взятию Мосула?
— У курдов на севере Ирака (недалеко от Мосула, ближе в сторону Киркука и Эрбиля. — «Газета.Ru») есть спорные территории. В основном это курдские деревни, поэтому стоит задача освободить их и установить собственный контроль.
— В самом Мосуле существуют районы, населенные иракским курдами? Что сейчас там происходит?
— В основном восток и север города — это курдские районы. Но дело в том, что курды давно ушли из Мосула в Иракский Курдистан, остались лишь маленькие группы, и они очень сильно переживают, находясь под контролем ИГ.
— Чем сейчас вооружены правительственная армия Ирака и курды?
— У иракской армии всегда была советская техника, но сегодня Багдад закупает и современное американское оборудование. Из российского в распоряжении правительственных войск есть самолеты «Сухой», Вертолеты Ми-28, Ми-35. У американцев Ирак закупил F-16. У курдов авиации нет, что касается наземной техники — это старые советские танки, а также много бронированных «хаммеров»: почти на всех установлены российские и американские пулеметы. Курды активно используют российские РПГ и автоматы Калашникова.
— Поставки оружия курдам осуществляются напрямую?
— Нет, пешмерга не имеет право закупать оружие без разрешения Багдада. Россия поставляет все только через правительство. А вот из Германии и США несколько партий поступало в Курдистан без согласия Багдада.
— Какого вооружения не хватает курдам?
— В основном испытываем дефицит противотанкового оружия. Также нам нечем бомбить игиловские бронированные машины, которые террористы направляют в нашу сторону и взрывают. В таких случаях курды всегда несут очень большие потери.
— Недавно Баба Шейх (езидский духовный лидер. — «Газета.Ru») обратился к властям Курдистана с просьбой обратить внимание на судьбу пленных езидов. С 2014 года террористы ИГ удерживают тысячи похищенных женщин и детей из езидского города Синджара. Какова сейчас их судьба?
— Сначала там было более 3 тыс. женщин. Некоторые погибли, кого-то курды освободили своими силами, каких-то женщин перепродали. Но мы знаем, что внутри Мосула их достаточно много до сих пор. Их держат как пленных. Сколько их осталось на сегодняшний день, мы, к сожалению, сказать не можем. Но их точно больше тысячи.
— А есть ли возможность договориться с боевиками об обмене пленными?
— Было несколько попыток, но в итоге ничего не вышло: нас обманули и пленных не отдали. Но курды постоянно ищут какие-то способы, чтобы этих женщин украсть. К примеру, езидский активист Абу Шуджа освободил около трехсот человек (Абу Шуджа — бизнесмен из Иракского Курдистана, который создал на подконтрольной ИГ территории в Сирии и Ираке сеть активистов по освобождению женщин и детей езидов из рабства. — «Газета.Ru»).
Более 50 обстрелов со стороны боевиков зафиксировано за сутки в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Эль-кунейтра, сообщил в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"За сутки зафиксирован 51 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (24), Дамаск (18), Хама (7) и Латакия (2)", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
По данным Центра по примирению, вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Азизи и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо; в провинции Дамаск – населенные пункты Джаубар, Бала-Эль-Кадима, Дума, Кафер-Батна, высоту с отметкой 612 и ферму в районе населенного пункта Кусайр; в провинции Латакия – населенный пункт Раша и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.
В документе отмечается, что вооруженные формирования террористических группировок обстреляли из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо населенные пункты Шурфа, Ансар, Ханану-Шималия и Бакиртая, а также кварталы Аль-Майдам (дважды), Ариан (дважды), "1070" (дважды), "3000", Рамуси, Шейх Максуд, Дахия-эль-Асад, военная академия Эль-Асад (дважды), цементный завод, позиции правительственных войск в районах квартала "1070" (дважды), цементного завода, торгового центра "Кастелло" и КПП № 1 дороги "Кастелло" в городе Алеппо.
Кроме того, в провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Хауш-Насри (дважды), Хараста, Джаубар (трижды) и Дума, больница Ибн-эль-Валид (трижды) и лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Мазраат-Махмуд (дважды). В провинции Хама террористы обстреляли железнодорожную станцию в населенном пункте Каукаб (дважды) и ТЭС в населенном пункте Махарда (дважды).
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
Переговоры по Сирии в Женеве пока не привели к желаемому результату, и на них еще предстоит проделать определенную работу, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.
"Я думаю, правильным будет сказать, что в Женеве еще предстоит проделать определенную работу", — сказал он на брифинге.
При этом Кирби подчеркнул, что "это многосторонние дискуссии, в которых участвуют не только США и Россия". По его словам, "в них задействованы другие ключевые региональные игроки и страны".
"Я бы хотел, чтобы они сами говорили за себя. Но пока мы не достигли результата", — сказал представитель госдепа, отметив, что никто и не ставил задачи достичь его именно к 24 октября.
Дмитрий Злодорев.
США обеспокоены сообщениями о жертвах в Сирии из-за ударов Турции, но пока не могут подтвердить такие сообщения, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.
"У меня нет никаких дополнительных тактических деталей. Очевидно, мы всегда обеспокоены жертвами среди гражданского населения и разрушениями гражданских объектов в результате военных действий, особенно когда такая активность не скоординирована с усилиями коалиции (во главе с США – ред.) по борьбе с ИГ", — заявил Кирби на брифинге.
США и союзники, включая Турцию, проводят с 2014 года в Сирии и Ираке операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).
"Я видел сообщения из Турции. Но пусть турецкие военные сами говорят о своей операции… Мы продолжаем внимательно за этим следить, и мы по-прежнему обеспокоены", — сказал Кирби, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить причастность Турции к таким обстрелам.
Турция в настоящее время проводит военную операцию на севере Сирии и на севере Ирака против боевиков ИГ, а также против курдских вооруженных формирований, которые она считает террористическими.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 842, сообщается в понедельник в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 842", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны России.
По данным российского центра, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.
Также сообщается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.
Семидневный срок введенного в Сирии режима прекращения огня истек 19 сентября. Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что режим прекращения огня соблюдали только сирийские войска, а со стороны боевиков фиксировались нарушения.
Группа экспертов по расследованию обстрела гуманитарного конвоя в провинции Алеппо 19 сентября намерена посетить Сирию и обратились в постпредство страны при ООН с просьбой о содействии. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник.
"Очевидно, что поездка в Сирию — это важная часть их работы", — сказал Дюжаррик журналистам. "Мы проинформировали постоянное представительство (Сирии при ООН), и они заверили в намерении сотрудничать и поддерживать работу миссии", — отметил он.
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию обстрела гуманитарного конвоя в сирийской Урум аль-Кубре, жертвами которого стали до 20 человек, приступит к работе после 24 октября. Решение о проведении независимого расследования инцидента было принято генеральным секретарем ООН. Независимую комиссию возглавит генерал-лейтенант Абхиджит Гуха. Эксперты должны будут "установить факты относительно инцидента и доложить генеральному секретарю по завершении работы" после чего генсек "примет решение о дальнейших шагах", заявил ранее представитель ООН.
Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН 19 сентября подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек. По данным Международного комитета Красного креста, 18 грузовиков было уничтожено, погибли как минимум 18 мирных граждан, в том числе руководитель САКП в Урум аль-Кубре.
Ольга Денисова.
Если Ангела Меркель откажется претендовать на пост федерального канцлера в 2017 году, ее место может занять человек, который способен нанести Евросоюзу серьезный ущерб, пишет Politico.
Речь идет о коллеге Меркель по "Христианско-демократическому союзу" (ХДС), нынешнем министре финансов ФРГ Вольфганге Шойбле. С точки зрения автора статьи, это самый вероятный ее преемник, который при этом окажется и самым "разрушительным".
В том, что именно Шойбле заменит Меркель, "практически нет сомнений", говорится в статье: он популярен среди населения и в кругу законодателей из ХДС.
"Но если он займет пост канцлера, это серьезно встревожит Париж, Лондон, всю Европу и, чего уж там, весь мир. И правильно", — пишет автор, отмечая, что если Шойбле займет должность федерального канцлера, это может повлечь за собой "чрезвычайно разрушительные" последствия для Евросоюза, а для еврозоны так и вовсе "катастрофические".
В первую очередь автор материала имеет в виду экономическую ситуацию в Европе. Министр финансов ФРГ известен как "финансовый ястреб" — он ругает Брюссель за "финансовую гибкость" по отношению к странам Южной Европы.
Если Шойбле станет федеральным канцлером, отношения между членами ЕС в том, что касается макроэкономического менеджмента, станут еще более "токсичными", говорится в статье.
Во внутренней политике ФРГ назначение Шойбле приведет к конфликту между партиями в правящей коалиции. В вопросах миграции и безопасности он будет придерживаться более жесткой политики, чем Меркель — в частности, скорее всего, станет выступать за ускорение процедуры высылки беженцев.
Что касается внешней политики, то позиции нынешнего министра финансов ФРГ по многим вопросам пока не ясны: например, о его отношении к России, Сирии и Украине "просто-напросто ничего не известно", отмечает Politico.
Непонятно и то, будет ли Шойбле "заискивать" перед турецким правительством так, как это, по словам Рахмана, делает и, похоже, готова продолжать делать Меркель.
"Одно ясно точно. Подобно тому, как лидеры ЕС готовятся жить без Великобритании, точно также они должны задуматься о Германии и Евросоюзе без Меркель", — резюмирует автор.
Кандидат в президенты на выборах в США от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в отсутствии плана по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), по ее мнению, избрание соперника на пост президента и главнокомандующего "опасно".
"У него (Трампа — ред.) нет плана о том, как разбить ИГ… Он говорит, что знает об ИГ больше, чем генералы. Я так не думаю. Он фактически объявляет о поражении, когда бой еще не начался. Он доказывает миру, каково это, когда страну возглавляет не обладающий должной квалификацией главнокомандующий", — сказала Клинтон, выступая на митинге в штате Нью-Хэмпшир. По ее замечанию, "это не только неверно, это опасно".
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп написал ранее в своем микроблоге в Twitter, что операция по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГ "оборачивается полной катастрофой". Трамп назвал действия США глупыми, поскольку подготовка к операции была известна заранее.
Он заявлял ранее, что операция по освобождению Мосула проводится США для поддержки кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Аналогичную точку зрения выражали и российские эксперты. По их мнению, освобождение Мосула покажет американским избирателям, что у демократов есть достижения во внешней политике.
В ночь на 17 октября иракские и курдские силы при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление для освобождения Мосула, административного центра провинции Найнава, от террористов ИГ.
Группа из 48 мирных жителей смогла вырваться из восточного Алеппо, сообщил РИА Новости представитель полиции города.
"Детали говорить не можем. Надеемся, что по той же системе сможем вытащить больше людей", — рассказал собеседник агентства.
Правительственные войска в воскресенье начали наступление на юге Алеппо после окончания гуманитарной паузы. Пауза действовала в течение трех дней с 20 октября, когда боевики и жители могли покинуть осажденную восточную часть города. Террористы уходить отказались и под угрозой смерти запретили выходить мирным гражданам.
МИД России назвал очередное продление гумпаузы "неактуальным", поскольку за время ее действия "не произошло того, что требовалось".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, происходящее сейчас в Алеппо не способствует ни гуманитарным паузам, ни урегулированию конфликта в целом. "Все эти дни продолжались обстрелы КПП, нападения террористических группировок на основные маршруты, по которым возможна доставка гуманитарных грузов", — добавил он.
По разным данным, в восточных кварталах Алеппо остаются около 7 тысяч террористов из различных бандформирований.
Михаил Алаеддин.
Международная конференция «Терроризм и электронные СМИ» завершила свою работу
С 18 по 21 октября 2016 года в Белграде прошла Международная конференция «Терроризм и электронные СМИ», где обсудили роль СМИ в освещении терактов на примере Европы, Ближнего Востока и Сирии.
В конференции приняли участие более 90 журналистов и экспертов из более чем 15 стран, а также руководители и представители таких международных организаций как ОДКБ, ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
В этом году участники конференции обсудили такие важные темы, как роль СМИ в освещении терактов на примере Европы, Ближнего Востока и Сирии; ответственность журналистов в борьбе против пропаганды ненависти и насилия; социальные сети как коммуникационная среда для распространения идей терроризма и другие.
Дискуссии по этим темам проходили на пленарных заседаниях, круглых столах, а также на тематических просмотрах телепрограмм и документальных фильмов.
Участников конференции поприветствовал заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Козлов.
С новыми инициативами и предложениями на конференции выступили генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Сергей Грызунов, а также журналисты и эксперты из Франции, Сербии, Испании, Греции, Иордании, Бельгии, Кипра, Китая и др.
На конференции был принят итоговой документ, где были обобщены результаты дискуссий и новые инициативы. Документ открыт для замечаний и дополнений до 21 ноября 2016. Заключительный вариант итогового документа будет направлен в международные СМИ, а так же в национальные и международные организации.
Жестокое украинское похмелье после вечеринки в Берлине
Арина ЦУКАНОВА
Встреча «нормандской четвёрки» в Берлине спровоцировала на Украине реакцию, очень похожую на похмельный синдром после неумеренных возлияний, когда наутро с трудом вспоминается, что на самом деле было вечером. А, возможно, многое и не хочется вспоминать – например, тот неудобный момент, когда участники вечеринки решили в какой-то момент продолжить «соображать на троих», отказавшись от компании четвёртого.
А четвёртый-то надеялся на продолжение банкета и даже готовился к нему: аккурат в день встречи в Берлине украинский парламент принял обращение к Совету Безопасности ООН о создании международной группы следователей «по расследованию военных преступлений режима президента Сирии Башара Асада и его союзника – Российской Федерации (РФ)» и об усилении давления «на режим президента РФ Владимира Путина с целью принуждения России к соблюдению норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта в Сирии».
Очевидно, президент Украины был уверен, что это антироссийское и антисирийское обращение, за которое проголосовал 241 депутат Верховной рады, послужит ему входным билетом на вторую часть «нормандских переговоров», посвящённых ситуации в Сирии. Это позволило бы Порошенко затушевать неудобные для него итоги встречи с лидерами России, Германии и Франции по Украине: фактическое принуждение Киева к выборам в ДНР и ЛНР по «формуле Штайнмайера», означающей сосредоточение усилий на политической составляющей меморандума, подписанного в Минске. Однако показательное переформатирование «нормандской четвёрки» в «нормандскую тройку» не оставило украинскому президенту ни малейшего шанса спрятаться за сирийской ширмой. Более того, Порошенко, которого выставили за рамки формата «нормандской четвёрки», вместо того чтобы серьёзно доложить прессе об итогах переговоров по Украине, принялся на брифинге в Берлине неудачно шутить про футбол и сообщать журналистам неточную информацию, которая была лидерами «нормандской тройки» впоследствии опровергнута. Выглядело это по меньшей мере жалко.
На Украине глубину унижения Порошенко не заметить не могли. Бывший министр обороны Анатолий Гриценко даже возмутился, заявив, что украинское государство в лице президента «выставили за двери». «Считаю это, как минимум, дипломатической бестактностью, недальновидностью и оскорбительным для Украины поведением Меркель и Олланда», – написал он в своей ленте Facebook.
Однако произошло то, что произошло. И поскольку у Киева не вышло прикрыться сирийской тематикой, а бравые заявления Порошенко очень быстро были дезавуированы «нормандской тройкой», наступил момент истины, напоминающий тяжёлое похмелье.
Надо было срочно что-то предпринимать, дабы погасить нарастающую волну критики и недовольства. Никто не ожидал, что «нормандская тройка» припрёт Порошенко к стенке и дорожной картой, детализирующей минские договорённости, но не отменяющей последовательности их выполнения, и легитимизацией ДНР и ЛНР по «формуле Штайнмайера», и видением вопроса «вооружённой полицейской миссии ОБСЕ» в Донбассе как второстепенного фактора, актуализация которого возможна только после выполнения Киевом политической части минского меморандума.
Сколько ни говори «халва», слаще во рту не станет. Сколько ни пытались в эти дни президент Украины, глава МИД и прочие отстоять своё видение дорожной карты, «вооружённой полицейской миссии ОБСЕ», выборов в республиках и контроля участка границы между ними и РФ, получалось это у них из рук вон плохо. Всем ясно, что заявили Меркель, Олланд и Путин: они хотят от Киева чёткого выполнения минских договорённостей по пунктам, с начала до конца, а не в удобном для Порошенко порядке. Значит, украинский парламент поставлен перед необходимостью приступить к политическому урегулированию конфликта с Донбассом, а силовые структуры должны готовить обмен пленными по формуле «всех на всех» (последняя такая попытка – «618 на 47» – в сентябре успехом не увенчалась). Никаких тезисов об «освобождении политических заключённых Россией» украинской стороне через «нормандский формат» протянуть не удалось: речь идёт о пленных, которые находятся в ДНР и ЛНР (их 47), в обмен на тех людей, которые находятся в качестве заложников на территории, подконтрольной украинскому правительству (их по состоянию на сентябрь 618).
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вынужден был, выступая в парламенте с отчётом об итогах встречи в Берлине, убеждать депутатов, что она «помогла саммиту ЕС, помогла чёткой линии на солидарность и консолидацию ЕС в вопросе поддержки Украины в борьбе с российской агрессией и в вопросе продления санкций». Это всё равно что Климкин твердил бы: «Халва! Халва! Халва!!!» Как выяснилось очень быстро, с саммитом ЕС не всё так однозначно: в Брюсселе в вопросе об антироссийских санкциях ударили по тормозам.
О дорожной карте, которую министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины должны утвердить в ноябре, глава украинского МИД заявил следующее: она-де «должна включать измерение безопасности, логику дальнейших политических решений, но обязательно – гуманитарное измерение». Нет, это не означает, что Киев готов повернуться лицом к населению ДНР и ЛНР, лишённому социальных выплат, украинских зарплат и пенсий. Под «гуманитарным измерением» Климкин понимает, «прежде всего, освобождение всех заложников и политических заключённых».
Снова собственная трактовка минских договорённостей. Как и утверждение министра о том, что «обсуждение других вопросов невозможно» без полного доступа ОБСЕ к российской границе и «выведения регулярных российских войск, российского оружия и российских наёмников» с территории республик. Видимо, не убедили Климкина известные слова начальника Генштаба ВСУ о том, что «украинская армия не ведет боев с регулярными частями армии России». В воображении министра иностранных дел Украины именно регулярная армия РФ воюет в Донбассе с украинской армией. Правда, почему-то при этом Климкин не попросил парламент признать факт войны с Россией и объявить военное положение.
Октябрьские тезисы Климкина свидетельствуют либо о полном непонимании им той ситуации, в которой оказалась Украина после встречи в Берлине, либо о том самом «похмельном синдроме», когда хочется поскорее забыть берлинскую вечеринку и по-своему рассказать о ней, выдавая желаемое за действительное.
МИД Украины настойчиво пытается изобразить успехи украинской дипломатии. Однако даже среди «своих» всё заметнее, что эти успехи существуют лишь в воображении Климкина и Порошенко. «После таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его в Украину и уступить свое кресло. Потому что, к сожалению, наша дипломатия на данный момент слабее…» – заявила народный депутат Надежда Савченко. Слова Савченко находят многократное подтверждение в высказываниях её коллег по парламенту.
«То, что прозвучало в выступлении канцлера Германии Меркель, – это, фактически, согласие, которое на сегодняшний день достигнуто, и этого никто не опровергает. Это очень опасное согласие, что выборы могут пройти без взятия российско-украинской границы под контроль украинской стороны. Более того, вторая часть цитаты Меркель. Никакой военной миссии ОБСЕ точно также не может быть на границе до проведения выборов. Это, на мой взгляд, самая опасная вещь из того, что произошло в Берлине», – поделился своими опасениями депутат Егор Соболев.
«…Я не очень понял заявление Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которые пытались намекнуть на какие-то параллельные шаги в части безопасности и выборов. (Тот случай, когда заявления партнеров пугают больше, чем слова врага). Так вот, это не называется «дорожной картой», это снова шантаж. И если я правильно услышал открытое выступление Порошенко (кстати, он единственный из всех трех сторон, кто сделал отдельный акцент именно на последовательности шагов), это и будет самым спорным моментом в переговорах между министрами иностранных дел», – признался депутат Мустафа Найем, также озадаченный позицией Германии и Франции.
«Может я не так понял позицию АП (администрации президента. – А.Ц.)… Сначала выборы в ОРДЛО, а уже потом контроль государственной пограничной службы Украины над государственной границей?! Это бред! Такое решение никогда не пройдёт в Верховной Раде. При любых обстоятельствах достаточно голосов не будет», – возмутился советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, говоря о невозможности проведения выборов в ДНР и ЛНР в ближайшие два-три года. При этом Шкиряк настаивает на военном разрешении конфликта в Донбассе и дальнейшей многолетней «психологической реабилитации» мирного населения, которое он называет «остро отравленными и зазомбированными тоталитарной российской пропагандой безнадёжными ватниками», «хронически психически больными».
По мнению этого деятеля, европейцы не смогут гарантировать ни финансирование, ни эффект от введения вооружённой полицейской миссии ОБСЕ численностью 25-30 тысяч человек, поскольку потребуется не только охранять избирательные участки, но и «взять под контроль границу и как-то сдерживать ситуацию в городах и сёлах».
Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк не нашёл ничего лучшего, как обвинить в провокации Францию – дескать, именно так и выглядит попытка французской стороны добиться от Украины обязательств по статусу Донбасса и календаря (дорожной карты). А если это не провокация, рассуждает Яценюк, то «непонимание сути того, что происходит на востоке Украины». Сам бывший премьер-министр эту суть понимает отлично: «На Донбассе – война России против Украины. Но не только против Украины, но и против Европы и против самой Франции. В Париже это с трудом осознаётся». Рецепт Яценюка – давление на Путина с тем, чтобы установить контроль над границей. «Давление должно быть направлено в одном направлении. Это – давление против агрессора, против агрессии Путина, против сознательной политики Кремля на подрыв безопасности и демократии в Европе. Сколько требуется Донбассов и Сирий, чтобы это понять?!» – распекает Франсуа Олланда украинский политик, не так давно утверждавший, что это СССР напал на Украину и Германию во Второй мировой войне.
«Путину удалось заманить Украину в ловушку «минских договорённостей», – считает лидер парламентской Радикальной партии Олег Ляшко. И предлагает свой рецепт победы: отказаться от минских договорённостей и «нормандского формата» и вести переговоры в «будапештском формате». Спросите, при чём здесь Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (не ратифицированный ни одной из сторон)? Всё просто – Украину устраивает состав участников: Германии и Франции нет, а США и Великобритания есть. Именно в такой компании украинская власть хотела бы решать судьбу Донбасса.
О смене «нормандского формата» на Украине мечтают многие. Выступают за это и Климкин, и первый президент Украины Леонид Кравчук. «Я давно предлагал Будапештский формат, Россия отказывается категорически. Рассматривать вопрос Донбасса без России, где есть российские войска, это невозможно, не будет результатов. Может присоединиться или Великобритания, Польша, кто-то из стран Балтии... Но Путин хочет, чтобы была Германия и Франция. Если прочитаете «Войну и мир», то увидите, что гувернантки там французские, а в истории России были императоры немецкого происхождения. Россия хочет привлечь тех, кто с ней имеет исторические связи, а не англосаксов», - высказался Кравчук в эфире телеканала «112. Украина», комментируя итоги встречи «нормандской четвёрки» в Берлине.
То есть, если украинской дипломатии не удаётся убедить европейцев в своём видении минских договорённостей, значит, не дипломатия плоха, а германские и французские связи России, о которых, мол, ещё Лев Толстой писал. Называется, прикрыл Кравчук драные шаровары украинской дипломатии томиком «Войны и мира».
Ещё один рецепт спасения Украины после дипломатического провала в Берлине предложил Виктор Балога, при прежней власти занимавший должность главы МЧС, а ныне вместе с тремя братьями представляющий Закарпатье в Верховной раде. «Путин ничего не уступил, а нас вынуждают действовать со слабой позиции. Поэтому разглагольствования спикеров нашей власти – это попытка создать впечатление, что всё идёт по нашему сценарию», – охарактеризовал он «успехи дипломатии» украинской стороны и предложил «референдум о судьбе оккупированного Донбасса», который, по мнению политика, «даст президенту средство для выхода из глухого угла на востоке». Он назвал «ловушкой» слова Меркель и Олланда о том, что «сначала выборы и амнистия» и заметил, что Порошенко слишком много в Берлине наобещал, «явно переоценив свои возможности, поскольку выполнить эти условия без подрыва страны невозможно».
После Берлина Порошенко и его министры очнулись в ситуации, когда обещания партнёрам по «нормандской четвёрке» уже даны, а голова наутро раскалывается от сознания того, что украинский политикум не желает выполнения этих обещаний. Требует чего угодно – войны, смены «нормандского формата», референдума, коллективного чтения «Войны и мира», извинений перед Януковичем, но только не выполнения минских договорённостей в том виде, как они приняты.
Жестокое похмелье.
«Исламское государство» движется к закату»
Мирного урегулирования на Ближнем Востоке можно достичь только путем сложнейших переговоров
Игорь Крючков
В преддверии открывающегося на этой неделе XIII ежегодного заседания Международного клуба «Валдай» «Газета.Ru» побеседовала о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке с председателем совета Фонда развития и поддержки Валдайского клуба, профессором НИУ «Высшая школа экономики» Андреем Быстрицким. Этим разговором мы открываем серию из нескольких интервью экспертов клуба, посвященных актуальным международным проблемам и поиску их решений.
— В начале месяца произошел коллапс одного из важнейших дипломатических процессов на Ближнем Востоке — американо-российских двусторонних переговоров по Сирии. Насколько это сильный удар по сирийской мирной инициативе? Какие выводы можно сделать из этого? Почему не работает двусторонний формат?
— Постиг ли полный коллапс диалог в Сирии? Надеюсь, что нынешний сбой или приостановка временны. Несмотря на большое количество расхождений и разночтений в ситуации по Ближнему Востоку, ведущие страны Запада все равно втянуты в попытку решить эту проблему. И, строго говоря, не договориться им не удастся. Единственный способ разрешения ближневосточных проблем в том, чтобы основные мировые игроки договорились. Если они не договорятся, проблема не решится.
Конфликт на Ближнем Востоке довольно непростой. Там идет гражданская война. Гражданская война очень сложная, связанная с тем, что распалось традиционное исламское общество. С тем, что в мире произошла коммуникационная, технологическая революция. Связанная с тем, что на Ближнем Востоке скопились чудовищные деньги и при этом есть огромное социальное неравенство.
Ситуация на Ближнем Востоке во многом напоминает то, что происходило в России перед Октябрьской революцией.
Вещи сходные, но дело не в этой теории. В гражданской войне трудно понять, кто за кем стоит и кто за что выступает. Расхождения, которые возникают между ведущими странами в деле урегулирования ближневосточной ситуации, понятны с учетом того, что все эти страны вмешиваются в гражданскую войну. Это всегда очень сложно, и почти всегда это выходит боком для самих вмешивающихся. Возможно, эффективнее было бы оставить их в покое и дождаться, пока естественным путем все это не перебродит. Но в нынешнем многосвязном мире это невозможно.
Проблема этого расхождения еще и техническая. Среди огромного спектра сил, действующих в регионе, очень трудно понять, кто с кем в альянсе, за что и почему ведется борьба. Сейчас идет штурм Мосула, в котором участвуют разнородные силы. Тут и полупартизанские отряды, выступающие против Исламского государства, и Иракская регулярная армия, и огромное количество командиров разного типа. Сталкиваются разного рода интересы.
Один из важнейших вопросов — об этом сейчас уже прямо говорят — не в том, что сложно взять Мосул, а в том, что будет, когда Мосул будет взят.
Когда мы говорим о противоречиях в отношениях, которые складываются между Россией и США, между Россией и западными странами по поводу происходящего на Ближнем Востоке, не следует забывать, что и у самих западных стран нет общего понимания. У Франции своя точка зрения, особенно на сирийскую историю, потому что для Франции Сирия — чувствительная тема, когда-то это была подмандатная французская территория, и связи между французскими и сирийскими элитами были очень глубокими. Именно в Сирии формировались подразделения, которые были связаны с де Голлем и вообще с борьбой против фашизма, с освобождением Франции. Здесь противоречий много. Выбраться из них простыми путями невозможно. Но есть ключевое условие урегулирования конфликта на Ближнем Востоке — договоренности между ведущими странами, и в том числе между Россией, США и западными странами.
— Сирийские переговоры замкнулись на штурме Алеппо, который вызывает много вопросов. Политизация сирийского дипломатического процесса приводит к блокировке целого ряда важных гуманитарных инициатив. Из-за амбиций политиков с обеих сторон продолжают страдать обычные люди. Как можно выйти из ситуации?
— Алеппо в очередной раз дает нам подтверждение того тезиса, что возможное разрешение конфликтов в Сирии может выступать модельной ситуацией для понимания того, как будут складываться отношения между странами в будущем мире. Если так или иначе ведущие мировые игроки договорятся, это будет хорошим примером и показателем. Я бы обратил внимание — понятно, что ситуация меняется быстро, — на то, что по поводу Алеппо все стороны сделали несколько шагов навстречу друг другу.
Россия фактически остановила работу авиации, де-факто идет попытка размежевания сил, и, когда западные страны просят создать гуманитарный коридор, российская сторона тоже выступает за это.
Ситуация в Алеппо — одна из показательных в развитии сирийского конфликта и попытках его урегулирования. Это важный город для всех сторон, которые вовлечены в эту битву — и для «Исламского государства» (запрещено в России. — «Газета.Ru»), и для сил Башара Асада, и для оппозиции. Если в Алеппо удастся достигнуть какого-то взаимного соглашения, это будет показательно для дальнейшего развития ситуации.
Последняя информация некоторым образом обнадеживает. Я далек от всеобщего тотального скепсиса, что ничего не удастся, что никто не договорится, что это все уловки. Стороны действительно стараются договориться. Но на пути договоренностей стоит целый ряд препятствий. Первое — это технические сложности. Кто там воюет, сил много, они разные, и это специфические люди. Они не отличаются большой твердостью слова и устойчивостью взглядов. Они переименовывают свои группировки, меняют позиции и плюс ко всему командиры и в личном качестве могут проявлять гибкость в этой ситуации.
Это такой тип гражданской войны, где люди легко переходят с одной стороны на другую. Это не является формой предательства, это — форма поиска решения, которое их устраивает.
Второе — конечно же, нет полного согласия в методах действия. Иногда кажется, что сила помогает решить проблему быстрым и разумным способом. Иногда это так, иногда без бомбы не обойдешься. Но очевидно должен быть какой-то баланс между силовыми и дипломатическими методами.
Наконец, третье препятствие — это то, что можно было бы назвать планами по восстановлению Сирии в частности и Ближнего Востока в целом. Какое будущее предлагают участники процесса на месте, какое будущее предлагают страны развитые, вовлеченные в конфликт. Без этого плана ничего не возможно.
Границы, которые там провели по линейке — почти 100 лет назад, — были ответом на то, как это все должно выглядеть. Этот ответ себя исчерпал.
И в Ираке непросто, и в Сирии непросто, не все до конца стабильно в той же Ливии. Надо искать какие-то формы самоорганизации данных обществ, которые сейчас кажутся непривычными. Это может быть и демократическая организация, но в каком-то особом стиле, характерном для этих регионов. Представительство может носить религиозный или племенной характер, распределяться по квотам между различными группами. Та же Ливийская Джамахирия при Каддафи — это было сложносочиненное государство. Там были свои племена, свои представления о прекрасном, свои группы влияния — в этом во всем надо разбираться. Вот эти три вопроса являются ключевыми для достижения мира в Сирии в частности и на Ближнем Востоке в целом.
— По мере того как войска региональных и мировых держав теснят силы ИГ в Сирии и Ираке, возникает опасность возвращения террористов, получивших боевой опыт, на родину, в том числе в Россию. Что необходимо предпринять, чтобы противостоять этой опасности?
— Вернусь к штурму Мосула. Считается, что там есть две стратегии в отношении нескольких тысяч обороняющихся. Уничтожить, убить или выдавить, позволить уйти. Военная теория учит, что не надо никогда прижимать противника к стенке, иначе он будет отчаянно сопротивляться. Нужно дать ему пространство для отступления, чтобы он бежал, и на этом пути его убивать. Здесь проблема в том, что уничтожение влечет большие потери, что стереть Мосул с лица земли ударом мощного оружия будет неверно. Город надо сохранить, восстановить, об этом сейчас уже ведется речь. Вопрос — каково будет будущее устройство Мосула, на который внимательно смотрят курды, турки и иранцы, шииты и сунниты. Это — громокипящий кубок страстей, который надо как-то организовать и не позволить ему расплескаться в очередной раз.
Теперь к вопросу, что будет с боевиками дальше и насколько они опасны. ИГ возникло на волне воодушевления, мечтаний очень многих людей на Ближнем Востоке и не только, прежде всего, в мусульманском мире. В регионе есть колоссальный запрос на мировую справедливость.
Для многих людей там ИГ — то же самое, чем для многих коммунистов была Республиканская Испания.
Та же психология. Многие люди, вовлеченные в Исламское государство, движимы идеями о справедливом демократическом будущем, а их жестокость во многом следствие их фанатичной вовлеченности в размышления о том будущем, которое им нужно. Когда ИГ будет разгромлено, для этих людей может случиться интеллектуальный и моральный коллапс. ИГ как мечта о справедливом и — на свой лад — демократическом устройстве мира, конечно же, опирается на некоторые мысли, которые достаточно ясно изложены в мусульманском учении. В том числе, что у халифата должна быть территория, поэтому если «Исламское государство» лишится территории, то во многом это подорвет дух его сторонников.
Во-вторых, не надо забывать, что в гражданской войне ИГ противостоят в первую очередь не западные страны, а другие мусульмане, которые, с их точки зрения, не так хороши, как мусульмане, воюющие за ИГ. Фанатики считают, что в ИГ они восстанавливают ту веру, которой тысячу лет никто не следовал, а уж они, наконец, принесут истинную правдивую веру. Отсюда предельно ригористическое, грубое толкование многих вещей, которые, конечно же. за 1400 лет существования ислама очень сильно изменились. Поэтому, возвращаясь к будущему этих солдат, есть два варианта. Очень вероятно, что они продолжат действовать прежде всего на Ближнем Востоке. Но привлекательность ИГ за последние год-полтора сильно упала. Слишком много насилия, слишком много жестокости, пик развития ИГ уже прошел. Полагаю, что ИГ в том виде в котором есть, движется к закату.
Характерная история была в Европе, когда сами сирийские беженцы выдали соотечественника, пытавшегося устроить теракт в Германии. Они подумали: «Хватит, невозможно».
Большинство хочет нормальной жизни. Как только развеется флер исключительно справедливого и демократичного «Исламского государства», возможно, это разоружит его сторонников и они не будут уже столь фанатичны. Любить демократию, западные ценности, Российскую Федерацию от этого они не станут, но, возможно, они не будут столь заряжены идеей продвижения ценностей ИГ. Останутся только автономные террористы, действующие по собственному разуму… Да, они верные сторонники халифата, они подданные халифа. Но за их спиной должен стоять успешный халиф, а его нет — он проигрывает. Ракка еще не взята, город Дабик, где должна произойти битва между неверными и правоверными, взят турецкими войсками — он, во всяком случае, не у ИГ.
Разгром и вытеснение ИГ скорее подорвет воодушевление его сторонников, нежели заставит их броситься во все тяжкие террора.
— Сирийский процесс свелся к противостоянию вокруг президента страны Башара Асада. США и их союзники требуют его смещения, Россия и ее союзники против. С вашей точки зрения, в каком случае можно будет достичь компромисса в этом вопросе?
— Это вопрос баланса сил. Видно, что никто никого влегкую одолеть не может — и это доброе предзнаменование. Из-за множественности игроков и позиций, наличия различного рода центров принятия решений согласовать вопрос будет тяжело. В целом какое-то компромиссное решение обязательно состоится на территории нынешней Сирии, едва ли им удастся полностью друг друга перерезать при всех стараниях. Проблема еще в том, что нет полного единства и на самом Западе.
Есть ощущение, что и в элите США раскол, и это сказывается на поведении самих американцев в регионе.
Мы видим, как драматично проходит в США предвыборная кампания, как глубоки противоречия. Это российская иллюзия, что есть какой-то единственный Вашингтон, где сидят зловещие мудрецы, управляющие миром. Публикации Wikileaks показали, что вскрывать особенно нечего: никаких удивительных тайн не открылось. Видно, что банально, не очень умно, обыденно — ничего сверхвыдающегося. Обычная дипломатическая переписка, как правило, пересказ слухов и болтовни из газет — не надо их переоценивать. Большую роль сыграют выборы, которые вскоре пройдут в США, а затем во Франции и Германии. Возможно, это приведет к тому, что будет избран более целостный подход среди ведущих стран мира по поводу разрешения ближневосточных проблем, в частности сирийского кризиса.
— Изменится ли позиция США в отношении Сирии после прихода новой администрации в январе?
— Должна измениться. Обама в течение долгого времени просто не принимал никакого решения: ни туда ни сюда. Это была какая-то оппортунистическая линия, не военная и не мирная. Было много заявлений, что есть красная черта, за которую переступить нельзя, и за нее сто раз все переступали, иногда достаточно успешно — как в случае с вмешательством России в кризис вокруг химического оружия. Эта кампания здорово отличается от предыдущих. И заявления, которые делают конкуренты, впечатляют. Будем надеяться, что появится новый президент и он должен будет первым делом определиться с Сирией. Кто бы они ни был, думаю, будет выработана позиция достаточно смелая и разумная, потому что в начале срока будет действовать легче.
— Рано или поздно война в Сирии закончится. На данный момент наиболее вероятный исход конфликта — эрозия политических институтов, что поставит Сирию в один ряд с другими странами региона, сильно пострадавшими от военных конфликтов. Среди них Ирак, Йемен, Ливия, Афганистан. С вашей точки зрения, каковы шансы, что эти страны могут восстановиться? Какую опасность они представляют для будущего региона?
— Это очень сложный вопрос — что произойдет с Сирией, Афганистаном, Йеменом. У всех этих стран разные судьбы. В свое время на Аравийском полуострове, в прилегающих районах, были нарезаны очень специфические государственные границы. Я говорил, что они были проведены достаточно линейно. Вопрос, могут ли существовать полноценные этнические государства в регионе? Мы имеем дело с этническими процессами, как, например, в Египте, параллельными процессами религиозными, потому что единая исламская нация — такая идея тоже есть. В этом нет ничего дурного, но как это должно быть устроено, сказать трудно.
В Йемене ситуация на менее драматична, чем в Сирии. На это просто не обращают внимания, хотя процессы там сложны и неоднозначны.
В Афганистане сложно устроенное государство, там есть разные племена и религиозные силы. Думаю, что пройдет очень много времени, прежде чем сложится консенсус. Очевидно, мы не можем просто анализировать эти государства как всего лишь этнические образования. Грубо говоря, когда мы говорим о Балканах, мы видим, что там была, конечно, и религиозная составляющая. Югославия развалилась, она этих противоречий не выдержала. Еще интереснее распалась Чехословакия, которая была образована достаточно искусственным образом — народы близкие, но все-таки разные. Теперь все хорошо, они разошлись без всяких сложностей, они дружат между собой. Если в Европе, сравнительно более, я бы сказал, устало-просвещенной, происходили такие страсти, как на Балканах, то что говорить о более взрывоопасном Ближнем Востоке. Интересна роль развитых стран: с одной стороны, есть ощущение, что их вмешательство порождает новые риски, с другой стороны, без их вмешательства мы бы увидели совсем законченное варварство.
Эти проблемы будет ключевыми на специальной сессии на конференции в Сочи, посвященной Ближнему Востоку. Там будет участвовать и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, будет несколько видных специалистов по Ближнему Востоку. Круг вопросов, затронутых в интервью, и будущее в целом стран Ближнего и Среднего Востока станут предметом дискуссии интеллектуалов на ежегодном заседании Валдайского клуба 25–27 октября. Валдайский клуб — это прежде всего международное интеллектуальное сообщество, в котором гораздо больше иностранцев, чем российских интеллектуалов. Так что будет интересное обсуждение.
Лучшие убийцы в истории авиации
В американский рейтинг лучших истребителей всех времен попал советский МиГ-21
Михаил Ходаренок
Рейтинг лучших истребителей за всю историю авиации составили эксперты американского военно-аналитического издания The National Interest. Авторы списка старались учесть боевую биографию каждого самолета и его вклад в историю авиации, а также тактико-технические характеристики на фоне современников. «Газета.Ru» напоминает историю легендарных машин.
Пять лучших истребителей, как и в других подобных рейтингах, эксперты американского военно-аналитического журнала The National Interest (NI) выбирали по критерию «эффективность – стоимость» и инновационности конструкции для своего времени. По мнению издания, лидерами среди истребителей всех времен и народов можно считать французский SPAD S.XIII времен Первой мировой войны, американский Grumman F6F Hellcat и германский мессершмит Ме-262 «Ласточка» (Schwalbe) Второй мировой войны, советский МиГ-21 и американский McDonnell Douglas F-15 Eagle эпохи «холодной войны».
Истребители оценивались на фоне своих современников по совокупности летно-тактических характеристик, в том числе скорости, маневренности, скороподъемности, вооружении, боевой эффективности. Немаловажное значение имела ремонтопригодность и стоимость боевой машины.
На первое место эксперты NI поставили французский SPAD S.XIII — одноместный истребитель Первой мировой войны. Опытный образец самолета совершил свой первый полет еще 4 апреля 1917 года. На Западный фронт первые экземпляры попали уже к концу мая 1917 года. Самолеты использовались в авиации Великобритании, Бельгии, Франции, Италии и США. В послевоенные годы самолеты этого типа экспортировались в Бельгию, Чехословакию, Японию и Польшу. Было построено в общей сложности 8472 таких самолета.
Максимальная взлетная масса SPAD S.XIII составляла 845 кг.
В воздух машину поднимал восьмицилиндровый двигатель испанско-швейцарской автомобильной фабрики «Испано-Сюиза» 8Be мощностью 200 л.с.
С ним SPAD развивал скорость до 224 км/час. Продолжительность полета самолета составляла два часа. Вооружение истребителя — два пулемета Виккерс калибра 7,7 мм.
На SPAD S.XIII в годы Первой мировой войны воевали лучшие летчики Антанты: капитан Эдуард Верной Рикенбэйкер — лучший ас Соединенных Штатов (26 побед), полковник Рене Поль Фонк (Rene Paul Fonck) — 72 личные и 3 групповые победы — самый результативный ас Франции, французский летчик-истребитель Жорж Мария Людовик Жуль Гинемер (53 победы).
SPAD S.XIII особенно выделялся эффективностью боевого применения и простотой производства. Созданный с учетом многочисленных рекомендаций французских авиаторов (в том числе французского аса Жоржа Гинемера), SPAD S.XIII несколько проигрывал своим германским конкурентам в маневренности, но обладал существенно большей горизонтальной скоростью и скороподъемностью.
На втором месте оказался американский Grumman F6F Hellcat — палубный истребитель США периода Второй мировой войны. Он представлял собой глубокую модернизацию истребителя F-4F Wildcat. В июне 1941 года ВМС США заключили с фирмой Grumman договор о коренной модернизации Wildcat. В итоге во время выполнения задания инженеры создали фактически новый самолет с другой формой фюзеляжа, конструкцией шасси и более мощным двигателем. Производство F6F началось в январе 1943 года. Первый боевой вылет — в августе 1943 года.
За два года боев в небе над Тихим океаном американские летчики на F6F сбили 5156 самолетов (в основном Mitsubishi A6M) — больше, чем на всех остальных американских истребителях вместе взятых. На Hellcat летали 306 летчиков-асов, в том числе Дэвид Маккэмпбэлл — самый результативный ас ВМС США (34 победы). Американская палубная авиация за годы войны потеряла 270 своих самолетов.
Соотношение побед было 13:1 в пользу «Хеллкэтов».
Вместе с палубными пикирующими бомбардировщиками Douglas SBD Dauntless и торпедоносцами Grumman TBF Avenger «Хеллкэты» сокрушили и воздушную, и морскую мощь Японской империи.
Всего было выпущено 12 275 этих истребителей. 1263 из них было передано ВВС Великобритании.
На третьем месте среди лучших мессершмит Ме-262 «Ласточка» (Schwalbe) — немецкий турбореактивный истребитель, бомбардировщик и самолет-разведчик времен Второй мировой войны. Мессершмит-262 начали проектировать в конце 1938 года. Он впервые поднялся в воздух 18 апреля 1941 года с поршневым двигателем. Третий опытный образец с двумя турбореактивными двигателями Jumo-004А поднялся в воздух 18 июля 1942 года. Главным сдерживающим фактором в принятии самолета на вооружение была работа по созданию двигателя, который бы обеспечил достаточную тягу и надежность.
Ме-262 стал первым в мире серийным турбореактивным самолетом и первым в мире турбореактивным самолетом, участвовавшим в боевых действиях.
25 июля 1944 года многоцелевой бомбардировщик Mosquito ВВС Великобритании из 544-й эскадрильи, совершавшей разведывательный полет над Мюнхеном, подвергся нескольким атакам сверхскоростного вражеского самолета. Позже выяснилось, что этим самолетом был реактивный перехватчик Ме-262.
По многим характеристикам новая машина превосходила традиционные самолеты. Ее скорость — более 800 км/час — на 150–300 км/час превышала скорость самых быстрых истребителей и бомбардировщиков. Вне конкуренции была и скороподъемность нового истребителя. Более того, он был способен совершать вертикальный набор высоты, чего не мог делать ни один самолет союзников. В управлении машина была значительно легче, чем мессершмит Bf-109. Me-262 уступал традиционным самолетам в радиусе виража и в разгонных характеристиках. Зато он дольше удерживал высокую скорость разворота и имел очень высокую скорость пикирования.
Вместо высокооктанового авиационного бензина, который становилось все труднее получать в Германии, самолет использовал более простое в производстве топливо. Цена Me-262 была в пять раз выше, чем Bf-109. Тем не менее к началу 1945 года промышленность Германии выпускала по 36 машин Me-262 в неделю. К этому времени в люфтваффе уже поступили 564 самолета. Однако в боях участвовала лишь 61 машина. Примерно в три раза больше самолетов были распределены по учебным подразделениям, около 150 — сбиты и около 200 машин в разобранном виде застряли на железной дороге.
Всего за время войны было выпущено 1930 (по другим данным — 1933) Me-262 различных модификаций, однако в это число входят и 611 выпущенных, но поврежденных или уничтоженных до поступления в части самолетов. 114 из них были восстановлены. Таким образом, на вооружение было принято 1433 машины.
В ходе боев на истребительных модификациях Me-262 было сбито около 150 самолетов противника при собственных потерях около 100 машин. Основными проблемами эксплуатации были низкий уровень подготовки основной массы пилотов, недостаточная надежность двигателей Jumo-004 и их низкая боевая живучесть, а также перебои со снабжением истребительных частей на фоне общего хаоса в терпящей поражение Германии.
Несмотря на то что Ме-262 были значительно быстрее, чем самолеты союзной авиации, многие из них были уничтожены в боях вследствие превосходящей маневренности истребителей союзников, оснащенных поршневыми двигателями. Три Ме-262 были сбиты советскими истребителями.
Ме-262 прибыл на войну слишком поздно, чтобы стать оружием победы Третьего рейха.
На четвертом месте МиГ-21 — советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в середине 1950-х годов. Это был первый МиГ с треугольным крылом. Один из наиболее значимых самолетов периода «холодной войны», МиГ-21 строился с учетом опыта войны в Корее, где сами боевые условия обозначили необходимость в легком, маневренном истребителе, способном развивать сверхзвуковую скорость.
МиГ-21 — самый распространенный сверхзвуковой самолет в истории, а также самый массовый истребитель третьего поколения. В процессе серийного производства он неоднократно модифицировался. Самолет применялся во множестве вооруженных конфликтов.
Этот истребитель выпускался серийно с 1959 по 1985 год. Всего в СССР, Чехословакии и Индии было выпущено 11 496 МиГ-21. Чехословацкая копия этой машины производилась под названием S-106. Еще существовала китайская копия МиГ-21 под названием J-7. Ее экспортная версия F7 продолжает выпускаться и сейчас. По состоянию на 2012 год в Китае было выпущено около 2500 J-7/F-7. Машинами МиГ-21 в разное время были оснащены военно-воздушные силы 39 стран. Благодаря массовости производства самолет отличался очень низкой себестоимостью.
МиГ-21МФ даже стоил дешевле, чем советский БМП-1.
На пятом месте McDonnell Douglas F-15 Eagle — американский всепогодный истребитель четвертого поколения.
В ходе воздушной войны над Вьетнамом американские летчики усвоили два урока: во-первых, скорость и техническая усложненность не подменяет собою маневренности, а во-вторых, ракетное вооружение не подменяет собой пушку. Срочно требовалось создать специализированный истребитель для воздушного боя, способный, однако, не только переманеврировать противника в ближнем бою, но и атаковать его ракетами на дальних дистанциях, вне визуального контакта.
Таким самолетом и стал F-15. Как утверждают специалисты, крыло F-15 представляет собой шедевр аэродинамического проектирования.
Самолет поступил на вооружение ВВС США в 1976 году. Истребители F-15 применялись на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии.
Первый случай боевого применения F-15 произошел 27 июня 1979 года. Группа израильских самолетов во время ракетно-бомбового удара по позициям палестинцев в Ливане была атакована истребителями ВВС Сирии. В этом бою F-15 сбили четыре МиГ-21. В последующие годы F-15 ВВС Израиля неоднократно завязывали воздушные бои с сирийскими МиГ-21 над Ливаном. Всего с июня 1979 года по ноябрь 1985-го F-15 одержали более 50 воздушных побед. Сами израильтяне потерь при этом не имели. 2 июня 1989 года израильские F-15 сбили два сирийских истребителя МиГ-29.
Во время операции «Буря в пустыне» F-15 ВВС США сбили 34 иракских самолета и вертолета. Американцы утверждают, что у истребителей F-15C в воздушных боях потерь не было.
В ходе операции НАТО против Югославии (1999) американские F-15 сбили четыре югославских МиГ-29. Все потери были подтверждены сербской стороной.
Всего за свою историю самолеты F-15 одержали более 100 воздушных побед без потерь от военно-воздушных сил противника.
Утешительные призы
Как и во всех своих рейтингах, эксперты The National Interest несколько боевых машин удостоили поощрительных премий.
Среди них F-86 Sabre — американский реактивный истребитель, разработанный компанией North American Aviation в конце 1940-х годов. F-86 был принят на вооружение ВВС США в 1949 году. Существовало более двадцати модификаций самолета. Выпускался крупной серией, состоял на вооружении многих стран мира вплоть до 1970-х годов. Получил широкую известность в ходе Корейской войны 1950–1953 годов, будучи единственным серьезным соперником советского истребителя МиГ-15.
Fokker D.VII — германский легкий скоростной истребитель. Разработан фирмой Fokker. Первый его полет состоялся в 1918 году. К 11 ноября 1918 года было построено 3300 машин. Самолет считается лучшим немецким истребителем Первой мировой войны. Во второй половине 1918 года самолеты Fokker D.VII составили 75% парка немецких истребительных эскадрилий. Этот истребитель был настолько хорош, что в условия Компьенского перемирия 1918 года специально был внесен пункт, обязывающий уничтожить все самолеты Fokker D.VII.
Lockheed-Martin F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Locheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены F-15 Eagle. F-22 является первым стоящим на вооружении истребителем пятого поколения.
Мессершмит Bf-109 — германский истребитель, состоявший на вооружении люфтваффе и ВВС различных стран почти 30 лет. Являлся одним из двух (наряду с FW.190) основных истребителей люфтваффе (и самым массовым их самолетом) на протяжении всей Второй мировой войны.
Суммарный выпуск самолетов семейства Bf-109 превысил 30 тыс. экземпляров. Является одним из самых массовых самолетов в истории, уступая лишь советскому штурмовику Ил-2 (36 163 машины).
Фокке-Вульф FW-190 — германский истребитель, стоявший на вооружении люфтваффе во время Второй мировой войны. FW-190 успешно использовался в роли высотного перехватчика (в особенности FW-190D), эскортного истребителя, штурмовика и ночного истребителя.
Supermarine Spitfire — британский истребитель времен Второй мировой войны. Различные модификации использовались в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, высотного истребителя, истребителя-бомбардировщика и самолета-разведчика. Всего был построен 20 351 «Спитфайр», включая двухместные учебно-тренировочные машины. Часть машин была поставлена в СССР по ленд-лизу.
North American P-51 Mustang — американский одноместный истребитель дальнего радиуса действия периода Второй мировой войны. Произведено 16 974 боевые машины.
English Electric Lightning — британский истребитель-перехватчик, разработанный в середине 1950-х годов. Выпускался более чем в 14 модификациях.
English Electric Lightning — первый серийный военный самолет, способный выполнять крейсерский сверхзвуковой полет без использования форсажа.
Mitsubishi A6M Zero — японский легкий палубный истребитель времен Второй мировой войны. Выпускался с 1940 по 1945 год, всего построено 10 939 единиц. A6M имел техническое превосходство над самолетами союзников до начала 1942 года. Один из самых известных самолетов на Тихоокеанском театре военных действий.
Су-27 — советский многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Су-27 является одним из основных самолетов ВВС России, его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии и Китае.
General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения (построено свыше 4540 самолетов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Состоит на вооружении ВВС 25 стран. На 2014 год — самый распространенный боевой самолет в мире.
Путин, Сирия, «План Б»
в ближайшее время Дядя Сэм будет с позором изгнан с пьедестала обладателя «сильнейшей армии мира»
Константин Душенов
В течение ближайших четырёх-пяти месяцев мы станем свидетелями того, как под ударами русской эскадры миф об американском военном превосходстве умрёт позорной смертью
Балаган Балаганыч Мосульский
Мир меняется. Американская мощь тает, как снег весной. Вашингтон суетится, бранится, угрожает, а Путин смеется ему в лицо. Европа в ужасе, прибалты в панике, Украина в глубокой… хм… депрессии.
США лихорадочно пытаются замаскировать свои сирийские провалы мнимыми «успехами» в соседнем Ираке. 18 октября они начали «штурм»Мосула, заранее широко разрекламировав его, как «стратегическую победу» и «коренной перелом» в войне с ИГИЛ. В городе полтора миллиона населения и, по разным данным, от 5 до 10 тысяч боевиков. Штурмует его пёстрая коалиция из 60тысяч разноплеменных бойцов. Здесь и курдское ополчение, т.н. пешмерга, «глядящие в лицо смерти». Здесь и отряды шиитскоймилиции, и официальная армия Ирака, и отряды боевиков-суннитов, подготовленных турецкими инструкторами. Плюс т.н. «советники»: спецназ США (куда ж без него?)и «солдаты удачи» из Франции, Великобритании, Турции и других «заинтересованных стран».
С воздуха этой пёстрой толпе обеспечивает поддержку авиация «международной коалиции», взлетающая с американских авиабаз Инджирлик (Турция), Шейх Иса (Бахрейн), Аль Удейд (Катар), Аль Дхарфра (ОАЭ), Принц Султан (Саудовская Аравия) Ас-Салти (Иордания) и с американских авианосцев в Персидском Заливе.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади торжествует: "Сегодня я объявляю о начале победоносной освободительной операции от насилия и терроризма ИГИЛ. Час настал, и момент нашей великой победы близок". Министр обороны США Эштон Картер тоже рад: "Это поворотный момент в долгой войне против ИГИЛ. Не сомневаюсь, что наши иракские партнеры одолеют нашего общего врага и освободят Мосул и весь Ирак от ненависти и жестокости…".
А вот командующий объединенными силами международной коалиции Стивен Таунсенд настроен гораздо более скептически: "Борьба может оказаться долгой и жестокой.Надеюсь, иракцы хорошо подготовились к ней, и мы будем их поддерживать…"Оснований для скепсиса много. В первую голову – противоречия внутри наступающей группировки. Не для кого не секрет: правительственная армия Ирака, отряды шиитского ополчения, протурецкие боевики и курдская «пешмерга» давно и искренне ненавидят друг друга. И все вместе яростно ненавидят американцев.
Курды, например, уже заявили, что в Мосул они входить не будут. И действительно: зачем им проливать кровь, если под давлением Турции американцы их потом все равно заставят из Мосула уйти? Так уже было в Сирии, когда в ходе кровопролитных боёв за город Манбидж курды переправились на правый берег Евфрата в надежде образовать вдоль сирийско-турецкой границы сплошную зону контроля исоздать зародыш независимого «Сирийского Курдистана». Тогда Анкара фактически предъявила Вашингтону ультиматум, пригрозив «выйти из НАТО, если курды не будут остановлены», и испуганные американцы заставили курдов отойти с завоёванных кровью позиций на прежние рубежи.
Американский журнал «Нэшнл Интерест» (18 октября) пишет: «Битва за Мосул может обернуться полной катастрофой. Более миллиона человек могут стать беженцами. Курды заявляют, что захваченные ими вокруг Мосула территории войдут в Курдистан, но иракский премьер Абади решительно предостерег их от таких амбиций. Тем временем шиитская милиция заявляет о готовности убивать американских солдат везде, где их встретит…»
На таком фоне происходят закулисные попытки спецслужб США договорится с ИГИЛ. Типа, купить победу в договорном матче: выплатить полевым командирам «отступные» и выпустить боевиков из Мосула, чтобы они ушли в Сирию, воевать против русских. Но идти далеко: от Мосула до Алеппо 537 километров, до Ракки – 370, до ДейрЭз-Зора около 250. Дойдут ли? По плоской, как стол, пустыне, по прямому, как стрела, шоссе, под наблюдением русских спутников да под ударамисирийской авиации… Сомнительно.
Но американцам быстрая и эффектная победа в Ираке нужна просто позарез. Взятие Мосула, пусть даже постановочное, временное, виртуальное (пара иракских государственных флагов в центре города плюс бешеная пропагандистская кампания во всех подконтрольных Дяде Сэму мировых СМИ) призвано обеспечить победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США и реабилитировать Вашингтон перед союзниками после целой серии оглушительных геополитических провалов на Ближнем Востоке.
Получится ли? Думаю, вряд ли.
И дело тут даже не в том, сумеют ли американцы в ближайшие две-три недели торжественно объявить о «взятии Мосула». Дело в том, что в соседней Сирии войска Асада и русские бомбардировщики уверенно двигаются к настоящей – а не постановочной – стратегической победе. Подавляющее большинство военных экспертов сходятся во мнении: взятие Алеппо будет означать коренной перелом в сирийской войне, после которого окончательное поражение джихадистов, не говоря уже о проамериканской «умеренной оппозиции», кое-как слепленной Вашингтоном из осколков местных бандформирований, станет лишь вопросом времени.
Поняв, к чему идёт дело, американцы учинили в последние две недели форменную истерику. США то угрожали Москве «международным судом» за её мифические «военные преступления» в Алеппо, то намекали на свой таинственный «план Б», в рамках которого Пентагон, якобы, готов применить военную силу, установить над Сирией бесполетную зону и нанести массированные удары по её военной инфраструктуре, невзирая на возможные жертвы среди российских военнослужащих.
Москва хладнокровно выслушала эти истеричные угрозы и ответила Западу словами Путина: «Всё это – политическая риторика, которая большого смысла не имеет и не учитывает реальное положение вещей».И приступила к собственному «плану Б»: перебросила в Сирию дополнительные силы. Сперва – мобильный комплекс С-300В4, чья дальность обнаружения целей составляет до 600 км, а дальность поражения целей гиперзвуковой ракетой 9М82МД – 400 км. Затем – ещё пару десятков мобильных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь СМ», прикрывающих ближнюю зону ПВО на дальности до 40 километров. В довершение всего, к берегам Сирии направилась наша авианосная ударная группировка – самое мощное соединение русских боевых кораблей, покинувшее родные берега за последние 30 лет.
Всё это, вместе взятое, есть не что иное, как смертный приговор любым попыткам США добиться военного превосходства на Ближнем Востоке. Нет, хуже – любым попыткам НАТО впредь решать международные проблемы с помощью грубой военной силы. Нет, ещё хуже – вообще любым попыткам Запада оказать силовое давление на тех, кого Россия считает своими союзниками или просто берёт под свою защиту…
Уважаемые зрители могут смело запасаться попкорном: зрелище предстоит драматическое и увлекательное. В течение ближайших четырех-пяти месяцев, ещё до того, как наша авианосная ударная группировка закончит свою боевую службу в Восточном Средиземноморье, человечество станет свидетелем того, как миф об американском военном превосходстве умрёт позорной смертью.
Зубастые малыши против монстров вчерашнего дня
В этом месте я слышу громкий хор возмущённых голосов: «Нашёл чем гордится: отправили в Средиземное море наш единственный авианосец «Адмирал Кузнецов»! Он ведь совсем старый, его в следующем году собирались чуть ли не на пять лет в ремонт ставить! Похоже, совсем у нас в Сирии дела плохи, если такие старые корабли в дело пошли. Мы что, иначе не способны обеспечить оборону нашей войсковой группировки от возможных американских ударов? И вообще: что может наша средиземноморская эскадра против могучего 6-го американского флота? Да ничего не может! В случае войны она будет уничтожена в течении нескольких часов,это как пить дать! У американцев – авианосцы, ракетные крейсера и эсминцы УРО, авиационные и морские базы в Турции, Ираке, Омане, Катаре, Бахрейне, а у нас что? Дивизион С-400, батарея С-300, двадцать самолётиков в Хмеймиме и десяток маленьких корабликов в Тартусе. И всё! Неужели не понятно, кто кого победит при таком раскладе?»
Да, флот у американцев, действительно, большой. Десятилетиями Америка рвалась к мировому господству, поэтому в основу военной стратегии СШАбыла положена необходимость надёжно контролировать гигантские пространства за многие тысячи километров от собственной территории. Для этого Вашингтон содержит более 900 военных объектов в 150 странах. Чтобы обеспечивать их деятельность и поддерживать боеспособность, американцам жизненно важно иметь свободу океанского судоходства. И вот для того, чтобы обеспечивать своё господство на море, США построили огромный военный флот.
Сегодня ударным ядром и становым хребтом военно-морской мощи Вашингтона являются 10 многоцелевых атомных авианосцев, каждый из которых способен нести на себе авиакрыло, состоящее из 70 самолётов и вертолётов. Для поддержки и охраны авианосцев, ВМС США располагают 22-мя ракетными крейсерами и 62-мя эсминцами, каждый из которых, в свою очередь, оснащен мощными комплексами ПВО и ударными крылатыми ракетами «Томагавк».
Для сдерживания американских авианосцев СССР ещё 30 лет назад развернул мощную межвидовую группировку самолётов дальней авиации и атомных подводных лодок, вооружённых крылатыми ракетами большой дальности, массированный удар которых должен был обеспечить прорыв обороны кораблей охранения и гарантированно уничтожить врага. После развала СССР долгое время казалось, что господство авианосцев США на океанских просторах незыблемо и вечно.
Но неожиданное возрождение русской военной мощи спутало самозваным «хозяевам морей» все карты. Сегодня наша крылатая ракета «Оникс», этот противокорабельный вариант знаменитых «Калибров», способна поразить любую морскую цель на дальности в 500 км. со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука. Причём, масса и габариты этой ракеты таковы, что даже на малых ракетных кораблях водоизмещением менее тысячи тонн можно разместить целых восемь неотразимых «Ониксов»!
Это значит, что даже один такой зубастый малыш – например, МРК «Буян-М», стрелявший в 2015-м году по Сирии аж из Каспийского моря – способен потопить американский крейсер, который больше его чуть не в 20 раз. А два-три «Буяна» могут и вовсе утопить огромный авианосец в 100 000 тонн водоизмещением, со всеми его самолётами и вертолётами! В последние 5 лет этими ракетами оснащаются все без исключения новые корабли и подводные лодки российского флота. А модернизация старых позволяет разместить, например, на атомной подводной лодке 949М проектааж 72 единицы смертельных «Ониксов» и «Калибров»!
Но и это не всё. Недавно на вооружение наших воздушно-космических сил поступилановая противокорабельная ракета Х-32, перехватить которую будет практически невозможно. После старта из-под крыла самолёта эта ракета будет подниматься в стратосферу, на невероятную высоту в 40 км., и там, недоступная для средств противовоздушной обороны противника, на огромной скорости – более полутора километров в секунду – лететь на дальность до 1 000 км. А оказавшись над целью – пикировать на неё практически вертикально, лишая врага последней надежды сбить её на конечном участке траектории. При этом вес боевой части новой чудо-ракеты будет около тонны. С такими характеристиками, попадания даже одной-двух ракет Х-32 в американский авианосец будет достаточно для его гарантированного уничтожения!
Первоначально носителями новой чудо-ракеты станут тридцать модернизированных самолётов Ту-22М3М. Впоследствии число носителей будет значительно расширено, так как массо-габаритные характеристики ракеты позволяют адаптировать к её применению и наши новейшие бомбардировщики Су-34, и многоцелевые истребители Су-30СМ, и даже сверхманевренный Су-35С…
Динозавры под прицелом
Теперь поговорим про мощь американских авианосцев, которые, якобы, в считанные часы могут просто в щепки разнести нашу средиземноморскую эскадру.
Во-первых, самолёты с этих авианосцев заточены для действий против наземных, а не морских целей. Для удара же по кораблям противника они вооружены только старыми крылатыми ракетами «Гарпун», принятыми на вооружение ещё 40 лет назад. Они имеют дальность в 3-4 раза меньше, чем наши «Калибры» и «Граниты», и летят к цели со скоростью в 2-3 раза медленнее, чем ракеты, размещённые на наших кораблях. Американский ракетный крейсер или эсминец несёт всего лишь 8 таких «Гарпунов». А это значит, что ударный противокорабельный потенциал, например, крейсера «Тикондерога» в 10 000 тонн водоизмещением – меньше, чем у нашего малыша «Буяна», водоизмещение которого всего-то 949 тонн!
Во-вторых, старые ударные «Томагавки», которые десятками входят в боекомплект американских кораблей, вообще не могут применяться против подвижных морских целей. А новая дальнобойная противокорабельная ракетаLRASM, которой так гордится Пентагон, будет принята на вооружение на раньше 2018 года. И будет, при этом, заведомо хуже наших «Калибров»: при дозвуковой скорости её дальность составит не более 800 км, в то время как «Калибры» на скорости втрое больше пролетают 500 км, а на дозвуковой скорости и вовсе имеют дальность более 1500 километров!
Плюс к тому, американские самолёты, взлетевшие с авианосцев для нанесения ударов по русским базам в Сирии, неминуемо попадут под удар наших комплексов ПВО С-300В4 и С-400, дислоцированных в Хмеймиме и Тартусе. Не говоря уже о том, что сперва они должны будут вступить в бой с истребителями, дислоцированными на авиабазе «Хмеймим» и на авианосце «Адмирал Кузнецов».
Авианосец этот, к слову, вовсе не старый. Он введён в боевой состав Северного флота в 1991 году. То есть ему всего лишь 25 лет. А учитывая, что у американцев, например, корабли такого класса служат не менее 50 лет, не будет преувеличением сказать, что у него всё ещё впереди. И ремонт, на который «Кузнецов» встанет с 2017 по 2019 год, нужен вовсе не потому, что он одряхлел. Нашему авианосцу предстоит замена электронной начинки и оружия на сверхэффективные образцы нового поколения. Например, на нём утроится (с 12 до 36) количество ударных крылатых ракет. Место громоздких, советских ещё «Гранитов» займут современные «Калибры» и перспективные гиперзвуковые «Цирконы». Авиакрыло пополнится новыми самолётами, связь и навигация станут надёжней и точней. Короче, в старом корпусе будет создан новый боевой корабль, который после такой модернизации сможет прослужить ещё 20-25 лет…
Кстати, аналогичная модернизация вскоре ждёт и атомный крейсер «Пётр Великий», на котором вместо двадцати громоздких «Гранитов» тоже разместят «Калибры» и «Цирконы», которые утроят и без того огромную ударную мощь этого ядерного исполина.
Сценарии войны и смерти
- И всё-таки, – спросит дотошный читатель – можно ли спрогнозировать, хотя бы приблизительно, как будет развиваться ситуация, если американцы всё-таки решатся нанести массированный удар по войскам Асада и по нашей военной группировке в Сирии?
Конечно, можно. И даже не приблизительно, а весьма точно. Более того, составлением таких прогнозов постоянно занимаются высококлассные специалисты в Главном морском штабе и Генеральном штабе Вооружённых сил. Там, с использованием самых современных компьютерных алгоритмов, с учётом опыта многих войн и военных конфликтов, в реальном масштабе времени разрабатываются десятки и сотни, если не тысячи, военных сценариев на самые разных случаи жизни.
Но для составления таких прогнозов необходимо огромное количество информации – от оперативно-тактической и военно-политическойдо финансово-экономической и метеорологической. Значительная часть такой информации совершенно секретна. Поэтому мы с вами, пользуясь данными из открытых источников, можем составить только очень грубый и приблизительный, условный прогноз.
Предположим, американцы подтянут в Восточное Средиземноморье море всю ударную мощь своего 6-го флота, развернув там аж три полноценные авианосные ударные группировки. Или, например, две оставят там, атретью сформируют в составе 5-го флота в Персидском заливе, у побережья Ирака, чтобы атаковать сирийские объекты одновременно с двух стратегических направлений. Или, опасаясь ударов нашей эскадры в Средиземном море, основное ядро своих сил развернут как раз-таки в Персидском заливе и в Красном море, оставив в составе 6-го флота минимально возможное количество кораблей.
Как бы то ни было, в любом из вышеописанных сценариев ядро американской ударной группировки составят:
- 3 атомных авианосца типа «Нимиц» по 100 000 тонн водоизмещением, каждый из которых несёт 70 (в перегруз – до 90) самолётов и вертолётов. Реально на борту такого монстраможет быть около 50 ударных самолётов типа F-16.
- 6-7 ракетных крейсеров «Тикондерога», каждый из которых вооружён 122-мя универсальнымипусковыми установками для ракет идвумя вертолётами. Типовая ракетная загрузка такого крейсера– 26 ударных«Томагавков», 16противолодочных ракет ASROCи 80зенитных ракет «Стандарт-2».
- 12-13 ракетных эсминцев типа «Арли Бёрк»,основным оружием которых являются 96 универсальных ПУ.В загрузке может быть до 56 «Томагавков».
- 3 атомных подводных лодки типа «Вирджиния», вооружённыхчетырьмя торпедными аппаратами и 12-юПУ для «Томагавков».
Действия этих сил будут поддержаны авиацией США с сухопутных авиабаз в Турции, Бахрейне, Катаре и других «нефтяных монархиях».
В результате, в районе боевых действий будет развернуто более 30 американских боевых кораблей (не считая судов обеспечения) и до 300 боевых самолётов (не считая разведчиков, топливозаправщиков и т.д.). На вооружении этой группировки будет 600-800 ударных ракет «Томагавк» для применения по наземным целям, около 200 противолодочных ракет Асрок (до 28 км.) и около 1000 зенитных ракет «Стандарт мисайл-2» и 3.
Это огромная и очень мощная группировка. Но при оценке её эффективности надо учитывать ряд дополнительных факторов, которые снижают боевые возможности американских самолётов и кораблей. Например, тот факт, что зенитная ракета «СМ-2» не может поражать цели, летящие на высоте менее 15 метров или более 15 километров. То есть она просто бесполезна против наших новых ударных ракет. Как против«Калибров», которые атакуютпротивника, летя над морем на десятиметровой высоте, так и против авиационной ракеты Х-32, высота полета которой – 40 км.А ЗУР «СМ-3» вообще бесполезна против маневрирующих целей.Это противоракета системы ПРО с высотой поражения цели до пятисот километров,которая может сбивать спутники на заранее известных орбитах, но не может гоняться за низколетящими аэродинамическимицелями, постоянно меняющими, к тому же, направление и высотуполёта.
Сирийские воробьи и русские ракеты
Противостоять этой американской армаде будет наша Средиземноморская оперативная эскадра и авиационная группировка ВКС на сирийской авиабазе Хмеймим.
Предположим, в составе эскадры Москва развернет15-20 кораблей и подводных лодок, не считая судов обеспечения и разведки. Ядро её ударной мощи составят авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Пётр Великий», 2-3 больших противолодочных корабля, 2-3 ракетных фрегата проекта 11356, 2-3 малых ракетных корабля типа «Буян-М», 1-2 дизельные подводные лодки «Варшавянка» проекта 636.3 и 1-2 атомных подводных крейсера «Антей» проекта 949А с крылатыми ракетами на борту.
На этих кораблях можно разместить до 80 ракет П-700 «Гранит» и до 56 «Колибров». Плюс 70-80 боевых самолетов на «Кузнецове» и в «Хмеймиме». Плюс поддержка дальней авиации: наши Ту-22М3 могут действовать из Моздока через Иран и Ирак, а Ту-160 и Ту-95МС и вовсе способны наносить высокоточные удары ракетой Х-101 по американским базамна Ближнем Востоке, не покидая нашего воздушного пространства. При этом размещённая в европейской части России дивизия тяжёлых бомбардировщиков, самолёты которой могут привлекаться для нанесения таких ударов, насчитывает в своём составе около 80 боевых машин.
Помимо этого, в самой Сирии у нас развёрнуто около 200 ракет новейших комплексов ПВО С-400 и С-300В4, дальность действия которых достигает 400 км. Плюс около 600-800 зенитных ракет ближнего радиуса действия развернуто на кораблях эскадры (на одном лишь «Адмирале Кузнецове» их 448). Это не считая тех мобильных «Панцирей», которые мы разместили в Хмеймиме для защиты своих комплексов С-400. В сумме – более 1000 современных зенитных ракет разного радиуса действия, способных сбивать и американские самолёты, и крылатые ракеты «Томагавк».
При этом не стоит забывать и о Сирийских вооружённых силах. Например, о тех береговых ракетных комплексах «Бастион», которые мы поставили армии Асада ещё в 2011 году. Или о войсках ПВО Сирии. Номинально, это весьма серьёзная сила – до 900 зенитных ракетных комплексов. Из них, конечно, большая часть старых, ещё советских: С-75 «Двина» и «Волга», «Куб», С-125 «Печора» и мобильная «Оса». Да, они старые. Но в 1999 году в Югославии именно такими ракетами сербы сбили американский самолёт-«невидимку» F-117, ударный БПЛА «Предатор» и взлетевший с авианосца истребитель F-16. И американцы эти потери сами официально признали!
Ещё более серьёзную опасность для американских самолётов представляют сирийские комплексы С-200 «Ангара», С-200В «Вега», ракеты которых летят на дальность до 250 км и могут сбивать цели на высотах до 40 км. Есть у сирийцев и некоторое количествовесьма эффективных зенитных комплексов «Бук-М1».
И, конечно, не случайно, выступая недавно перед СМИ, официальный представитель нашего министерства обороны генерал Конашенков специально акцентировал внимание американцев на том, что наши военные специалисты «восстановили боеспособность сирийской ПВО». Предположим, что из 900 комплексов вернули в строй хотя бы половину – скажем, 450-500. Учитывая, что недавно мы поставили сирийцам ещё 36 современных мобильных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сегодня сирийские ЗРК обладают боезапасом никак не меньше 3 000 зенитных ракет разного радиуса действия.
То есть, если у нас и у сирийцев создана единая интегрированная система ПВО, она способна применить по воздушным целям не менее 4 000 зенитных ракет. А при оценке её эффективности не надо забывать и о комплексахрадиоэлектронной борьбы, развёрнутых нами в Сирии. Они включают в себясредства РЭБ на кораблях средиземноморской эскадры, авиационные комплексы РЭБ «Хибины» и мобильные наземные станции РЭБ «Красуха», которые могут очень серьёзно ограничить возможность американского командования управлять своими авианосцами, самолётами и ракетами…
Согласитесь, что при таком соотношении сил никакого реального шанса нанести серьёзный урон нашей средиземноморской эскадре или военной инфраструктуре в Сирии у американской группировки нет! Бывший председатель военного комитета НАТО, немецкий генерал Харальд Куят, выступая недавно в эфире первого германского телеканала, выразил эту мысль очень образно и категорично. Он сказал: «Закрыть воздушное пространство Сирии американцы не способны. Единственное государство, которое может закрыть сирийское воздушное пространство, это Россия. У России – абсолютное превосходство в воздухе. Если бы русские захотели, то в Сирии даже воробьи были бы вынуждены пешком ходить…»
Сирийские воробьи, думаю, пока могут быть спокойны. А вот американские вояки – вряд ли. В случае полномасштабного столкновения потери американцев после первых же наших ударов составят никак не менее половины их группировки, включая два авианосца, два-три крейсера, четыре-шесть фрегатов и не менее ста пятидесяти самолётов. Хотя многое тут будет зависеть от того, кто первый нанесет удар. Если мы сработаем на упреждение и ударим первые, американские потери будут, конечно, существенно больше.
Думаю, вывод очевиден: миф об американском военном превосходстве доживает последние дни! В ближайшее время Дядя Сэмбудет с позором изгнан с пьедестала обладателя «сильнейшей армии мира». Баланс мировых сил меняется неумолимо и радикально, и в новом изменившемся мире взоры всего человечества будут обращены к России, к Москве, к Кремлю…
Клинтон и Трамп: чем похожи и в чем расходятся их позиции по Ирану
Прошлогоднее соглашение по иранской ядерной программе предотвратило угрозу американо-иранского военного противостояния, но основание сделки весьма шаткое. По условиям соглашения Иран свернул свою ядерную программу в обмен на снятие нефтяных, торговых и финансовых санкций со стороны США и шести других мировых держав. Стороны выполнили свои обязательства в январе.
Отношения между США и Ираном потеплели с момента подписания соглашения, к неудовольствию союзников США - Израиля и Саудовской Аравии. Когда-то враждебные друг другу страны теперь сотрудничают, чтобы положить конец гражданской войне Сирии. Стороны не мешают друг другу в борьбе против ИГИЛ в Ираке. Но следующий президент США может столкнуться с определенными проблемами. Иран угрожает отказаться от сделки, если ему не предоставят большую экономическую свободу. В Конгрессе многие республиканцы и даже некоторые демократы по-прежнему хотят, чтобы сделка была аннулирована. Даже если соглашение будет действовать, его ядерные ограничения заканчиваются через семь лет, а это значит, что угроза создания иранского ядерного оружия может возникнуть вновь.
Вопрос заключается в продолжении выбранного курса или его изменения. Хиллари Клинтон помогла заложить основу для ядерной сделки. Как государственный секретарь она поставила перед двумя своими старшими помощниками задачу провести тайные встречи с официальными лицами Ирана. Эти встречи и определили основу для более крупных переговоров. Когда ядерное соглашение вступило в силу в начале этого года, Клинтон высоко оценила его как «важное достижение дипломатии, осуществленное при помощи давления». Тем не менее кандидат в президенты от Демократической партии выбрала более жесткую позицию по данному вопросу, чем президент США Барак Обама. В своей речи в прошлом году она говорила о противостоянии Ирану «по всем направлениям».
Республиканец Дональд Трамп считает иранское соглашение «глупым» и «безобразно односторонним». Он заявил, что в отличие от дипломатов Обамы, он бы покинул переговоры. Но Трамп не хочет отказываться от соглашения. Вместо этого он говорит о введении более жестких мер и возможном пересмотре сделки. Трамп протестовал против некоторых условий этого соглашения, таких как, например, период, во время которого будут действовать ограничения по обогащению урана. Трамп говорит, что Иран получил слишком большую выгоду от снятия экономических санкций. Пока неясно, как он собирается убедить Иран согласиться на менее выгодные условия в уже заключенной сделке.
До активизации дипломатических усилий по урегулированию вопроса о ядерной программе в 2013 году, была реальная возможность войны между США и Ираном. И Клинтон, и Трамп говорят о том, что они будут использовать силу, если появится необходимость предотвращения создания атомной бомбы Тегераном. Если сделка будет аннулирована и Иран увеличит обогащение урана, то возможность военного вмешательства США снова будет реальной.
Любой конфликт может привести к серьезным последствиям. Иран может применить ответные меры и прекратить глобальные поставки топлива из Персидского залива, через который поставляется пятая часть мировых запасов нефти. Он может использовать своих союзников "Хезболлу" и "Хамас" против союзника США Израиля. Тегеран может блокировать попытки положить конец войне в Сирии или сыграть еще большую роль в Йемене, где он оказывает поддержку повстанцам, которым уже удалось захватить большую часть страны.
Но даже если Иран будет придерживаться условий соглашения, то следующий президент по-прежнему может столкнуться с большими проблемами. К 2024 году Иран может возобновить производство и тестирование центрифуг для обогащения урана. Через год он может начать обогащение урана. К концу десятилетия Тегеран может обогатить то количество урана, которое необходимо для военного производства. Ограничения на хранение будут сняты, а проверки со стороны ООН будут закончены. Все эти изменения поставят США перед знакомым вопросом - как удержать Иран от создания атомной бомбы. Официальные лица говорят о возможности последующих переговоров. Но к тому времени многие санкции США потеряют актуальность, и у американского руководства будет меньше рычагов для давления.
AP
Почему Европа проигрывает террористам
В течение последних трех лет западные правительства постоянно критикуют Турцию за то, что она делает "недостаточно" для борьбы с иностранными боевиками и терроризмом в целом. Несмотря на то, что Турция контролирует свои границы, постоянно усиливает пограничный контроль в Сирии и проводит масштабные исследования, этих мер никогда не бывает достаточно. Не оправдались и ожидания от сотрудничества в области разведки и обмена информацией в отношении иностранных боевиков. Не было выражено сочувствия Турции, когда она становилась мишенью международных террористических атак. Ситуация начала меняться после терактов в Брюсселе. Но в структуре безопасности Бельгии есть существенные недостатки, в том числе недостаточное финансирование, а также существенные проблемы с межведомственной коммуникацией.
Террористам удавалось оставаться незаметными для европейских служб безопасности, правоохранительные органы Турции заявили о задержании, арестах и депортациях террористов. Американская программа Frontline "Террор в Европе" показала и другие неудачи европейских властей. Документальный фильм рассказывает о серии провалов и халатности со стороны служб безопасности по всей Европе. По мнению экспертов и должностных лиц, существуют значительные просчеты и системные проблемы по всей Европе. Бывшие сотрудники разведки признали, что не оценивали адекватно степени угрозы и считали их менее опасными, чем они были на самом деле. Некоторые подозреваемые более 10 лет находились под наблюдением, были задержаны несколько раз и представали перед судом. В последние несколько лет они часто пользовались преимуществами пограничного контроля в европейских странах.
Интересно, что один из тех, за кем следили спецслужбы, на некоторое время покинул Францию и отправился в Йемен, чтобы присоединиться к Аль-Каиде. Хотя разведка США предупредила французских коллег об этом человеке, последние не смогли найти ничего подозрительного. После трех лет наблюдения французские власти прекратили слежку за подозреваемым и его бандой. Вскоре они организовали нападение на офис Charlie Hebdo в самом центре Парижа.
Еще об одной угрозе заговорили с появлением ИГИЛ в Сирии. На этот раз службы безопасности разных стран, включая Испанию, предупреждали своих европейских коллег об увеличении числа молодых людей, отправляющихся в Сирию. Страны-члены Евросоюза уклоняются от обмена оперативными данными друг с другом. Под носом у властей Бельгии, группа молодых людей отправились в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Были среди них и те, кто присоединились к ИГИЛ, а потом вернулись на родину. Некоторые из членов банды были впоследствии арестованы, и все признались, что планировали атаковать европейские цели, в том числе и рок-концерт. Были получены многочисленные предупредительные сигналы о грядущей атаке.
В Европе нет никакой координированной деятельности между спецслужбами - даже базы данных Интерпола не используются эффективно.
Два террориста были остановлены полицией на пути во Францию. Один из них считался террористом, а другой входил в контрольный список террористов ЕС, но полиция их отпустила. Были значительные проблемы в обмене разведывательной информацией и расхождения в информации о подозреваемых в терроризме в европейских странах. В то время как спецслужбы искали руководителя террористической группировки в Сирии, он организовал одно из самых смертоносных нападений в Париже. Почти все они были либо в списке террористов, либо под наблюдением. Были все шансы предотвратить атаки. Все члены группы были допрошены и задержаны полицией. А те, кто был оправдан после этого нападения, позже организовали еще одну смертельную атаку в Брюсселе.
Документальный фильм компании Frontline показывает, что существуют серьезные риски для будущего международной безопасности. Угроза исходит от неспособности европейцев координировать свои службы безопасности и делиться разведданными с коллегами в разных частях континента. Настало время для того, чтобы Европа стала более серьезно относиться к этой угрозе и более эффективно сотрудничать друг с другом и такими странами как Турция, которая остается мишенью террористов в течение нескольких лет.
Daily Sabah
Леди Макбет Арканзасского Уезда
призрак Каддафи подкарауливает Хиллари Клинтон.
Исраэль Шамир
В эти дни Хиллари Клинтон борется с Доналдом Трампом за пост президента США. Она его обвиняет в расизме и в приставаниях к женщинам, как принято в США. Ее поддерживает вся без исключения американская пресса, и нынешний президент, и жена нынешнего президента, так что Трампу нелегко.
Но приставания к женщинам и массовые убийства – все-таки в разных весовых категориях. И мне кажется, что в этом споре все чаще появляется между двумя претендентами призрак злодейски замученного ливийского лидера Муаммара Каддафи. А кровь Каддафи – на руках Хиллари.
Мы все видели, как она ликовала и радостно сообщала городу и миру: «Мы пришли, увидели, и он умер», как бы передразнивая латинское «вени-види-вици» древних цезарей. Не она тогда была президентом, а Барак Обама, лауреат премии мира, но к злодейству она, г-жа госсекретарь, подталкивала слабовольного президента, как ее сестричка - леди Макбет – подталкивала своего супруга на убийство короля.
Подумать только – прошло уже пять лет, с тех пор, как был злодейски убит один из самых колоритных политиков и государственных деятелей Арабского Востока, Муаммар Каддафи. Страна, которой он много лет руководил, стала в его годы одной из самых преуспевающих в Северной Африке. Множество экономических мигрантов из Черной Африки находило себе работу в Ливии, вместо того, чтобы рискуя жизнью плыть на крохотных суденышках в Европу. Ливия останавливала миграцию – не силой оружия, а предложением работы.
Каддафи стремился к большим проектам – он создал огромную реку, питавшую земли засушливой Ливии подземными водами, обнаруженными под Сахарой. Он старался соединить воедино арабские страны по плану Гамаль Абдель Нассера; он планировал запустить золотой африканский динар чтобы освободить Африку от эксплуатации.
Каддафи был настоящим борцом против империализма, и его казна всегда была открыта перед революционерами, а иногда – и авантюристами. Он помог Ирландской Республиканской Армии в ее борьбе за свободу Ирландии, он поддерживал палестинское дело, ратовал за Кубу и Вьетнам. Совершенно независимый по характеру человек, он ни на миг не стал «московской марионеткой», как называли враги лидеров, прислушивавшихся к советской компартии. В красной Москве к нему относились хорошо, хотя и пеняли за авантюризм и непослушание. В Москве пост-советской – пытались строить с ним отношения, но это было не просто из-за его самовольного характера и необязательности. Он мог договориться – а потом не выполнить договор.
После падения СССР он решил во что бы то ни стало договориться с Западом. Он отдал западным компаниям ливийскую нефть, приватизировал предприятия и продал их на Запад, помогал американцам в борьбе с Аль Каедой, отказался от арсеналов мощного оружия, и даже заплатил огромную контрибуцию Англии – за якобы сбитый по его указанию британский лайнер. С тех пор мы уже узнали, что к гибели лайнера Каддафи и Ливия причастны не были – его взорвали агенты западных спецслужб. Ливийцев, якобы причастных к гибели лайнера, сами англичане давно отпустили – никаких доказательств против них не было.
Но все попытки Каддафи договориться с Западом ему не помогли. Они не прощают прошлой самостоятельности и полагаются только на послушных рабов. За деньги Катара хулиганье из Египта было вооружено американским оружием и брошено в Триполи. Начался мятеж, во главе которого стояли боевики Аль Каеды. Каддафи справился бы с мятежниками, но на Западе подняли обычный вой: «Каддафи убивает собственный народ!» «Его самолеты бомбят мирное население». Это было ложью, как тогда в Триполи, так и сегодня в Алеппо, как и несколькими годами раньше, когда та же Хиллари Клинтон, эта леди Макбет Арканзасского уезда, настрополила своего муженька Билла на бомбежку Югославии во имя спасения Боснии, а затем Косова.
НАТО приступила к бомбежке Ливии. Западные СМИ лгали, что Каддафи бежал, лгали, что его войска бомбят мирных жителей. Когда Каддафи решился оставить столицу, было поздно. Наблюдатели НАТО отследили его маршрут и передали данные боевикам Аль Каеды. Он был схвачен и страшно, мучительно убит. Над его телом долго издевались, и в Вашингтоне радостно приплясывала г-жа Клинтон.
Прошло недолгое время, и главу дипломатической миссии США в Бенгази – на самом деле агента спецслужб – убили те же боевики, тем же самым методом, что и Каддафи: его изнасиловали ножом.
С тех пор Ливия распалась на воюющие округа, нет там ни мира, ни спокойствия, Арабская Весна окончилась кошмаром, обещанная Хиллари Клинтон демократия не пришла в Ливию – как она не пришла и в Сирию, и в Ирак.
Но с тех пор окровавленный призрак Каддафи ходит по коридорам Белого Дома и Госдепартамента. Он подкарауливает Хиллари Клинтон.
Гуманитарная пауза в Алеппо себя оправдала, зачистка города от боевиков – вопрос только времени, заявил журналистам в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Армия Сирии совместно с отрядами ополчения перешла в наступление на юге Алеппо. Военнослужащие продвигаются к господствующим высотам вблизи жилого квартала 1070, боевики оказывают им ожесточенное сопротивление. Наступление правительственных войск началось через несколько часов после окончания трехдневной гуманитарной паузы, в ходе которой боевикам и мирным жителям была предоставлена возможность покинуть восточные кварталы Алеппо.
"Рано или поздно гуманитарная пауза должна была закончиться. С учетом той ситуации, которую мы сейчас имеем в Сирии, три дня, что продолжалась пауза — это максимально возможный срок", — отметил Клинцевич. Он также подчеркнул, что "зачистка Алеппо от боевиков – вопрос только времени".
Говоря о целесообразности объявленной гуманитарной паузы, сенатор отметил, что можно считать временное перемирие вполне оправданным. "И да, и нет. Никто, конечно, и не ожидал, что боевики, воспользовавшись ею, уйдут из восточной части Алеппо. Тем более что США ровным счетом ничего для этого не сделали. Поэтому в чисто военном плане мы, наверное, не выиграли", — сказал Клинцевич.
В то же время Россия в который уже раз продемонстрировала, что у нее в разрешении сирийского кризиса на переднем плане находится гуманитарная составляющая, и в этом смысле пауза была отнюдь не бесполезна, добавил он. "Боюсь только, что на поведение Запада она никак не повлияет, и обвинения нас во всех смертных грехах будут продолжаться с не меньшей интенсивностью", — полагает политик.
Клинцевич подчеркнул, что в любой войне для общей победы принципиально важно осознавать, что твоя страна отстаивает правое дело. "Именно в этом я вижу главный смысл гуманитарной паузы. Россия честно прошла свою часть пути и теперь никому и ничего не должна", — сказал сенатор.
Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, за сутки увеличилось до 840, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинциях Латакия (три) и Дамаск (одно). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 840", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны России.
Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.
По данным российского Центра по примирению, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.
Отмечается, что для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.
Семидневный срок введенного в Сирии режима прекращения огня истек 19 сентября. Минобороны России ранее заявило, что режим прекращения огня соблюдали только сирийские войска, а со стороны боевиков фиксировались нарушения. Начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской заявил, что Россия, учитывая, что условия режима прекращения огня в Сирии боевиками не выполняются, считает его соблюдение только армией Сирии бессмысленным.
За сутки в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Латакия зафиксировано 71 нарушение перемирия, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
"За сутки зафиксирован 71 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (48), Дамаск (18), Хама (четыре) и Латакия (одно)", — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Так, по данным военного ведомства, вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия в провинции Дамаск обстреляли населенные пункты Джаубар, Бала-эль-Кадима, Дума и Кафер-Батна, позиции правительственных войск в районах высоты с отметкой 612 и фермы в населенном пункте Кусайр, в городе Алеппо – квартал Хай-эль-Антари, в провинции Латакия – позиции правительственных войск на горе Абу-Али.
Кроме того, отмечается, что вооруженные формирования террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо обстреляли населенные пункты Шурфа, Эль-Хадер, Бакиртая, Беньямин; кварталы Рамуси, Эль-Халидия, "3000", Хай-эль-Антари, Хай-эль-Ансари, Эль-Машарка, "1070", Рамуси, Хай-эль-Ансари, цементный завод, торговый центр "Кастелло" в городе Алеппо; КПП № 1 дороги "Кастело", пункты пропуска № 1 в квартале Бустан-Баша, № 5 и № 6 в квартале Шейх-Хадер, № 8 в районе населенного пункта Бакиртая, участок автодороги в районе населенного пункта Араду Зейдун.
В свою очередь, по данным Минобороны РФ, в провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Джаубар, больница Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Мазраат-Махмуд, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джаубар, позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Джаубар и Дума.
"В провинции Хама террористы обстреляли железнодорожную станцию в населенном пункте Каукаб и Тэс в населенном пункте Махарда", — добавляет Центр по примирению.
Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
Новый гуманитарный конвой из 24 грузовиков прибыл в воскресенье в сирийский город Аль-Моаддамийе (al-Moaddamiyeh), который находится западнее Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на местного чиновника.
Как заявил агентству Мохаммад Наим Раджаб (Mohammad Naeem Rajab), занимающийся вопросами примирения, в город было доставлено 7 тысяч продуктовых наборов, 7 тысяч мешков с мукой, медикаменты, зимняя одежда и световое оборудование. По его словам, конвой прибыл в рамках регулярных доставок гуманитарной помощи в город.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, правительству противостоят различные группировки вооруженной оппозиции, а также общепризнанные террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).
Сирийская армия и отряды ополчения перешли в наступление на юге Алеппо после взятия стратегических высот, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Сирийские военные и бойцы ливанского движения "Хезболлах" закрепились на высоте, где расположена боевая часть ПВО и соседняя вышка "Сириятел".
Правительственные войска при поддержке авиации и артиллерии перешли в наступление и продвигаются к господствующим высотам близ жилого квартала 1070.
Террористы оказывают ожесточенное сопротивление. Позиции армии и ополчения подвергаются интенсивному минометному обстрелу. Боевики бьют неприцельно по высотам армии.
В первые часы наступление сирийским военным удалось уничтожить три танка радикальных группировок.
В ночь на воскресенье сирийским военным удалось вернуть контроль над территорией части ПВО и над соседней высотой, где расположена вышка мобильной связи.
Перед военными стоит задача отрезать пути снабжения террористов в квартале 1070 и окрестных районах.
Наступление правительственных войск началось через несколько часов после окончания трехдневной гуманитарной паузы, во время которой боевики и мирные жители могли покинуть восточные кварталы города. Однако террористы отказались уходить и под угрозой смерти запретили делать это мирным гражданам.
Михаил Алаеддин.
Операция по освобождению сирийского Алеппо продолжится так же, как и освобождение иракского Мосула, поскольку победа в Алеппо послужит "началом перемен во всех отношениях", заявил в прямом эфире телеканала Аль-Манар генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
"Битва за Алеппо развивается так же, как и за Мосул. Так как ее результаты приведут к переменам во всех отношениях", — сказал, в частности, Насрулла.
По его словам, бойцы "Хезболлах" продолжат воевать на стороне сирийской армии против терроризма при любых условиях по собственному решению, без какого-либо давления.
"Главная задача "Хезболлах" — противостоять целям террористических группировок в регионе, и мы победили на многих направлениях", — сказал генсек движения.
Насрулла сказал, что в войнах, которые продолжаются в регионе на протяжении нескольких лет, отсутствуют правила и человечность. "В Йемене более полутора лет в осаде живут не менее 20 миллионов человек, и это доказывает, что в этой войне нет правил",- сказал он.
По мнению лидера "Хезболлах", поддержка Саудовской Аравией, Турцией и Катаром террористических организаций в Сирии, включая группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ), осуществляется с одобрения нынешней американской администрации.
"Хезболлах" воюет с террористическими группировками почти с самого начала кризиса в Сирии. Представители движения неоднократно заявляли, что их бойцы встали на сторону сирийского правительства в борьбе с радикалами, в том числе ради защиты ливано-сирийских границ и препятствия проникновению боевиков в Ливан.
Михаил Алаеддин.
The Carnage and Inhumanity in Syria from Wielding a Mighty Pen
Phil Butler
An Associated Press story parroted by hundreds of mainstream media outlets today is symbolic of all that is wrong in world news today. Sarah El Deeb paints a heroic portrait of a jihadist stronghold with, calling the embattled city the “Jewel” of Syrian rebellion. With personal touches and misleading nuance, the AP writer condemns Russia and Assad’s Syrian army, while at the same time creating 270,000 holdouts at a modern Alamo. The piece is ludicrous in its clear propaganda speak.
Russia and Syria have been bombing the streets of eastern Aleppo into rubble, as Al Nusra and other extremists congealed against Assad’s legitimate government are holed up with tens of thousands of hostages at gun and knifepoint. Ordinary residents held hostage, not even allowed to leave as humanitarian corridors open up, are lumped in with the “head choppers” and snipers, and the suicide bombers Washington and its allies have sponsored.
The writer makes use of an infant born in Aleppo, the child of Ibrahim al-Haj, in order to add credibility to utter contrivance. Mother’s milk, starvation, and an uncertain future from the AP are provocative indeed. Then, there it is again, the “jewel” emblem:
“Families like al-Haj’s across Aleppo’s opposition-held eastern districts are wrestling with how to get by day to day. They’re also weighed down with the fear that all their dreams for the crown jewel of the opposition’s territory are on the verge of collapse.”
In the midst of the most horrific regime change in the last 30 years, Associated Press pounds out a fantasy tale of a “shining city” at peace with the world before the current siege began. El Deeb spins a handsome tale of Aleppo, independent from horrid Assad, and trading with Turkey and the world on its own accord! Reading the fantasy my mind wanders to the uneducated reader in America, and whole people’s wondering why the great hope America has not rode in guns blazing already. Then I snap-to and wonder at how many people Associated Press has gotten killed these last 5 years?
The AP cocktail is a mix of liquid democracy, Operation Inherent Resolve, and soap opera detergent sales turned to TOW Missile request. The relentless Russian air assault, brutal Syrian soldiers feared for their massacring ways, and little Laith the infant make for a powerful propaganda punch. At least, that is, if one knows nothing about what has happened in Syria. The author ends the piece with a domestic note of husband-wife squabbling straight out of NBC afternoons studios. Bickering over there being no bread, unfortunate family featured in this are leveraged like crow bars in order to pry tears and anger from American readers.
There’s no mention in the article about hospitals turned into terrorist triage centers and sniper nests. Sarah El Deeb, whose work also appears in The Times of Israel and Military Times, she never goes so far as to tell readers about how Laith and his family cannot leave, even with a ceasefire, for fear of being gunned down by these “rebels”. No, these little children and their parents are Jihadists too, at least in her eyes. The whole of east Aleppo is united as one, like Texans holding out against the evil Mexican President General Antonio López de Santa Anna. The former ARD German Radio producer is not the only biased reporter on the Aleppo beat thought. From the BBC to the Boston Herald everybody has the same story. Unfortunately the story is not accurate, and because it is not many more people are going to die.
Russia’s Ministry of Defense was blamed not long ago for bombing an aid convoy. Like most such stories, it went away after some scrutiny. Even though the US broke a previous ceasefire and even attacked Assad’s forces, AP fails to carry that side. When the humanitarian corridors opened up this time, the Russian Ministry of Defense was ready, live streaming the checkpoints so there could be no false flag or provocation before the world. Next we heard reports of killings in east Aleppo, and no civilians taking their bombarded children from the militarized zone. Still, the mighty members of the Associated Press corps were silent. The News York Times, the US State Department, and even France’s Francois Hollande scream and scream; “Those barbarian Russians! War crimes, war crimes!”
But the real crime is committed with the mighty pen, at least its digital equivalent. The New York Times picks up an AP report and tells of the mysterious evacuation that isn’t. It’s as if everyone left there is waiting to be tucked under Obama’s or Hillary Clinton’s wing. Maybe they are willing to sacrifice their children to the Jihad, but somehow I doubt it. The Associated Press is culpable, and I hope each and every one of them takes my admonition personally. This is the end of truth in media, the carnage of the pen.
Афганистан — живое свидетельство политического безумия Америки
Виктор Михин
Октябрь 2001 года вошел в мировую историю как очевидное свидетельство безумных планов Вашингтонских «стратегов» по завоеванию мирового господства. Именно тогда началось агрессивное вторжение американских войск в Афганистан под надуманным предлогом мести за печальные события 9/11. Но ни тогда, ни сейчас не было ни одного свидетельства того, что именно Афганистан и Талибан причастны к атаке на здания-близнецы Всемирного торгового центра. Но зато доподлинно известно, что большинство исполнителей (но не заказчиков) были саудовскими подданными. Однако тогда Вашингтон и Эр-Рияд были друзьями, и вместо Саудовской Аравии под каток мощнейшей армии был подставлен ничем не повинный Афганистан.
С тех времен прошло 15 лет афганской оккупации со стороны США и их европейских пособников и можно уже подвести итоги, а вернее, констатировать развал государственного устройства, уничтожение промышленности, сельского хозяйства, элементарной социальной структуры. Но зато под наблюдением и контролем американских генералов расцвели ярким малиновым цветом маковые поля, а производство наркотиков возросло более чем в десятки раз. Это отравленное зелье широким потоком при помощи ЦРУ идет в Россию, Европу и Америку. Однако это мало интересует Вашингтон, который при помощи продажи наркотиков финансирует свои оккупационные войска в Афганистане.
Если США рекламировали своей целью отстранение талибов от власти, борьбу с терроризмом, уничтожение Аль-Каиды, то следует заметить, что сейчас талибы контролируют десять процентов населения, на территориях военного конфликта проживает треть населения, составляющего 31 миллион жителей. Это неутешительные итоги после 15 лет войны, в которой против талибов воевало около 140 тысяч американских солдат и 36 тысяч военных из других стран.
В то же время есть определенная тенденция, что пришедшая в Афганистан организация ДАИШ (запрещена в России), по сути, открыла «второй фронт» глобального исламистского сопротивления, помимо Ирака, Сирии и Ливана. Афганистан может стать, да и уже становится ареной столкновения, а иногда и союза Талибан с ДАИШ. Но очень по-разному в южных и северных провинциях страны. Если на юге, в Гильменде и Кандагаре, в борьбе за плантации и производство наркотиков эти две силы активно противостоят друг другу, то на севере Афганистана они, как сегодня выясняется, вполне мирно сотрудничают, а жители нередко переходят из одной структуры в другую.
В 2015 году операция НАТО (ISAF — Международные силы содействия безопасности) сменила свое название и теперь называется «Решительная поддержка». Она должна была стать последней фазой операции, начало которой положил Буш-младший, и от которой Барак Обама должен был поспешно отказаться. Однако до сих пор США это не удалось, они так и увязли там, словно снова попали в ловушку.
А ситуация в самом Афганистане остается катастрофической: 15 лет спустя после начала американской операции «Несокрушимая свобода» страна не в состоянии себя прокормить. Афганский президент Ашраф Гани заявил в Брюсселе на Всемирной конференции доноров, что каждый третий афганец получает меньше полутора долларов в день и практически голодает, у детей нет физической возможности посещать школы. Без международной помощи правительство в Кабуле долго не протянет. Это понимают все и потому продолжают давать деньги коррумпированным афганским властям. Как заявляет руководство ЕС, «сейчас не время сокращать помощь афганскому народу».
В сегодняшнем Афганистане за чертой бедности проживает 42% населения, и у этой проблемы глубокие социально-демографические корни. Значительное число молодёжи не имеет доступа к качественному образованию, а около 7 млн молодых людей не могут найти работу у себя на родине. Проблема безработицы в молодёжной среде стоит наиболее остро и продолжает быть основным «фактором отчаяния», которым умело пользуются враги Афганистана для разжигания ситуации, их мобилизации в ряд террористических организаций. Кроме того, крайне низкая эффективность борьбы с наркотиками, при том, что в Афганистане за время нахождения натовских войск произошла своего рода «опиумная революция», привела к тому, что в сельских районах ряд жителей не смогут прожить без «наркотических» денег.
После вывода основной части зарубежных воинских контингентов ситуация внутри Афганистана резко ухудшилась. Правительственные войска контролируют не более двух третей территории страны, а реально — гораздо меньше. Радикальное движение Талибан полностью восстановилось после начала американской военной операции в 2001 году. Дело дошло до того, что талибы захватили на несколько дней стратегически важный город Кундуз на севере Афганистана — в непосредственной близости от таджикской границы. Это уже второй захват Кундуза за год с небольшим.
Сложная военно-политическая ситуация Афганистана, вполне естественно, создает угрозу и опасность южным рубежам государств-членов ОДКБ и представляет угрозу региональной безопасности и стабильности многим странам региона. Это прекрасно понимает руководство стран региона. Например, индийский премьер-министр Нарендра Моди в своем заявлении, которое было сделано в ходе саммита БРИКС в штате Гоа, заявил: «Президент Путин и я выразили схожие взгляды на ситуацию в Афганистане и беспорядки в Передней Азии. Мы высоко ценим понимание России и ее поддержку наших действий по борьбе с трансграничным терроризмом, который угрожает всему региону». В этой связи, можно напомнить, что в своем интервью Владимир Путин подчеркнул, что российская и индийская стороны привержены задаче многостороннего взаимодействия в рамках поддержки Афганистана, в том числе в рамках стабилизации ситуации с безопасностью, противодействия наркоугрозе, а также «обеспечения социально-экономического развития и расширения взаимосвязанности».
Вне всякого сомнения, и об этом говорят многие эксперты по Ближнему Востоку, будущее Афганистана существенным образом зависит от разрешения глобальных противоречий между НАТО, Китаем и Россией. Кроме того, существенное влияние оказывают и региональные противоречия между Индией и Пакистаном, Ираном, арабскими странами Персидского залива и Турцией. Сложное политическое и экономическое положение в стране на протяжении нескольких десятков лет вызвало на свет, казалось бы, забытые исторические противоречия, например, между пуштунами-дуррани, ныне тяготеющими к бывшему президенту Хамиду Карзаю, и пуштунами-гильзаями из восточных регионов страны. Все это накладывает негативный оттенок на неурегулированность ряда проблем внутри страны и еще более откладывает мирное разрешение проблем в Афганистане.
America’s Ironic “Two-Faced” War on Terror
Joseph Thomas
Rarely ever does hypocrisy align so succinctly as it does within the pages of American policy and media coverage. US policy think tank, the Brookings Institution, recently provided an extreme example of this in a paper titled, “A convenient terrorism threat,” penned by Daniel Byman.
The paper starts by claiming:
Not all countries that suffer from terrorism are innocent victims doing their best to fight back. Many governments, including several important U.S. allies, simultaneously fight and encourage the terrorist groups on their soil. President George W. Bush famously asked governments world-wide after 9/11 whether they were with us or with the terrorists; these rulers answer, “Yes.”
Some governments—including at times Russia, Egypt, Turkey, and Pakistan among others—hope to have it both ways. They use the presence of terrorists to win sympathy abroad and discredit peaceful foes at home, even while fighting back vigorously enough to look plausible but not forcefully enough to solve the problem. This two-faced approach holds considerable appeal for some governments, but it hugely complicates U.S. counterterrorism efforts—and the U.S. shouldn’t just live with it.
Byman then begins labelling various nations; Somalia as a “basket-case,” Iran as a “straightforward state sponsors of terrorism” and attempts to frame Russia’s struggle against terrorism in Chechnya as somehow disingenuous or politically motivated.
Byman also attempts to claim Syrian President Bashar Al Assad intentionally released terrorists from prison to help escalate violence around the country and justify a violent crackdown, this despite reports from Western journalists as early as 2007 revealing US intentions to use these very terrorists to overthrow the governments of Syria and Iran specifically, the New Yorker would reveal.
The US is as Much a Sponsor of Terrorism in Reality as Byman Claims Others are in Fiction
But worse than Byman’s intentional mischaracterisations and lies of omission regarding US allies like Saudi Arabia, Qatar and Israel’s overt, global-spanning sponsorship of terrorism, is the fact that not only is the US itself engaged in sponsoring terrorism as it poses as fighting against it globally, the Brookings Institution and Byman have specifically and publicly called for the funding, training and arming of designated foreign terrorist groups in pursuit of self-serving geopolitical objectives.
Indeed, Daniel Byman is one of several signatories of the 2009 Brookings Institution report, “Which Path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran.”
The report not only reveals the blueprints of using supposedly “peaceful” and “democratic” protests as cover for violent, US sponsored subversion (as was precisely done in Syria beginning in 2011), it specifically lists a US State Department-designated foreign terrorist organisation as a potential US proxy in violently rising up against, and eventually overthrowing the government in Tehran.
The report would explicitly state (our emphasis):
Perhaps the most prominent (and certainly the most controversial) opposition group that has attracted attention as a potential U.S. proxy is the NCRI (National Council of Resistance of Iran), the political movement established by the MEK (Mujahedin-e Khalq). Critics believe the group to be undemocratic and unpopular, and indeed anti-American.
In contrast, the group’s champions contend that the movement’s long-standing opposition to the Iranian regime and record of successful attacks on and intelligence-gathering operations against the regime make it worthy of U.S. support. They also argue that the group is no longer anti-American and question the merit of earlier accusations. Raymond Tanter, one of the group’s supporters in the United States, contends that the MEK and the NCRI are allies for regime change in Tehran and also act as a useful proxy for gathering intelligence. The MEK’s greatest intelligence coup was the provision of intelligence in 2002 that led to the discovery of a secret site in Iran for enriching uranium.
The report then admits MEK’s status as a designated foreign terrorist organisation and that it has targeted and killed both American officers and civilians in the past (our emphasis):
Despite its defenders’ claims, the MEK remains on the U.S. government list of foreign terrorist organizations. In the 1970s, the group killed three U.S. officers and three civilian contractors in Iran. During the 1979-1980 hostage crisis, the group praised the decision to take America hostages and Elaine Sciolino reported that while group leaders publicly condemned the 9/11 attacks, within the group celebrations were widespread.
The Brookings Institution also admits in its report that undoubtedly MEK continues to carry out undeniable terrorist activity against political and civilian targets within Iran, and notes that if MEK is to be successfully used as a US proxy against Iran, it would need to be delisted as a foreign terrorist organisation (our emphasis):
Undeniably, the group has conducted terrorist attacks—often excused by the MEK’s advocates because they are directed against the Iranian government. For example, in 1981, the group bombed the headquarters of the Islamic Republic Party, which was then the clerical leadership’s main political organization, killing an estimated 70 senior officials. More recently, the group has claimed credit for over a dozen mortar attacks, assassinations, and other assaults on Iranian civilian and military targets between 1998 and 2001. At the very least, to work more closely with the group (at least in an overt manner), Washington would need to remove it from the list of foreign terrorist organizations.
And eventually, that is precisely what was done. MEK would be delisted by the US State Department in 2012, announced in a US State Department statement titled, “Delisting of the Mujahedin-e Khalq,” which noted:
With today’s actions, the Department does not overlook or forget the MEK’s past acts of terrorism, including its involvement in the killing of U.S. citizens in Iran in the 1970s and an attack on U.S. soil in 1992.
The Department also has serious concerns about the MEK as an organization, particularly with regard to allegations of abuse committed against its own members. The Secretary’s decision today took into account the MEK’s public renunciation of violence, the absence of confirmed acts of terrorism by the MEK for more than a decade, and their cooperation in the peaceful closure of Camp Ashraf, their historic paramilitary base.
MEK’s inability to conduct violence in the decade preceding the US State Department’s decision was not because of an ideological commitment to nonviolence, but a matter of strategic limitations placed on the terrorist organisation by Iraqi and Iranian security forces who were determined to liquidate it and who forcibly disarmed the group.
And even if the 2012 US State Department decision was based on an alleged decade of nonviolence, the policymakers at the Brookings Institution who signed their names to “Which Path to Persia?” including Daniel Byman, certainly did not apply the same criteria in suggesting its use as an armed proxy.
In all likelihood, had Iraq and Iran not successfully cornered and disarmed the group, it would be fighting America’s proxy war against Tehran on both sides of the Iran-Iraq border. MEK fighters would be carrying out US-backed armed violence against Iran and Iraq side-by-side other US-backed terrorist groups operating across the region as part of America’s current proxy war against Syria, Russia and Iran.
Daniel Byman of the Brookings Institution’s latest paper even at face value is disingenuous, full of intentional mischaracterisations meant to direct attention away from the US and its closest allies’ own sponsorship of terrorism amid a very much feigned “War on Terror.” Understanding that Byman quite literally signed his name to a policy paper promoting the arming and backing of a US State Department designated foreign terrorist organisation makes his recent paper all that more outrageous.
What is also as troubling as it is ironic, is that Byman not only signed his name to calls for arming a listed terrorist organisation, he was also a staff member of the 9/11 Commission, according to his Georgetown University biography. A man involved in sorting out a terrorist attack who is also advocating closer cooperation with listed terrorist organisations is truly disturbing.
The political and ethical bankruptcy of American foreign policy can be traced back to its policy establishment, populated by unprincipled hypocrites like Byman and co-signatories of Brookings’ “Which Path to Persia?” The US certainly cannot convince other nations to abandon an alleged “two-faced” policy of promoting and fighting terrorism simultaneously when it stands as a global leader in this very practise.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























