Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Заявления для прессы по итогам российско-сербских переговоров, 24 дек. 2008г., Москва, Кремль.Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые господа, если нет возражений, мы с президентом скажем несколько слов в связи с нашей встречей, переговорами и результатами, на которые мы рассчитываем выйти.
Хотел бы еще раз поприветствовать в Москве президента Сербии господина Тадича. Нынешний визит – это свидетельство устойчивого, поступательного развития наших отношений, дружеского характера связей между Россией и Сербией, надежного характера наших отношений, которые, по сути, можно сегодня назвать отношениями стратегического партнерства. Конечно, они основаны на нашей духовной, культурной близости, на истории, на многовековом сотрудничестве. Но мы заинтересованы, с другой стороны, и в том, чтобы эти отношения приобретали новые формы, чтобы они получали новые импульсы, – собственно, что только что и состоялось, когда мы завершили процесс подготовки и подписания большого энергетического пакета, который объединяет Российскую Федерацию и Сербию.
Я думаю, что символично, что это произошло перед новым годом, тем годом, который, наверное, создаст дополнительные возможности для развития наших экономик, для обеспечения энергетической безопасности наших стран и Европы в целом, и в то же время – года, который, мы уже об этом сегодня говорили с господином президентом, явно не будет легким. Такого рода двусторонние соглашения придают дополнительные стимулы развитию экономик, они создают дополнительную базу для того, чтобы помогать экономикам в таких непростых условиях, и в конечном счете работают на решение больших задач. И вот эти три ключевых совместных проекта, по которым мы договорились и которые сейчас были подписаны, относятся к таким, по сути, эпохальным событиям.
Сегодня мы обсудили и вопросы торгово-экономического сотрудничества. Понятно, что за последние годы сделано было немало. Товарооборот между нашими странами довольно значительно вырос. Сегодня он измеряется уже миллиардными суммами, это четыре миллиарда долларов – где-то, во всяком случае, такие будут показатели по итогам работы в этом году. Главное, чтобы и в результате тех документов, которые только что были подписаны, и в результате других крупных инвестиционных проектов, которые существуют, а мы только что обсуждали и еще несколько проектов с господином президентом, этот товарооборот не снижался, а, наоборот, наращивался, укреплялся, и это способствовало бы развитию наших экономик.
В этой связи я считаю очень важным не только прямой диалог между руководством наших стран, не только прямой диалог между межправкомиссиями, которые активно работают, между ведомствами, которые также часто встречаются, обсуждают разные вопросы, но и прямой диалог между бизнес-сообществами, между предпринимателями. И это хорошо постольку, поскольку не так давно был создан специальный российско-сербский Деловой совет – совет по бизнес-диалогу.
Мы не должны ограничиваться только экономическими связями. У нас действительно очень богатая история. И культурно-образовательные проекты, научные связи должны расширяться. Мы говорили о подписании ряда новых документов, таких как программа сотрудничества на трехлетний период по вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Неплохой идеей, на мой взгляд, была бы и идея возобновления практики Дней России в Сербии и Дней Сербии в России. Во всяком случае, это те темы, которые являются для наших стран очень важными, близкими и по которым нам друг другу, собственно, нечего доказывать. Нам нужно просто расширять объемы сотрудничества, чаще встречаться, возить творческие коллективы и просто расширять взаимодействие между самыми разными общественными организациями и коллективами, да и просто чтобы люди спокойно ездили друг к другу в гости, проводили бы время, отдыхали. Это тоже очень хорошо.
Мы обсудили и текущую международную ситуацию. Конечно, она непростая. На нее оказывают влияние, помимо традиционных мировых угроз, и проблемы с международным финансовым сектором, глобальный финансово-экономический кризис. Он не способствует решению ряда сложных проблем. Российская Федерация еще раз в моем лице заявила о том, что наша линия на поддержку урегулирования косовской проблемы в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 1244 остается неизменной. Мы исходили и сегодня исходим из того, что одностороннее признание независимости Косово крайне негативно сказалось на региональной и международной безопасности. Здесь в нашей позиции ничего не меняется.
Тем не менее и косовский прецедент, и те проблемы, которые возникли на Кавказе, и наши последующие действия по защите граждан Российской Федерации и защите молодых субъектов международного права делают весьма насущным вопрос о подписании специального соглашения о глобальной европейской безопасности. Я еще раз об этом сказал господину президенту. Я считаю, что такого рода соглашение не направлено против кого-то, оно не является антиблоковым, оно тем более не является каким-то соглашением, которое подрывает сложившиеся основы европейского миропорядка, а наоборот, оно должно обеспечить нормальные условия сотрудничества, обеспечить полноценный характер отношений между всеми государствами, которые живут на европейском континенте. Мы эту линию проводили и будем проводить, рассчитывая на взаимопонимание и со стороны других европейских государств.
Еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке этих важных документов. Мы еще в феврале встречались в Белграде – по сути, дали старт этому процессу. Сегодня мы поставили точку в этих вопросах, но, конечно, это, с другой стороны, начало большой, серьезной и, я уверен, взаимовыгодной работы.
Спасибо, господин президент, за Ваш приезд в Российскую Федерацию. Рассчитываем на то, что эти соглашения придадут дальнейший импульс российско-сербскому сотрудничеству.
Б.ТАДИЧ: Господин президент! Спасибо Вам за приятные слова. Одновременно у нас есть возможность снова побеседовать об очень важных вопросах наших двусторонних отношений и о вызовах, с которыми сталкивается международное сообщество сегодня в условиях мирового финансового кризиса.
Такой кризис, кризис такого размера угрожает всем, что определенным образом дестабилизирует уже установившиеся основы в международном сообществе. Я сегодня уже об этом говорил и с Вами, что произойдет какое-то новое определение отношений в глобальном плане среди основных участников международных политических процессов. Я думаю, что нам необходимы новые структуры, новые авторитетные институты, в которых участвуют все страны мира, что нам необходимы решения для выхода из тех испытаний, с которыми сегодня сталкиваются экономики всего мира и особенно наши национальные экономики.
Мировой экономический кризис повлиял на Сербию так же, как и на Россию, на все другие страны. Но Сербия хочет со своей стороны помочь тому, чтобы в регионе, в котором она существует, в регионе Юго-Восточной Европы помочь стабилизации экономической и политической безопасности. С большим уважением мы следим за вашими политическими выступлениями, за вашими инициативами во всех областях. Для Сербии очень важно, что в лице России она будет иметь и дальше поддержку по принципиальным вопросам защиты целостности нашей страны.
Я хочу еще раз поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказывали по Косово и Метохии. Это для Сербии и ее целостности самый значительный вопрос.
Второй вопрос, с которым мы сегодня сталкиваемся, и вызов, который бьет по Сербии, – это вопрос энергетического развития, и поэтому это соглашение в энергетической области имеет для нас стратегическое значение. Наши две страны, две наши экономики будут связаны этими тремя соглашениями, этими тремя документами, которые мы подписали сегодня в Москве. Таким образом, речь идет о долгосрочном снабжении Сербии газом, речь идет о производстве нефтепродуктов в Сербии для рынка всей Юго-Восточной Европы, речь идет о защите окружающей среды, сохранении уровня жизни граждан, процветании нашей экономики, о сохранении рабочих мест для наших людей. Мы весьма довольны, что российская сторона, «Газпром» как очень уважаемая российская компания сегодня выступает на сербском рынке и что с сегодняшнего дня она станет также и нашей, сербской, компанией.
Господин президент, у нас очень глубокие дружественные отношения, у нас традиционные отношения, наши культуры связаны, наши народы еще далеко в прошлом были связаны. А такими договорами мы укрепляем наши отношения на будущее.
Еще раз приглашаю Вас посетить Белград, Сербию. Это наша третья или четвертая встреча только за этот год, и уверен, что очень хорошо, что мы встречаемся, будем встречаться и в следующие годы, и что за каждой нашей встречей будут стоять конкретные дела. До сих пор политику Сербии и России характеризовали идеи красивых намерений, но сегодня помимо этих идей у нас есть конкретные дела, которые являются результатом наших встреч, то есть конкретное осуществление, являющееся результатом наших совместных планов. И я уверен, что мы еще очень многое можем сделать и в области культуры, и в области международной политики, и в области экономики, на чем, в общем-то, и основывается весь мир.
Для меня действительно большое удовольствие, что я сегодня в Москве участвую в этой церемонии, что мы вместе подписали документ, который является гарантией реализации всех этих проектов в энергетической области.
И еще раз спасибо России за поддержку по всем принципиальным вопросам международной политики, в которых участвовала Сербия в прошедшие годы.
Латвия из-за тяжелой экономической ситуации в стране может отказаться в 2009г. от закупки новых вооружений и участия в некоторых военных операциях НАТО, сообщил журналистам в понедельник госсекретарь минобороны республики Янис Сартс, передает РИА «Новости».В 2009г. минобороны Латвии планировало приобрести у компаний США и Евросоюза военную технику – в т.ч. корабли, радары и системы морского наблюдения – на 78 млн. латов (156 млн.долл.). Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС. ВВП страны в III кв. 2008г. по сравнению с тем же периодом пред.г. упал на 4,6%. Латвия обратилась за помощью к МВФ и Еврокомиссии.
Сейм (парламент) республики утвердил план стабилизации экономики, который предусматривает сокращение расходов государственных структур на 15%, а также повышение налогов. На данный момент латвийские военные участвуют в двух зарубежных миссиях НАТО – в Афганистане и Косово.
Как заявил госсекретарь минобороны Латвии Янис Сартс, государство из-за тяжелой экономической ситуации может отказаться в 2009г. от участия в ряде военных операций НАТО и закупки новых вооружений, сообщает «Взгляд».Латвия принимает участие в военных операциях НАТО в Афганистане и Косово, при этом также было запланировано ее участие в действиях войск быстрого реагирования НАТО. Однако теперь Латвия может отозвать своих военнослужащих.
Латвия переживает сильный экономический спад, ВВП страны в III кв. 2008г. по сравнению с тем же периодом 2007г. упал на 4,6%. Страна уже обратилась за помощью к МВФ и Еврокомиссии.
Для стабилизации ситуации в экономике латвийским сеймом был утвержден план, который предусматривает сокращение расходов государственных структур на 15%, а также повышение налогов.

Возможен ли конструктивный национализм?
© "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2008
Л.М. Дробижева – д. и. н., профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН, руководитель Центра исследований межнациональных отношений ИС РАН.
Резюме Эксперты и политики пытаются определить различные типы национализма, понять, чем отличается национализм этнический от национализма гражданского и в чем состоит потенциал последнего. Стало очевидно, что этнический национализм жив. Но если его проявления неизбежны, можно ли перевести его в либеральные, ненасильственные формы?
В 2008 году ситуации вокруг Косово, Абхазии и Южной Осетии вновь продемонстрировали явную коллизию между принципами права наций на самоопределение и территориальной целостности государств, а также то, как сложно найти ответ на вызовы сепаратизма. В мире снова повысился интерес к феномену национализма. Эксперты и политики пытаются определить различные типы национализма, понять, чем отличается этнический национализм от национализма гражданского и в чем состоит потенциал последнего. Стало очевидно, что этнический национализм жив. Но если его проявления неизбежны, можно ли перевести его в либеральные, ненасильственные формы?
КЛЮЧИ К ПОНИМАНИЮ НАЦИОНАЛИЗМА
Споры о силе, влиянии и практических последствиях национализма не утихают десятилетиями. «Нет в мире силы мощнее», – писал Майкл Линд в 1990-х. «Национализм далек от смерти», – утверждает десятилетием позже американский политический социолог Майкл Манн. Американский историк Джерри Мюллер рассуждает об устойчивости этнического национализма («Россия в глобальной политике», № 3, 2008 г.). О расхождениях между тем, что националисты декларируют и что они делают на практике, писал еще в 1970-х годах Эли Кедури. В последующие десятилетия данная проблема обсуждалась Эрнестом Геллнером и Эриком Хобсбаумом. Речь, конечно, прежде всего идет об этническом национализме.
В литературе и политической практике принято различать гражданский, или, как его именовал известный историк Ганс Кон, западный, национализм по модели Франции и Великобритании. Его также называют рациональным, основанным на преданности государству, свободном самоопределении личности. Именно в этой плоскости лежит американское понимание нации.
Вторым вариантом является этнокультурный, или этнический, национализм. Его считают иррациональным – ведь он апеллирует к «голосу крови», «совместной истории» и основан на преданности народу, который имеет определенную культурную базу. Такую модель принято называть «немецкой», именно к ней ближе всего срез российских представлений о нации и национализме.
Национализм определяют как идеологию, согласно которой интересы и ценности нации как группы обладают приоритетом перед другими интересами и ценностями. Нация должна быть как можно более независимой, она стремится иметь, как писал об этом Геллнер, «политическую крышу». В сложных, «многонациональных», государствах это может означать стремление к достижению автономии или даже сецессию. Таким образом, национализм – это всегда политическое движение, нацеленное на завоевание либо удержание политической власти, всегда вызов для центра.
Два обстоятельства побуждают вновь обратиться к теме этнонационализма.
Первое связано с растущим разрывом между популистскими, идеологизированными политическими взглядами и научными разработками проблем национализма.
Второе – стремление еще раз обратить внимание на вариативность национализма, определяющую отношение к нему со стороны общества.
Феномен национализма подобен айсбергу: лишь верхушка находится на поверхности, бЧльшая же часть скрыта от непосредственного наблюдения. В зависимости от социально-политического контекста подводная часть всплывает, обнажая свои округлые или острые края. Задача общества – выработать такое отношение к нему, которое не позволит айсбергу потопить неустойчивый корабль полиэтнической социальной системы в период перехода к демократии, не позволит нарушить хрупкий баланс в мировом сообществе.
Отношение к национализму менялось циклически. Образование новых государств на обломках великих многонациональных империй конца XIX века проходило после Первой мировой войны под знаком национального самоопределения. Но эта позитивная валентность национализма быстро исчерпала себя в течение первого же послевоенного десятилетия, еще до прихода фашизма с его экспансионистскими установками и всего, что из него следовало, – шовинизма, расизма, антисемитизма.
Новая эйфория самоопределения возникла после Второй мировой войны в связи с освобождением народов Европы от нацистской оккупации и последовавшим затем распадом заморских колониальных империй. Но и на этом этапе либеральная традиция поддержки самоопределения наций была скорректирована проявлениями расизма и воинствующей этничности. Недоверие развитых демократий к националистическим убеждениям укрепил союз национализма с левым антиколониализмом.
В 1990-х западный мир не без опасений отнесся к образованию государств на месте распавшегося Советского Союза, хотя в ряде случаев им оказывалась безоговорочная поддержка. Но именно этнические конфликты на постсоветском пространстве и на территории бывшей Югославии подтвердили амбивалентный и небезопасный характер национализма.
Коль скоро и теперь, в конце ХХ – начале XXI столетия, национализм «третьей волны» в своих агрессивных проявлениях представляется очевидной угрозой, важно проанализировать именно те его виды и формы, которые могут быть совместимы с переходом к демократическому обществу.
Проблема совместимости демократического транзита с национализмом не нова, но от этого не становится менее сложной. Признанные специалисты в области демократического транзита считали внутригосударственное единство, устойчивую общую идентичность граждан важнейшими условиями успешности процесса демократизации. Этнонациональные разногласия, ведущие к различным формам национализма и подъему национальных движений, наоборот, расцениваются как препятствие для достижения демократизации общества.
В развитых демократических государствах также сохраняются этнонациональные проблемы и националистические устремления (например, Баскония в Испании, Корсика во Франции, Квебек в Канаде, Северная Ирландия и Шотландия в Великобритании, фламандцы и валлоны в Бельгии). Однако специалисты обращают внимание на готовность большинства жителей этих стран справляться с возникающими трудностями ненасильственным путем через демократические институты. Но и в таких обстоятельствах острые формы этнонационализма, порождаемого нерешенностью проблем национального и территориального единства и идентичности, трудносовместимы с демократией.
Данный вывод логичен с точки зрения демократизации. Но он остается дискуссионным с позиций национализма. Ведь именно с демократизацией обычно связывают возможность свободного волеизъявления, чем не всегда в благих целях пользуются этнические лидеры. Не случайно те, кто стоял во главе национальных движений на территории Советского Союза (например, лидеры Народного фронта Эстонии и «Саюдиса» в Литве), требовали прежде всего развития процесса демократизации.
Ученые, осуществившие кросснациональные исследования под руководством американского ученого Тедда Гурра, делали вывод о том, что этнические группы в демократизирующихся обществах получают значительные возможности для политической мобилизации. Проблема состоит в том, что в условиях утверждающихся демократий нет еще стабилизирующего ресурса – традиции диалога, длительных переговоров, необходимого уровня толерантности, эффективных институциональных механизмов для достижения межгруппового согласия, которые могут использовать государства, имеющие более длительный опыт демократического развития.
В этих условиях определяющее значение имеют по крайней мере три теоретико-методологических принципа, доказавшие свою эффективность.
Во-первых, национализм следует рассматривать в исторической перспективе, понимая отличия его типов, относящихся, например, к XVIII веку, от современных и осознавая тот факт, что каждый конкретный национализм способен трансформироваться. Ганс Кон успешно продемонстрировал такой подход, исследуя Европу. Ему принадлежит вывод о том, что история национализма – это постоянное вырождение рационального начала в некое безумие, наиболее ярко проявившееся в национал-социализме с его войнами, насилием, мессианским авторитаризмом.
Во-вторых, тот же Кон на европейском материале показал, насколько важен для анализа национализма сравнительный, кросскультурный принцип. Сопоставлять имеет смысл сложившиеся в последние два столетия представления о нации: «французское», исходящее из идеи свободного сообщества граждан государства, основанного на политическом выборе, и «немецкое», базирующееся на культуре и общем происхождении.
Но и эти давно сложившиеся формы не являются застывшими. Энтони Смит, глядя на явление национализма более глобально, чем европоцентричный Кон, отказывался резко противопоставлять «западный» (гражданский) национализм «восточному» (этнокультурному). В конечном счете обе модели имеют как культурную, так и территориальную основу. О том, что этническая и гражданская модели национализма не только накладываются друг на друга, но и со временем могут даже менять свое значение на противоположное, писал в 1990-х годах Роджерс Брубейкер.
В-третьих, даже те исследователи, которые открыто стоят на конструктивистских позициях (если они не предвзятые специалисты), признают, как, например, Рон Суни, важность контекста (конструктивисты и, в частности, инструменталисты понимают этничность как ментальный конструкт, создаваемый самим индивидом. – Ред.). Национализм добивался большего успеха там, где этому предшествовало наличие некой территориальной, языковой либо культурной общности, общей исторической памяти, которая используется как исходный материал для интеллектуального националистического проекта. Опыт шотландского, баскского, эстонского, литовского национализмов подтверждает этот вывод.
Именно социальный и экономический контекст определяет процесс развития националистического дискурса, националистической политики и практики. Известно, какое решающее значение исследователи и политики, стоящие на конструктивистских и инструменталистских позициях, придают деятельности элит в трактовке понятия нации и формировании идентичности. Но насколько велик ресурс интеллектуальной мощи элиты, выражающей и формирующей идеи национализма, и вместе с тем насколько готовы те или иные социальные группы и вся масса населения поддержать ее идеи? Это зависит от состояния общества. Следует учитывать уровень экономического развития, политическую структуру государства, социально-культурные факторы, в том числе нормы и ценности, доминирующие в обществе, степень доверия политическим институтам, чувство гражданства и взаимопонимания граждан, степень осознания единства государства и проч.
ТИПЫ НАЦИОНАЛИЗМА
Изучая межнациональные отношения на советском и постсоветском пространстве, мы выделили шесть типов национализма.
Классическим национализмом следует считать тот, при котором все культурные обоснования (необходимость государственного языка, сохранение своей нормативной, художественной культуры), исторические, геополитические, экономические аргументы подчиняются цели расширения государственной самостоятельности, а затем и независимости (сецессия). Наибольшее распространение такой национализм получил в прибалтийских республиках, где националисты использовали весь «букет» аргументов: критику пакта Риббентропа – Молотова, требование контроля за использованием природных ресурсов, концепт самохозяйствования.
Другой была идеология и политика элит в республиках Российской Федерации. Ни в Татарстане, ни в Башкирии, ни в Якутии, ни в Туве, ни в других республиках (за исключением Чечни) доминирующие элиты не ставили вопроса о полной независимости от России. Речь шла лишь о «разделенном суверенитете», когда часть прав передается в федеральный центр. В одних случаях делалась заявка на большие права в финансовой, экономической, культурной и политической сферах, в других – в основном на право распоряжаться природными ресурсами и право управления культурой. В наиболее выраженной форме претензии на расширение прав имели место в Татарстане в 1990–1993 годах. Такой национализм можно назвать паритетным.
В центре идеологии и политической практики фигурировало именно разделение прав на основе свободной передачи их части федеральному центру. Как следствие, предполагалось осуществление политики, при которой контактирующие этнические группы (в Татарстане, к примеру, татары и русские) пользовались равными правами, что выражалось в законодательном признании двух государственных языков, в совпадающем дискурсе политического руководства республик и в доминирующей социальной практике.
В таких республиках, как Башкирия и Якутия, фокус идеологических и политических устремлений концентрировался на хозяйственной и культурной сферах, но приоритет отдавался идеям, которые соответствовали экономическому национализму.
В Карелии и Коми, где титульные национальности были в демографическом меньшинстве, речь шла главным образом о поддержке культурной самобытности, языка, что соответствует идеям культурного национализма.
В других республиках, в частности в Северной Осетии и Ингушетии, доминировали идеи защиты: защиты территории, влияния на пространстве, возвращения потерянных земель. Немцы Поволжья, к примеру, пытались восстановить свою автономию, а ингуши – добиться переноса административной границы Ингушетии и Северной Осетии и передачи Пригородного района в состав своей республики.
Идеи защитного национализма присутствовали и среди идеологов русского национализма (защита экологии Байкала, защита русской деревни писателями-деревенщиками, защита крестьянства, потерявшего свою наиболее активную часть в лице раскулаченных и сосланных работников).
На постсоветском пространстве предпринимались попытки осуществления идей модернизационного национализма. В конце 1980-х – начале 1990-х, когда от Таллина до Вильнюса выстраивалась «Балтийская цепь», молдаване вспомнили о своем родстве с румынами, Армения стала воевать за Нагорный Карабах, а молодые реформаторы в центре России с горечью заговорили о том, сколько средств уходило из российских регионов на периферию. Строились предположения о том, что если проект демократизации и модернизации России окажется успешным, то разбегающиеся республики сами захотят вступить в Российскую Федерацию.
Модернизацию как аргумент в пользу самостоятельности выдвигали и региональные лидеры – например, в том же Татарстане из-за опасений возвращения коммунистов к власти в Москве в 1993 году. Идеи частной собственности на землю, открытых инвестиций нельзя осуществить путем реставрации прежнего режима. Модернизационный национализм обычно появляется на наиболее развитых территориях в полиэтнических государствах (Россия конца 1980-х – начала 1990-х по сравнению с большей частью союзных республик бывшего СССР, Татарстан по сравнению с менее развитыми регионами России, Каталония по сравнению с другими областями Испании).
НАЦИОНАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВО
Национализм нельзя понять вне связи с государством. Национализм – это всегда попытка идеологически легитимировать захват контроля над государством. Вместе с тем это и реакция на чрезмерное вмешательство государства, ощущаемое меньшинствами в его составе.
Вполне естественно, когда федеральный центр в многонацио- нальном государстве предпринимает усилия по гомогенизации населения в надежде избежать развития национализмов в сепаратист-ские движения. Но, несмотря на все благие намерения, формирование чувства общности слишком часто превращается в лучшем случае в функцию бюрократической машины, насаждающей унификацию и ассимиляцию. И только по этой причине подобные попытки могут отвергаться или, по меньшей мере, критически восприниматься гражданами.
Причем сопротивляются не обязательно меньшинства. Тенденция унификации не может нравиться и гражданам, населяющим территории, где проживает этническое большинство.
Неоднократно в разных регионах Северо-Запада, на Урале, в Южном федеральном округе приходилось слышать: «Центр нас не чувствует», «Центр не считается с нашими интересами, и это мешает утверждению гражданской нации, единства в стране». В регионах, населенных другими этническими группами, такие настроения приобретают этническую окраску.
Так происходит и в других странах, в том числе имеющих давние и прочные демократические традиции. Бельгия, Канада, Швейцария не избежали тенденций этнического национализма. Как показал в своих работах Джон Брейли, национализм может быть продуктом и следствием именно государственного нациестроительства. Проваливающиеся попытки подобных экспериментов вызывают обратный результат – еще более ярко выраженные всплески этнического национализма.
Даниел Конверси уточняет: «Избыток чересчур усердствующего централизма часто вызывал гомеостатическую реакцию, которая в свою очередь порождала мощное движение национализма на периферии». О националистическом подъеме, сопровождающем усилия государства по этнической гомогенизации общества, пишет и Тэдд Гурр. Именно ответная этническая мобилизация способствовала в Испании подъему баскского и каталонского национализмов, придавших культурным маркерам этнической группы политическую окраску.
Так же болезненно воспринималась в начале 1990-х годов русским и украинским меньшинствами дискриминационная политика молдавского государства в отношении использования там соответствующих языков. Примерно та же ситуация сложилась в Южной Осетии и в Абхазии в связи с политикой Грузии в поздние 1980-е и в начале 1990-х. Протест среди части татарской интеллигенции вызвало решение Государственной думы Российской Федерации о запрете перехода татарской письменности с кириллицы на латиницу.
В большинстве национальных движений на постсоветском пространстве политические трения вокруг статуса языков, несомненно, сыграли мобилизующую роль. Язык, его статус становится в современном обществе социальным ресурсом, поэтому идеологи этнонационализма придают ему не менее важное значение, чем борьбе за другие ресурсы – природные либо политические. Вообще, на конфликте вокруг тех или иных ресурсов идеологами выстраиваются этнические границы, маркеры которых чаще всего культурные.
Поводом для подобного рода демаркации могут служить и другие интересы. Например, для русских, проживающих в республиках РФ, разделителем стал доступ к участию в региональной власти. Именно он превратился в механизм социальной категоризации и сопоставления, а в каких-то случаях и противопоставления этнических групп.
Психологи считают, что чем меньше различий между контактирующими этническими группами, тем с большей силой проявляются претензии на основании все же имеющихся различий. Возможно, поэтому индустриализация, урбанизация и глобализация, стирая этнические границы, не привели к их исчезновению, которое прогнозировалось как во времена Макса Вебера и Карла Маркса, так и современными теоретиками глобализации. На оригинальном материале новых «силиконовых долин» это убедительно показывает Томас Фридман в книге «Плоский мир».
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБЕРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Национализм по-прежнему воплощает проявление категоризации себя и «другого». Но из этого не следует, что различия предопределяют непримиримый антагонизм. На вопрос, могут ли под крышей одного государства мирно ужиться сразу несколько национализмов, может быть дан положительный ответ. Само признание того факта, что национализм бывает разным, предполагает, что какие-то его виды, типы, формы могут при определенных условиях в большей или меньшей степени сочетаться с либерализмом и демократией.
Важнейшие из этих условий лежат в сфере политической этики. Одного желания этнических лидеров недостаточно, чтобы манипулировать массами. Стоит ли затрагивать те или иные струны в сердцах и умах людей? Говорят, что жизненный опыт мало чему учит человека, но опыт многих людей научить может. И тогда сами профессионалы, идеологи национализма начинают искать пути, как избежать насилия и антагонизма.
Проблема совместимости национализма с либеральными ценностями приобрела наибольшую известность благодаря статье Майкла Линда «В защиту либерального национализма» (M. Lind. In Defence of Liberal Nationalism // Foreign Affairs. 1994. Vol. 73. № 3. May–June. P. 87). Линд утверждает, что недоверие к национализму даже в его либеральной, демократической и конституционной форме – грубое заблуждение. Такое недоверие предполагает слепую поддержку любых, в том числе деспотичных, многонациональных государств. Представление о национализме как устаревшем явлении из архаического прошлого – это предубеждение, которое не соответствует политической практике. Не все случаи сепаратизма плохи, а политика поддержки целостности многонациональных государств любой ценой не всегда хороша.
Справедливо и то, что отделение одной нации (порой и нескольких) не означает, что каждое многонациональное государство готово рассыпаться, как карточный домик. А многонациональность государства отнюдь не является непреодолимым барьером для его демократизации. Важно лишь разработать механизм разделения власти между этническими группами. Как удачные Линд приводит примеры Бельгии, Канады, Швейцарии. Не стоит, с его точки зрения, бояться и сверхмощных многонациональных государств типа Советского Союза или современной России, если, конечно, они создаются на добровольных началах. Оказывается, национализм вполне совместим с либеральными ценностями при соблюдении двух важнейших условий – возможности свободного выбора человеком своей национальности и мирного обеспечения прав культурных меньшинств.
Интерес к совместимости национализма с либеральными ценностями, которая еще сравнительно недавно казалась идеологическим нонсенсом, растет на глазах. И это не случайно. Этнические чистки, агрессивный сепаратизм, декларирование самоопределения – все эти проблемы Западу приходится теперь решать не за морями, а в своих либо соседних государствах. Россия также вынуждена искать ответы на внешние и внутренние вызовы национализма, которые на глазах становятся всё мощнее и многообразнее. Дело тут не только в позиции руководства страны по вопросу о статусе Косово или Абхазии, но и в ситуации, которая сложилась в собственно российских регионах, а также в том, насколько способны представители разных этнических групп осознавать свою общность и готовность к ненасильственной реализации собственных интересов.
Журнал Nation and Nationalism провел целую дискуссию в связи с выходом книги Дэвида Миллера «О нации» (On nationality). Миллер оспаривает положение, что национализм – идеология правых сил, поддерживающих авторитарные режимы, враждебные либерализму и демократии, и утверждает, что либеральный национализм предполагает комбинацию социальной демократии внутри страны с «исключительно либеральной доктриной формального равенства на международной арене». При этом идея социальной справедливости, по Миллеру, живет только внутри сообщества, «имеющего представление об общей судьбе».
Брендан О’Лири, принимавший участие в дискуссии, обратил внимание на соблюдение либеральных требований в отношении меньшинств. Действительно, добившиеся суверенитета народы в новых государствах нередко сами не соблюдают прав меньшинств – такие примеры есть и в странах постсоветского пространства. О’Лири считает, что либеральное общественное мнение должно добиваться введения процедур и мер предосторожности, гарантирующих коллективные права меньшинств и индивидуальные права человека. Правда, все это больше напоминает советы просвещенному общественному мнению в ситуации прискорбного отсутствия в новых государствах соответствующих традиций, институтов и согласованных политических процедур реализации предлагаемых мер.
ДОСТИЖИМОСТЬ ИДЕАЛА
Анализируя накопленные теоретические разработки, можно, по-видимому, говорить о либеральном национализме при соблюдении следующих условий:
государственность декларируется от имени всех граждан, проживающих на данной территории, или народа в понимании сообщества людей, проживающего на данной территории;
устройство государства относится к либерально-демократическому типу, обеспечивающему верховенство законов, всеобщее избирательное право, представительный характер власти, выборность власти как формы реализации принципа представительства, разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную;
обеспечивается политическое и правовое равенство граждан, в том числе право быть избранным на государственную должность;
допускаются плюрализм и свобода политической деятельности, свобода слова, право формулировать и отстаивать политические альтернативы; возможность внутренних разногласий при обсуждении ценностей, идеалов, в том числе национальных, этнокультурных, лингвистических, сути самой общности и ее границ в приемлемых для дискутирующих сторон формах, избегающих экстремизма и насилия;
наличествуют политические институты, обеспечивающие разнообразие культур, права меньшинств;
гарантируется свободное право личности на выбор национальности.
Большинство перечисленных принципов характерны для развитых, или, как говорят, консолидированных, демократий. Это практически идеал. Безусловно, пытаться сформулировать такой идеал на все времена и для всех народов означало бы впасть в опасную иллюзию. Демократия – это процесс развития, расширения и обновления идей и принципов, институтов и процедур. Либеральный национализм тоже способен обновляться в своих принципах, институтах, процедурах, оставаясь целью, к которой национально ориентированные общественные силы, лидеры, властные структуры проявляют готовность стремиться, хотя не всегда и не во всем ее достигают.
Сама демократия не гарантирует достижения многих целей: всеобщего благоденствия, мира, в том числе решения этнонациональных проблем. Но имеет смысл сосредоточиться на обсуждении условий, при которых народы предпочитают самоопределение не в форме отделения, а в виде различных типов автономий, и национализм (а в российском случае – чаще этнонациональный сепаратизм) удается перевести в либеральное русло.
Такие условия, естественно, бывают объективными и субъективными. К объективным условиям, повышающим готовность к либеральным формам национализма, можно отнести следующие аспекты.
Первое. Этнический состав территории. Чем меньше доля титульной национальности, тем больше она должна считаться с волей другой части населения, думать об обеспечении поддержки с ее стороны, либерализовать этническую политику, выдвигать цели и задачи, достижение которых будет гарантировать единство всего полиэтнического сообщества.
Второе. Территориальное положение. Если республика либо самоопределяющаяся этническая общность не имеет внешних границ, ей трудно ставить себе целью сецессию, радикальный сепаратизм. Все ставшие самостоятельными бывшие союзные республики СССР, так же как и Абхазия, Южная Осетия, Чечня, имели внешние границы. Отсутствие таких границ накладывает ограничения на сепаратизм и стимулирует поиск мирных решений. Это не значит, что либеральный национализм, к примеру, в Чечне обречен, – это лишь значит, что в Татарстане у него больше шансов, а Татарстан со временем может стать образцом для воспроизводства.
Третье. Ресурсы группы, заявляющей о своих притязаниях, уровень ее модернизации. Речь идет не только о материальных ресурсах, обеспечивающих самодостаточность жизнедеятельности, но и об интеллектуальных. Чем более представителен слой интеллектуалов, чем больше среди них компетентных людей, знакомых с мировым опытом и международными подходами к решению этнонациональных проблем, тем больше шансов на ведение переговоров на уровне учета интересов сторон. Представляются особенно важными состав политической элиты и уровень ее профессиональной подготовки. Эстонцам было заметно легче достигать более или менее либеральных путей решения национальных проблем, чем, например, молдаванам. У татар в этом отношении больше возможностей, чем, скажем, у чеченцев либо тувинцев.
Возможность либерального национализма также зависит от внутренних и внешних субъективных факторов.
Во-первых, чем выше легитимность и устойчивость центральной власти, ее сплоченность и организованность, тем меньше шансов у регионалов играть на противоречиях, доводить дело до ультимативных форм взаимодействия, и в то же время им легче договариваться о разделении полномочий и предметов ведения.
Во-вторых, велико значение государства, развития в нем демократических структур, обеспечивающих участие во власти представителей народов, их голос в средствах массовой информации, наличие в государственной структуре устойчивых механизмов регулирования конфликтных ситуаций.
В-третьих, нельзя ожидать либерализации этнонационализма, ослабления сепаратизма, если в государстве происходит эскалация национализма шовинистического толка, если в распределении общегосударственных ресурсов присутствует волюнтаристский момент, наличествуют клиентарные отношения.
В-четвертых, всегда приходится иметь в виду, что перепроизводство образованных людей создает препятствие для продвижения, карьеры и стимулирует недовольных делать ставку на культурные притязания. Национализм становится той потенциальной отдушиной, в которую выплескиваются фрустрации и интеллектуальная невостребованность, превращается в бунт «маргиналов». Поэтому стабилизировать эскалацию этнонационализма удается именно тем руководителям республик в составе Российской Федерации, которые стараются включить в правительственные структуры или использовать какими-то иными путями потенциальных идеологов национализма, не замеченных в экстремизме. Татарстан и Якутия – это достаточно успешные примеры такого способа «тушения» этнического экстремизма.
В-пятых, все более значимым становится внешнее влияние. Надежда на поддержку либо, наоборот, осуждение мировым общественным мнением, несомненно, корректирует поведение лидеров как на сепаратистских или потенциально сепаратистских территориях, так и в центре. Более четкое определение на уровне мирового сообщества позиций по таким вопросам, как возможные формы самоопределения, отношение к хельсинкским принципам, к экстремизму, терроризму, приобщение политиков, общественных лидеров, ученых к решению этнических проблем, к обеспечению мирного сосуществования людей разной этнической принадлежности, – это более надежный способ, чем демонстрация силы при урегулировании конфликтов.
Естественно, перечисленные условия, которые обеспечивают возможность появления либеральных форм национализма, присутствуют далеко не всегда. И даже их наличие не гарантирует достижения желаемых целей. Тем не менее именно они создают и расширяют возможности либерального национализма и недопущения насилия.
Украинские морские пехотинцы готовы убыть в Косово для выполнения миротворческой миссии, сообщил сотрудник пресс-центра Военно-морских сил Украины. «Морские пехотинцы прошли полный курс подготовки и способны выполнить любую задачу, поставленную перед ними командованием НАТО. В составе украинско-польского батальона они будут стоять на страже демократии и защиты прав человека в Косово», – сказал представитель пресс-центра.Директор центра информации НАТО в Украине Мишель Дюре считает, что украинские военнослужащие способны решать все поставленные задачи. «Украинские военнослужащие неоднократно показывали свою высокую боевую выучку и способны решать поставленные задачи в любых условиях. Несмотря на сложности, стоящие перед Украиной для вступления в НАТО, мы ждем ее в альянсе», – заявил Дюре, речь которого опубликована на сайте пресс-центра Военно-морских сил Украины.
Помимо похвал морской пехоте, Мишель Дюре отметил, что военнослужащие Украины нуждаются в современном обмундировании, т.к. их форма устарела и не отвечает стандартам НАТО. Операция в Косово является одной из 23 совместных операций Украина-НАТО, 18 из которых – невоенные проекты.
Гражданско-полицейская миссия Евросоюза (Eulex) во вторник с согласия Сербии официально начинает работу на всей территории Косово, сообщила пресс-служба Eulex.Появлению Eulex в Косово предшествовало одностороннее решение Евросоюза от 16 фев. о ее отправке в сербскую южную автономию. Этот шаг был сделан без одобрения СБ ООН и вопреки дипломатическому сопротивлению Сербии и России, которые настаивали на решении этого вопроса исключительно при участии Совбеза.
Вскоре после 17 фев., когда косовские албанцы в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, в крае появились первые эмиссары новой европейской миссии, но официальный Белград заявил о невозможности сотрудничества с Eulex без решения СБ ООН о придании этой миссии легитимного статуса. Косовские сербы также пригрозили заблокировать работу нового органа.
Работа миссии ЕС стала возможной после того, как Белград и ООН договорились о том, что в сербских анклавах Косово сербам будут даны увеличенные полномочия при работе полиции, таможни, органов правосудия, транспорта и инфраструктуры, а также в деле сохранения сербского культурного наследия в крае.
Компромиссное решение о начале работы новой миссии было зафиксировано только 26 нояб. на заседании Совета безопасности, члены которого поддержали доклад генерального секретаря Пан Ги Муна о реконфигурации гражданской миссии ООН в Косово (Unmik), мандат которой истек. Eulex будет присутствовать в крае юридических рамках резолюции 1244 СБ ООН, что полностью отвечает позиции Белграда.
Албанцы в Приштине готовы сотрудничать с Eulex, но против конкретного плана развертывания организации, т.к., по мнению албанских властей Косово, он позволяет создать параллельные сербские структуры власти и, возможно, ведет к разделению края по этническому принципу.
Косовские сербы заняли умеренную позицию по отношению к приходу миссии ЕС. Представители Сербской радикальной партии и Демократической партии Сербии, двух наиболее популярных сербских партий в Косово, заявили, что призывают своих последователей не препятствовать размещению Eulex, но и не сотрудничать с этой структурой.
В свою очередь, замминистра в сербском министерстве по делам Косово и Метохии Оливер Иванович призвал европейцев начинать свою деятельность в регионе крайне осмотрительно.
«Отношение к миссии в большей мере будет зависеть от того, как будут вести себя ее представители, насколько Eulex будет заниматься теми вопросами, которые действительно важны для сербского сообщества. Прежде всего, это преступления на этнической почве и борьба против организованной преступности», – сказал Иванович.
Eulex – самая большая гражданская миссия, разворачиваемая в рамках европейской политики безопасности и обороны (ESDP). Ее общий состав будет насчитывать порядка трех тысяч человек, из которых 1,9 тыс. составят приезжие сотрудники, 1,1 тыс. – сотрудники из числа местного населения. В настоящий момент Eulex насчитывает 1,3 тыс.чел. Бюджет миссии составляет 205 млн. евро на первые 16 месяцев работы.
Командовать Eulex доверено отставному французскому генералу 60-летнему Ив де Кермабону. В 2004-05гг. он уже возглавлял военную группировку НАТО в крае (KFOR). Штаб организации находится в Приштине в здании, где ранее располагалась миссия ООН.
С первого же дня работы европейской миссии оперативные задачи будут выполнять 750 полицейских, разбитых на две группы. В наиболее опасном районе, поделенном на албанскую и сербскую части г.Косовска-Митровица, службу будут нести подразделения французов и румын, в столице Приштине – итальянцы и поляки.
10% численного состава Eulex в будущем составят работники правосудия, в т.ч. 40 судей и 20 прокуроров. Считается, что именно они смогу наиболее объективно осуществлять правосудие в поделенном по этническому принципу крае, а также делиться своим опытом с косовскими юристами.
Третьей крупным органом Eulex является таможенная структура, сотрудники которой в смешанных командах должны вести контроль и мониторинг работы косовской таможни.
До сих пор все эти задачи осуществляли специалисты Unmik, который находился в крае с 1999г. в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН.
Возведение жилых зданий остается одним из самых прибыльных деловых начинаний в Косовском крае. Эксперты утверждают, что прибыль строительных компаний на первоначальные вложения может достигать 300%, главным образом – благодаря низкой стоимости стройматериалов.Местные застройщики говорят, что средняя стоимость строительства квадратного метра в Косово составляет 250 евро – по сравнению с суммой, превышающей 1 тыс. евро, в западных странах, сообщает BalkanInsight.com. Продавец стройматериалов Визар Гожани заявил, что возведение квартиры площадью 50 кв.м. в Приштине обойдется в 13 тыс. евро, а продать ее можно не менее чем за 50 тыс. евро.
Застройщики оправдывают высокие цены тем обстоятельством, что спрос на жилье в столице выше, чем в других городах Косово. Кроме того, расходы на получение разрешения на строительство в Приштине оказываются большими, чем в целом по краю. Представитель муниципалитета Приштины Мухамет Гаши отметил, что за период с янв. по окт. тек.г. доходы городской казны от выдачи разрешений на строительство превысили 15 млн. евро.
На этой неделе президент Кипра Димитрис Христофиас побывал в Москве с официальным визитом. Первая встреча с президентом Дмитрием Медведевым прошла при закрытых дверях. Затем через час с небольшим к президентам присоединились министры и чиновники. Подписана совместная декларация о дальнейшем укреплении отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между РФ и Кипром. Кроме того, в присутствии президентов было подписано несколько соглашений между Россией и Кипром: межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины; меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран; меморандум о взаимопонимании между федеральной службой по финансовым рынкам РФ и комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям Кипра; программа совместных действий Ростуризма и министерства торговли, промышленности и туризма Кипра по реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в области туризма; меморандумы о сотрудничестве между банком ВТБ и Кипрской фондовой биржей, а также между Юниаструм банком и Банком Кипра.В своем заявлении по итогам переговоров президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона удовлетворена ходом переговоров, их содержанием и содержанием соглашений, которые подписали Россия и Кипр. «Характер этих соглашений в полной мере отражает высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами. Мы надеемся, что межправительственная комиссия, состоящая из компетентных специалистов, будет работать максимально эффективно и уже в самом ближайшем будущем мы подпишем дополнения с данным соглашениям в сфере налогообложения, что очень важно как для Кипра, так и для России» – сказал президент России. «Очень приятно, что наши позиции по большинству вопросов близки или совпадают. Например, мы превосходно понимаем друг друга в такой теме, как место и роль России и ее взаимоотношения с Европейским Союзом. Кроме того, наши мнения сходятся по вопросу Балкан, и в частности Косово, а также мирного урегулирования других сложных и спорных мировых проблем. Нас радует то, что господин Христофиас подтвердил свое мнение о том, что всеобъемлющий российский договор по обеспечению безопасности на Европейском континенте, который подготавливается Российской Федерацией, отражает интересы всех европейских стран, включая Кипр», – сказал Дмитрий Медведев.
В ответном заявлении президент Димитрис Христофиас поблагодарил президента России за теплый прием, за добрые слова, сказанные в адрес Республики Кипр, и заверил Дмитрия Медведева в том, что и граждане Республики Кипр, и он лично очень хорошо относятся к России. Христофиас рассказал, что еще в детстве он слушал программу Московского радио на греческом языке, и что настоящими праздниками для него становились те дни, когда СССР запустил первый спутник, Лайка полетела в космос, Гагарин впервые поднялся на орбиту Земли. Димитрис Христофиас отметил, что для него очень много в жизни связано с Россией: в этой стране он получил высшее образование, здесь познакомился с будущей супругой. В России прошли самые романтичные и самые важные годы его жизни. Советский Союз и Россия помогли ему стать тем, кем он является сегодня.
Димитрис Христофиас отметил, что по его мнению, воссоздание европейской системы безопасности будет возможно во многом благодаря инициативе России. И это предложение РФ основывается на принципах международного права. Президент Кипра также сказал, что в рамках Европейского сотрудничества с другими странами Кипр усиленно работает над тем, чтобы вывести отношения Россия-ЕС на новый уровень. Димитрис Христофиас заверил Россию, что Кипр будет поддерживать РФ во всех аспектах, и выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами будет только развиваться: для этого есть большой потенциал. В заключении президент Кипра сказал, что ему очень приятно общаться с президентом РФ Дмитрием Медведевым и что он очень рад тому, что точки зрения сторон на многие вопросы, касающиеся как глобальной мировой политики, так и внешней и внутренней политик двух стран, совпадают.
Совместная договорно-правовая база двух стран насчитывает более 20 соглашений. В последние годы были заключены соглашения о сотрудничестве между российской Федеральной службой по финансовому мониторингу и Службой по борьбе с финансовыми правонарушениями Кипра (2004), об упрощении визового режима (2005), В 2006г. был подписан меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурами РФ и Кипра.
Дружеские отношения между Россией и Кипром установились еще в 1960г., когда Советский Союз одним из первых признал добившуюся независимости Республику Кипр. А после трагических событий 1974 года, когда была совершена попытка государственного переворота и затем в ходе агрессии Турции остров разделили на две части, именно Россия способствовала урегулированию и переговорному процессу. Предложения России «О демилитаризации Республики Кипр и обеспечении безопасности жителей» в 1998 году были распространены в качестве рекомендаций Совета безопасности ООН. Представители большинства государств мира поставили подписи под дипломатическими предложениями России.
Выступая перед журналистами за несколько дней до встречи с президентом Медведевым, Христофиас сказал: «Во время визита нам будут вручены оригиналы писем бывшего председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева и бывшего министра иностранных дел СССР А.А. Громыко. В этих письмах Советский Союз признает суверенитет и независимость Республики Кипр и выражает готовность установить с ней дипломатические отношения. Наши оригиналы этих документов были уничтожены во время попытки государственного переворота в 1974 году, направленного против первого президента страны Архиепископа Макариоса III. Для киприотов эти письма очень важны, мы очень благодарны российскому руководству, и это – еще один знак тесных отношений между нашими странами».
19 нояб. состоялась встреча президента Христофиаса с председателем Общества дружбы «Россия-Кипр» Георгием Мурадовым и лидерами этой организации.
Комментируя «Вестнику Кипра» это событие, Георгий Львович сказал: «Встреча была теплой и дружественной. Президент учился в Москве, он хорошо чувствует все события, происходящие в России, дает четкие и яркие оценки того, что происходит в мире. За 47 лет работы Общество дружбы Кипр-Россия провело большую работу, направленную на укрепление отношений между двумя странами. В ближайшее время планируются два события. В янв. в Никосии пройдет Московско-кипрский инвестиционный форум. Кипр сегодня явлется ведущей страной по инвестициям в Москву и Россию, поэтому значение такого форума трудно переоценить. А на 2009-10гг. запланированы Дни Москвы на Кипре и Дни Кипра в Москве. В это время пройдет целый ряд ярких и запоминающихся мероприятий.
Что касается данного официального визита, то мы от души желаем обеим сторонам успеха в переговорах. Событие это редкое и важное, и его результаты станут большим вкладом в дальнейшее развитие отношений и дружбы между Россией и Кипром».
Главная прокуратура Албании выдвинула обвинение в коррупции против действующего министра иностранных дел страны Лулзима Баши, сообщили местные СМИ. Обвинение выдвинуто в рамках расследования о финансовых махинациях при заключении договора на строительство автобана, который должен соединить северную часть Албании с соседним Косово.Контракт на 542 млн.долл. был заключен правительством страны в 2006г. с турецкой фирмой, а Баша в то время занимал пост министра транспорта. Ранее глава МИД отрицал все обвинения в связи с аферой.
Совет безопасности ООН в среду вечером дал зеленый свет размещению в Косово миссии Евросоюза, приняв единогласно заявление об одобрении доклада генерального секретаря Пан Ги Муна, излагающего условия для работы представителей ЕС в крае. Это стало возможным только после согласия Белграда, требования которого были учтены ООН при разработке плана международного присутствия в крае и зафикисрованы в соответствующих договоренностях.Соглашение между Белградом и ООН касается шести аспектов управления в Косово – полиции, таможни, правосудия, транспорта и инфраструктуры, границ, а также сербского культурного наследия в Косово. Предполагается, что в этих областях управление в сербских районах края будут осуществлять местные сербские власти под контролем Миссии ООН, без подчинения Приштине. Все это Белград выставил как условие согласия на размещение миссии ЕС.
Албанские власти Косово отвергли этот план, заявив, что он означает фактическое разделение Косово на меньшую сербскую и большую албанскую части.
Вместе с тем «министр иностранных дел» Косово Скендер Хисени, выступая на заседании Совбеза, заявил о готовности Приштины сотрудничать с миссией ЕС. «То, что сегодня произошло, то, что стало возможным начало работы миссии Евросоюза, – это большой успех», – заявил Скенденри по окончанию заседания журналистам.
При этом он отметил, что албанская администрация Косово будет действовать в соответствии с конституцией, которая предусматривает единство региона. Это фактически означает повторение отказа выполнять условия по договоренностям между ООН и Белградом о размещении миссии ЕС и самоуправлении в сербских районах края.
Предполагается, что миссия Евросоюза будет действовать в албанских районах Косово и осуществлять там управление в сфере законности, правопорядка и соблюдения прав человека, в то время как в сербских верховенство останется за Миссией ООН. В соответствии с докладом генсека ООН, все управление в Косово должно осуществляться в рамках резолюции СБ ООН 1244, которая подтверждает территориальную целостность Сербии.
Кроме того, в документе указывается, что как миссия ООН, так и миссия ЕС будут сохранять нейтралитет по вопросу о законности или незаконности провозглашения независимости Косово. Из 192 стран-членов ООН Косово как суверенное государство признали лишь 52 государства.
Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич на заседании Совбеза заявил, что Белград согласен на размещение миссии ЕС, приветствует доклад генсека, предусматривающий изменение формата международного присутствия в крае и просит Совет безопасности его одобрить.
«Доклад подтверждает статусный нейтралитет присутствия миссии ЕС и гарантирует, что ее мандат не может основываться на отвергнутом Сербией плане Ахтисаари по косовской независимости, который Совет безопасности никогда не принимал, как отмечается в представленном докладе», – отметил Еремич. Он также указал, что Белград никогда не согласится с независимостью Косово, а сохранение его территориальной целостности Сербии считает условием вступления в Евросоюз.
«Сербия, включая Косово, станет членом Европейского Союза в течение следующих нескольких лет. Мы вступим в Евросоюз с высоко поднятой головой, с сохранением нашей территориальной целостности, и сохранении нашего суверенитета», – сказал Еремич.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Игорь Щербак заявил по окончанию заседания российским журналистам, что Москва дала согласие на принятие заявления Совбеза только потому, что об этом попросила сама Сербия.
«С учетом того, что Сербия полностью одобрила соглашение с ООН., а также принимая в расчет то обстоятельство, что Сербия дала свое согласие на изложенные в докладе условия развертывания правоохранительной миссии ЕС, приветствовала доклад генсекретаря и просила Совет безопасности одобрить его, Российская Федерация дала свое согласие на принятие упомянутого заявления», – сказал Игорь Щербак. Он подчеркнул, что согласие Сербии с развертыванием миссии ЕС и отмечено в докладе генсека Совбезу, и выражено в выступлении главы МИД Сербии на заседании Совбеза.
Согласившись на принятие заявления СБ ООН по Косово, Россия сохраняет свою прежнюю позицию по этому вопросу, подчеркнул заместитель постпреда РФ при ООН. «Мы продолжаем исходить из необходимости строгого выполнения резолюции СБ ООН 1244 и одобренного в ее рамках Советом безопасности мандата Миссии ООН в Косово. Убеждены, что одностороннее провозглашение независимости края, его признание некоторыми государствами идут вразрез с нормами международного права,в первую очередь с Уставом ООН и решениями Совбеза, включая резолюцию 1244», – подчеркнул Щербак.
Выступая на заседании Совбеза, он призвал мировое сообщество оказать давление на Приштину, если она не согласится действовать на условиях, о которых договорились ООН и Белград. Он также подчеркнул, что ООН должна продолжать содействовать обеспечению безопасности сербского меньшинства и охранять его права.
Представитель США Роузмэри ди Карло, приветствовав доклад генсека и возможность начала работы миссии ЕС, повторила прежнюю позицию Вашингтона, заявив, что «процесс обретения независимости Косово от Белграда необратим».
Дипломаты из стран ЕС, внутри которого нет консенсуса по вопросу о законности независимости Косово, выразили удовлетворение договоренностями Белграда и ООН. Постпред Франции при ООН Жан-Морис Рипер кроме того пообещал, что миссия Евросоюза будет особо обращать внимание на обеспечение прав меньшинств в Косово.
Пока же ситуация в этой сфере не улучшается. Об этом говорил и российский представитель, на это же обратил и глава Миссии ООН в Косово Ламберто Занниер.
«Спустя почти десятилетие после окончания конфликта в регионе Косово остается фундаментально разделенным по этническому признаку обществом, хотя власти в Приштине твердо привержены идее многоэтничности, в т.ч. на основе конституции. Косовские албанцы и сербы живут отдельно, в параллельных мирах. До определенной степени это происходит мирно, но потенциал конфликта присутствует там всегда», – сказал глава МООННК.
Взяв ответное слово после выступления всех ораторов сербский министр также продолжил тему положения меньшинств в Косово. В качестве примера этнической нетерпимости, которая культивируется в крае Приштиной, Вук Еремич привел недавний факт разрушения сербской православной церкви в центре города Джаковица. «О какой демократии и многоэтничном подходе могут говорить политики в Приштине, если после того, как церковь была полностью физически уничтожена, ее руины еще и сравняли с землей – чтобы стереть все следы ее существования?!», – сказал сербский министр.
Россия согласилась на принятие заявления Совета безопасности ООН по Косово, в котором оговариваются условия развертывания в крае миссии Евросоюза, поскольку об этом попросила Сербия. Об этом заявил российским журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Игорь Щербак по окончанию заседания Совбеза в среду.Он особо подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы по вопросу Косово не меняется и Россия не признает и не намерена признавать независимости этого края от Белграда.
«По итогам состоявшейся в СБ дискуссии было принято заявление председателя Совбеза по Косово. С учетом того, что Сербия полностью одобрила соглашение с ООН. а также принимая в расчет то обстоятельство, что Сербия дала свое согласие на изложенные в докладе условия развертывания правоохранительной миссии ЕС, приветствовала доклад генсекретаря и просила Совет безопасности одобрить его, Российская Федерация дала свое согласие на принятие упомянутого заявления», – сказал заместитель постпреда России при ООН.
Он подчеркнул, что согласие Сербии с развертыванием миссии ЕС и отмечено в докладе генсека ООН Совбезу, и выражено в выступлении главы МИД Сербии на заседании Совбеза.
«Республика Сербия дает полное согласие на соглашение из шести пунктов и условия, предусмотренные для развертывания миссии ЕС. Мы приветствуем доклад генерального секретаря и просим Совет безопасности одобрить его», – сказал министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, выступая перед Совбезом в среду.
Согласившись на принятие заявления СБ ООН по Косово, Россия сохраняет свою прежнюю позицию по этому вопросу, подчеркнул заместитель постпреда РФ при ООН.
«Мы продолжаем исходить из необходимости строгого выполнения резолюции СБ ООН 1244 и одобренного в ее рамках Советом безопасности мандата Миссии ООН в Косово. Убеждены, что одностороннее провозглашение независимости края, его признание некоторыми государствами идут вразрез с нормами международного права,в первую очередь с Уставом ООН и решениями Совбеза, включая резолюцию 1244», – подчеркнул Щербак.
Независимость Косово от Сербии, провозглашенную в одностороннем порядке 17 фев. 2008г., из 192 стран-членов ООН признали лишь 52 государства.
Сербия приветствует доклад генерального секретаря Пан Ги Муна, подтвердившего нейтралитет миссии Евросоюза в Косово (EULEX), и заявившего о реконфигурации международного присутствия в крае в юридических рамках резолюции 1244 СБ ООН, заявил глава МИД Сербии Вук Еремич.«Доклад подтверждает статусный нейтралитет присутствия EULEX и гарантирует, что ее мандат не может основываться на отвергнутом Сербией плане Ахтисаари по косовской независимости, который Совет безопасности никогда не принимал, как отмечается в представленном докладе», – отметил Еремич в своей речи на заседании Совета безопасности ООН в среду вечером.
EULEX приходит на смену гражданской миссии ООН в Косово (МООНК).
Сербия, изначально выступавшая против миссии ЕС, согласилась с планом генсека после того, как в него были внесены поправки, учитывающие требования Белграда. Приштина же продолжает выступать против плана Пан Ги Муна, считая, что он нарушает единство Косово и, возможно, ведет к разделению края.
В докладе генсека, помимо прочего, указывается, что реконфигурация международного присутствия будет проводиться в юридических рамках резолюции 1244 СБ ООН, которая подтверждает территориальную целостность Сербии. В документе также говорится, что ООН сохраняет нейтральный статус по вопросу о законности или незаконности одностороннего провозглашения независимости Косово.
Генеральный секретарь подчеркнул в докладе, что миссия ЕС, которая будет докладывать ООН о своей деятельности, также будет действовать в соответствии с резолюцией 1244 и исходя из нейтралитета по вопросу о независимости Косово.
Выступая в Совбезе, Еремич напомнил, что Белград «никогда и ни при каких условиях не примет независимости Косово», и поблагодарил страны-члены ООН, поддержавшие позицию Сербии, отметив в этом контексте Россию, как «первую среди равных».
Албанские власти Косово 17 фев. 2008г. в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Из 192 стран-членов ООН независимость Косово признали 52 государства.
Азербайджан выводит своих военнослужащих из Ирака – обращение президента Ильхама Алиева об отзыве азербайджанского воинского контингента из этой страны одобрено в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. За вывод воинского контингента проголосовали 86 депутатов, против – 1.Обращение президента Азербайджана постоянная комиссия по обороне и безопасности парламента одобрила 10 нояб. 2008, напомнил зампред комиссии Айдын Мирзазаде. «Обращение президента поступило в связи с истечением пятилетнего мандата пребывания азербайджанских миротворцев в Ираке», – отметил он.
Военнослужащие Азербайджана находятся в Ираке по решению Совета безопасности ООН с 2003г. В составе Многонациональных сил проходят службу 150 солдат Вооруженных сил Азербайджана. В структуре Международных сил содействия безопасности в Афганистане – 90 азербайджанских миротворцев. Они осуществляют в Кабуле патрульную службу. В связи с возникшей политической ситуацией после объявления независимости Косово, вышедшего из состава Сербии 4 марта, парламент Азербайджана отозвал 34 азербайджанских миротворцев, служащих в этом регионе.
Хорватское дипломатическое представительство в Приштине решением МИД Хорватии преобразовано в посольство, сообщили в субботу хорватские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.В письме министра иностранных дел Хорватии Гордана Яндроковича, которое было передано в пятницу главе МИД Косово Скендеру Хисени, сообщается о принятом решении, а также о готовности Загреба развивать двустороннее сотрудничество и совместной заинтересованности сторон в укреплении стабильности и мира в юго-восточном регионе Европы.
Албанские власти Косово 17 фев. 2008г. при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. В настоящий момент косовское самоопределение признали 52 государства-члена ООН из 192.
Загреб признал независимость Косово 19 марта, а дипломатические отношения стороны установили 30 июля.
Хорватия стала второй по счету страной бывшей Югославии после Словении, открывшей посольство в Косово. Кроме этих двух стран в Приштине за последние месяцы свои посольства открыли еще 12 государств: Австрия, Великобритания, Чехия, Франция, Германия, Голландия, Венгрия, Италия, Норвегия, США, Швейцария и Турция.
В Косово свои отделения имеют и десятки других стран. Российское представительство в Приштине имеет статус канцелярии посольства РФ в Сербии.
Правительство Косово, албанские власти которого в фев. объявили о независимости от Сербии, приняли бюджет края на 2009г. в 1,43 млрд. евро, сообщили косовские СМИ. Новый бюджет на 15,4% выше по сравнению с планом на 2008г. Предполагается, что экономический рост края составит 6%. Доходы правительством закладываются на уровне 965 млн. евро, а расходы – 413 млн. евро.Бюджет соседней с Косово Албании на текущий год составляет 3,3 млрд. евро, а Черногории – 1,12 млрд. евро. Край Косово сильно поделен по этническому принципу. В крае насчитывается около двух млн. албанцев и не более 200 тысяч сербов и представителей других национальностей. Сербы проживают обособленно в анклавах, финансирование которых осуществляется Белградом.
Албанские власти в Приштине при поддержке США и ведущих стран ЕС в фев. провозгласили независимость от Сербии. Косовское самоопределение признали 52 страны мира. Россия, как и Сербия, выступает против признания независимости сербской южной автономии, т.к. оно ведет к грубейшему нарушению резолюции ООН 1244, закрепляющей территориальную целостность Сербии.
В португальских средствах массовой информации получило широкий резонанс интервью премьер-министра Португалии Жозе Сократеша. В этом интервью для газеты «Диариу де Нотисиаш», а также радиостанции TSF, португальский премьер, в частности, заявил о том, что правительство намерено поднять с 1 янв. 2009г. минимальную заработную плату в стране на 5,6%, установив ее на уровне 450 евро в месяц.Касаясь внутренней политики, Сократеш в ходе интервью попытался сгладить противоречия, которые возникли в последнее время между президентом Каваку Силвой (социал-демократом) и правительством социалистов. Глава кабинета назвал отношения между президентом и правительством «отличными» несмотря на то, что пресса сообщала: Каваку Силва и исполнительная власть имеют разные взгляды на ряд принятых и готовящихся законов, в частности на новый закон о бракоразводном процессе и о статусе автономного региона Азорских островов.
«Взаимоуважение институтов власти вовсе не предполагает, что у нас должно быть абсолютное совпадение мнений, – заявил Сократеш. – Португальцы ожидают от президента и от меня того, чтобы мы в интересах страны политически взаимодействовали».
В плане подготовки к парламентским выборам глава правительства назвал «лицами из прошлого» лидеров двух оппозиционных партий – Социал-демократической и Народной, соответственно Мануэлу Феррейру Лейте и Паулу Порташа. Оба эти человека входили в качестве министров в предыдущее правительство социал-демократов, которое потерпело на выборах в 2005г. сокрушительное поражение, что позволило социалистам обрести в национальном парламенте абсолютное число голосов. Как Лейте (которая была человеком номер два в старом правительстве), так и Порташ (занимавший пост министра обороны) были, по словам Сократеша, членами кабинета министров, «который не смог добиться успеха».
Премьер-министр отметил, что он не намерен просить избирателей, чтобы они снова дали Социалистической партии абсолютное большинство депутатов в высшем законодательном органе – Ассамблее Республики, однако признал, что управлять страной в условиях относительного большинства было бы нелегко.
Сократеш также высказался за внесение изменений в закон о политических партиях, чтобы запретить принимать им денежные пожертвования в наличных деньгах, разрешив финансирование только в чеках и путем банковских переводов.
Говоря о внешней политике, Сократеш высоко оценил французского президента Саркози как главы государства, которое председательствует в Евросоюзе (председательство Парижа в ЕС будет продолжаться до конца тек.г.). Он также высказался в защиту недавнего решения Лиссабона признать независимость Косово, сославшись на некие национальные интересы Португалии. Вопрос о Косово был задан премьеру журналистами в связи с тем, что Испания не признает и не собирается признать законность акта сепаратистов.
Македония и край Косово, который в фев. тек.г. в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии, заключили договор по поводу совместных границ, сообщило агентство Франс Пресс. В сообщении, распространенном в субботу министерством иностранных дел Македонии, говорится, что «вся граница между Македонией и Косово была официально объявлена после того, как совместные комитеты в пятницу подписали свои доклады» о демаркационной линии.Албанские власти сербского края Косово 17 фев. 2008г. при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Македония признала Косово в качестве независимого государства ранее в окт. Сербия и Россия отказываются признавать Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению его нового статуса грубо нарушает нормы международного права. Независимость Косово признали 50 стран.
С момента окончания войны в Косово цены на земельные участки в некоторых районах столицы края, Приштине, выросли на 100 и даже 200%. По сообщению местного агентства недвижимости Sazani, земельные участки в центре города продаются за 100-150 тыс. евро за акр. Большинство жителей Приштины шокированы такими цифрами и не могут поверить, что земля в их городе может стоить так же дорого, как в более развитых регионах Европы, сообщает портал BalkanInsight.com.Самые высокие цены на землю зафиксированы в районах Pejton, Bregu i Diellit и в центре города, утверждает агент по недвижимости Музе Малоку. Чуть меньше земля стоит в районе Veternik. На окраине города цена одного акра земельного участка составляет 20-60 тыс. евро.
Другой риэлтор, Куштрим Тахири, подчеркивает, что цены растут только в Приштине. В других городах края цены остановились на одном уровне или снижаются. Для сравнения: земельные участки во втором по величине г.Косово, Призрене, уходят по цене 15-20 тыс. евро за акр. В более маленьких городах – например, Гжакове, Пеже и Гжилане – акр земли стоит 3 тыс. евро.
Эксперты связывают рост цен на землю в Приштине с притоком в город жителей из других городов и сел, что приводит к увеличению спроса и толкает стоимость земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости вверх.
Еще одна бывшая югославская республика – Македония признала независимость Косово, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление МИД страны. «Правительство решило признать независимость Косово», – заявил глава МИД страны Антонио Милососки (Antonio Milososki).В преддверии этого решения, парламент Македонии принял резолюцию, призывающую правительство признать независимость новообразовавшейся республики Косово от Сербии.
По информации агентства, за принятие резолюции по признанию независимости Косово проголосовало 85 депутатов из 105 присутствующих на сессии. Лишь один член парламента был против, а 16 чел. воздержалось от голосования.
Парламентарии объяснили необходимость признания Косово «стратегическим партнерством с США», а также стремлением страны в НАТО и Евросоюз. Чуть ранее Косово признала Черногория, еще два года назад входившая в союзное государство с Сербией.
Албанские власти сербского края Косово 17 фев. 2008г. при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению его нового статуса грубо нарушает нормы международного права.
Посол Македонии в Сербии Александр Василевски объявлен персона нон-грата в Сербии, сообщили белградские информационные агентства со ссылкой на МИД Македонии.Это решение принято в связи с тем, что накануне вечером правительство Македонии признало независимость Косово от Сербии. Аналогичная мера была принята в четверг и в отношении посла Черногории в Белграде Анки Воиводич.
Ранее в пятницу сербский посол в Македонии Зоран Попович передал замглаве МИД Македонии Зорану Петрову ноту протеста Белграда, в которой сказано, что признание независимости Косово противоречит резолюции 1244 ООН и не отвечает нормам международного права.
Албанские власти сербского края Косово 17 фев. 2008г. при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. На данный момент 50 стран-участниц ООН признали независимость южной сербской автономии.
Сербия не сможет быть гостеприимной по отношению к послу Черногории в Белграде после решения Подгорицы признать независимость Косово, заявил в четверг глава МИД Сербии Вук Еремич. «Правительство Сербии приняло решение оповестить Подгорицу, что присутствие ее официального представителя в Белграде нежелательно», – сообщил министр в распространенном в сербской столице заявлении.В четверг правительство Черногории приняло решение признать независимость Косово. Страну в Сербии представляет 57-летняя Анка Воиводич.
Черногория после распада СФРЮ входила вместе с Сербией в союзное государство.
По словам Еремича, ответ Белграда на признание Черногорией Косово – адекватная мера с учетом того, что страны региона несут особую ответственность за сохранение мира и стабильности на Балканах.
Албанские власти сербского края Косово 17 фев. 2008г. при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Черногория стала 49 страной-участницей ООН, признавшей независимость южной сербской автономии. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению его нового статуса грубо нарушает нормы международного права.
«Это решение Черногории совершено под давлением тех, чьи идеи и видение косовской проблемы потерпели поражение во время голосования на Генассамблее ООН. Мы решились на такой шаг, поскольку те нажимы в правительстве Черногории взяли верх», – сказал Еремич.
В среду по инициативе Сербии Генассамблея ООН большинством голосов стран приняла резолюцию об обращении к Международному суду в Гааге с целью получить консультативное заключение о законности или незаконности одностороннего провозглашения независимости Косово. «Мы должны продемонстрировать твердость и решительность при защите нашей территориальной целостности и суверенитета», – отметил министр.
Правительство Черногории, еще два года назад входившей в союзное государство с Сербией, официально признало независимость Косово от Белграда, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы черногорского МИД Милана Рочена.«Правительство единогласно решило признать Республику Косово», – цитирует слова Рочена агентство.
Албанские власти сербского края Косово 17 фев. 2008г. провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. В качестве суверенного государства Косово признали более 40 стран-членов ООН. Сербия и Россия отказываются признавать косовскую независимость, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению его нового статуса грубо нарушает нормы международного права.
Соглашение об экономической поддержке Косово со стороны ЕС подписали в четверг в Приштине глава представительства Еврокомиссии в крае Ренсо Давиди (Renco Davidi) и премьер-министр Косово Хашим Тачи, сообщили косовские информационные агентства.Подписание документа состоялось в присутствии еврокомиссара по расширению ЕС Олли Рена. Заключение договора предусматривает выделение Евросоюзом для Косово первого транша в 122,7 млн. евро из 500 млн. евро, обещанных Еврокомиссией в июле 2008г. на международной донорской конференции в Брюсселе. «Цель Евросоюза в том, чтобы помочь установлению стабильного и мирного многонационального общества, основанного на власти закона», – отметил в связи с подписанием договора Рен.
Тачи поблагодарил еврокомиссара за прямую, искреннюю и постоянную поддержку Косово и всего западнобалканского региона в процессах евроатлантической интеграции.
Выделенные средства пойдут на финансирование 20 проектов, касающихся административных реформ, сохранения культурного наследия, поддержки СМИ и институтов гражданского общества.
Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 фев. Самопровозглашенный статус южной сербской провинции признали 48 стран-участниц ООН из 192.
Выступление на Конференции по мировой политике, 8 октября 2008г., Франция, Эвиан.Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемые дамы и господа! Прежде всего, конечно, хотел бы высказать признательность за возможность выступить на первой Конференции по мировой политике. И хотел бы начать свое выступление с комплимента французской прозорливости. Замышляя почти год назад этот форум, который сегодня востребован самой жизнью, господин де Монбриаль [президент Французского института международных отношений] наверняка знал, что на эти октябрьские дни придется наиболее острая фаза финансового кризиса.
Уже два дня здесь, в «Ля Гранж о Лак», идут дискуссии о самых опасных вызовах современному миру. Идет поиск общих ответов на эти вызовы. И даже этот зал, который декорирован русскими березами и савойским декором, также напоминает о взаимозависимости и единстве мира, о гармонии и совместимости разных традиций и культур на нашем общем европейском континенте.
Позвольте сейчас поделиться своим видением происходящего в мире и путей выхода из тех проблем, которые сегодня существуют. Остановлюсь на трех темах: поговорим о преодолении экономического кризиса, о ситуации на Кавказе, и хотел бы сказать несколько слов о созыве конференции по безопасности.
Проблемы, которые здесь обсуждаются, свидетельствуют: мир переживает в настоящий момент очень важный, переходный период своего развития. События, которые случились в августе на Кавказе, подтвердили, что в рамках так называемых блоковых подходов «умиротворить» или сдержать агрессию оказалось невозможным. И если безответственные, подчас авантюрные действия правящего режима небольшой страны (в данном случае имею в виду Грузию) способны дестабилизировать обстановку в мире – это ли не явное свидетельство, что система международной безопасности, основанная на однополярности, несостоятельна.
Ясно и то, что так называемый экономический эгоизм – тоже следствие одного из проявлений однополярного мира, стремления быть таким большим «мегарегулятором». Бесперспективность такой политики для глобального экономического развития также очевидна. Хотел бы прежде всего остановиться на причинах накопленного конфликтного потенциала.
Думаю, что истоки, в современной жизни во всяком случае, надо искать в событиях семилетней давности. Тогда, к сожалению, из-за стремления Соединенных Штатов Америки «затвердить» свое глобальное доминирование был упущен исторический шанс на деидеологизацию международной жизни и строительство по-настоящему демократического миропорядка.
Напомню: после 11 сентября 2001 года Россия, как и многие другие государства, не задумываясь, сразу протянула руку помощи американцам. И сделала это не только для того, чтобы дать отпор терроризму (это само собой разумеется), но и ради окончательного преодоления раскола в мире, который был внесен «холодной войной».
Однако после свержения режима «Талибана» в Афганистане началась череда односторонних действий, которые не согласовывались ни с Организацией Объединенных Наций, ни даже с рядом партнеров США. Достаточно напомнить решения о выходе из Договора по ПРО и вторжении в Ирак. Как следствие в международной жизни стала нарастать тенденция к размежеванию. Это выразилось и в одностороннем провозглашении независимости Косова, и в фактической реанимации политики сдерживания – политики, столь популярной в прошлом веке.
По периметру границ Российской Федерации вовсю обустраиваются военные базы. На территории Чехии и Польши создается третий позиционный район глобальной системы ПРО. Конечно, это небольшое количество ракет. Но вопрос в том, зачем это нужно, каковы причины этого и почему нельзя было до принятия этих решений посоветоваться с союзниками?
Понятно, что сама по себе ни одна из этих стран не представляет для России никакой угрозы. Однако когда решения принимаются таким образом – без консультаций, в том числе и со своими партнерами по НАТО и ЕС, по сути без консультаций внутри Европы, – возникает ощущение, что завтра может последовать решение о расширении развертывания новых систем ПРО. При нынешней однополярности принятия таких решений гарантий по этому поводу быть не может. Во всяком случае для нас, для Российской Федерации.
Варшавского договора нет уже 20 лет. Но, к сожалению, для нас во всяком случае, расширение НАТО осуществляется с каким-то особенным азартом. Сегодня активно обсуждается прием в НАТО Грузии и Украины. Причем вопрос ставится следующим образом: принять эти страны, по сути, означает одержать верх над Россией, а не принять – капитулировать перед Россией.
Но речь-то идет совсем о другом: альянс вплотную приближает свою военную инфраструктуру к границам нашей страны и проводит новые «разделительные линии» в Европе – теперь уже по нашему западному и южному рубежам. И вполне естественно, что бы там ни говорили, что мы рассматриваем эти действия как действия, направленные против нас. Но стоит нам только напомнить, что это объективно противоречит интересам национальной безопасности России, сразу же следует какая-то нервная реакция. Как нам иначе это понимать?
Хотел бы сейчас, чтобы логика нашего поведения была предельно ясна. Мы абсолютно не заинтересованы в конфронтации. Успешное развитие России возможно лишь в условиях прозрачных и равноправных международных отношений. И это залог стабильности мира.
Подчеркну еще раз: Россия открыта для сотрудничества и намерена действовать ответственно и прагматично. Кстати сказать, печальные события последних двух месяцев в том числе и в то же время дают пример такого прагматичного взаимодействия между Россией и Евросоюзом. Когда и России, и Европе, и всему миру, по сути, был навязан кавказский кризис, мы смогли действовать инициативно и скоординированно, с пониманием ответственности за наше общее европейское будущее. Особо выделю смелые и ответственные действия президента Франции Николя Саркози.
Убежден, что люди стремятся к миру и согласию. Хотят сотрудничать, хотят вести бизнес, обмениваться культурными и образовательными достижениями. Хотят просто встречаться и жить как друзья, как соседи. И я не сомневаюсь, что эти гуманитарные факторы еще веско и решительно заявят о себе.
В этой связи считаю крайне важным как минимум успокоиться и хотя бы отказаться от конфронтационной риторики, которая в силу законов жанра рано или поздно начинает жить своей отдельной жизнью. Мы прекрасно помним, что мы этот «обмен любезностями» неоднократно проходили. И, казалось бы, в бесперспективности убедились практически все. Тогда кому это надо сейчас и зачем? И главное что это дает для реального выхода из кризиса? Это все из прошлого. Как из прошлого советология. А советология, как и паранойя, – это очень опасная болезнь. И жаль, что этой болезнью, к сожалению, до сих пор страдает часть администрации Соединенных Штатов.
Нужно изучать новую Россию, а не возбуждать фантомы Советского Союза. При этом абсолютно уверен, что «новый Фултон», новое издание «холодной войны» нам сегодня не грозит, как бы глубоко это ни сидело в головах отдельных политиков.
За последние два месяца мы ясно увидели, кто помогает в кризисный период России, кто наши друзья, а кто нет. Тем не менее считаем, что ничего фатального, непоправимого не произошло. И давайте признаемся в этом откровенно: по сути, то, что происходит сегодня, сегодняшняя ситуация – это острая фаза продолжающегося кризиса всей евроатлантической политики, вызванного однополярным миром. И из этого кризиса надо выходить. Выходить сообща.
Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги!
С учетом сказанного поделюсь своими соображениями о принципах самоорганизации в справедливом и многополярном мире. Он, безусловно, должен основываться на коллективных началах и международном праве.
Сила в отрыве от права неизбежно порождает непредсказуемость и хаос, когда все начинают воевать друг против друга, что, собственно, случилось в Ираке. А любое избирательное применение основополагающих международно-правовых норм подрывает и международную законность. Но законность не бывает выборочной: она либо существует, либо нет.
Предполагаю, что всем требуется решительный отказ государств от войны как средства, как инструмента своей политики – и малых государств, и больших государств. И если мы признаем, что международные отношения – это сопряженные интересы равноправных суверенных государств, то всякое стремление к доминированию, к достижению своих целей за счет других должно быть признано аморальным. Недопустимо также навязывание другим государствам собственного национального права, как и решений внутреннего суда.
В этой связи подчеркну важность сохранения центральной и координирующей роли Организации Объединенных Наций как наиболее полномочной международной организации. Задачи ее укрепления, поддержки ее международно-правового авторитета сейчас актуальны как никогда.
Теперь о природе и первых уроках экономического кризиса. Как я уже сказал, к нему привел прежде всего так называемый экономический «эгоизм» ряда стран. Впервые я говорил об этом в июне, на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как видим, то, что случилось, грозит подорвать устойчивость всего мирового развития.
Наши эксперты неоднократно предупреждали о нарастающих негативных тенденциях на сырьевой и продовольственной биржах, в финансовой системе. И мы открыто делились своими оценками будущих угроз, в том числе в формате «восьмерки», что состоялась совсем недавно в Тояко, в Японии.
Что надо делать?
Считаю, во-первых, что в новых условиях нужно упорядочить и привести в систему как национальные, так и международные институты регулирования.
Во-вторых, следует избавиться от серьезного дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных программ. Конкурентная гонка зачастую приводит к образованию «мыльных пузырей», а ответственность публичных компаний перед своими акционерами размывается, по сути, сводится к нулю.
В-третьих, нужно укрепить систему управления рисками. Свою долю риска и ответственности должен с самого начала нести каждый участник рынка. И не должно быть иллюзий по поводу бесконечного роста стоимости любого актива. Так не бывает, это противоречит экономической природе.
В-четвертых, надо способствовать максимально полному раскрытию информации о компаниях, ужесточать надзорные требования, усиливать ответственность рейтинговых агентств и аудиторских компаний.
И, наконец, в-пятых, необходимо сделать доступными для всех выгоды от снятия барьеров в международной торговле, от свободы перемещения капиталов. К сожалению, мы сейчас приходим к пониманию этой необходимости – через кризис, а соответственно, через снижение качества жизни и дестабилизацию бизнеса.
Все названные проблемы носят абсолютно интернациональный характер. Они требуют разработки и новых «критических технологий» в политике и экономике. Именно для их решения Россия предлагает изменить глобальную финансовую архитектуру, пересмотреть роль действующих институтов и создать новые международные институты. Институты, которые бы на деле обеспечивали стабильность.
Любой кризис – это всегда еще и способ разрешения противоречий. И надо максимально использовать его, чтобы «очиститься» и удлинить, максимизировать период роста наших экономик. Время еще не упущено. Важно, что сегодня уже должно прийти понимание многополярности мира и сложностей глобализации.
Еще в 90-е годы проявилась неэффективность однополярной экономической модели. Ее опорные позиции – и в МВФ, и в ВТО – тогда серьезно себя дискредитировали. А в последнюю эпоху, в последний период целую цепь проблем создало и ослабление доллара. Сейчас, буквально на наших глазах, идет фрагментация международной финансовой системы.
На примере Соединенных Штатов и не только их мы видим и то, что переход от саморегулируемого капитализма по сути к «финансовому социализму» достигается за один шаг. Более того: налицо даже такая готовность национализировать один актив за другим. Новыми факторами стабильности на этом фоне стало бы формирование новых финансовых центров и сильных региональных валют, что, собственно, уже произошло в Европе, имею в виду и экономику Евросоюза, и наличие мощной региональной валюты – евро.
Россия будет активно способствовать процессу оздоровления международной финансовой системы, причем не только в «восьмерке». Понятно, что в рамках «восьмерки» этого уже и не сделать. И я с удовольствием отметил, что многие американские коллеги уже начали об этом говорить.
Имею в виду привлечение к этому процессу и других ключевых экономик мира: Китая, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР, может быть, и других. В любом случае Европа не должна оказаться здесь слабым и уязвимым звеном.
Глобализация будет сопровождаться повышением роли государств – гарантов благополучного национального развития. А коллективным структурам глобального управления придется выполнять роль арбитров, обеспечивающих совместность и совместимость их экономических стратегий.
В этой связи считаю своевременной идею президента Франции провести многостороннюю встречу для рассмотрения накопившихся проблем в мировой финансовой системе. Представляется дальновидным и его предложение о создании общего экономического пространства Евросоюза и Российской Федерации. Так нам будет легче обеспечить устойчивость наших экономик и создать качественно новую атмосферу отношений.
Думаю, мы могли бы вместе начать и разговор о будущем европейского континента. Речь, разумеется, идет о роли Европы в глобальной экономике и об установлении справедливого миропорядка. Россия исторически является частью европейской цивилизации. И для нас, как европейцев, небезразлично, на каких ценностях будет построен будущий мир.
О кризисе на Кавказе. Считаю, что исчерпывающие оценки его причин уже даны. Все необходимые решения нами приняты. И мотивы их принятия, надеюсь, всем понятны. При этом хотел бы также проинформировать всех присутствующих, что сегодня до 24 часов миротворческий контингент России покинет зону безопасности Южной Осетии и Абхазии.
Сейчас – когда в зонах безопасности по периметру границ Южной Осетии и Абхазии с Грузией размещены наблюдатели Евросоюза – мы бы хотели, чтобы эти силы выполняли свои функции гаранта неприменения силы и недопущения провокаций со стороны действующего тбилисского режима. Именно об этом мы и договаривались с Евросоюзом.
В том, насколько все опасно, и в том, какие возможны провокации, недавно мы убедились, после того как произошел взрыв у штаба миротворческих сил в Цхинвале. Вновь погибли российские миротворцы. Это очередное жестокое преступление, и, конечно, виновные будут наказаны.
Хотел бы надеяться, что трагическая страница истории Кавказа перевернута. И еще раз хотел бы подчеркнуть конструктивную роль Евросоюза в нахождении мирного варианта преодоления кризиса на Кавказе. Когда другие силы не захотели или не смогли это сделать – именно в ЕС мы получили инициативного, ответственного и, самое главное, прагматичного партнера. Считаю, что это, кстати, – доказательство зрелости отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом.
Сейчас необходимо решить, как жить дальше после кризиса, как избежать новых потрясений и укрепить фундамент международной безопасности в целом.
Уважаемые коллеги! Уважаемые дамы и господа!
Сегодня мы не можем уйти от факта, что для предотвращения агрессии не сработали ни многосторонняя дипломатия, ни региональные механизмы, ни нынешняя европейская архитектура безопасности в целом. Особенно наглядно продемонстрировал свою ущербность так называемый НАТО-центризм. Из всего этого нужно сделать выводы.
Современной Евро-Атлантике нужна позитивная повестка дня. События на Кавказе лишь подтвердили абсолютную правильность идеи нового Договора о европейской безопасности. С его помощью вполне можно создать единую и надежную систему всеобъемлющей безопасности.
Эта система должна быть равной для всех государств – без изоляции кого-либо и без зон с разным уровнем безопасности. Она должна быть призвана объединить всю Евро-Атлантику на основе единых правил игры. И на долгие годы в юридически обязывающей форме обеспечить наши общие гарантии безопасности.
Очень часто меня мои партнеры и коллеги спрашивают: а что в этом договоре будет нового? Здесь, в Эвиане, я хотел бы впервые представить конкретные элементы такого договора, по моему представлению.
Первое. В договоре должно содержаться четкое подтверждение базовых принципов безопасности и межгосударственных отношений на евроатлантическом пространстве. Это приверженность добросовестному выполнению международных обязательств; уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств. Уважение всех других принципов, которые вытекают из Устава Организации Объединенных Наций, из этого, без преувеличения, фундаментального документа.
Второе. Следует ясно подтвердить недопустимость применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях. Существенно, что договор должен дать гарантии единообразной трактовки и соблюдения этих принципов. Закрепить единство подходов к предупреждению и мирному урегулированию конфликтов на евроатлантическом пространстве тоже можно в самом договоре. Упор следовало бы сделать на переговорных «развязках» – с учетом мнения сторон и при безусловном уважении к миротворческим механизмам. Может быть, нужно закрепить и сами эти процедуры, сам механизм урегулирования споров. Это было бы небесполезно.
Третье – это гарантии обеспечения равной безопасности. Именно равной безопасности, а не какой-то другой. И здесь нужно следовать трем «не». А именно: не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Не допускать (в рамках любых военных союзов и коалиций) действий, ослабляющих единство общего пространства безопасности. И, в-третьих, не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора.
Причем сегодня необходимо будет сосредоточиться на военно-политических вопросах, поскольку так называемое hard security играет сегодня определяющую роль. И именно здесь в последнее время образовался опасный дефицит контрольных механизмов.
Четвертое. В договоре важно подтвердить, что ни одно государство и ни одна международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Европе. В полной мере это относится и к России.
Пятое. Целесообразно установить базовые параметры контроля над вооружениями и разумной достаточности в военном строительстве. А также новое качество взаимодействия, новые процедуры, новые механизмы взаимодействия по таким направлениям, как распространение ОМУ, наркотрафик и терроризм.
В ходе совместной работы над договором следовало бы также оценить, насколько адекватны созданные когда-то структуры. Подчеркну, я об этом говорил и еще раз хотел бы сказать: мы ни в коей мере не предлагаем разрушать ничего из того, что уже имеется, и даже ослаблять. Речь идет именно о более гармоничной деятельности на основе единых правил.
Оптимальную площадку для переговоров подскажет жизнь. И в обязательном порядке к подготовке такого договора, если мы об этом договоримся когда-нибудь, нужно привлечь международное экспертное сообщество.
Мы открыты для обсуждения и других возможных элементов договора. Но в любом случае «ремонт» европейской системы безопасности необходимо ускорить. Альтернативой является только ее дальнейшая деградация. И обострение кризиса в сфере безопасности и кризиса в сфере контроля над вооружениями.
Да, доставшийся нам в наследство режим нераспространения не лучшим образом приспособлен для решения современных задач. Но даже он не исчерпал своего позитивного потенциала. Хотя проблемы и здесь очевидны. Это прорехи, это дырки в Договоре о нераспространении ядерного оружия и отсутствие прогресса в повышении эффективности Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также туманные перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Мы придаем исключительное значение заключению нового, юридически обязывающего российско-американского соглашения по ядерному разоружению. Оно должно прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2009 году. Но это должен быть договор, а не декларации. Мы ждем в этой связи позитивной реакции на наше предложение со стороны наших партнеров из США.
Все, что я сегодня предложил, на мой взгляд, имеет важнейшее значение для Европы. Приглашаю к честному и непредвзятому диалогу на форуме, который был бы специально посвящен этому вопросу. В нем могли бы принять участие руководители всех государств Европы и руководители всех ключевых организаций евроатлантического пространства. Все, кому дорого будущее мира, его уверенное развитие, дорого спокойствие людей. Рассчитываю, что мы будем услышаны и поддержаны в этой инициативе.
Президент России Дмитрий Медведев приехал во французский курортный городок Эвиан, чтобы, подвергнув резкой критике политику США в области безопасности и экономики, предложить ряд мер, которые, по его мнению, позволят преодолеть финансовый кризис и упрочат систему европейской безопасности.В Эвиане, известном, помимо минеральной воды, проведением здесь в 2003г. саммита G8, на трехдневную конференцию по вопросам мировой политики собрались ведущие политические деятели, экономисты и эксперты в области безопасности.
Накануне визита во Францию Медведев проанонсировал свое выступление в специальном видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, которое стало первой записью в новом разделе «видеоблог».
Из обращения следовало, что президент продолжит развитие тем, затронутых им в программных выступлениях в Берлине перед германской общественностью 4 июня и на Петебургском экономическом форуме 6 июня, касающихся мировой экономики и европейской безопасности.
Свое сегодняшнее выступление Медведев начал с критики в адрес Вашингтона, которая стала частью риторики российского руководства в последнее время.
президент России заявил, что стремление США к доминированию в мире после событий 11 сент. 2001г. стало причиной накопления конфликтного потенциала. По его словам, после терактов 2001г. Россия, как и многие другие государства, не задумываясь, протянула руку помощи американцам, однако после свержения режима «Талибан» в Афганистане Вашингтон начал череду односторонних действий, несогласованных ни с ООН, ни со своими партнерами.
«Как следствие – в международной жизни стала нарастать тенденция к размежеванию. Это выразилось в одностороннем провозглашении независимости Косово и практической реанимации политики сдерживания, столь популярной в прошлом веке», – отметил Медведев.
Таким образом, считает он, «был упущен исторический шанс, шанс на деидеологизацию международной жизни и строительство по-настоящему демократического миропорядка».
Глава российского государства также обвинил США в «экономическом эгоизме», который привел мир к финансовому кризису.
«Наши эксперты не раз предупреждали о нарастании негативных тенденций на сырьевых продовольственных биржах, в финансовой системе, и мы открыто делились нашими оценками грядущих угроз, в т.ч. в формате «большой восьмерки», на ее недавнем саммите в Японии и других площадках», – отметил Медведев.
«Сегодня этот кризис грозит подорвать устойчивость мирового развития», – считает президент России.
Заведующий центром европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Владимир Гутник считает, что речь Медведева является примером наступательной стратегии отечественной политики.
«Первое впечатление – выбрана достаточно наступательная стратегия: Россия берет на себя ответственность за решение всего комплекса вопросов в мировой экономике, в международной безопасности не как младший, а как равноправный партнер ведущих государств», – сказал Гутник РИА Новости.
Медведев не просто озвучил претензии к США, он высказал несколько идей, как справиться с финансовым кризисом и укрепить общеевропейскую безопасность.
Президент РФ заявил о необходимости, во-первых, упорядочить и привести в систему как национальные, так и международные институты регулирования, во-вторых, избавиться от серьезного дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных программ. В-третьих, необходимо укрепить систему управления рисками.
«Свою долю риска и ответственности должен с самого начала нести каждый участник рынка. И не должно быть иллюзий по поводу бесконечного роста стоимости любого актива. Так не бывает, это противоречит экономической природе», – подчеркнул Медведев.
В-четвертых, считает президент РФ, надо «способствовать максимально полному раскрытию информации о компаниях, ужесточать надзорные требования, усиливать ответственность рейтинговых агентств и аудиторских компаний» и, наконец, в-пятых – необходимо «сделать доступными для всех выгоды от снятия барьеров в международной торговле, от свободы перемещения капиталов».
Российский лидер поддержал идею президента Франции провести международный саммит по мировому финансовому кризису и предложение о создании общего экономического пространства ЕС и России. Медведев также считает важным подключить к обсуждению путей оздоровления мировой финансовой системы Китай, Индию, Бразилию, Мексику и ЮАР.
«В любом случае, Европа не должна оказаться здесь слабым и уязвимым звеном», – сказал он.
В качестве довода в поддержку тезиса о необходимости формирования новой европейской архитектуры безопасности Медведев привел кризис на Кавказе.
«Для предотвращения агрессии не сработали ни многосторонняя дипломатия, ни региональные механизмы, ни нынешняя европейская архитектура безопасности в целом. Из всего этого нужно сделать выводы», – заявил президент РФ.
В первую очередь он призвал все страны – и большие, и малые – отказаться от войны как инструмента политики. Во-вторых, заявил он, современной Евро-Атлантике необходимо создать единую и надежную систему всеобъемлющей безопасности, которая должна быть равной для всех государств – без изоляции кого-либо и без зон с разным уровнем безопасности.
Медведев впервые публично озвучил ключевые идеи предлагаемого к заключению нового общеевропейского договора о безопасности.
Среди них – приверженность добросовестному выполнению международных обязательств, уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств; недопустимость применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях; гарантии обеспечения равной безопасности.
«Упор следовало бы сделать на переговорных «развязках» – с учетом мнения сторон и при безусловном уважении к миротворческим механизмам. Может быть, нужно закрепить и сами эти процедуры, сам механизм урегулирования споров. Это было бы небесполезно», – сказал президент РФ.
По его словам, в договоре важно подтвердить, что ни одно государство и ни одна международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Европе.
«В полной мере это относится и к России», – сказал Медведев. Президент РФ высказался за установление базовых параметров контроля над вооружениями и разумной достаточности в военном строительстве. «Мы открыты для обсуждения и других возможных элементов договора. Но в любом случае, «ремонт» европейской системы безопасности – необходимо ускорить», – заявил он.
Президент Франции, выступавший после своего российского коллеги, высказал готовность обсуждать новый договор о безопасности. Саркози считает, что это обсуждение не может быть состоятельным без участия США.
«США – наши друзья и союзники, но они не дают нам инструкций, не надо строить иллюзий, мы друзья и союзники, но у нас собственное видение. Мы не являемся чьими бы то ни было агентами. Но если мы говорим о безопасности от Владивостока до Ванкувера, то это касается и их», – сказал президент Франции.
Несмотря на достаточно жесткий тон в отношении США, Медведев не считает, что миру грозит возвращение эпохи «холодной войны». «Я уверен, что «новый Фултон», новое издание холодной войны нам не грозят, как бы глубоко эти подходы не сидели в головах отдельных политиков», – сказал президент.
В небольшом американском городке Фултон в 1946г. британский премьер Черчилль произнес речь, ставшую своего рода официальным объявлением «холодной войны» Запада против СССР.
«Советология, как и паранойя, – это очень опасная болезнь. И жаль, что этой болезнью до сих пор страдает часть администрации Соединенных Штатов«, – сказал Медведев. По словам президента России, за последние два месяца Москва ясно увидела, кто помогает ей в кризисный период России – кто ее друзья, а кто – нет.
«Тем не менее считаем, что ничего фатального, непоправимого не произошло. И давайте признаемся в этом откровенно: по сути, то, что происходит сегодня, сегодняшняя ситуация – это острая фаза продолжающегося кризиса всей евроатлантической политики, вызванного однополярным миром. И из этого кризиса надо выходить. Выходить – сообща», – считает Медведев.
Руководитель центра европейских исследований Института мировой экономики Гутник также выделил в сегодняшнем выступлении президента РФ позитивные моменты, связанны с отношениями НАТО и России.
«Предлагается позитивный настрой предотвратить конфронтации, расхождения между Россией и натовскими союзниками», – сказал эксперт. Он добавил, что выступление в Эвиане – «это не требование признать значимость России, ее силу, ее интересы, а это предложение равноправного партнера по решению проблем, это выход на другой уровень».

Взгляд поверх геополитических баталий
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2008
Томас Грэм — политолог, старший директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates. Работал в администрации Джорджа Буша-младшего в качестве специального помощника президента по вопросам политики в отношении России. Данная статья – обновленная версия материала, подготовленного в рамках трансатлантического проекта «Европа, Россия и США: поиск нового равновесия». Он осуществляется Французским институтом международных отношений (IFRI) при поддержке France Telecom и благотворительного треста Rayan и прежде всего Фонда Daimler. О проекте можно прочитать на сайтах www.ifri.org и www.csis.org.
Резюме Если придерживаться реалистичного взгляда на вещи, то следует констатировать: в отношениях между Россией и США сотрудничество соседствует с соперничеством, что для любых двух крупных держав в порядке вещей. Нормальные отношения на основе уважения – это все, что нужно, чтобы попытаться справиться с задачами, которые стоят перед обеими странами.
Если у кого-то были сомнения в траектории дальнейшего развития отношений между США и Россией, то ожесточенные споры вокруг Грузии окончательно их развеяли. Сейчас эти отношения хуже, чем когда-либо со времени распада Советского Союза. Мало того, ухудшение продолжается. И нет никаких признаков того, что в ближайшее время может возникнуть фундамент для их восстановления.
События в Грузии оказались мощным катализатором, позволившим Москве и Вашингтону выплеснуть накопленное и долго сдерживаемое разочарование по поводу двусторонних отношений. Для России это время реванша за национальное унижение 1990-х годов и возмездия за неуважение к ее интересам. Особенно в последние несколько лет, когда страна восстановила свой подорванный экономический потенциал.
В Вашингтоне же действия Москвы стали для многих убедительным доказательством того, что Россия является неоимпериалистической державой, намеренной противодействовать влиянию Соединенных Штатов там, где только возможно. Эти действия также вынудили перейти в оборону сторонников более взвешенных оценок и более прагматичного подхода к отношениям с Россией и тем самым устранили главный барьер на пути перехода к более жесткому курсу.
Предстоящие недели чреваты риском военного противостояния, хотя обе стороны отдают себе отчет, что прямая конфронтация противоречит их интересам. Политический настрой в обеих странах, малочисленность сторонников конструктивных отношений и прерывание каналов общения не сулят ничего хорошего для взаимоотношений – по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока в Вашингтоне не произойдет смена администрации.
Слабая администрация США, озабоченная серьезными внутриэкономическими неурядицами и подмочившая свою репутацию крайне неудачной внешней политикой, хочет казаться сильной и решительной. В набирающей обороты предвыборной гонке, центральным моментом которой является внешнеполитический курс, победит тот кандидат в президенты, кто займет более жесткую позицию в отношении России: мягкостью к Москве сейчас невозможно получить политические дивиденды.
Успешная военная операция в Грузии придала России еще больше уверенности или, правильнее сказать, высокомерия, а также подогрела националистические настроения. Вкупе с глубокой тревогой по поводу долгосрочной уязвимости страны это также будет стимулировать российских стратегов к проведению более жесткого внешнеполитического курса. Более того, в формирующемся тандеме власти президент Дмитрий Медведев/премьер-министр Владимир Путин первому еще только предстоит доказать свои лидерские качества, и он может проиграть, если займет мягкую и миролюбивую позицию в отношении Соединенных Штатов.
Между тем в публичной политике обеих стран звучит очень мало голосов, призывающих к сдержанности. Внутри политического истеблишмента двух стран ведутся энергичные дебаты, которые лишь усугубляют отрицательный образ противостоящей стороны. Чтобы понять это, достаточно прочитать комментарии в средствах массовой информации с начала кризиса с их прямо противоположной интерпретацией событий в Грузии. Российские и американские предприниматели, заинтересованные в более конструктивных отношениях между обеими государствами, больше озабочены защитой собственных деловых интересов, чем интенсивной совместной работой над оздоровлением общеполитического климата. На самом деле, многие из них опасаются, что активными действиями в этом направлении они могут лишь поставить под угрозу свои коммерческие интересы, прежде всего в краткосрочной, но, возможно, и в долгосрочной перспективе.
И наконец, практически отсутствуют надежные каналы общения. То, что их нет на официальном уровне, вряд ли кого-то удивит: они оборвались достаточно давно, в начале второго президентского срока Джорджа Буша. Даже столь разрекламированные личные отношения между ним и Владимиром Путиным не внесли свою лепту в поддержание серьезного диалога. Частота и насыщенность их бесед уменьшались в течение последних 3–4 лет.
Что поражает больше всего, так это отсутствие неофициальных каналов, которые могли бы восполнить нехватку контактов на официальном уровне. Это особенно странно потому, что сегодня взаимодействие русских и американцев в самых разных областях отличается большей интенсивностью, чем в любой другой исторический период. Но не предпринимается никаких серьезных усилий для того, чтобы избавиться от диаметрально противоположных оценок недавних событий, при помощи которых стороны склонны демонизировать друг друга.
Предлагать архитектуру и программу конструктивных стратегических отношений при таких обстоятельствах – значит прослыть безнадежным идеалистом. Ни одна из сторон не готова слушать. Вместе с тем по большому счету Соединенным Штатам и России не удастся избежать взаимодействия. Каждая держава является критическим фактором в защите другой своих жизненно важных интересов, будь то стремление США обезопасить ядерные материалы от террористов или стремление России вернуть себе влияние и инициативу на постсоветском пространстве.
Можно также утверждать, что Соединенные Штаты и Россия только выиграют, если будут работать сообща вместо того, чтобы ставить друг другу палки в колеса. Хотя нельзя не признать, что выгода от такого сотрудничества будет распределяться неравномерно: в некоторых случаях одна сторона может оказаться в выигрыше, а другая – в проигрыше.
Тот факт, что сотрудничество приносит большую пользу, особенно очевиден в вопросах ядерного сотрудничества и борьбы с распространением ядерного оружия. Быть может, это чуть менее очевидно в других областях, таких, как безопасность в Европе и Северо-Восточной Азии, стабильность на Большом Ближнем Востоке, энергетическая безопасность и противодействие изменению климата, хотя и здесь сотрудничество способно ускорить решение данных проблем.
Конечно, есть такие сферы, в которых национальные интересы США и России и их соперничество всегда будут затруднять взаимодействие. Лучшим примером может служить бывшее советское пространство: если одна из сторон здесь будет в выигрыше, то другая окажется в проигрыше. Однако неспособность к разумным компромиссам в этой области, скорее всего, будет играть на руку третьим сторонам, нежели служить интересам Соединенных Штатов или России.
В настоящий момент трудно представить себе, что могло бы привести соперников в чувство и побудить их признать фундаментальную истину о преимуществах стратегического сотрудничества, а также целеустремленно и решительно действовать в направлении улучшения взаимоотношений. Между тем было бы нелишне подготовить рабочий план конструктивных отношений, который Россия и США могли бы принять, как только они признают пользу кооперации.
Итак, что же нужно сделать, если обе страны в какой-то момент все-таки придут к выводу, что им требуются более широкие и конструктивные отношения?
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первый и существенный шаг – восстановление доверия, сведенного к нулю в последние годы. Отправной точкой может послужить возвращение к первому принципу дипломатии – готовности считаться с интересами другой стороны в той мере, в какой это не вредит собственным стратегическим целям. Для этого необходимо, чтобы стороны четче формулировали свои интересы и цели, более внимательно прислушивались друг к другу. Следует сосредоточиться на конкретных прагматических задачах: России – не быть столь циничной, США – умерить идеологический пыл. Все это невозможно без налаживания прочных связей, создания конкретных условий для дискуссий, переговоров и реализации согласованных действий.
Контакты осложняются двумя существенными несоответствиями.
Во-первых, восприятие каждой страной угроз и стратегических целей не совпадает. В российском списке приоритетов Америка занимает гораздо более почетное место, чем Россия – в американском.
Во-вторых, в американском госаппарате ответственность и властные полномочия распространяются на более низкий уровень, чем в российском.
Кроме того, существуют еще два обстоятельства, которые следует принять во внимание.
Американо-российские отношения должны поддерживаться на президентском уровне, поскольку, учитывая стереотипы холодной войны, обиды и подозрения, накопившиеся у бюрократий обеих стран за последние полтора десятилетия, именно авторитет глав государств служит гарантией конструктивного взаимодействия.
Но одних контактов на высшем уровне недостаточно – ведь прочие обязанности и приоритеты американского президента не позволяют ему уделять достаточно внимания развитию двусторонних отношений с Россией. В свою очередь российский президент по причинам протокольного характера не имеет возможности регулярно общаться с американскими представителями более низкого ранга, даже если те обладают всеми необходимыми полномочиями.
Данные обстоятельства диктуют необходимость выделить с каждой стороны доверенное лицо – человека, близкого к президенту, хорошо разбирающегося в задачах его внешнеполитического курса и уполномоченного выступать по всему спектру американо-российских отношений. Такие представители сыграли бы ключевую роль в конкретизации президентских решений и директив. Они также могли бы взять под контроль осуществление контактов, в том числе деятельность рабочих групп и других официальных лиц, отвечающих за основные пункты повестки дня (нераспространение ОМУ, терроризм, экономические и торговые связи, региональные проблемы и пр.).
Повестка дня обширна, хотя при нынешнем распределении влияния в мире американо-российский диалог зачастую невозможен в отрыве от более широкой многосторонней дискуссии.
ЯДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭНЕРГЕТИКА
Стержнем отношений могло бы стать сотрудничество по следующим четырем направлениям: стратегическая стабильность, нераспространение ядерного оружия, ядерный терроризм и энергетика.
Все это проблемы первостепенной важности для обеих стран. Вашингтон и Москва как две ведущие мировые ядерные державы располагают уникальными возможностями для их решения. На обе страны ложится столь же уникальная ответственность. Поскольку потенциал России и США в этом отношении весьма значителен, они могут сотрудничать как равные партнеры в осуществлении глобального лидерства. Многие элементы такого партнерства уже задействованы:
американо-российская Братиславская инициатива по ядерной безопасности (2005), которая помогла укрепить безопасность на ядерных объектах, особенно в России, и разработать средства чрезвычайного реагирования;
американо-российская Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма, охватывающая ныне более 50 стран;
программа «От мегатонн к мегаваттам», по которой из советского ядерного оружия вырабатывается высокообогащенный уран для производства энергии в США;
сотрудничество в рамках Инициативы по безопасности в борьбе с распространением ОМУ, выдвинутой Вашингтоном (Proliferation Security Initiative);
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Два основных недостающих элемента в этом сотрудничестве – достижение принципиального согласия о договоре, который должен последовать за СНВ (его срок истекает в конце 2009 года), и практическая совместная работа по противоракетной обороне.
«Соглашение 123» создает условия для более тесного сотрудничества в области гражданских программ ядерной энергетики, в том числе посредством увязывания программы Глобального партнерства в ядерной энергетике США (U.S. Global Nuclear Energy Partnership – GNEP) с российскими планами по созданию международных центров ядерного топлива.
Трудный вопрос, который еще предстоит урегулировать, – взаимодействие в нефтяной и газовой отраслях. Значительные усилия, предпринятые в прошлом, не увенчались успехом в основном из-за конфликта интересов и неурегулированности сферы энергетических разработок в России. На протяжении последних 15 лет американцы уделяли большую часть времени тому, как улучшить климат для частных американских инвестиций в российском энергетическом секторе, полагая, что это будет способствовать рыночным реформам во всей экономике. Внимание же российской стороны было сосредоточено на перестройке энергетики, а в последнее время на том, чтобы закрепить право контроля со стороны государства и преимущественные права России при инвестировании внутри страны.
Прогресс в развитии сотрудничества возможен при условии, что,
во-первых, США примут как данность ныне существующую структуру российского энергетического сектора и будут готовы рассмотреть возможность значительных российских инвестиций в объекты энергетики в Соединенных Штатах, а также совместных американо-российских предприятий в третьих странах;
во-вторых, если Москва признает ценность опыта управления и технологических ноу-хау крупных энергетических фирм США для разработки месторождений в районах сложного геологического строения (особенно в прибрежных зонах на Севере), которые имеют решающее значение для устойчивого роста производства в России.
Обе стороны должны деполитизировать проблему российских энергоносителей, особенно в том, что касается поставок газа в Европу. Реальное положение дел таково, что Европейский союз будет нуждаться в российских поставках для удовлетворения растущего спроса в последующие десятилетия. Импорт из Северной Африки и Ближнего Востока потребует дополнительных трубопроводов помимо тех, что Россия уже проложила, продолжает строить либо планирует построить в будущем. Их сооружение должно стать результатом совместных усилий американских и европейских компаний, а не поводом для жесткой конкуренции между государствами.
Представителям России, Соединенных Штатов и европейских стран было бы полезно признать, что Москва располагает весьма ограниченным набором средств достижения геополитических целей и ресурсное богатство является частью его. Или, например, отдать себе отчет в том, как зависимость от России влияет на стратегическую ориентацию Украины, Грузии и некоторых стран ЕС.
ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ
Принятая в апреле 2008-го российско-американская Декларация о стратегических рамках отношений (U.S.-Russian Strategic Declaration) – хорошее начало для расширения экономического взаимодействия. В ней содержится пожелание ускорить работу по приему России во Всемирную торговую организацию к концу 2008 года и наращивать усилия по заключению нового двустороннего договора об условиях инвестиционной деятельности для укрепления доверия инвесторов, а также начать новый межправительственный и бизнес-диалог по экономическому и деловому взаимодействию. Все эти шаги призваны содействовать двусторонней торговле и инвестициям, а именно это обеспечивает наиболее широкую общественную поддержку идее улучшения российско-американских отношений.
Кроме того, каждой стороне необходимо позаботиться о том, чтобы вполне законная озабоченность проблемами национальной безопасности не использовалась для разжигания протекционистских настроений и создания препятствий потоку капиталовложений. Для этого каждая из сторон должна взять на себя труд по разъяснению правил, которыми они руководствуются при осуществлении инвестиций в стратегические секторы: будут ли эти правила применяться на справедливой и равноправной основе и выполняться в каждом конкретном случае.
Существует ряд вопросов, связанных с управлением мировой экономикой, которые могли бы стать предметом обсуждения между Соединенными Штатами, Россией, а также другими ведущими государствами.
Например, реформа управления Международным валютным фондом с учетом изменившегося распределения экономического влияния в мире. Больше уже не может сохраняться положение, при котором в нем доминируют США и Европа. Кроме того, возрастающая роль фондов национального благосостояния и озабоченность в связи с их возможным использованием в политических целях делают необходимым широкую дискуссию о том, как эти фонды должны проводить операции с акциями, включая обязательства стран-инвесторов и стран-получателей.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
По всем этим вопросам американо-российские дискуссии должны стать частью более широкого многостороннего анализа.
На европейском континенте необходимы институты, отвечающие вызовам XXI века, особенно панъевропейская структура безопасности с тремя опорами в лице США, объединенной Европы и России. Это повлечет за собой реформирование и модернизацию НАТО и в конечном счете ее поглощение более крупной панъевропейской структурой.
Свой вклад в достижение этого результата мог бы внести реорганизованный Совет Россия – НАТО. Следует определить круг вопросов, в решении которых Москва участвовала бы на равноправных условиях с Североатлантическим альянсом. Вопрос о возможности оживить эту структуру остается открытым, но он заслуживает обсуждения. Кроме того, следует изучить различные форматы трехстороннего сотрудничества между США, Европой и Россией для решения конкретных вопросов. Ключевой вопрос – формат, представляющий европейских участников (ЕС, группы отдельных европейских государств или сочетание и того и другого).
На Ближнем Востоке внимание следует сосредоточить на трех таких проблемах:
Иран (не просто его ядерное измерение, а значительно шире – как региональная держава),
израильско-палестинский (арабский) мирный процесс,
Ирак.
В первом случае вопрос заключается в том, как убедить Иран стать ответственной региональной державой. Разрешение израильско-палестинского конфликта требует постепенного продвижения к стабильному, прочному урегулированию и недопущению при этом очередных вспышек войны. Что касается Ирака, то проблема состоит в том, как увеличить коммерчески привлекательную долю участия России в обмен на принятие на себя большего объема обязательств по стабилизации ситуации.
В Южной и Восточной Азии в первую очередь следует способствовать установлению нового баланса сил с учетом восхождения Китая и Индии. Соединенные Штаты и Россия одинаково заинтересованы в развитии Сибири и российского Дальнего Востока, в укреплении российского суверенитета на этих пространствах как основного элемента нового баланса сил в Северо-Восточной Азии.
Взаимосвязанные проблемы безопасности и энергетики могут послужить основой для более структурированного диалога между США, Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей. Борьба с терроризмом, противодействие распространению ядерного оружия и наркотиков составляют базис для сотрудничества в Южной Азии, главной целью которого должна быть стабилизация в Афганистане. Соединенным Штатам следует более внимательно отнестись к той значительной роли, которую Россия способна играть в этой стране, особенно в том, что касается инфраструктурных проектов. Развитие инфраструктуры, которая свяжет бурно развивающуюся Индию с Центральной Азией и соседними районами России, поможет установить новый баланс сил на благо всего региона.
С региональными проблемами связан вопрос о роли международных организаций. В последнее время много внимания уделялось реформированию ООН, в особенности Совета Безопасности, дабы привести его в соответствие с новыми реалиями и новой расстановкой сил в мире. Пока усилия в этом направлении не увенчались успехом, и подлинные преобразования еще впереди. На данный момент США, Россия и другие крупные державы – как минимум, Китай, Индия, Япония и Евросоюз (в какой-либо из своих ипостасей) – должны позаботиться о создании возможных структур ad hoc. В частности, наподобие расширенной либо перестроенной G8 – для обсуждения серьезных проблем международных отношений и их урегулирования.
Тема постсоветского пространства вызывает наиболее острые дискуссии, и они, скорее всего, лишь усилятся по мере укрепления России.
Принципиально важно, чтобы обе стороны уважали суверенитет и территориальную целостность государств региона. Действия России в Грузии, без сомнения, нарушают указанные выше принципы. Москве следует представить убедительные объяснения того, почему они в данном случае неприменимы. Вашингтону необходимо сделать то же самое в отношении Косово.
Соединенным Штатам надо также принять во внимание особое место, которое занимает в сознании россиян это пространство, входившее в состав Российского государства по меньшей мере одно-два столетия. Наследием существовавшей в прошлом общей государственности стали многочисленные политические, экономические и личные связи. Контроль над этим регионом придавал России геополитический вес и чувство безопасности и по-прежнему дает ей ощущение великодержавности.
При всем при том россиянам следует признать, что с учетом сегодняшних реалий, особенно процесса глобализации, данный регион уже не может быть зоной исключительного влияния Москвы. Законные интересы в его различных частях имеют теперь и другие государства, включая США, и их присутствие со временем только возрастет. Покончить с соперничеством Соединенных Штатов и России нереально. Но нельзя допустить того, чтобы оно разрушило доверие, необходимое для сотрудничества по другим вопросам.
Украина представляет собой наиболее сложную проблему. Она стремится зафиксировать свое отличие от России и идентифицировать себя как самостоятельное государство, но в силу исторических причин Украина неизбежно остается элементом национальной идентичности России и ассоциируется с ее ролью как крупной мировой державы. Движение Киева в сторону Запада – результат политических дебатов внутри страны – следует уважать, но учитывать при этом обостренную реакцию России. Насколько это возможно – неясно, и потребуется время, чтобы разобраться в ситуации в политическом, экономическом и институциональном плане. Однако выход не в том, чтобы искусственно осложнять ситуацию, а в том, чтобы положиться на естественное развитие событий по мере того, как Европейский союз и НАТО будут строить отношения с Москвой и откликаться на запросы Украины.
ЦЕННОСТИ
Хотя «средством обращения» в международных отношениях остаются не ценности, а интересы и, более того, вопрос о ценностях явился причиной многих трений в американо-российских отношениях, от него таки никуда не уйти.
Невозможно представить себе Соединенные Штаты, которые не стремились бы к продвижению демократии вовне, как они делали это с момента обретения независимости. Данную реальность Россия должна принять, как неизбежную в отношениях с США. Вопрос заключается в пределах допустимого, а также в том, как это воспринимать.
Вашингтону не следует переходить грань между общей поддержкой демократических ценностей и вмешательством во внутренние дела России. И это не просто вопрос уважения. Здесь есть и практический аспект, связанный с тем результатом, которого добиваются Соединенные Штаты. Полвека назад, в начале холодной войны, Джордж Кеннан писал: «Пути, по которым народы продвигаются к достоинству и просвещению в государственном управлении, составляют самые глубинные и сокровенные процессы жизнедеятельности государства. Нет ничего более непостижимого для иностранцев, и ничто здесь не может нанести больше вреда, чем иностранное вмешательство».
Вместо того чтобы заниматься бесплодными словопрениями о демократических ценностях, США и Россия, возможно, сочтут более выгодным для себя сосредоточиться на конкретных задачах обеспечения безопасности в XXI веке, вопросах, связанных с миграцией, отношениями внутри федерации, коррупцией, неравенством в доходах, инновациями и т. д. Дальнейшее расширение усилий экспертов обеих стран по разработке практических аспектов и подходов к данным проблемам, вероятно, принесет больше пользы в установлении климата доверия и взаимного уважения.
***
Нет легких путей, которые вели бы к улучшению американо-российских отношений. Разочарования последних 15 лет нанесли большой ущерб, а неопределенность ситуации в мире не способствует росту доверия. Конфликт, связанный с Грузией, только осложняет ситуацию, и, по-видимому, делает задачу сближения невозможной в обозримом будущем. И все же сейчас нужно сосредоточиться на конкретных задачах, прагматических подходах и трезвой оценке обеих сторон. Не следует закрывать глаза на разделяющие нас реальные противоречия, но они бледнеют на фоне стоящих перед нами общих задач.
С приходом новых администраций в обеих странах следует избегать заявлений и действий, внушающих мысль о том, что нас разделяет непреодолимая стена, а мы являемся непримиримыми соперниками. А если отношения пойдут на лад, необходимо устоять перед соблазном праздновать легкую победу и разглагольствовать о партнерстве, не подкрепленном конкретными действиями. Сохраняется опасность того, что тем самым будет спровоцирован третий большой цикл ожиданий и разочарований, нанесших столько вреда. Будем реалистами: наши отношения – это одновременно и сотрудничество и соперничество. Это нормально для любых двух крупных держав. И, по правде говоря, конструктивные отношения на основе уважения – это все, что нам нужно, чтобы приступить к решению задач, которые стоят перед нашими странами.

Смена парадигмы
© "Россия в глобальной политике". № 5, Сентябрь - Октябрь 2008
А.Г. Аксенёнок – к. ю. н., Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, опытный дипломат, работавший среди прочего на Ближнем Востоке и на Балканах.
Резюме Переход от политкорректного выяснения отношений к действиям конфронтационного характера назревал давно. Признав Абхазию и Южную Осетию, Россия показала Западу, что навязываемая ей модель партнерства, построенная на лицемерии и двусмысленностях, не может дальше работать.
События августа 2008 года, связанные с нападением Грузии на Южную Осетию, по своему значению вышли далеко за рамки регионального конфликта. Нынешний переход от политкорректного выяснения отношений между Москвой и западными столицами к действиям конфронтационного характера назревал давно. Признав Абхазию и Южную Осетию, Россия показала Западу, что навязываемая ей модель партнерства, построенная на лицемерии и двусмысленностях, дальше работать не может.
Августовские события стали катализатором серьезных сдвигов в расстановке сил и приоритетов на евро-атлантическом пространстве, последствия которых в полной мере проявятся не сразу. Грузинскую авантюру и твердый ответ России следует рассматривать не изолированно, а в глобальном контексте и попытаться осмыслить своеобразие момента в свете происходившего на мировой арене последние два десятилетия.
ПУТЬ К ВОЙНЕ
Война на Кавказе вряд ли стала неожиданностью. Нерешенная проблема «непризнанных государств» Южной Осетии и Абхазии (как и ряда других) – тяжелое наследие распада Советского Союза – все эти годы оставалась взрывоопасным фактором. Градус напряженности то снижался, то повышался, постоянно отравляя межгосударственные отношения в региональном масштабе. Однако на протяжении десяти лет острых конфликтов удавалось избегать.
Ситуация резко изменилась после того, как в Грузии к власти с розами в руках пришел Михаил Саакашвили – представитель нового поколения, получившего западное образование. С тех пор восстановление страны в границах, в которых Грузинская ССР существовала в составе Советского Союза, было поставлено в центр усилий Тбилиси, всей его внешнеполитической и военной стратегии.
Вначале акцент делался на политико-дипломатических методах по двум магистральным направлениям.
Первое – это попытки очаровать Россию, получив от нее негласное «добро» на мирную интеграцию абхазов и южных осетин в состав Грузии.
Второе – связать Запад, в первую очередь США, проявлениями безграничной преданности идеалам демократии и готовности войти в евро-атлантические структуры любой ценой невзирая на законные озабоченности соседей, в том числе и населения Южной Осетии и Абхазии.
Когда стало очевидно, что эти два направления в реальной политике несочетаемы, линия президента Грузии приобрела однозначный характер. Ставка в игре стала повышаться, а ее масштабы – выходить за рамки Кавказского региона. По мере выполнения задач на втором направлении новая Грузия взяла курс на беспрецедентную в межгосударственных отношениях демонизацию России. Разрыв вековых братских уз между российским и грузинским народами сопровождался фальсификацией исторических фактов в шовинистическом ключе.
Главным препятствием на пути осуществления «идеи фикс» грузинского лидера было присутствие международнопризнанных, в том числе самой Грузией по соглашениям 1992 года, российских миротворческих сил. Заменить действующий легитимный механизм урегулирования по Южной Осетии на новый международный формат мирным путем оказалось невозможно. Другая сторона, югоосетинская, выступала категорически против, выдвигая собственные аргументы.
В этих условиях грузинское руководство – сейчас это стало особенно очевидным – приняло решение о проведении силовой операции, которая в случае военного вмешательства Москвы делала бы российских миротворцев стороной в конфликте. Участились нарушения действующих соглашений и режима безопасности в зоне контроля миротворческих сил, ускоренно наращивались военный потенциал и вооруженное грузинское присутствие в анклавах Южной Осетии, российские военные все чаще становились мишенью грубых провокаций и подвергались унижениям.
Уверенности в своей безнаказанности грузинской стороне придавали еще и ограниченные рамки миротворческого мандата, не допускавшего применение военной силы. В отличие от жесткой миротворческой операции в Боснии и Герцеговине, где, согласно Дейтонским соглашениям многонациональные силы НАТО имели право открывать огонь в заранее прописанных случаях (rules of engagement), роль российских военных сводилась главным образом к разъединению сил, поддержанию режима безопасности и невозобновления огня. Существовавший четырехсторонний механизм политического урегулирования грузино-югоосетинского конфликта в форме Смешанной контрольной комиссии (СКК) не был по соглашениям 1992 года подкреплен достаточной военной составляющей.
Позже, в ходе операций по принуждению к миру, проводившихся на Балканах Организацией Объединенных Наций под руководством Североатлантического альянса, первостепенное значение придавалось как раз наличию сильного (robust) и дееспособного военного компонента.
В начале 1990-х Россия не располагала должным миротворческим опытом в новых постконфронтационных условиях (приобретенным позднее на Балканах). Да и кто тогда, исходя даже из самых худших сценариев, мог предположить, что конфликт между грузинами и осетинами на территории бывшей советской республики выльется в войну между Грузией и Россией? Как бы то ни было, но эта «слабина» в миротворческом мандате позволила грузинской стороне рассчитывать на блицкриг и изменение ситуации де-факто, сделав вмешательство России военным путем политически проигрышным.
После того как военная авантюра президента Грузии потерпела провал и обернулась гуманитарной катастрофой для братских народов, не столь важно, получил ли он «добро» Вашингтона, или поступавшие оттуда сигналы были в Тбилиси неверно интерпретированы. Скоротечное развитие событий перед вторжением в Цхинвали не оставляет сомнений в том, что координация политико-дипломатических шагов по вытеснению российского военного присутствия имела место и продолжается уже на послевоенном этапе.
Мало что изменит теперь и установление истинных мотивов, которые побудили Тбилиси пойти на такой шаг именно сейчас. Возможно, это было связано с приближением выборов в США и вероятностью внесения корректировок во внешнеполитическое наследие Джорджа Буша, или с расчетами продавить таким путем подключение Грузии к Плану действий по членству в НАТО, или с предположением, что Россия не вмешается из-за высоких рисков.
Важнее другое. В ходе предпринимаемых усилий по ликвидации последствий грузинской агрессии против малого народа не должен затеряться поиск ответов на глобальные вызовы современности. Ведь Михаил Саакашвили, при всей его импульсивности, никогда не решился бы на силовую акцию, если бы мир со всеми его хроническими и вновь приобретенными болезнями не переживал период неопределенности и потери ориентиров. Победные реляции, равно как пропагандистские залпы и демонстрации праведного гнева по поводу попыток «агрессивной России» расправиться с «маленькой Грузией» только усиливают ощущение абсурдности происходящего в мировой политике.
ОТ НАДЕЖД К РАЗОЧАРОВАНИЮ
Возникает масса недоуменных вопросов, и теперь уже, как заметно по реакции в мире, не только в Москве. Почему большинство западных политиков заняли априори столь несбалансированную, попросту говоря, враждебную России позицию? Неужели действительно есть основания представлять ее действия в свете противостояния «добра» и «зла», «свободного демократического мира» и «агрессивной автократии»? Разве этот локальный конфликт, столь явно спровоцированный Грузией, угрожает национальным интересам Соединенных Штатов либо их экономическому благополучию?
Однозначных ответов на эти болезненные вопросы не существует, хотя ясно, что их следует искать не в Грузии и даже не в России. Логику, толкнувшую Тбилиси на подобный риск, определяла международная обстановка, которая складывалась в мире и вокруг России на протяжении последних восьми – десяти лет.
За исторически короткий период двух десятилетий конца прошлого – начала нынешнего века мир пережил бурные перемены по всем направлениям – в экономике, политике, праве, информационных технологиях, культурном и гуманитарном общении. Ускорились глобализационные процессы и сопровождающий их рост взаимозависимости государств, расширилось поле многосторонней дипломатии, трансграничного движения людей и капиталов.
Если рассматривать постконфронтационный период под углом зрения взаимоотношений России и Запада, то можно проследить зигзагообразное движение, ведущее от надежд на стратегическое партнерство к возвращению риторики времен холодной войны.
В 1990-х годах обновлявшаяся Россия с готовностью встала на путь внутренних реформ, интеграции в мировую экономику, установила партнерские отношения с НАТО и Европейским союзом, пойдя на значительные самоограничения в обычных вооружениях и численности Вооруженных сил. Еще свежо в памяти сотрудничество с НАТО в рамках «многонациональных сил» по восстановлению мира на Балканах. Расширение Североатлантического блока на страны Центральной и Восточной Европы и Балтии прошло относительно спокойно, хотя Москва и зафиксировала свое принципиальное неприятие такой политики Запада в условиях отсутствия военной угрозы с Востока. Параллельно с расширением сформировались и неплохо заработали механизмы взаимодействия Россия – НАТО, рассчитанные на партнерство в широком стратегическом масштабе.
Уже в начальный период президентства Владимира Путина Москва без колебаний подставила плечо Соединенным Штатам после того, как Америка подверглась атаке международного терроризма. Тогда речь шла отнюдь не о поддержке на словах, а о конкретных шагах, частично затрагивающих национальную безопасность самой Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе.
Это было время, когда и в России, и на Западе появились иллюзорные надежды на бесконфликтное урегулирование разногласий на базе общности интересов в противодействии новым вызовам глобального развития. Отечественный политический истеблишмент проявил готовность к далеко идущим компромиссам при условии взаимности и стремления должным образом оценить трудности демократической трансформации, переживаемые Россией.
Однако консервативные представители евро-атлантизма на Западе восприняли это как согласие ослабленной России на роль «младшего партнера» и «золотой шанс» вестернизировать мировое развитие под эгидой международных структур безопасности и сотрудничества, находившихся под сильным влиянием Соединенных Штатов. В этом смысле программу широких реформ, получившую в 1980-х годах название «вашингтонский консенсус», можно рассматривать как заявку на американоцентризм не только в экономике и финансах, но и в принятии глобальных политических решений, в их монопольном информационном обеспечении.
Переход от идиллической фазы постконфронтационного периода к политкорректному выяснению отношений происходил не одномоментно. Какое-то время обе стороны сохраняли видимость делового сотрудничества при подспудно копившихся различиях в подходах к решению целого ряда крупных вопросов мирового развития. Джордж Буш не раз заверял, что США не считают Россию врагом, а в Москве уверенно говорили о невозможности возвращения к конфронтации, о том, что история не повторится.
Между тем сползание если не к конфронтации, то к взаимному охлаждению отношений и подозрительности ускорялось. В период холодной войны страх ядерного взаимоуничтожения способствовал принятию негласных правил игры и прочерчивал «красные линии». А в цивилизованном XXI веке мир становился все более многообразным и все менее управляемым.
Односторонние действия Вашингтона и навязывание своим союзникам решений, выдаваемых за коллективную волю, поставили мир перед фактом «гуманитарной интервенции» в бывшей Югославии и привели к бомбардировкам этого и других суверенных государств (Ирак со стороны Израиля, Судан со стороны США).
Разрушение основ послевоенной международной архитектуры происходило нарастающими темпами после прихода к власти в Вашингтоне команды неоконсерваторов (2001), хотя, справедливости ради, надо сказать, что они просто развили тенденции, заложенные их предшественниками, и на первый взгляд идейными оппонентами из администрации Билла Клинтона.
Соединенные Штаты присвоили себе право записывать одни государства в «изгои» (термин появился еще в 1990-х), другие – в светочи демократии (это стало фирменным знаком уже 2000-х годов). Вторжение США в Ирак, повергшее в шок даже европейских союзников, стало первым в послеконфронтационный период актом свержения режима суверенного государства вооруженным путем. Как выяснилось впоследствии, без каких бы то ни было на то оснований. Затем последовали неуклюжие попытки переустроить Большой Ближний Восток по стандартам западной демократии, вылившиеся в триумф радикального исламистского движения ХАМАС (оно убедительно выиграло выборы в Палестине зимой 2006-го) и легитимное врастание родственной ему по духу партии «Хезболла» в государственную структуру Ливана, превратившее ее в наиболее влиятельную политическую силу страны. Все это наряду с усилением террористической деятельности «Аль-Каиды» обострило ситуацию на Ближнем Востоке и заранее обрекло на неудачу запоздалые посреднические усилия уходящей администрации Буша в палестино-израильском урегулировании.
Обстановка на европейском континенте также складывалась отнюдь не лучшим образом. Свои односторонние действия на мировой арене администрация Джорджа Буша начала с выхода из Договора по ПРО, что нанесло урон глобальной стратегической стабильности. Курс на подрыв сложившегося баланса в этой сфере получил логическое продолжение. К концу президентского мандата США под предлогом иранской угрозы пошли на размещение в Польше и Чехии позиционного района для средств ПРО, проигнорировав обоснованные российские озабоченности.
Европейцам навязывалось искаженное восприятие России, ее намерений. Атмосфера общеевропейского сотрудничества находилась под прессом косовской проблемы, решение которой в рамках международного права найти не удалось. Под предлогом «уникальности» случая с Косово Вашингтон сумел продавить отторжение этой территории от Сербии вопреки ее суверенной воле, чем завершился процесс расчленения Югославии. Примечательно, что разбираться с дальнейшей судьбой Косово американцы предоставили Европе, которая в принципе совсем не стремилась к появлению в регионе новой страны.
Немалую лепту в копилку раздражителей внесли «новички» НАТО и Евросоюза, такие, как Польша и страны Балтии, которые в угоду своему мелкому эгоизму создавали препятствия налаживанию делового партнерства Москвы с евро-атлантическими структурами. Подобная линия поведения русофобски настроенных руководителей указанных государств, как и в случае с Грузией, пользовалась поддержкой со стороны США, что не могло не отражаться на российско-американском диалоге.
С началом расширения НАТО на бывшие советские республики и приданием этому процессу идеологической окраски наступила новая фаза, которую можно характеризовать как соперничество в борьбе за влияние на постсоветском пространстве неконфронтационными средствами. «Демократические революции» в Грузии и Украине, внедренные в общественное сознание на Западе посредством противопоставления «автократическим тенденциям» в России, перенесли эту борьбу в поле острой международной полемики о моделях общественного развития, технологиях выборов и роли в них неправительственных организаций.
Анализ практики выборов в Словакии, Сербии и особенно в Украине дал Москве весомые основания для вывода о том, что Соединенные Штаты и их натовские союзники используют демократизаторскую риторику как прикрытие. Тем самым созданные и финансируемые ими механизмы смены неугодных режимов формально обретают политическую легитимацию. Многие эксперты даже заговорили об опасности формирования у западных и южных границ России своего рода «санитарного кордона», включающего в себя недружественные ей соседние государства – от Эстонии до Грузии.
Далее массированное наступление на Россию перешло в экономическую сферу. Предпринимая в соответствии с рыночными принципами шаги по выравниванию цен на поставки энергоносителей бывшим советским республикам, Москва рассчитывала встретить понимание Запада. Вместо этого она вновь оказалась объектом обвинений в «неоимперских амбициях», в стремлении использовать нефть и газ в качестве инструмента давления на соседей. Одновременно была вброшена тема энергетической безопасности Европы, не возникавшая с такой остротой даже в годы холодной войны.
Испытывая на себе все нарастающее давление, причем зачастую под надуманными предлогами, Россия вовсе не стремилась сохранить миропорядок, сложившийся в итоге Второй мировой войны. Беспокойство и не только в России вызвало то, каким образом происходит его демонтаж. Если основы устаревшей системы создавались коллективно, как бы с «чистого листа», то их разрушение велось явочным путем, односторонне и безальтернативно. Партнерские отношения и деловое сотрудничество подменялись созданием видимости партнерства, двойными стандартами в политике, морализаторством и поучениями.
Эрозии подвергались фундаментальные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН и многосторонних договорах: национальный суверенитет, территориальная целостность, равная безопасность, невмешательство во внутренние дела.
В этих условиях влияние международных организаций, в первую очередь Организации Объединенных Наций, неуклонно ослабевало. Это давало повод для суждений о неэффективности ООН как универсального института, подвергалась сомнению ее реформируемость. И действительно, в случаях, когда позиции постоянных членов Совета Безопасности ООН расходились, этот орган все чаще оказывался не в состоянии принять действенные решения. В парализованном состоянии он пребывал и с началом нападения Грузии на Южную Осетию.
Совместные усилия по формированию новой международной архитектуры и приданию ей естественного упорядоченного характера подменялись неформальными обсуждениями всевозможных псевдопроблем. Вроде принадлежащей американскому сенатору Джону Маккейну идеи создания так называемой Лиги демократий, объединенных общими ценностями. Такая постановка вопроса, учитывая сложившийся международный фон, не оставляла сомнений в ее антироссийской направленности.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
К реакции Москвы на военную авантюру Тбилиси не следует подходить со старыми мерками, непригодными для оценки нового, хаотично складывающегося миропорядка. В обстановке, когда развитие событий в мире шло в русле игры без правил, а нормы международного права подменялись политической целесообразностью, Грузия сознательно сыграла роль поджигателя в расчете на безнаказанность, а Россия, находясь в положении обороняющейся стороны, не имела другого выбора.
Создается впечатление, что ведущие политические «игроки» на Западе не поняли либо не захотели понять, что стремительный рост в последние годы количества раздражителей приобрел новое качество. Для России, как для любого другого государства, это новое качество выразилось в категориях национальной безопасности, экономических интересов, морали и нравственности. В понимании российских политических верхов демонизация России по любому случаю, искусственные попытки слепить из нее «образ врага», грубые нарушения правил свободной конкуренции на мировых рынках – все это имело конечной целью не допустить ее возрождение в качестве одного из «центров силы» в быстро меняющемся мире.
Превращение России из партнера Запада в «агрессора» и «нарушителя норм международного права» выглядит тем более абсурдно, что Москва шаг за шагом терпеливо и честно предупреждала: игнорировать естественные государственные интересы России недопустимо, существуют «красные линии», переступать которые нельзя.
Ни одно из этих предупреждений всерьез воспринято не было, да и вообще аргументы Москвы давно уже наталкиваются на стену более или менее вежливого равнодушия. В связи с этим создается впечатление, что Россия готова прекратить попытки объяснять свои действия и начать исходить прежде всего из собственного понимания, а не возможной внешней реакции.
Необходимо, как не так давно призывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, взять паузу, спокойно все осмыслить и подготовить серьезный диалог, нацеленный на то, чтобы коллективно выработать такую международную архитектуру безопасности и сотрудничества, которая бы соответствовала новым мировым реалиям. Впрочем, на деле похоже, что развитие событий, наоборот, ускорилось и принимать решения о новых контурах мироустройства придется на ходу. Причем делать выбор, как показали и события в Грузии, надо будет, во-первых, быстро и, во-вторых, не между хорошими и плохими, а между плохими и очень плохими вариантами.
Заявления о нежелании начала новой холодной войны обнадеживают. Она, вообще-то, и невозможна: уж слишком изменился мир со времени идеологического противостояния 1940 – 1980-х годов. В условиях глобальной взаимозависимости любой конфликт приобретает совершенно иные, неведомые доселе формы, и предсказать развитие событий, моделируя его на материале «первой» холодной войны, просто невозможно.
Важно избежать эскалации напряженности до точки «невозврата», преодолеть соблазн «битвы престижей», которая имеет свою разрушительную логику, и выйти на согласование конкретных форматов для продолжения прагматичного, идеологически немотивированного диалога. Собственно, именно к этому призывал в июне сего года президент России Дмитрий Медведев, выступая в Берлине с идеей дискуссии о новой евро-атлантической системе безопасности. Сейчас этот призыв обрел еще большую актуальность. Правда, пока готовность к такому диалогу выглядит, к сожалению, крайне незначительной.
Начало российско-германских межгосударственных консультаций, 2 октября 2008г., Санкт-Петербург.Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемая госпожа Федеральный канцлер! Уважаемые участники заседания! Рад вас приветствовать на десятом раунде наших консультаций, которые уже во второй раз, более чем через семь лет, проводятся в Санкт-Петербурге. И своим историческим обликом, и сегодняшним развитием, надеюсь, что северная столица – город Петербург – как нельзя лучше располагает к совместной работе. Во всяком случае, мы договорились, что работа будет перемежаться обедами. Сейчас у всех, надеюсь, настроение хорошее, и мы сможем продолжить нашу работу.
Прошел год после нашего двустороннего саммита в Висбадене, он вместил в себя много событий. В России прошли президентские выборы, обновился состав Правительства, хотя большая часть коллег, которые присутствуют за этим столом, знакома и германским коллегам.
Был плотным и наш график совместных встреч на высшем уровне: с госпожой Меркель мы за последние семь месяцев встречаемся уже пятый раз, интенсивными были контакты и руководителей ведомств.
Суммируя проделанную работу, мне бы хотелось специально сказать, что наш взаимный товарооборот – это отрадный факт – приближается к новой и, по сути, рекордной отметке в 60 миллиардов долларов. Такому результату, на мой взгляд, в немалой степени способствовала и работа Группы высокого уровня по вопросам экономического и финансового сотрудничества.
Рассчитываем, что в полной мере реализует свой мандат и межведомственная рабочая группа по вопросам безопасности. Мы считаем ее важнейшим звеном, ждем новых предложений по повышению ее эффективности. Это особенно актуально сейчас, в тот период, когда происходит, по сути, фундаментальная трансформация системы международной безопасности. Этот этап и сложен, и ответственен, и в этом ключе мы рассматриваем и ту идею, которая была сформулирована Российской Федерацией, – идею о новом, обязывающем всех договоре о европейской безопасности. Впервые, кстати, мы на эту тему начали разговаривать во время посещения Берлина.
Россия хотела бы сделать договор такого рода, по сути, специальным островом стабильности на всем европейском пространстве. Договор должен опираться на принципы международного права, на баланс интересов всех государств, естественно, без исчезновения других интеграционных объединений, других организаций и блоков, которые существуют на европейском континенте. Материалы, которые содержат наше видение этого вопроса, были переданы нашим немецким партнерам.
Для России очень важен в этом смысле голос Германии как одного из наиболее уважаемых и ответственных партнеров Российской Федерации. Мы всегда ценили взвешенный и прагматичный подход Германии к общеевропейской кооперации. Наш постоянный диалог по вопросам глобальной безопасности, по укреплению региональной стабильности, включая ситуацию на Кавказе, сегодня оказывает серьезное влияние на международную повестку дня. Мы готовы откровенно обсуждать и эти вопросы, естественно, готовы обсуждать и вопросы взаимоотношений в формате Россия–НАТО и Россия–ЕС. Считаем, что здесь не должно быть умаления принципа взаимной безопасности, принципа неделимости безопасности, баланса интересов и совместной ответственности за создание большой Европы.
Как государства, входящие в «Группу восьми», два наших государства несут и особенную ответственность за глобальную стабильность в мире. Именно с этих позиций мы будем осуществлять наше сотрудничество в борьбе с такими угрозами безопасности, как распространение оружия массового уничтожения, международный терроризм, наркоугроза, региональные конфликты, включая вопросы Косова, Ближнего Востока, Афганистана, проблемы ядерной программы Ирана.
Конечно, было бы неправильно не замечать влияния внешних факторов на российско-германское сотрудничество, которое проявилось за последнее время. Мы исходим из того, что ущерб от такого влияния на наши отношения оказался минимальным. И это связано не только с взаимозависимостью наших экономик, их взаимным влиянием друг на друга, настроенностью общественности на диалог. Такой настрой в целом характерен для тех, кто в конечном счете принимает решение, кто определяет международную политику и в Москве, и в Берлине.
Разумеется, мы не всегда придерживаемся единых, близких позиций. Есть позиции, по которым мы достаточно серьезно расходимся, но мы стараемся (и этим нам отвечают наши немецкие партнеры) понять друг друга и работать во имя совместного будущего, и в целом нам это удается. Об этом мы, кстати, сегодня говорили во время «Петербургского диалога».
Нам кажется весьма удачной германская инициатива сотрудничества в формате «партнерство для модернизации». Такое партнерство основано на качественно новых акцентах, подтверждает их перспективность, и мы готовы дальше работать по этому проекту.
Нам бы хотелось услышать от министров, как нам активизировать сотрудничество и в области демографии, энергоэффективности. Мы только что за обедом обсуждали этот вопрос с бизнесом: здесь есть ряд очень хороших идей, научно-образовательных обменов и других социально значимых направлений. Мы крайне заинтересованы в конкретных результатах, надеемся, что они последуют.
Уважаемые немецкие партнеры! Наша встреча проходит на фоне острой, можно даже сказать, острейшей ситуации на мировых финансовых рынках. Не будем анализировать эту ситуацию заново. Причины ее хорошо известны. Наши общие оценки той экономической модели, которая привела к кризису, во многом совпадают.
Очевидно, что способность одного государства диктовать свои правила игры, к сожалению, в этой ситуации не срабатывает. У России накоплен достаточный запас прочности, позволяющий и дальше осуществлять модернизацию страны, создавать условия для новой инвестиционной волны, но мы бы, конечно, хотели и кооперации в этой сфере. Речь может, кстати сказать, идти именно о кооперации в финансовом вопросе, в финансовых делах, включая взаимную поддержку формирования альтернативных финансовых центров, совместную выработку общих для всех правил игры, взаимодействие в реформе международных финансовых институтов и мировой финансовой экономической системы в целом. Конечно, являются важными и традиционными для нас сферы сотрудничества в области экономики, энергетики, транспортной инфраструктуры, автомобилестроения, авиапромышленности и теперь высокотехнологичных областей.
Важнейший проект, который находится в зоне нашего совместного внимания и, по сути, такой неустанной политической поддержки, – это «Северный поток». Мы считаем, что выгода от этого проекта очевидна. И мы полагаем, что он будет полезен для всех его участников. Во всяком случае, надеемся на движение, движение в рамках тех сроков, которые мы запланировали. Надеемся на то, что внерегиональные державы, которые никакого отношения к этому проекту не имеют, не будут пытаться влиять на его продвижение.
Просил бы отраслевых министров проинформировать нас с госпожой Федеральным канцлером о состоянии дел по конкретным вопросам. Хотели бы услышать информацию от руководителя двусторонней Группы высокого уровня по стратегическим вопросам сотрудничества о ходе реализации наиболее значимых совместных проектов.
Хотел бы предоставить слово Федеральному канцлеру госпоже Ангеле Меркель.
А.МЕРКЕЛЬ. Большое спасибо, господин президент. Дорогие коллеги!
Мы с большим удовольствием приехали сюда со стороны федерального правительства Федеративной Республики Германия. В частности, мы с удовольствием приехали в этот прекраснейший, красивейший город, который принял нас сегодня. Каждый раз это очень впечатляет, когда ты находишься в Петербурге, поэтому место выбрано очень хорошо и не просто так.
Это место уже дважды было выбрано для проведения германо-российских встреч. В этот раз у нас очень концентрированная программа, мы многое запланировали. Как всегда, мы обговорили комплекс внешнеполитических вопросов и вопросов безопасности. У нас есть разное видение вещей, мы об этом уже масштабно обменялись мнениями, также в том, что касается конфликта на Кавказе. Но в результате выяснилось, что стабильные и постоянные контакты между нашими странами помогли нам, несмотря на это, не перейти в фазу безмолвия, а со стороны Германии, могу сказать, внесен вклад внутрь Европейского союза, чтобы вместе с французским председательством, приняв план «шести шагов», пойти по пути, который продвинет нас вперед.
Мне кажется, что это показывает также, насколько важно иметь постоянные, последовательные, интенсивные контакты, основывающиеся на доверии и на знании друг друга, обоюдном знании друг друга. И это знак того, что мы можем продолжить наше сотрудничество.
Бесспорным является тот факт, что по региональным, историческим, традиционным причинам мы тесно связаны друг с другом, что у нас очень много общих интересов, что мы эти интересы можем очень хорошо объединять друг с другом.
Мне кажется, например, что подписание сегодня соглашений между предприятиями «Э.ОН» и «Газпром» в ходе «Петербургского диалога» стало очень важным вкладом.
«Петербургский диалог» является дополнением наших межгосударственных консультаций и является довольно-таки широкомасштабным мероприятием. Сегодня было очень впечатляюще видеть, как молодежь, молодые люди из парламента «Петербургского диалога» рассказывали о своей деятельности очень открыто, очень уверенно рассказывали о своей деятельности. Можно видеть, как вырастает новое поколение, которое уже имеет то, что наше поколение должно было только для себя открыть и чему оно должно было научиться.
Мы говорили о большом количестве практических пунктов нашего сотрудничества, наши отраслевые министры нам сейчас об этом доложат. Важными акцентами была кооперация, которая также разработана в рабочих группах: с одной стороны, в области экономики, энергетики, политики, энергоэффективности, с другой стороны, в области здравоохранения.
Мы говорили о том, что у нас в наших странах есть разные сильные стороны, которые мы можем объединить друг с другом, что будет согласована ситуация win-win, где выигрывают обе стороны. Мы сегодня думали и говорили об очень и очень интересных проектах.
Существует германское Энергетическое агентство. Это германское агентство может стать очень интересным примером и подать пример России, чтобы там было создано аналогичное агентство, чтобы на основе частно-государственного партнерства было основано такое же агентство в России. Это было бы очень интересным пунктом.
Помимо этого, естественно, в области сотрудничества в области сырья, производства энергетики, «энергетического микса» мы говорили о целом ряде возможностей для сотрудничества, об этом уже сегодня было упомянуто. Наверное, более глубокую оценку нам дадут министры экономики.
Насчет кризиса финансовых рынков: мы понимаем, что наши национальные возможности для действия довольно-таки ограничены. Здесь мы чувствуем взаимозависимость, и глобальную взаимозависимость мы тоже чувствуем. Министр экономики и его коллега нам расскажут позже об этом.
Мне кажется, что у нас существует большой потенциал в области сотрудничества в научных исследованиях, что мы должны развивать дальше этот потенциал, потому что научные исследования являются в конце концов базой для производства добавочной стоимости вне зависимости от энергоносителей. Но Россия, конечно, должна не только основываться на сырьевых ресурсах, но и, конечно, расширить возможность для создания дополнительных ценностей.
Мне кажется, что межгосударственные консультации между Россией и Германией служат также и тому, чтобы мы знали соответствующую позицию другой страны в рамках международных организаций. Мы знаем, что существует очень много проблем, где у нас разное видение. Это соглашение по разоружению, это конфликты, которые еще не разрешены: Приднестровье, Западные Балканы. Существуют также и другие неразрешенные конфликты, и они могут быстро стать насущными, актуальными конфликтами. Мне кажется, что тут поле действий для нашей работы не ограничено на ближайшие годы.
С германской стороны мы внесем вклад в то, чтобы сотрудничество между Европейским союзом и Россией было интенсифицировано, а также и Совет Россия–НАТО снова набрал бы скорость, потому что мне кажется, что в результате преодолеть конфликты можно, начиная с того, что они обговариваются.
Мы рады быть здесь. Мне кажется, что некоторые коллеги хотели бы остаться и подольше в Петербурге. Большое спасибо за гостеприимство, желаю всем хороших консультаций.
Канарские о-ва задумываются об отделении от Испании. О том же думают и на принадлежащем Португалии о-ве Мадейра. Сепаратистские настроения в Испании усиливаются среди коренного населения Канарских острововю. Схожие веяния наблюдаются на португальских Мадейре и Азорских островах.Бельгийский политолог Ги Веруан объясняет подобные настроения следующим образом: «Активная поддержка западными, а после Косово и российскими структурами новых независимых государств, да и сам факт их независимости, вдохновляют сепаратистов во многих европейских странах».
Недавно на Канарских островах была создана собственная Коммунистическая партия, которая официально провозгласила своей целью отделение от Испании. А один из лидеров социал-демократов Мадейры, член местного парламента Алберту Габриэл Друмонд, заявил, что если в 2009г. в конституцию Португалии не будут внесены соответствующие изменения, то остров объявит о своей независимости в одностороннем порядке.
Евросоюз пытается решить проблему экономическими методами, направляя, в частности, в островные автономии большие финансовые средства. Так, по сообщению Pravda.ru, в 2008г. для стимулирования «межрегионального сотрудничества и малого бизнеса» в экономику Мадейры, Азорских и Канарских островов было направлено 28 млн. евро.
По итогам XIII заседания Российско-Французской Комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств В.В.Путин и Ф.Фийон выступили перед журналистами.В.В. Путин. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Только что завершилось очередное, XIII заседание Российско-Французской Комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества.
Дискуссия, состоявшаяся в рамках нынешнего форума, носила предметный характер, была нацелена на практические результаты. Она продемонстрировала готовность партнеров принимать во внимание интересы и аргументы друг друга. Именно такой подход помогает нам выстраивать российско-французский диалог, развивать наше стратегическое партнерство.
Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в России высоко ценят посреднические усилия, предпринятые нашими французскими партнерами и лично президентом Франции Н.Саркози для преодоления кризиса на Кавказе. Франция, председательствующая в Евросоюзе, на деле доказала, что способна играть самостоятельную и весьма заметную роль в урегулировании кризисов.
Уважаемые друзья!
Еще во время предыдущей встречи с господином Ф.Фийоном в мае этого года в Париже мы условились сосредоточить внимание на ключевых направлениях нашего сотрудничества. На вопросах, требующих решения на уровне глав правительств.
Считаем, что сейчас крайне важно поддержать позитивные тенденции в развитии наиболее перспективных, высокотехнологичных областей взаимодействия. Это позволит нам диверсифицировать структуру деловых связей, повысить конкурентоспособность двух стран на глобальных рынках.
Одно из таких «прорывных» направлений – это аэрокосмическая сфера. Во Французской Гвиане, на Куру, полным ходом идет работа по проекту «Союз-СТ». Запуск ракеты-носителя запланирован на сентябрь 2009 года. Устанавливаются прочные связи между российской Объединенной авиастроительной корпорацией и концерном ЕАDS. Рассчитываем, что в перспективе здесь можно будет говорить о полноценной производственной кооперации. Большое количество специалистов из Франции уже работают в этой сфере в России, а сотни российских специалистов работают на французской территории.
Среди «локомотивов» нашего экономического сотрудничества – энергетика. Французские коллеги подтвердили заинтересованность компании «Total» участвовать во всех этапах освоения Штокмановского месторождения. Видим в этом еще одно свидетельство того, что крупный французский бизнес связывает с Россией долгосрочные, по-настоящему стратегические планы.
У наших стран сходные стратегии и подходы к развитию ядерной энергетики. Выделю лишь крупный проект российской компании «Атомэнергомаш» и французской «Альстом» по производству паровых турбин для АЭС.
Еще один позитивный момент – расширение сотрудничества крупнейших российских и французских электроэнергетических компаний – «Интер РАО ЕЭС» и «Электрисите де Франс».
Хорошие перспективы, на наш взгляд, есть у российско-французских проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры. Компании «Винси» и «Буиг» активно участвуют в строительстве автодорог в России. ОАО «РЖД» укрепляет партнерские связи с компаниями «Альстом» и «Жейсмар». Идут поставки продукции, причем в большом объеме, намечаются еще более крупные сделки.
Обсудили мы и российско-французское взаимодействие в сфере автомобилестроения. Французская делегация подтвердила, что у «Рено» и «Пежо-Ситроен» большие планы в России. Приветствуем приход французского капитала в эту перспективную отрасль российской экономики.
Одной из центральных тем на заседании было развитие сотрудничества в сельском хозяйстве. Хорошо известен высокий потенциал агропромышленного комплекса Франции. В свою очередь, мы реализуем масштабную программу развития российского села. И это создает хорошую базу для совместных проектов. Министры сельского хозяйства рассказали об объеме этого сотрудничества, он очень хороший.
Мы договорились придать дополнительный импульс сотрудничеству в научных исследованиях. А также инициативам в образовательной сфере.
Сегодняшнее заседание еще раз показало, что у России и Франции много перспективных совместных планов. В том числе – в области культуры, искусства, гуманитарного взаимодействия.
Мы с господином Фийоном подробно обсудили вопросы подготовки и проведения Года России во Франции и Года Франции в России. Выразили уверенность, что этот значимый проект существенно обогатит наш диалог, позволит укрепить прямые человеческие контакты граждан двух государств.
И, наконец, хотел бы сообщить вам, что по итогам заседания Комиссии был подписан ряд документов, укрепляющих правовую базу наших отношений. Среди них – соглашения о развитии молодежных обменов и совместной реализации положений Киотского протокола, а также заявление о партнерстве в сфере образования, научных исследований и инноваций. Заключено соглашение о юридической помощи между Генеральной прокуратурой России и Министерством юстиции Франции.
Хотел бы еще раз поблагодарить наших партнеров за конструктивную, плодотворную работу. Думаю, у нас есть все основания считать, что задачи, которые мы ставили перед сегодняшним заседанием, – выполнены. Главное – сделан еще один важный шаг на пути укрепления многогранного партнерства России и Франции.
Благодарю вас, уважаемые господа и дамы. Хочу поблагодарить господина премьер-министра за очень конструктивную работу сегодня.
Ф.Фийон. Спасибо, господин премьер-министр! Хотел бы поблагодарить Вас за прием в Сочи. Эта встреча стала продолжением работы в Париже в ноябре прошлого года и работы в рамках Вашего посещения Парижа 29 мая этого года. Эта встреча была прекрасно подготовлена, так же, как и заседание российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, возглавляемого Кристин Лагард и Сергеем Собяниным, которое прошло в июле в Санкт-Петербурге.
Наши связи имеют большую историю, они очень плотные, тесные. Именно такая плотность отношений позволяет нам с взаимным доверием и уважением рассматривать международные вызовы. Этот Совет вписывается в особый контекст, в частности, в контекст грузинского кризиса, который мы откровенно обсудили.
Должен сказать, что этот факт характеризует отношения дружбы между нашими странами. Мы способны говорить друг с другом о вопросах, по которым у нас нет единого мнения. премьер-министр знает позицию Франции – наше несогласие по вопросу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Но Франция приняла к сведению вывод российских войск с пяти постов на линии Поти – Сенаки в соответствии с решением, принятым в сентябре. Это действительно позитивные признаки.
Европейский Союз принял решение послать в зону конфликта более 200 наблюдателей до 1 октября. Франция будет участвовать в этой миссии группой составом более 40 человек. Мы готовы быстро двигаться в направлении политического решения в рамках международных переговоров, которые состоятся в октябре в Женеве. Я уверен, что Россия облегчит их подготовку, мы также будем к этому стремиться.
Франция и Россия – это великие страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. Таким державам обычно свойственно иметь больше обязанностей, нежели прав. Наши страны находятся в ситуации взаимозависимости, они действительно сталкиваются с одинаковыми вызовами: международными финансовыми кризисами, проблемой терроризма, распространением ядерного оружия, потеплением климата. Нет альтернативы сотрудничеству, основанному на диалоге и уважении верховенства закона.
От такого диалога мы многое можем выиграть в разных секторах: в авиации, космонавтике, транспорте, в сельском хозяйстве, в борьбе с потеплением климата. В этих вопросах мы не можем выиграть в одиночку, это вопросы, в решении которых мы серьезно продвинулись.
Многие говорят, что Европа сильно зависит от России в области энергетики, но дело в том, что Россия также зависит от Европы, ведь мы живем в условиях глобализации. Наши отношения с Россией очень тесные в том, что касается и экономики, и культуры. Чем больше мы будем их развивать, тем больше будем создавать условия для благосостояния наших стран, условия стабильности и мира.
Я хочу вернуться к итоговому документу. Два главных соглашения. Первое – это совместное осуществление Киотского протокола в тот момент, когда Франция призывает Евросоюз принять важное соглашение относительно потепления климата и энергетической эффективности до Копенгагенской конференции. Никакое государство в одиночку не может бороться с потеплением. Все должны действовать вместе. Здесь важны общие ценности: мир и безопасность.
Второй документ касается нашего космического сотрудничества, которое прекрасно развивается. Российские бригады работают в Куру уже с лета. Первый запуск будет осуществлен в 2009 году.
Я должен сказать, что присутствовал при начале сотрудничества в авиакосмической области с Россией. Не могу не отметить, насколько важно сопротивляться консервативному подходу. Когда в 1994 году мы начинали заниматься этим вопросом, во Франции против были все: почему это мы должны протягивать руку конкурентам в том, что касается носителей? С российской стороны также были возражения: почему это мы должны помогать Франции, когда у нас такая космическая технология?
Мы видим, что есть пути совмещения наших технологических и коммерческих возможностей. Российский опыт дал замечательные результаты. Он может побудить нас лидировать в том, что касается коммерческих запусков, энергии. Это – важнейший сектор, наши предприятия тут все более активны. Этот факт был высоко оценен и на этой встрече.
И, наконец, последний аспект нашей сегодняшней работы – это усилия, которые мы предприняли для того, чтобы лучше понимать друг друга, для того, чтобы обеспечить обмены между нашими странами. Мы говорили об этом еще вчера с господином Путиным. Не совсем нормально, что население наших стран достаточно плохо понимает друг друга и плохо знают страны друга друга. Поэтому необходимо расширить обмен людьми, в частности, обмен молодежью. Очень важно сотрудничество в области образования, науки. Это приоритеты в нашем сотрудничестве, в частности в том, что касается двух «перекрестных» годов – Года Франции и Года России в 2010 году. Это будет обеспечивать сближение двух наших стран.
Ведущий Уважаемые дамы и господа, предусматривается по два вопроса для российских и французских журналистов. Просьба представляться.
Вопрос. Маниаль Дани, «Франс Интер». Вопрос господину Фийону. Считаете ли Вы, что мы пережили уже финансовый кризис, и можно ли считать, что последствия для французской экономики, для бюджета небольшие?
Ф.Фийон. Ну, во-первых, я бы не сказал, что мы пережили финансовый кризис. Этот кризис начался более года назад и имел действительно огромное влияние в мире, в частности, в Европейском Союзе, во Франции. Что нас беспокоит – и мы говорили об этом вчера с господином Путиным – это то, что необходимо извлечь все уроки из этого кризиса. Необходимо создать в международном плане механизмы, которые позволили бы избежать возобновления таких ситуаций. Потому что действительно ненормально, что такие взрывы происходят в международной финансовой системе, в то время как были созданы механизмы контроля. Эти механизмы контроля должны быть усилены, должно быть больше транспарентности, больше сотрудничества между финансовыми властями стран. Вот над этим мы будем работать все вместе в ближайшие недели.
Мы констатируем, что финансовые институты Франции, Европы в целом не так плохо пережили этот кризис по сравнению с другими. Французские банки – это, в основном, универсальные банки, которые, в соответствии со старой традицией, занимаются разными ремеслами. Иногда считали, что это устаревшая, немодная модель. Однако она позволила многим гораздо легче пережить катастрофу, которая ударила по финансовой системе, в частности, в Соединенных Штатах. У нас будет возможность выдвинуть международные инициативы в ближайшие дни с тем, чтобы бороться с этим финансовым кризисом.
Вопрос. У меня вопрос к премьер-министрам Франции и России. Комиссия, заседание которой вы сейчас провели, рассматривала конкретные проекты двустороннего сотрудничества. Повлияли ли события августа на Южном Кавказе на реализацию этих проектов и в целом на созидательную сторону российско-французских отношений?
В.В. Путин. Что касается двустороннего взаимодействия между Францией и Россией, я считаю, что события на Кавказе никак не повлияли на наше взаимодействие.
Вот проблемы международного финансового кризиса, о которых сейчас спрашивал Ваш французский коллега, – те могли бы повлиять на сотрудничество между Францией и Россией. Но, слава богу, пока я не чувствую, что есть какое-то негативное влияние на наше взаимодействие.
Проектов, как я уже рассказал в своем вступительном слове, много. Они все реализуются. Ни один из них не заморожен и даже не сорван по срокам. Наоборот, все идет в плановом режиме. Более того, мы договорились сегодня об увеличении нашего взаимодействия практически по всем направлениям.
Что касается мирового финансового кризиса, то здесь, конечно, нам всем нужно подумать об изменении архитектуры международных финансов и о диверсификации рисков. Не может вся мировая экономика «сидеть на одном печатном станке». Это очень серьезный вопрос, который должен быть внимательно, без всякой спешки, спокойно, вместе с нашими европейскими, с американскими коллегами рассмотрен в рабочем режиме. Рассмотрен очень доброжелательно, не в направлении конфронтации, а в направлении поиска наиболее приемлемых вариантов развития мировой экономики и мировых финансов.
Вопрос. Спасибо, господа премьер-министры. Вы говорили о выполнении соглашения от 27 августа и 12 сентября. Не является ли направление российских военнослужащих в Абхазию и Южную Осетию нарушением соглашения? И что вы думаете о приглашении в Абхазию? Я думаю, надо двигаться поэтапно.
Ф.Фийон. Первый этап – это, во-первых, освобождение блок-постов, затем развертывание европейской миссии, о которой я говорил. Она самое позднее будет развернута 1 октября. Как только будет развернуто это наблюдение, как и предусмотрено соглашением, российские войска покинут прилегающие зоны в Абхазии и Южной Осетии. Это соглашение, по которому велись переговоры, и по которому Россия дала свое согласие.
О том, что касается Абхазии и Южной Осетии. Я бы сказал, что это вопрос, который вызывает разногласия. Мы этого не скрываем. Франция осуждает признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы привержены принципу уважения границ. Мы считаем, что эти вопросы должны рассматриваться на уровне международных конференций, которые позволили бы прийти к политическому решению.
В.В. Путин. Мы считаем, что мы полностью исполняем договоренности, достигнутые между президентами Франции и России, между господином Саркози и господином Медведевым. Мы изначально исходили из того, что мы выведем свои вооруженные силы и оставим только миротворцев в зоне безопасности. Мы на первом этапе так и сделали, как обещали. А что касается самой зоны безопасности – это грузинская территория. Как вы знаете, Россия по размерам своей территории является крупнейшей страной в мире. Даже после развала Советского Союза Россия – самая большая по своей территории страна в мире. Нам чужие территории не нужны. Нам свои еще нужно освоить. Вопрос идет только об обеспечении безопасности в этом регионе.
В диалоге с французским председательством в ЕС, с господином Саркози мы договорились о том, что российские миротворцы уйдут и из этой зоны. Имея в виду, что европейцы, ООН, ОБСЕ обеспечат безопасность в регионах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии. Мы и это сделаем, как только появятся соответствующие европейские структуры на этой территории.
Что же касается возможного вывода российских вооруженных сил из Абхазии и Южной Осетии – это отдельная тема. Как вы знаете, мы признали независимость Южной Осетии и Абхазии так же, как многие европейские страны признали независимость Косово. Мы посчитали абсолютно необоснованным нарушение действующих международных правовых норм. Не мы вскрыли этот ящик Пандоры.
Вопрос о пребывании наших вооруженных сил на этой территории будет решаться в двустороннем порядке в рамках международного права и на основе договоров между Россией и этими государствами.
Ведущий. Пожалуйста, заключительный вопрос, «Рейтер».
Вопрос. Добрый день. Учитывая активное председательство Франции в Европейском союзе, вопрос к двум премьер-министрам: как бы вы оценили перспективы развития России и ЕС, учитывая то, что переговоры по большому диалогу были отложены? И в этой же связи вопрос к господину Фийону: когда, вы думаете, переговоры по большому соглашению могут возобновиться? Спасибо.
Ф.Фийон. Позиция Европейского совета была совершенно четкой: эти переговоры возобновятся, как только будут выполнены заключенные соглашения. Мы надеемся, что в октябре дискуссия возобновится, потому что мы действительно желаем осуществления этого стратегического партнерства. Мы считаем, что это наилучшая возможность обеспечения мира и благосостояния в России и в Европе. И в плане уважения состоявшихся договоренностей господин Путин только что напомнил, что эти соглашения будут выполнены. Поэтому нет оснований не возобновить переговоры в начале будущего месяца.
В.В. Путин. Мы считаем, что наши европейские партнеры так же, как и Россия, заинтересованы в заключении этого соглашения. Интерес наблюдается с обеих сторон, мы готовы продолжить эту работу, не мы ее приостановили. Мы относимся к этому с пониманием, спокойно. Действительно, должны быть выполнены договоренности, достигнутые в ходе визита президента Франции в Россию. Еще раз хочу повторить: мы готовы к исполнению этих договоренностей.
Вместе с тем напоминаю, что российская сторона согласилась с предложением президента Франции, который настаивает на том, чтобы в этой зоне появились наблюдатели ОБСЕ, ООН, возможно, полицейские подразделения Евросоюза. Мы согласились с этим, эти структуры должны взять на себя обязательства по обеспечению безопасности в зоне, прилегающей к границам Южной Осетии и Абхазии. Как только они там появятся, мы окончательно исполним свои обязательства. Исполнение этих обязательств лежит на обеих сторонах.
Литовский МИД распространил в пятницу заявление, в котором говорится, что датой установления дипломатических отношений с Косово является 1 сент.Соответствующее постановление литовский сейм вынес 6 мая, а правительство приняло решение о начале процесса установления дипотношений 16 июля.
«Литва придерживается позиции, что косовский случай является уникальным и не может использоваться как прецедент для решения других замороженных конфликтов», – говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.
Власти Косово 17 фев. провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Тогда же были приняты новые флаг и герб. На данный момент косовское самоопределение поддержали 46 стран-членов ООН из 192. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.
Литовский МИД распространил в пятницу заявление, в котором говорится, что датой установления дипломатических отношений с Косово является 1 сент. Соответствующее постановление литовский сейм вынес 6 мая, а правительство приняло решение о начале процесса установления дипотношений 16 июля.«Литва придерживается позиции, что косовский случай является уникальным и не может использоваться как прецедент для решения других замороженных конфликтов», – говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.
Власти Косово 17 фев. провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Тогда же были приняты новые флаг и герб. На данный момент косовское самоопределение поддержали 46 стран-членов ООН из 192. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.
Пресс-конференция по окончании встречи с президентом Франции Николя Саркози, 8 сентября 2008г., Московская область, замок Майендорф.Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемые дамы и господа! Хотел бы сказать несколько слов вначале. Сегодня мы вместе с президентом Саркози и с моими другими европейскими коллегами провели очень важную встречу. Как обычно, такие встречи затягиваются. Но самое главное, что мы откровенно обсудили самые сложные и самые актуальные вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня. Мы, конечно, основное время разговора посвятили обстоятельствам недавнего кризиса на Кавказе, который был спровоцирован грузинской агрессией против Южной Осетии.
Хотел бы с самого начала подчеркнуть, что наша страна ценит посреднические усилия, которые предпринимает Евросоюз, французское председательство и лично мой коллега господин Саркози. С самого начала президент Франции подключился к этому вопросу максимально активным образом. Мы общаемся очень часто, подолгу, и, наверное, это приносит какие-то результаты.
Сегодня наши коллеги подтвердили, что Евросоюз готов и дальше содействовать разрешению конфликта, в том числе и в запуске международных механизмов по обеспечению безопасности в зонах вокруг Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, проработан вопрос о подключении Евросоюза к таким мерам, которые будут реализовываться по согласованию с ОБСЕ.
Мы обсуждали и другие вопросы. Естественно, есть темы, по которым мы расходимся, – вопросы признания независимости Осетии и Абхазии. Вы знаете, что ЕС осудил это решение, но мы неоднократно говорили об этом, и я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для нас это был единственный способ сохранить жизни людей, единственный способ обеспечить сохранение осетинского и абхазского народов.
Я хотел бы сказать, что мы работали над выполнением того плана, который был согласован, и я считаю, что Россия его полностью исполняет. В то же время, к сожалению, не могу сказать того же о грузинской стороне, она пытается восстанавливать свой военный потенциал, и в этом ей активно помогают некоторые наши партнеры, прежде всего Соединенные Штаты Америки.
Думаю, что в будущем то решение, которое было принято, будет понятным для большего количества стран. И нашему примеру последуют и другие государства, для которых права человека и демократическое волеизъявление народа не пустые слова. Такие примеры уже есть, и уверен, что их количество будет расти. Но главное, и, на мой взгляд, это сегодня специально было подчеркнуто: дальнейший диалог с Сухумом и Цхинвалом возможен только как с отдельными субъектами международного права.
Мы видим в Евросоюзе наших естественных партнеров, наших ключевых партнеров, и именно поэтому сегодня нами были согласованы дополнительные меры по осуществлению плана от 12 августа 2008 года. Как и в прошлый раз, мне бы хотелось ознакомить вас с содержанием этого документа. Я сначала это сделаю по-русски, а потом мой коллега Николя сделает это на французском языке.
Осуществление плана 12 августа 2008 года.
Еще раз подтвердить обязательства всех сторон в полном объеме соблюдать положения плана Медведева–Саркози из 6 пунктов от 12 августа 2008 года.
Позиция первая. Вывод сил.
Пункт первый. Вывод всех российских миротворческих сил с пяти наблюдательных постов на линии от Поти до Сенаки включительно максимум в течение 7 дней, принимая во внимание подписание 8 сентября 2008 года юридически обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии.
Вторая позиция. Полный вывод российских миротворческих сил из зон, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, на линию, предшествующую началу боевых действий. Этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза, которое должно произойти не позднее 1 октября 2008 года, с учетом юридически обязывающих документов, гарантирующих неприменение силы против Абхазии и Южной Осетии.
Хотел бы отдельно подчеркнуть, что такие документы в настоящий момент российская сторона получила.
Завершение возвращения грузинских вооруженных сил в места дислокации до 1 октября 2008 года – третья позиция.
Пункт первый. Международные механизмы наблюдения. Международные наблюдатели международных сил ООН в Грузии будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года без ущерба для возможных корректировок в будущем по решению Совбеза ООН.
Второе. Международные наблюдатели ОБСЕ будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года без ущерба для возможных корректировок в будущем по решению постоянного Совета ОБСЕ.
Пункт третий. Следует ускорить подготовку развертывания дополнительных наблюдателей в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, в количестве, достаточном для замены российских миротворческих сил, до 1 октября 2008 года, включая минимум 200 наблюдателей от Евросоюза.
Четвертая позиция. Европейский Союз как гарант принципа неприменения силы активно готовит развертывание наблюдательной миссии в дополнение к уже существующим механизмам наблюдения.
Третий раздел – международные дискуссии. Международные дискуссии, предусмотренные в пункте 6-м плана Медведева–Саркози от 12 августа 2008 года, начнутся 15 октября 2008 года в Женеве. Подготовительные дискуссии начнутся в сентябре сего года.
Вторая позиция. Эти дискуссии будут посвящены, в частности, обсуждению следующих вопросов: пути обеспечения безопасности и стабильности в регионе; вопрос о беженцах и перемещенных лицах на основе международно признанных принципов и практики постконфликтного урегулирования; любой другой вопрос, внесенный с обоюдного согласия сторон.
Вот документ, который мы только что согласовали. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что его действие начинается немедленно, имея в виду то, что Россия получила гарантии со стороны Евросоюза, со стороны Франции как председателя в Евросоюзе в настоящий момент о неприменении силы грузинской стороной.
Я передаю слово моему коллеге Николя.
Н.САРКОЗИ. Спасибо, господин президент. Я буду выступать от имени господина Баррозу и от моего имени. Конечно, это отражает мнение и Бернара Кушнера, и господина Соланы, потому что мы работали вместе с российскими партнерами. Я не буду заново зачитывать этот текст, его уже зачитал Дмитрий Медведев. Но я могу его резюмировать следующим образом.
Мы не думаем, что за четыре часа можно решить все вопросы, которые связаны с Кавказом уже на протяжении многих лет. Что касается воли европейского сообщества, мы стремимся к служению интересам мира. И с 12 августа мы работаем – господин Баррозу, я, французская дипломатия, Бернар Кушнер – на благо народа.
То, что мы решили с президентом Медведевым, конкретно означает, что максимум через неделю будут сняты блокпосты между Сенаки и Поти. И я благодарю российскую сторону за то, что она согласилась установить четкие даты – через неделю. Через месяц – полный вывод российских Вооруженных Сил с грузинской территории, которые находятся вне Южной Осетии и Абхазии. Подтверждение – присутствие международных наблюдателей, это касается ООН и ОБСЕ в рамках их нынешнего мандата, то есть эти наблюдатели будут вне административных зон Абхазии и Осетии. Обязательство ЕС – развернуть до 1 октября 200 наблюдателей ЕС. Мы посмотрим с Хавьером Соланой, можно ли развернуть большее число в последующие недели, после 1 октября. президент Медведев сказал, и я подтверждаю, председатель Баррозу и председатель Солана это подтвердят, о гарантиях приверженности Евросоюза принципу неприменения силы. Я даже передал президенту Медведеву письмо президента Саакашвили с обязательством не применять силу в Абхазии и Осетии, что охватывается соглашением 12 августа.
Затем начало международных переговоров в Женеве начиная с 15 октября при том условии, что мы сразу же займемся этой работой. И здесь будут работать и председатель Баррозу, и Бернар Кушнер, и другие. Каков будет состав, как будут проходить эти международные переговоры… Но вы видели, что президент Медведев говорил, что вопрос беженцев будет в центре этих обсуждений.
Я считаю, что могу сказать, что переговоры, которые мы вели последние часы, были плодотворны. Мы теперь отправляемся в Грузию, с тем чтобы пояснить, что мы подписали, с тем чтобы каждая из сторон действовала на благо мира. Через неделю снимаются блокпосты, через месяц российские Вооруженные Силы выходят с грузинской территории.
И я должен, конечно, сказать, что в дискуссиях, которые мы проводили с президентом Медведевым, как он верно говорил, мы не во всем согласны: Европейский Союз осудил одностороннее признание Осетии и Абхазии, признание их независимости Россией. Президент Медведев напомнил о своей позиции. Но мы вели переговоры не о будущем, мы говорили о выполнении плана 12 августа. Я должен откровенно сказать, что то, что мы подписали сегодня, что мы говорим сегодня, четко представляет тот дух, который превалировал в момент прекращения огня.
И хотел бы сказать еще слово, чтобы все поставить на свои места. Если все произойдет так, как мы указали (ясно, что для европейской делегации – Баррозу, Соланы, Кушнера – это важные дискуссии, очень серьезные переговоры), это означает, что примерно через месяц конфликт, который мог иметь гораздо более серьезные человеческие жертвы, будет остановлен. Я говорю, что оружие будет молчать. И мы над этим серьезно подумали. Мы решительно выступаем за прекращение огня для создания доверия между различными сторонами, с тем чтобы добиться вывода. Ну, конечно, будут проводиться еще важные обсуждения в Женеве в том, что касается безопасности, стабильности и условий в Абхазии, в Осетии, но эти вопросы не рассматривались ранее, потому что мы занимались другими важными вопросами. Это соглашение является воплощением максимума того, что можно было сделать. Если бы все конфликты во всем мире таким же образом пытались бы решить, их бы не было.
Я должен сказать, что для нас это была большая удача, что мы могли работать с председателем Комиссии, господином Соланой, потому что наши часы были сверены. И важна воля президента Медведева в том, чтобы войны не было. И так достаточно очагов войны в мире. Не должно быть авантюр такого рода. Необходимо сделать все для того, чтобы добиться мира, к чему мы и стремимся.
Конечно, решено не все, но то, что решено сегодня, это весьма значительные решения.
ВОПРОС («Раша тудей»): Прежде всего вопрос Дмитрию Медведеву: господин президент, как Вы в общем оцениваете позицию Евросоюза по ситуации вокруг Грузии?
Также вопрос господину Саркози: почему европейцы предпочитают не говорить об изначальной агрессии Грузии против Южной Осетии?
И также вопрос к обоим президентам: каковы перспективы саммита Россия–ЕС в Ницце, который должен состояться в ноябре, и каковы перспективы подготовки соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Россией и ЕС?
Д.МЕДВЕДЕВ. Итого всего четыре вопроса, из них три – мне. Да, и четыре – Николя.
По поводу позиции Евросоюза по Грузии. Я уже свою точку зрения приводил, когда давал интервью ряду европейских каналов. По моему ощущению, позиция Евросоюза имеет два оттенка. Первый, как мне представляется, все-таки основан на не вполне точном понимании обстоятельств, которые произошли в тот период на территории Южной Осетии, обстоятельств агрессии Грузии против Южной Осетии. В связи с тем, что эти обстоятельства трактуются, на наш взгляд, не вполне точно, нет понимания и побудительных мотивов нашего признания Южной Осетии и Абхазии. И в этом я вижу дополнительный ресурс для того, чтобы нам уточнять эти позиции, для того, чтобы нам общаться, разъяснять свои мотивы нашим европейским коллегам.
Если говорить о другом моменте, то, как мне представляется, решение Евросоюза, касающееся ситуации вокруг Южной Осетии, того кризиса, который произошел, в целом является достаточно сбалансированным, если иметь в виду то, что присутствовали гораздо более экзотические точки зрения, я бы даже сказал, экстремистские, которые призывали к каким-то странным санкциям, к другим действиям в отношении России. Я неоднократно об этом говорил. Это и непродуктивно, и бессмысленно, и для Евросоюза невыгодно. Так вот в этом смысле та позиция, которая была занята в ходе саммита Евросоюза, который был 1 сентября, выглядит вполне разумно и компромиссно. Вот то, что я бы сказал по ситуации, связанной с позицией Евросоюза.
Отвечу сразу в отношении перспектив нашего саммита в Ницце, а также перспектив соглашения. Я считаю, что в этой ситуации шарик, что называется, на стороне наших европейских партнеров. Мы не хотим никакого ухудшения отношений, мы не считаем правильным решение о приостановке обсуждения текста нового договора. Но если так захотелось нашим европейским коллегам – пожалуйста, никакой катастрофы не произойдет, даже если мы будем договариваться по этому договору в течение более длительного времени, чем мы на то рассчитывали. У нас вообще в течение года на эту тему дискуссия даже не велась. Ничего, отношения развивались и довольно неплохо: оборот рос, торговые отношения выстраивались, инвестиции шли.
Поэтому я считаю, что решение о приостановке работы над соглашением как минимум носит спорный характер. И в любом случае само по себе это решение не нанесет какого-то колоссального вреда российским интересам.
Ну а перспектива саммита – я считаю, что нам нужно обязательно встречаться, обязательно общаться. И мы сегодня некоторое время, правда, небольшое, посвятили этому вопросу. Мы говорили о том, что неплохо бы встретиться и поговорить по самым широким вопросам взаимодействия между Россией и Европой. И в этом смысле Ницца является вполне нормальной площадкой. Во всяком случае, мы будем готовиться к этому мероприятию максимально тщательно.
Н.САРКОЗИ. Все очень просто. Во-первых, я думаю, что Европейский Союз имеет совершенно сбалансированную позицию. Если вы посмотрите тексты решений, единодушного решения Европейского совета, он осуждает непропорциональные действия России. Если мы говорим о реакции, значит, были какие-то действия. У этих слов определенный смысл. И я считаю, что таким образом мы действовали сбалансированно.
Второй момент несогласия. Мы считаем, что России не стоило в одностороннем плане признавать независимость Абхазии и Осетии. Есть международные правила, которым стоит следовать. Это два момента, которые вызывали между нами проблемы.
Третий элемент. Документ, который мы представляем сегодня – президент Медведев и я, – этот документ вступит в силу с согласия председателя Баррозу, я не вижу никаких оснований, чтобы встречи между Россией и Европой, которые были перенесены с сентября, не возобновились бы в октябре. Все совершенно ясно: мы хотим и партнерства, и мира, и вряд ли кому-то нужно противостояние Европы и России.
Необходимо, во-первых, чтобы слова действительно имели смысл. И мы провели переговоры по документу с Председателем Баррозу, с президентом Медведевым. И, несомненно, по-прежнему существует стратегическое партнерство между Россией и Европой.
ВОПРОС (Ассошиэйтед пресс): Франция прибыла сюда с тремя целями, которые были удовлетворены. Во-первых, вывод войск, даты для этих переговоров и, возможно, наблюдатели.
Господин Медведев, хотелось бы спросить Вас о том, что касается европейской стороны. Были ли с европейской стороны признаки, что признается идея независимости Южной Осетии и Абхазии? Вы добились здесь какого-то прогресса?
Д.МЕДВЕДЕВ. Лучше, конечно, этот вопрос задать нашим коллегам, чем мне, тем более что у нас не было цели сейчас обсуждать с нашими коллегами (и с президентом Франции, и с нашими коллегами по Европейскому союзу) вопросы о признании Южной Осетии и Абхазии.
Мы для себя этот выбор сделали. Этот выбор, и я об этом открыто говорил неоднократно в ходе наших телефонных разговоров с Николя и с другими моими коллегами, этот выбор является окончательным и бесповоротным. Наше решение носит безотзывный характер. Акт признания состоялся с точки зрения международного права, имея в виду теорию возникновения государств, два новых государства возникло. Все остальное покоится на том, кто, в какой момент принимает для себя такие решения. Вы знаете, что процесс признания уже пошел, и я уверен, что этот процесс будет набирать обороты. В какой момент к этому процессу присоединятся страны Евросоюза, зависит от их позиции. Не бывает никаких вечных решений. Мы прекрасно понимаем, что в этом мире все меняется, в том числе и позиция, касающаяся непризнания тех или иных новых государств. Это реальность, с которой придется считаться всем, в том числе и нашим партнерам по Евросоюзу. И я уверен, что и сейчас это так понимается. Но конкретные решения и конкретные даты признания, конечно, на сегодняшней встрече не обсуждались. Но если наши коллеги готовы будут сделать это здесь и сейчас, то мы, конечно, возражать не будем.
Н.САРКОЗИ. Я благодарю президента Медведева за то, что он высказался как представитель европейского мнения. У нас было четыре цели: вывод российских сил и четкий график, это сделано, развертывание международных наблюдателей принято, рассмотрение вопроса беженцев, потому что необходимо сказать, что это не связано с вопросом независимости, вопрос беженцев – важный вопрос. И, наконец, ответ на Ваш вопрос – международное обсуждение. Если международные обсуждения начнутся в Женеве, значит, есть что обсуждать. Вот таков мой ответ.
Д.МЕДВЕДЕВ. Нас это обнадеживает.
ВОПРОС (ИТАР-ТАСС): У меня вопрос к обоим президентам. Каково ваше мнение относительно необходимости выработки новой концепции международной безопасности? Не кажется ли вам, что после Ирака, Косова, Южной Осетии все, что действовало в этой сфере раньше, рухнуло?
Д.МЕДВЕДЕВ. Я думаю, что те примеры, которые Вы назвали, с очевидностью свидетельствуют о том, что прежние подходы к обеспечению международной безопасности показали свою слабость. Я не так давно на эту тему говорил, когда объявил о пяти принципах, на основе которых будет строиться российская внешняя политика. В качестве второго важнейшего принципа я назвал принцип отказа от однополярности и недопустимость доминирования любых государств на международной арене, попыток решить все вопросы за мировое сообщество, как бы ни назывались эти государства. Даже самые большие и уважаемые страны, такие как Соединенные Штаты Америки, не вправе определять правила игры для мирового сообщества. Для этого есть специальные институты: Организация Объединенных Наций, региональные организации. И они-то и должны внести свой вклад.
Что касается неэффективности системы безопасности, то совершенно очевидно: это связано именно с тем, что в кризисных ситуациях эта система дала сбой, именно в силу своей однобокости и однополярности, именно в силу желания решить возникающие кризисы за счет навязанных решений, за счет тех решений, которые принимались с подачи одного государства. Вот захотелось одному гражданину сильно вооружиться – он вооружился, армию себе раскормил там довольно здоровую. И решил решить старую сложную проблему, носящую исторический характер, одним движением за счет использования вооруженной силы. Получил на это благословение одного государства. Я сейчас не беру в расчет то, как это было сделано, в форме прямого указания или молчаливого одобрения, но у меня нет никаких сомнений, что так и было. Предпринял идиотскую выходку. Погибли люди. Сейчас за это расплачивается вся Грузия. Вот именно это и есть пример решений, основанных на однополярном мире, когда есть уверенность, что за тобой кто-то стоит, кто поможет тебе разобраться, если сил не хватит. Не поможет. Надо прилично себя вести. Надо действовать в рамках международного права. Тогда все будет нормально.
Именно поэтому я считаю крайне важным подготовку новых подходов к обеспечению международной безопасности.
Н.САРКОЗИ. Буквально несколько слов. В этом кризисе мы видели возникновение важного действующего лица – Европейского союза, который попытался найти пути примирения в войне на Кавказе. С точки зрения международного права Осетия и Абхазия являются грузинскими. Есть действия, есть реакция, было столкновение вооруженных сил, необходимо было найти решение, прекращение огня, вывод. Как ведутся дискуссии – можно увидеть, что, когда Европа хочет, а мы действительно представляем здесь Европу, господин Баррозу, господин Солана, господин Кушнер и я, Европа может быть фактором мира, она может играть свою роль даже в регионах, где не играла этой роли. Непросто выполнять такую роль, очень непросто. Я должен сказать, что касается того, что нас подталкивали занять крайние позиции, – но тогда мы уже не смогли бы действовать как миротворцы. Я думаю, что каждый раз надо поддерживать контакт на самом высоком уровне: с российскими властями, никогда не терять контакта с грузинскими властями, – чтобы попытаться прийти к такому примирению и не поддаваться искушению все решить в момент кризиса. Надо все делать поэтапно: прекращение огня, вывод сил, международное обсуждение. Я думаю, что это единственно благоразумная, мудрая позиция в нестабильном нашем мире. И вот что может сделать Европейский Союз.
Я понимаю, что мне захотят дать массу советов, что стоило делать, чего не стоило делать. Это все слова. Важны результаты. Европейский Союз добился прекращения огня, Европейский Союз ведет переговоры с президентом Медведевым, добивается вывода российских войск, обеспечивает начало женевских переговоров, которые очень важны. Мы оказывались в других ситуациях, когда мы не могли начать такие переговоры, а ситуации только усугублялись.
И, может быть, последний вопрос, потому что нам еще путешествовать и путешествовать.
ВОПРОС («Либерасьон»): Прошло десять дней после одностороннего признания Южной Осетии и Абхазии. Кажется, что этот вопрос как бы и не обсуждался. И сегодня он также не обсуждался. И, может быть, это не будут обсуждать и в Женеве. Вы, может быть, видите для себя новую картину границы Грузии? Или Европейскому союзу надо что-то признать в качестве свершившегося факта?
Н.САРКОЗИ. Извините, я уже сказал совершенно обратное тому, что Вы сказали. Я не хочу Вам возражать. Я сказал, что мы осудили одностороннее признание, и я сказал, что не России определять, каковы должны быть границы Грузии. И в пункте третьем документа, который мы выработали все вместе, здесь написано, что международные дискуссии, предусмотренные в пункте шестом плана Медведева–Саркози от 12 августа, начнутся 15 октября в Женеве. И, может быть, не исключается, здесь не указан статус, потому что не мне обсуждать позицию России. Русские говорят то, что они хотят сказать. И я не могу выступать от имени России. Вместе с господином Баррозу я говорю от имени Европейского союза. Мы осудили. У меня есть мандат, и это четкое применение плана от 12 августа – продолжать международные обсуждения. И как Вы можете говорить, что об этом ничего не говорилось? Я уже об этом говорил, и господин Медведев об этом говорил, что это у нас пункт несогласия и мы не можем за полдня рассматривать вопрос, который уже длится последние 20 лет. Мы рассматривали эти вопросы для того, чтобы начались переговоры.
ВОПРОС («Либерасьон»): Значит, Вы считаете, что это должно быть рассмотрено в Женеве?
Н.САРКОЗИ. В Женеве будут рассматриваться меры обеспечения стабильности в регионе. Конечно, естественно, будут рассматриваться вопросы обеспечения стабильности, безопасности Осетии и Абхазии. Позицию президента Медведева подтвердили, что касается Евросоюза, я это подтвердил.
ВОПРОС («Либерасьон»): И Вы хотите изменить в Европе только границы Грузии или намереваетесь затем еще изменить в Европе и другие границы? Может быть, в России или в других странах?
Д.МЕДВЕДЕВ. Знаете, мы вообще никакие границы не меняем, это нам ни к чему. Но я хотел бы два слова сказать по поводу того, что затронули Вы. Сегодня не только десять дней после признания, но и месяц с момента начала агрессии. И это печальная дата, которая, к сожалению, во-первых, войдет в учебники истории как дата начала агрессии против осетинского народа и как дата, с которой можно начинать исчисление новых подходов к обеспечению безопасности в мире. И об этом я сказал.
Что же касается признания, для нас этот вопрос закрыт, с точки зрения международного права для нас возникло два новых государства. Мы уже подготовили с ними соответствующие соглашения, в том числе и соглашения об установлении дипломатических отношений. Будут и другие соглашения, по которым мы будем оказывать им экономическую, гуманитарную и военную поддержку. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений. Но это отдельная ситуация. Все остальное – выдумки. Я уже называл это фантомными болями, которые испытывают те, кто до сих пор пытается смотреть на Российскую Федерацию как на Советский Союз. Россия – другая, но с Россией нужно считаться.
Интервью председателя правительства Российской Федерации В.В.Путина Первому каналу телевидения Германии «АРД». Сочи, 29 августа 2008г.Т.РОТ. Уважаемый г-н премьер-министр!
После эскалации ситуации в Грузии в общественном мнении на Западе, имеется в виду не только политические круги, но и пресса, другие люди, возникает мнение, что вы силой создали ситуацию: Россия против всего остального мира.
В.В. ПУТИН. Как Вы считаете, кто начал войну?
Т.РОТ. Последним побудительным мотивом стало нападение Грузии на Цхинвали.
В.В. ПУТИН. Спасибо Вам за этот ответ. Это правда. Так оно и есть. Мы на эту тему поговорим еще чуть подробнее. Я хочу только отметить, что не мы создали эту ситуацию.
А теперь по поводу авторитета России. Я убежден в том, что авторитет любой страны, которая способна защитить жизнь и достоинство своих граждан, страны, которая способна проводить независимую внешнюю политику, авторитет такой страны в долгосрочной, среднесрочной перспективе в мире будет только расти.
И наоборот, авторитет тех стран, которые взяли за правило обслуживать внешнеполитические интересы других государств, пренебрегая своими национальными интересами, вне зависимости от того, как они это объясняют, будет снижаться.
Т.РОТ. Вы все-таки не ответили на Вопрос. почему вы пошли на риск изоляции вашей страны?
В.В. ПУТИН. Мне казалось, что я ответил. Но если это требует дополнительных разъяснений, я это сделаю. Я считаю, что страна, в данном случае Россия, которая может отстаивать честь и достоинство своих граждан, защитить их жизнь, исполнить свои международно-правовые обязательства в рамках миротворческого мандата, такая страна не будет в изоляции, чего бы ни говорили в рамках блокового мышления наши партнеры в Европе или в Соединенных Штатах. На Европе и Соединенных Штатах мир еще не заканчивается.
И наоборот, хочу это подчеркнуть еще раз, если какие-то государства считают, что они могут пренебрегать личными национальными интересами, обслуживая интересы других государств, внешнеполитические интересы, авторитет таких государств, чем бы они ни объясняли свою позицию, в мире будет постепенно снижаться.
В этой связи, если европейские государства хотят обслуживать внешнеполитические интересы США, то они от этого, на мой взгляд, ничего не выиграют.
Теперь возьмем наши международно-правовые обязательства. По международным соглашениям, российские миротворцы взяли на себя обязанность защитить мирное население Южной Осетии.
А теперь вспомним 1995 год, Боснию. И как мы хорошо с вами знаем, европейский миротворческий контингент, представленный голландскими военнослужащими, не стал связываться с одной из нападавших сторон, и позволил этой стороне уничтожить целый населенный пункт. Были убиты, пострадали сотни людей. Проблема и трагедия в Сребренице хорошо известна Европе.
Вы что, хотели, чтобы мы тоже так же поступили? Ушли и дали возможность грузинским вооруженным подразделениям уничтожить проживающих в Цхинвали людей?
Т.РОТ. Ваши критики говорят, что целью России собственно была не защита мирного населения Цхинвали, а попытка лишь сместить президента Саакашвили, привести к дальнейшей дестабилизации Грузии, и тем самым воспрепятствовать ее вступлению в НАТО. Это так?
В.В. ПУТИН. Это не так. Это просто подтасовка фактов. Это ложь. Если бы это было нашей целью, мы бы, наверное, и начали этот конфликт. Но, как Вы сами сказали, начала этот конфликт грузинская сторона.
Теперь я позволю вспомнить факты недавней истории. После неправового решения о признании Косово все ожидали, что Россия пойдет на признание независимости и суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Ведь правда, ведь так было, все ждали этого решения России. И у нас было на это моральное право, но мы этого не сделали. Мы повели себя более чем сдержанно, я даже не буду комментировать, мы это «проглотили», на самом деле.
И что мы получили? Эскалацию конфликта, нападение на наших миротворцев, нападение и уничтожение мирного населения Южной Осетии. Вы же знаете факты, которые там были и которые уже озвучены. Министр иностранных дел Франции побывал в Северной Осетии и встречался с беженцами. И очевидцы рассказывают, что грузинские военные подразделения танками давили женщин и детей, загоняли людей в дома и заживо сжигали. А грузинские солдаты, когда ворвались в Цхинвали, так, между прочим, проходя мимо домов, мимо подвалов, где прятались женщины и дети, бросали туда гранаты. Что это такое, если это не геноцид?
Теперь по поводу руководства Грузии. Люди, которые привели к катастрофе свою страну – а своими действиями руководство Грузии способствовало подрыву территориальной целостности и государственности Грузии – конечно, такие люди, на мой взгляд, не должны управлять государствами маленькими, либо большими. Если бы они были приличными людьми, они немедленно должны были сами подать в отставку.
Т.РОТ. Это не ваше решение, а грузинское решение.
В.В. ПУТИН. Конечно. Но мы знаем прецеденты и другого характера.
Вспомним, как американские войска вошли в Ирак и как они поступили с Саддамом Хусейном за то, что он уничтожил несколько шиитских деревень. А здесь в первые часы боевых действий было полностью уничтожено, стерто с лица земли 10 осетинских деревень на территории Южной Осетии.
Т.РОТ. Господин премьер-министр, считаете ли Вы себя в результате этого вправе вторгаться на территорию суверенного государства, то есть не оставаться в зоне конфликта, а осуществлять ее бомбардировки. Я сам сегодня сижу рядом с Вами только благодаря случайности, потому что в 100 метрах от меня, в жилом квартале Гори, взорвался снаряд, бомба, сброшенная с вашего самолета. Не является ли это нарушением норм международного права, а именно то, что вы де-факто оккупируете маленькую страну. Откуда у вас это право?
В.В. ПУТИН. Конечно, мы имеем на это право...
Т.РОТ. Еще раз уточняю – бомба была сброшена на жилой дом.
В.В. ПУТИН. Конечно, мы действовали в рамках международного права.
Нападения на наши миротворческие посты, убийства наших миротворцев и наших граждан – все это, безусловно, мы восприняли как нападение на Россию.
В первые часы боевых действий своими ударами грузинские вооруженные силы убили у нас сразу несколько десятков миротворцев. Окружили наш «Южный» городок (там были «Южный» и «Северный» городки миротворцев) танками и начали расстреливать его прямой наводкой.
Когда наши солдаты-миротворцы попытались вывести технику из гаражей, был нанесен удар системами «Град». 10 человек, которые зашли в ангар, погибли на месте, сгорели заживо.
Я еще не ответил. Затем авиация Грузии нанесла удары по различным точкам на территории Южной Осетии, не в Цхинвале, а в центре самой Южной Осетии. Мы вынуждены были начать подавление пунктов управления огнем, которые находились за зоной боевых действий и за зоной безопасности. Но это были такие точки, откуда управлялись вооруженные силы, и откуда по российским войскам и миротворцам наносились удары.
Т.РОТ. Но я же говорил, что осуществлялись бомбардировки жилых кварталов. Может быть, Вы не в курсе всей информации?
В.В. ПУТИН. Я, может быть, не в курсе всей информации. Здесь возможны и ошибки в ходе боевых действий. Вот сейчас только в Афганистане американская авиация нанесла удар якобы по талибам и одним ударом уничтожила почти сто мирных жителей. Это первая из возможностей.
Но вторая, она более вероятна. Дело в том, что пункты управления огнем, пункты управления авиацией и радиолокационные станции грузинская сторона подчас размещала именно в жилых районах, с тем, чтобы ограничить возможности применения нами авиации, используя гражданское население и вас в качестве заложников.
Т.РОТ. Министр иностранных дел Франции, председательствующей в ЕС, господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь, как база российского Военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России?
В.В. ПУТИН. Вы сказали, следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому, считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое.
Т.РОТ. Вы это исключаете?
В.В. ПУТИН. Если Вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены.
Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией.
И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела.
Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом.
Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины.
У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этим соглашением.
Т.РОТ. Другой министр иностранных дел, на этот раз Великобритании, г-н Миллибэнд в последнее время высказал некоторые опасения о том, что начинается новая «холодная война», начинается новая гонка вооружений. Как бы Вы оценили эту ситуацию? Стоим ли мы сейчас на пороге нового «ледникового периода», новой «холодной войны», начала новой гонки вооружений? Как с Вашей точки зрения?
В.В. ПУТИН. Вы знаете, есть такая шутка: «Кто первым кричит: держи вора? – Тот, кто украл».
Т.РОТ. Министр иностранных дел Великобритании.
В.В. ПУТИН. Это Вы так сказали. Замечательно. Как мне приятно с Вами разговаривать. Но это Вы сказали. Но если говорить серьезно, то Россия не стремится ни к каким обострениям, ни к какому напряжению с кем бы то ни было. Мы хотим добрых, добрососедских, партнерских отношений со всеми.
Если Вы позволите, я скажу, что я думаю по этому поводу. Был Советский Союз и Варшавский договор. И были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзнических войск. Эти оккупационные силы ушли. Советский Союз распался, Варшавского договора нет. Угрозы со стороны Советского Союза нет. А НАТО, американские войска в Европе остались. Зачем?
Для того, чтобы навести порядок в собственном стане, с собственными союзниками, для того, чтобы удержать их в рамках блоковой дисциплины нужна внешняя угроза. Иран не очень подходит на эту роль. Очень хочется возродить образ врага в виде России. Но в Европе уже никому не страшно.
Т.РОТ. В понедельник состоится заседание Совета ЕС в Брюсселе. Там будут говорить о России, о санкциях в отношении России, по крайней мере, будут обсуждаться эти вопросы.
Как Вы все это воспринимаете? Вам все равно? Вы все равно считаете, что Европейский Союз говорит очень многими языками?
В.В. ПУТИН. Если бы я сказал, что нам наплевать, нам безразлично, я бы соврал. Конечно, нам небезразлично. Конечно, мы будем внимательно смотреть за тем, что там происходит. Мы просто надеемся, что здравый смысл возобладает. Мы надеемся, что будет дана все-таки не политизированная, а объективная оценка событий, которые произошли в Южной Осетии и в Абхазии.
Мы надеемся, что действия российских миротворцев будут поддержаны, а действие грузинской стороны, которая провела эту преступную акцию, найдет осуждение.
Т.РОТ. В этой связи я хотел бы Вас спросить. Как Вы собираетесь решать следующую дилемму? С одной стороны, Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Европейским Союзом. Она и не может поступать иначе в виду экономических задач, которые ставит перед собой. С другой стороны, Россия хочет играть по своим собственным, российским правилам. То есть, с одной стороны, приверженность общеевропейским ценностям, а с другой – решимость играть по своим российским правилам. Но обе стороны невозможно сразу удовлетворить.
В.В. ПУТИН. Вы знаете, мы не собираемся играть по каким-то особым своим правилам. Мы хотим, чтобы все работали по одним и тем же правилам, которые и называются – международное право. Но мы не хотим, чтобы этими понятиями кто-то манипулировал.
В одном регионе мира будем играть по одним правилам, в другом – по другим. Только чтобы это соответствовало нашим интересам. Мы хотим, чтобы были единые правила, которые учитывали бы интересы всех участников международного общения.
Т.РОТ. Таким образом, Вы хотите сказать, что Европейский Союз играет по различным правилам в различных регионах мира, которые не соответствуют международному праву.
В.В. ПУТИН. А как же! Косово как признали? Забыли про территориальную целостность государства. Забыли про резолюцию 1244, которую сами принимали и поддерживали. Там можно было сделать, а в Абхазии и в Южной Осетии нельзя! Почему?
Т.РОТ. То есть Россия – единственный арбитр международного права. Всеми остальными манипулируют. Они это не осознают. У них иные интересы или им все равно. Я так Вас понял?
В.В. ПУТИН. Вы меня поняли неправильно. Вы согласились с независимостью Косово? Да или нет?
Т.РОТ. Я лично... Я журналист.
В.В. ПУТИН. Нет, западные страны.
Т.РОТ. Да.
В.В. ПУТИН. В основном все признали.
Но если признали там, признайте тогда независимость Абхазии и Южной Осетии. Никакой разницы. Никакой разницы в этих позициях нет. Это придуманная разница. Там был этнический конфликт – и здесь этнический конфликт. Там были преступления практически с двух сторон – и здесь, наверное, их можно найти.
Если покопаться, наверное, можно найти. Наверное. Там было принято решение, что эти народы не могут жить вместе в одном государстве – и здесь они не хотят жить вместе в одном государстве.
Да никакой разницы нет, и все это прекрасно понимают. Все это болтовня. Чтобы прикрыть неправовые решения. Это право силы, называется. Кулачное право. И вот с этим Россия не может согласиться.
Господин Рот, Вы живете в России уже долго. Вы прекрасно говорите на русском языке, почти без акцента. То, что Вы меня поняли, не удивительно. Мне очень приятно.
Но мне очень хотелось, чтобы меня поняли и наши, мои европейские коллеги, которые будут собираться 1-го числа и думать над этим конфликтом.
Резолюция 1244 была принята? Была. Там записано и подчеркнуто: территориальная целостность Сербии. Выбросили на помойку эту Резолюцию, забыли про нее. Пытались извернуть. Ее невозможно было извернуть никак. Забыли напрочь. Почему? В Белом доме приказали, и все исполнили.
Если европейские страны так и дальше будут вести свою политику, то разговаривать о европейских делах нам придется с Вашингтоном.
Т.РОТ. Понимаю, что Вы сказали. Можно без переводчика?
В.В. ПУТИН. Можно.
Т.РОТ. Спасибо. Мне хотелось бы задать вопрос, касающийся развития российско-германских отношений вне зависимости от того, какие здесь имеются оценки и предположения. Но, касаясь особого отношения между нашими странами, может ли Германия в этой ситуации играть какую-то определенную посредническую роль?
В.В. ПУТИН. У нас с Германией очень хорошие отношения, очень доверительные – и в области политики, и в сфере экономики.
Когда мы разговаривали с г-ном Саркози во время его приезда в Москву, мы прямо ему сказали, что мы не собираемся аннексировать никакие грузинские земли и мы, конечно, уйдем с тех пунктов, где мы сейчас находимся. Но уйдем в зону безопасности, которая была обговорена в прежних международных соглашениях. Но мы и там не собираемся оставаться вечно. Мы считаем, что это грузинская территория. Наша цель заключается только в том, чтобы обеспечить безопасность в этом регионе, не позволить опять сосредоточить тайно, как это было сделано в этом случае, вооружение, технику, воспрепятствовать созданию предпосылок для нового вооруженного конфликта.
И в этой связи могу сказать, что участие там международных наблюдателей, наблюдателей ОБСЕ, Евросоюза, в том числе из Германии, мы будем только приветствовать. Нужно только договориться о принципах совместной работы.
Т.РОТ. Это должно означать, что вы в любом случае отведете свои войска?
В.В. ПУТИН. Конечно. Нам главное – обеспечить безопасность в этой зоне. На следующем этапе – помочь Южной Осетии обезопасить свои границы. И нет у нас оснований больше там находиться, в этой зоне безопасности. В ходе этой работы мы будем приветствовать сотрудничество с европейскими структурами и с ОБСЕ тоже.
Т.РОТ. В условиях того кризиса в отношениях, которые, несомненно, сейчас имеются (отношения с США, с Европой), какой вклад Вы можете внести в дело того, чтобы этот кризис сошел на нет?
В.В. ПУТИН. Во-первых, я об этом вчера говорил вашим коллегам из «Си-Эн-Эн». Мне кажется, что в значительной степени кризис был спровоцирован, в том числе нашими американскими друзьями в ходе предвыборной борьбы. Это, конечно, использование административного ресурса в самом плачевном его исполнении для того, чтобы обеспечить преимущество одного из кандидатов, в данном случае правящей партии.
Т.РОТ. У Вас есть факты?
В.В. ПУТИН. У нас есть анализ ситуации. Мы знаем, что там было много американских советников. Это очень плохо вооружать одну из сторон этнического конфликта и потом толкать ее на решение этих этнических проблем вооруженным путем. Это гораздо, казалось бы, проще, на первый взгляд, чем вести многолетние переговоры и искать компромиссы, но это очень опасный путь. Развитие событий это показало.
Но инструкторы, «учителя», в широком смысле – персонал, обучающий работать на поставленной военной технике – где он должен находиться – на полигонах и в учебных центрах, а они где находились? В зоне боевых действий. Это уже наталкивает на мысль о том, что руководство США знало о готовящейся акции и, более того, скорее всего, принимало участие, потому что без команды высшего руководства американские граждане в зоне конфликта не имели право находиться. В зоне безопасности могли находиться только местные граждане, могли находиться наблюдатели ОБСЕ и миротворческие силы. А мы там обнаружили следы граждан США, которые не входили ни в первую, ни во вторую, ни в третью категорию. Это уже вопрос. Почему высшее руководство США разрешило присутствие там своих граждан, которые не имели право находиться в этой зоне безопасности? А если они разрешили это, то тогда у меня возникает подозрение в том, что это было сделано специально для того, чтобы организовать маленькую победоносную войну. А если она не получилась – создать из России образ врага, и уже на этой почве объединять электорат вокруг одного из кандидатов в президенты. Конечно, кандидата от правящей партии, потому что таким ресурсом может обладать только правящая партия.
Вот мои рассуждения и предположения. Это ваше дело – согласиться с этим или нет. Но они имеют право на существование, поскольку мы обнаружили следы американских граждан в зоне боевых действий.
Т.РОТ. И последний вопрос, который я хотел Вам задать, он меня очень интересует. Не считаете ли Вы, что Вы сами лично находитесь в западне авторитарного государства? В созданной ныне системе Вы получаете информацию от Ваших спецслужб, Вы получаете информацию из различных источников, в том числе из высшей экономической среды. Но даже средства массовой информации порой боятся сказать что-то иное, что противоречит тому, что Вы хотите услышать.
Не получилось ли так, что созданная Вами система, сама теперь закрывает Вам широкий взгляд, возможность действительно видеть те процессы, которые сейчас происходят в Европе, в других странах?
В.В. ПУТИН. Уважаемый господин Рот, Вы охарактеризовали наше политическое устройство как авторитарную систему.
Вы упомянули в ходе нашей сегодняшней дискуссии несколько раз об общих ценностях. Где набор этих ценностей?
Есть основополагающие принципы. Ну, скажем, право человека на жизнь. Вот в США, допустим, есть смертная казнь, а у нас, в России, нет и у вас, в Европе, нет. Значит ли это, что вы собираетесь выйти, скажем, из блока НАТО, потому что нет полного совпадения ценностей у европейцев и у американцев?
Теперь возьмем этот конфликт, который мы сейчас с вами обсуждаем. Разве вам не известно, что происходило в Грузии в последние годы? Загадочная смерть премьер-министра Жвания. Расправа с оппозицией. Физический разгон митингов протеста оппозиционных сил. Проведение общенациональных выборов фактически в условиях чрезвычайного положения. Затем эта преступная акция в Осетии со многими человеческими жертвами. И это, конечно, демократическая страна, с которой нужно вести диалог и которую нужно принять в НАТО, а может быть и в Евросоюз.
А если другая страна защищает свои интересы, просто право своих граждан на жизнь, граждан, на которых осуществлено нападение – у нас 80 человек убили сразу. 2000 мирных граждан там в итоге убиты. И мы что, не можем защитить жизни своих граждан там? А если мы защищаем свои жизни, то у нас отберут колбасу? У нас выбор какой – между колбасой и жизнью? Мы выбираем жизнь, г-н Рот.
Теперь по поводу другой ценности – свободы прессы. Посмотрите, как освещаются эти события в прессе Соединенных Штатов, которая считается светочем демократии. Да и в европейской тоже.
Я был в Пекине, когда начались эти события. Начался массовый обстрел Цхинвали, начались уже наземные операции грузинских войск, уже были многочисленные жертвы, – никто слова не сказал. Ваша компания молчала, и все американские компании молчали, как будто ничего не происходит, – тишина. Как только агрессору дали по роже, зубы ему выбили, как он только бросил все американское оружие и побежал без оглядки – сразу все вспомнили и про международное право, и про злобную Россию. Сразу все заголосили.
Теперь по поводу колбасы, экономики. Мы хотим нормальных экономических связей со всеми нашими партнерами. Мы очень надежный партнер. Мы никогда никого не подводили.
Когда мы строили трубопроводную систему в Федеративную Республику Германии в начале 60-х годов, там наши партнеры из-за океана тоже советовали немцам не соглашаться с этим проектом. Вы должны об этом знать. Но тогда руководство Германии приняло правильное решение, и вместе с Советским Союзом эта система была построена. Сегодня это один из надежных источников обеспечения углеводородами немецкой экономики. 40 миллиардов кубических метров Германия получает ежегодно. В прошлом году и в этом, и получит, гарантируем это.
Теперь давайте посмотрим более глобально. Какова структура нашего экспорта в европейские страны, да и в Северную Америку? На 80 с лишним процентов – это товары сырьевой группы: нефть, газ, нефтехимия, лес, разные металлы, химические удобрения. Это все, в чем крайне нуждается мировая и европейская экономика. Это очень востребованные товары на мировых рынках.
У нас есть возможности и в высокотехнологичных областях, но они пока очень ограничены. И, более того, даже имея договоренности с Евросоюзом, скажем, в области поставок ядерного топлива, нас неправомерно не пускают на европейский рынок. Кстати говоря, из-за позиции наших французских друзей. Но они об этом знают, мы с ними долго дискутировали.
Но если кто-то хочет нарушить эти связи, мы не сможем ничего с этим поделать. Мы этого не хотим.
Мы очень надеемся на то, что наши партнеры будут так же исполнять свои обязательства, как мы исполняли и намерены исполнять свои обязательства в будущем.
Это то, что касается нашего экспорта. А что касается вашего экспорта, то есть для нас импорта, в России очень надежный и большой рынок. Я сейчас не помню цифры, но поставки, скажем, немецкой машиностроительной промышленности на российский рынок растут из года в год. Они просто очень большие сегодня. Кто-то хочет перестать нам поставлять? Мы будем покупать в других местах. Кому это надо, я не понимаю?
Мы призываем к объективному анализу сложившейся ситуации. Мы надеемся на то, что здравый смысл и справедливость восторжествуют.
Мы – жертва агрессии. Мы надеемся на поддержку наших европейских партнеров.
Интервью В.В.Путина американской телекомпании «Си-Эн-Эн».М. Чанс: Спасибо, господин Путин, за то, что согласились дать это интервью. Многие люди в мире считают Вас – хотя Вы уже сейчас не являетесь президентом, Вы являетесь премьер-министром – главным руководителем в этой стране и считают, что именно Вы отдали приказ о вводе российских войск в Грузию. Действительно ли это так?
В.В. Путин: Это, конечно, не так. В соответствии с конституцией Российской Федерации вопросы внешней политики, обороны полностью находятся в руках президента России. Президент Российской Федерации действовал в рамках своих полномочий.
Ваш покорный слуга находился в это время, как известно, на открытии Олимпийских игр в Пекине. Даже имея в виду это обстоятельство, я не мог принять участие в выработке этого решения, хотя, конечно, президент Медведев знал мое мнение по этому вопросу. Не буду скрывать, здесь нет никакой тайны. Конечно, мы заранее рассматривали все возможные варианты развития событий, в том числе и прямую агрессию со стороны грузинского руководства.
Мы должны были заранее подумать о том, как обеспечить безопасность наших миротворцев и граждан Российской Федерации, проживающих постоянно в Южной Осетии. Но, повторю еще раз, принять такое решение мог только Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами господин Медведев. Это его решение.
М. Чанс: Но в то же время не является секретом и то, что на протяжении длительного времени Вы настоятельно призывали Запад подходить серьезно и принимать во внимание озабоченности, которые имеются в России, в частности, в таких вопросах, как расширение НАТО на Восток, развертывание систем ПРО в Европе и так далее.
Не является ли этот конфликт, эти события демонстрацией того, что в этом регионе власть или сила действительно за Россией, здесь вы определяете ход событий?
В.В. Путин: Конечно, нет. Более того, мы не стремились к конфликтам подобного рода и не хотим их в будущем. А если этот конфликт произошел, если он, тем не менее, случился, то это только потому, что к нашим озабоченностям никто не прислушивался. А вообще, Мэтью, я хочу Вам сказать следующее. Надо посмотреть на этот конфликт все-таки пошире.
Я думаю, что и Вам, и нашим сегодняшним зрителям будет интересно узнать хоть немножко о предыстории отношений между народами и этносами в этом регионе мира. Ведь об этом никто ничего не знает. Если Вы сочтете это неважным, вы можете это «вырезать» из программы. Пожалуйста, я не возражаю.
Но я хочу напомнить, что все эти государственные образования в свое время добровольно вошли в состав Российской империи, каждое – в разное время. Первой вошла в состав Российской империи (еще в середине XVIIIв., в 1745-47гг.) Осетия. Тогда это было единое государственное образование. Северная и Южная Осетия – это было одно государство.
В 1801г., если мне не изменяет память, в состав России добровольно вошла сама Грузия, которая находилась под известным нажимом со стороны Османской империи. Только через 12 лет, в 1812г. в состав Российской империи вошла Абхазия. Она сохранялась до этого времени как независимое государство, как независимое княжество.
Только в середине XIX века было принято решение передать Южную Осетию в Тифлисскую губернию. В рамках единого государства это считалось не очень важным. Но я могу вас заверить: жизнь последующих лет показала, что осетинам это не очень понравилось. Но де-факто они были переданы центральной царской властью под юрисдикцию сегодняшней Грузии.
Когда после Первой мировой войны развалилась Российская империя, то Грузия объявила о создании собственного государства, а Осетия пожелала остаться в составе России. Это было сразу после событий 1917 года. В 1918г. Грузия провела там карательную операцию, очень жесткую, а в 1921-ом повторила ее еще раз.
Когда образовался Советский Союз, то решением Сталина эти территории окончательно закрепили за Грузией. Сталин, как известно, был грузином по национальности. Так что те, кто настаивают на том, чтобы эти территории и дальше принадлежали Грузии, – сталинисты. Они отстаивают решение Иосифа Виссарионовича Сталина.
Но что бы ни происходило сейчас, чем бы ни руководствовались люди, вовлеченные в конфликт, все, что мы сейчас наблюдаем, это, безусловно, трагедия. Для нас это особая трагедия, потому что за многие годы совместного существования грузинская культура – а грузинский народ – это народ древней культуры – стала, безусловно, частью многонациональной культуры России.
И для нас это имеет даже, знаете, какой-то оттенок гражданской войны, хотя, конечно, Грузия – независимое государство, нет сомнения в этом. Мы никогда не покушались на суверенитет Грузии и не собираемся делать это в будущем. Но все равно, имея в виду, что почти миллион, даже больше миллиона грузин переехали к нам, у нас особые духовные связи с этой страной и с этим народом. Для нас это особая трагедия.
И уверяю вас, скорбя о погибших российских солдатах, в первую очередь о мирных жителях, у нас в России многие скорбят и по погибшим грузинам. И ответственность за эти жертвы, конечно, лежит на сегодняшнем грузинском руководстве, которое решилось на эти преступные акции. Извините за длинный монолог, я посчитал, что это будет интересно.
М. Чанс: Этот вопрос – история империалистической России – важен, интересен и актуален, потому что одно из последствий произошедшего конфликта заключается в том, что во многих странах (бывших республиках Советского Союза) сейчас многие задают вопрос о том, что будет дальше. Особенно это актуально, например, для Украины, где значительная часть украинского населения является русской. В Молдове, в Центральной Азии, в балтийских государствах задают этот вопрос. Можете ли Вы гарантировать, что этого никогда не произойдет, такие действия никогда не будут предприняты в отношении других соседей России?
В.В. Путин: Я категорически протестую против такой формулировки вопроса. Это не мы должны гарантировать, что мы на кого-то не нападем. Мы ни на кого не нападали. Это мы требуем гарантий от других, чтобы на нас больше никто не нападал и наших граждан никто не убивал. Из нас пытаются сделать агрессора.
Я взял хронологию происходивших 7, 8, и 9 числа событий. 7 числа в 14.42 грузинские офицеры, которые находились в штабе Смешанных сил по поддержанию мира, покинули этот штаб, ушли оттуда – а там были и наши военнослужащие, и грузинские, и осетинские – под предлогом приказа своего командования. Они оставили место службы, оставили наших военнослужащих там одних и больше туда не вернулись до начала боевых действий. Через час начался обстрел из тяжелой артиллерии.
В 22 часа 35 минут начался массированный огневой удар по Цхинвалу. В 22.50 началась переброска сухопутных подразделений грузинских вооруженных сил в район боевых действий. Одновременно в непосредственной близости были развернуты грузинские военные госпитали. А в 23 часа 30 минут господин Круашвили (бригадный генерал, командующий миротворческими силами Грузии в этом регионе) объявил о том, что Грузия приняла решение начать войну с Южной Осетией. Они объявили об этом прямо, публично, глядя в телевизионные камеры.
В это время мы пытались связаться с грузинским руководством. Все отказались от контактов с нами. В 0 часов 45 минут 8 числа Круашвили это еще раз повторил. В 5 часов 20 минут танковые колонны грузинских войск начали атаковать Цхинвал, а перед этим был нанесен массированный удар из систем «Град», у нас начались потери среди личного состава.
В это время, как Вы знаете, я находился в Пекине и имел возможность накоротке переговорить с Президентом Соединенных Штатов. Я ему прямо сказал о том, что нам не удается связаться с грузинским руководством, но один из руководителей Вооруженных сил Грузии объявил о том, что они начали войну с Южной Осетией.
Джордж ответил мне (я уже об этом говорил публично), что войны никто не хочет. Мы надеялись, что Администрация США вмешается в этот конфликт и остановит агрессивные действия грузинского руководства. Ничего подобного не произошло.
Более того, уже в 12 часов по местному времени подразделения Вооруженных сил Грузии захватили миротворческий городок на юге Цхинвала (он так и называется – Южный), и наши военнослужащие вынуждены были – там перевес был 1:6 со стороны Грузии – отойти к центру города. И у наших миротворцев не было тяжелого вооружения, а то, что было, было уничтожено первыми артиллерийскими ударами. При одном из первых ударов у нас погибли сразу 10 человек.
Началась атака на северный городок миротворческих сил. Вот я Вам зачитываю сводку Генерального штаба: «По состоянию на 12 часов 30 минут батальон миротворческих сил Российской Федерации, дислоцированный на севере города, отбил пять атак и продолжил вести бой».
В это же время грузинская авиация нанесла бомбовые удары по г. Джава, который находился вне боевых действий в центре Южной Осетии. Кто на кого напал? Мы ни на кого не собираемся нападать и ни с кем не собираемся воевать.
Я, будучи президентом восемь лет, часто слышал один и тот же вопрос: какое место отводит сама для себя Россия в мире, где она себя видит, каково ее место? Мы – миролюбивое государство и хотим сотрудничать со всеми нашими соседями и со всеми нашими партнерами. Но если кто-то считает, что можно прийти убивать нас, что наше место на кладбище, то эти люди должны задуматься о последствиях такой политики для самих себя.
М. Чанс: Вы всегда поддерживали тесные личные отношения с Президентом Соединенных Штатов. Считаете ли Вы, что то, что он не смог сдержать Грузию от нападения нанесло ущерб вашим отношениям?
В.В. Путин: Это, конечно, нанесло ущерб нашим отношениям, межгосударственным – прежде всего.
Но дело не только в том, что Администрация США не смогла удержать грузинское руководство от этой преступной акции – американская сторона фактически вооружила и обучила грузинскую армию.
Зачем долгие годы вести тяжелые переговоры и искать сложные компромиссные решения в межэтнических конфликтах? Легче вооружить одну из сторон и толкнуть ее на убийство другой стороны – и дело сделано. Казалось бы, такое легкое решение. На самом деле оказывается, что это не всегда так.
У меня есть и другие соображения. То, что я сейчас скажу, – только предположения, в них еще нужно разбираться как следует. Но мне кажется, что есть о чем подумать. Даже во времена холодной войны – жесткого противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов – мы всегда избегали прямого столкновения между нашими гражданскими и, тем более, военными, военнослужащими.
У нас есть серьезные основания полагать, что прямо в зоне боевых действий находились граждане Соединенных Штатов. И если это так, если это подтвердится, то это очень плохо. Это очень опасно, это ошибочная политика.
Но если это так, то данные события могут иметь и внутриполитическое американское измерение.
Если мои догадки подтвердятся, то тогда возникают подозрения, что кто-то в Соединенных Штатах специально создал этот конфликт с целью обострить ситуацию и создать преимущество в конкурентной борьбе для одного из кандидатов в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. И если это так, то это не что иное, как использование так называемого административного ресурса во внутриполитической борьбе, причем в самом плохом, в кровавом его измерении.
М. Чанс: Но это довольно-таки серьезное обвинение. Я хотел уточнить: Вы считаете, что какие-то лица в Соединенных Штатах действительно спровоцировали этот конфликт для того, чтобы какой-то из кандидатов в президенты получил выигрышную позицию с точки зрения дебатов, набрал очки.
В.В. Путин: Я сейчас поясню.
М. Чанс: И если Вы действительно высказываете такое предположение, какие у вас есть доказательства?
В.В. Путин: Я вам сказал, что если подтвердятся факты присутствия американских граждан в зоне боевых действий, это означает только одно – они там могли находиться только по прямому указанию своего руководства. А если это так, то в зоне боевых действий находятся американские граждане, исполняющие свой служебный долг. Они могут это делать только по приказу своего начальства, а не по собственной инициативе.
Простые специалисты, даже если они обучают военному делу, должны это делать не в зоне боевых действий, а на полигонах, в учебных центрах.
Повторяю, это требует еще дополнительного подтверждения. Я это говорю со слов наших военных. Конечно, я у них еще запрошу дополнительный материал.
Почему Вас удивляет мое предположение, я не понимаю? На Ближнем Востоке проблемы, там не удается добиться примирения. В Афганистане лучше не становится. Более того, талибы перешли в осеннее наступление, десятками убивают НАТОвских военнослужащих.
В Ираке после эйфории первых побед одни проблемы, и количество жертв достигло уже 4 тысяч.
В экономике проблемы, мы это знаем хорошо. С финансами проблемы. Ипотечный кризис. Мы сами за это беспокоимся и хотим, чтобы он быстрее закончился, но он есть.
Нужна маленькая победоносная война. А если не получилось, то можно переложить на нас вину, сделать из нас образ врага, а на фоне такого «ура-патриотизма» опять сплотить страну вокруг определенных политических сил.
Мне странно, что Вас удивляет то, что я говорю. Это же лежит на поверхности.
М. Чанс: Во всяком случае, то, что Вы говорите, представляется с известной мыслью несколько надуманным. Во всяком случае, во время конфликта я был в том регионе, был в Грузии. Я слышал множество слухов, которые тогда циркулировали. Утверждалось, что некоторые американские военнослужащие были захвачены в районе боевых действий. Соответствует ли это действительности?
В.В. Путин: У меня нет таких данных. Думаю, что это не соответствует действительности.
Повторяю, я запрошу у наших военных дополнительные сведения, подтверждающие присутствие американских граждан в зоне конфликта в ходе боевых действий.
М. Чанс: Давайте вернемся к дипломатическим последствиям произошедшего. Сейчас во многих странах говорят о необходимости принятия мер, включая возможность исключения России из «Большой восьмерки» наиболее промышленно развитых стран. Говорят о замораживании контактов по военной линии с НАТО и принятии других мер.
Каким будет ответ России, если будут предприняты такие шаги по дипломатической изоляции России с учетом роста напряженности?
В.В. Путин: Во-первых, если мое предположение о внутриполитической окраске в самих Соединенных Штатах этого конфликта верно, то непонятно, почему союзники Соединенных Штатов должны поддерживать в ходе избирательной кампании одну партию Соединенных Штатов против другой. Это нечестная по отношению к американскому народу в целом позиция. Но мы не исключаем, как это было в прежние годы, что Администрации удастся и на этот раз подчинить своей воле своих союзников.
Что сделать? У нас какой выбор? С одной стороны, мы что, должны позволить себя убивать, но за это сохраниться, скажем, в «восьмерке»? А кто будет сохраняться в «восьмерке», если всех нас убьют?
Вот Вы говорили о возможной угрозе со стороны России. Мы с Вами здесь сидим сейчас беседуем мирно в городе Сочи. В нескольких сотнях километров отсюда подошли американские боевые корабли с ракетным вооружением на борту, дальность действия которых как раз несколько сот километров. Это же не наши корабли пришли к вашим берегам, а ваши пришли к нашим. Выбор у нас какой?
Мы не хотим никаких осложнений, мы не хотим ни с кем ругаться, не хотим ни с кем воевать. Мы хотим нормального сотрудничества и уважительного отношения к нам и нашим интересам. Это разве много?
Вы говорите о «восьмерке». Но в сегодняшнем виде «восьмерка» уже неполноценная весовая позиция. Ведь без приглашения Китайской Народной Республики или Индии, без совета с ними, без влияния на их решения невозможно себе представить нормальное развитие мировой экономики.
А борьба, скажем, с наркотиками, с распространением инфекционных заболеваний, борьба с терроризмом, нераспространенческая тематика? Ну, хорошо, если кто-то хочет делать это совсем без России. Насколько будет эффективна эта работа?
Я думаю, что не об этом надо думать, не надо никого пугать. Не страшно совсем. Надо просто реально уметь проанализировать ситуацию, посмотреть в будущее и наладить нормальные отношения, с уважением относясь к интересам друг друга.
М. Чанс: Вы упомянули целый ряд важных проблем, вопросов международного сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Особенно важно сотрудничество по иранской проблеме, по ядерной программе Ирана, которая вызывает значительные споры. Хотите ли Вы сказать, что если на Россию будет оказываться серьезное дипломатическое давление, то Россия может отказать в своей поддержке усилий в этих областях, отказать Соединенным Штатам, ООН?
В.В. Путин: Россия очень последовательно и добросовестно работает со своими партнерами по всем проблемам – и которые я назвал, и которые Вы сейчас добавили. И не потому, что нас кто-то об этом просит, а мы хотим хорошо в чьих-то глазах выглядеть. Мы делаем это потому, что это соответствует нашим национальным интересам, что в этих областях наши национальные интересы и со многими европейскими странами, и с Соединенными Штатами совпадают. Если с нами никто не захочет разговаривать по этим вопросам и сотрудничество с Россией будет не нужно – ради бога, сами работайте тогда.
М. Чанс: Что Вы можете сказать по вопросу энергетических поставок? Европа сейчас все в большей мере зависит от поставок российской нефти и газа. Будет ли Россия когда-либо использовать энергопоставки в качестве рычага воздействия на эти страны, если действительно будет продолжаться рост напряженности?
В.В. Путин: Мы этого никогда не делали. Строительство первой газопроводной системы было начато в 60гг. – в самый разгар холодной войны. Начиная с 60гг. и по сей день Россия стабильно и очень надежно (вне зависимости ни от какой политической конъюнктуры) исполняла свои контрактные обязательства.
Мы никогда не политизируем экономических отношений, и нас очень удивляет позиция некоторых официальных лиц Администрации Соединенных Штатов, которые разъезжают по европейским странам и уговаривают европейцев не брать наш продукт, скажем, газ. Это просто потрясающая политизация экономической сферы, очень вредная на самом деле.
Да, европейцы зависят от наших поставок, но и мы зависим от того, кто покупает наш газ. Это взаимозависимость, это как раз гарантия стабильности.
Поскольку мы заговорили уже об экономических вопросах, то я хочу тоже Вас проинформировать об одном из решений, которое будет принято в ближайшее время. Хочу сразу оговориться, что это никак не связано с какими-либо кризисами – ни с ситуацией в Абхазии, ни в Южной Осетии – это вопросы чисто экономического характера. Сейчас скажу, о чем идет речь.
У нас давно идут дискуссии по поводу поставок различной продукции из различных стран, в том числе из Соединенных Штатов. Прежде всего, конечно, остро обсуждаются поставки сельхозпродукции.
В июле и августе текущего года наши санитарные службы проводили проверку американских предприятий, поставляющих на наш рынок мясо птицы. Это была выборочная проверка. В ходе проверки установлено, что 19 предприятий проигнорировали замечания наших специалистов, сделанные еще в прошлом 2007 году. Эти 19 предприятий будут исключены из списка экспортеров мяса птицы в Российскую Федерацию.
И 29 предприятиям будет сделано предупреждение о том, что они в ближайшее время должны исправить ситуацию, которая не устраивает наших санитарных специалистов. Надеемся, что эта реакция будет быстрой, они смогут продолжать поставки своей продукции на российский рынок. Это информация, которую мне только что сообщил министр сельского хозяйства.
Повторяю еще раз, мне бы очень не хотелось, чтобы все свалили в одну кучу – проблемы конфликтных ситуаций, политику, экономику, мясо. Все имеет свое собственное измерение, одно с другим не связано.
М. Чанс: Господин Премьер-министр, то, что вы говорите, может показаться, прозвучать как равносильное экономическим санкциям. А если конкретно, в чем провинились вот эти 19 предприятий, что они сделали не так?
В.В. Путин: Я же не специалист в области сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства сегодня утром доложил мне следующее. Я уже говорил и хочу повторить еще раз. В июле и августе текущего года проводились выборочные проверки американских предприятий, поставляющих мясо птицы на российский рынок. Установили, что некоторые замечания, которые были сделаны нашими специалистами еще в 2007 году, проигнорированы, и эти предприятия ничего не сделали для того, чтобы устранить недостатки, выявленные в ходе прежних проверок. И поэтому Министерство сельского хозяйства приняло решение исключить их из списка экспортеров.
29 других предприятий тоже имеют определенные нарушения. Составлены соответствующие документы, им указано на то, что они должны изменить в своей работе, для того чтобы прежние договоренности об их поставках в Россию сохранялись. Они пока будут поставлять продукцию. Мы надеемся, что они быстро устранят недостатки, выявленные в ходе этих проверок.
Речь идет об избыточном наличии в их продукции некоторых веществ, которые у нас находятся под определенным контролем. Это чрезмерное количество антибиотиков. По-моему, там еще какие-то вещества... типа мышьяка. Я не знаю. Нужно, чтобы специалисты сельского хозяйства посмотрели. Это не имеет ничего общего с политикой. Это не какие-то санкции. Такие меры у нас предпринимались неоднократно и раньше. Ничего здесь катастрофического нет. Просто нужно вместе работать над этим.
Больше того, когда министр позвонил и говорит: «Мы прямо не знаем, что делать. Это будет смотреться как санкции, но нам нужно принимать какое-то решение. Мы можем, конечно, сделать какую-то паузу».
По-моему, они сказали про мышьяк. Но у нас свои правила. Если хотите поставлять на наш рынок, надо приспосабливаться к нашим правилам. Они всё знают. Им же сказали об этом еще в 2007 году.
М. Чанс: Соединенным Штатам это не понравится.
В.В. Путин: Нам тоже не все нравится, что делают. Надо просто плотнее работать с нашим Министерством сельского хозяйства. Это уже было. Мы закрывали, а потом опять разрешили. Это было не только в отношении американских поставщиков, но и бразильских.
М. Чанс: Хотел бы в завершение интервью сказать...
В.В. Путин: Можем поговорить. Я никуда не спешу.
М. Чанс: Г-н Путин, Вы больше, чем какой-либо другой человек ассоциируетесь с теми успехами, которые были достигнуты в деле восстановления международного престижа вашей страны после развала Советского Союза, после хаоса 90-х годов. Нет ли у Вас озабоченности, что сейчас эти успехи, эти достижения растрачиваются в результате этих событий, действий в отношении Грузии, запрета на импорт мяса птицы и других действий?
В.В. Путин: Я же Вам сказал, что это не запрет мяса птицы США. Запрет для некоторых предприятий, которые не реагируют на наши замечания в течение целого года. Мы должны защищать внутренний рынок и своего потребителя – так делают все страны, в том числе и Соединенные Штаты.
Что касается престижа России. Нам не нравится то, что происходит, но мы не провоцировали эту ситуацию. Если говорить о престиже, то престиж некоторых других стран понес очень серьезный ущерб в последние годы. Ведь, по сути, в последние годы наши американские партнеры культивируют право силы, а не международное право. Когда мы пытались остановить решение по Косово, нас ведь никто не слушал. Мы говорили: «Не делайте этого, подождите. Вы ставите нас в ужасное положение на Кавказе. Что мы скажем малым народам Кавказа, почему в Косово можно получить независимость, почему здесь нельзя? Вы нас ставите в дурацкое положение». Никто не говорил тогда о международном праве, кроме нас. Теперь все вспомнили. Теперь почему-то все заговорили о международном праве.
Но кто открыл этот ящик Пандоры? Это мы? Нет, это не мы. Это не наше решение и не наша политика.
В международном праве есть и то и другое: есть и принцип территориальной целостности государства, есть и право на самоопределение. Надо просто договориться все-таки о правилах игры. Мне кажется, настало время, в конце концов, это сделать.
А что касается восприятия происходящих событий общественностью, то, конечно, это в значительной степени зависит не только от политиков, но и от того, насколько ловко они управляют средствами массовой информации, как они влияют на мировое общественное мнение. У наших американских коллег, конечно, это получается намного лучше, чем у нас. Нам есть чему поучиться. Но всегда ли это проходит в демократическом режиме, всегда ли это честная и объективная информация?
Давайте вспомним хотя бы, как шло интервью маленькой 12-летней девочки и ее тети, проживающих, как я понял, в Соединенных Штатах, которая была свидетельницей событий в Южной Осетии. Как на одном из крупнейших каналов «Фокс Ньюс» ее постоянно перебивал ведущий. Он ее постоянно перебивал. Как только ему не понравилось, что она говорит, он начал ее перебивать, кашлять, хрипеть, скрипеть. Ему осталось только в штаны наложить, но сделать это так выразительно, чтобы они замолчали. Вот единственное, что он не сделал, но, фигурально выражаясь, он был именно в таком состоянии. Ну, разве это честная, объективная подача информации? Разве это информирование населения своей собственной страны? Нет, это дезинформация.
Мы хотим жить в мире, согласии, хотим торговать нормально, работать во всех направлениях: и по обеспечению международной безопасности, и по разоруженческой тематике, по борьбе с терроризмом, с наркотиками, по иранской ядерной проблеме, по северокорейской, которая сейчас имеет тенденцию к некоторому обострению. Мы готовы ко всему этому, но мы хотим, чтобы эта работа была честной, открытой, партнерской, а не эгоистической.
Не нужно ни из кого лепить образ врага, не нужно этим врагом пугать свое собственное население и пытаться на этой базе сплотить вокруг себя каких-то союзников. Нужно просто открыто и честно работать над решением проблемы. Мы этого хотим, мы к этому готовы.
М. Чанс: Я бы хотел еще раз быстро вернуться к утверждению о том, что США спровоцировали войну, конфликт в Грузии ...
В.В. Путин: Я легко отвечу на этот вопрос. Россия с начала 90-х годов, как только возник этот конфликт, а он возник в новейшей истории из-за решения грузинской стороны по лишению Абхазии и Южной Осетии их автономных прав. В 1990 и 1991 годах грузинской руководство лишило Абхазию и Южную Осетию автономных прав, которыми они пользовались еще в составе Советского Союза, в составе Советской Грузии. Как только это решение состоялось, тут же начался межэтнический конфликт и вооруженная борьба.
И тогда Россия подписалась под рядом международных соглашений, и все эти соглашения мы соблюдали. Мы имели на территории Южной Осетии и Абхазии только тот миротворческий контингент, который был обговорен в этих документах, и не превышали его.
Другая сторона, в частности грузинская сторона, при поддержке Соединенных Штатов самым грубейшим образом нарушила все соглашения.
Под видом подразделений Министерства внутренних дел они в зону конфликта тайно ввели свои войска, регулярную армию, спецподразделения и тяжелую технику. По сути, они этой тяжелой техникой, танками окружили со всех сторон столицу Южной Осетии – Цхинвал. Окружили наших миротворцев танками и начали прямой наводкой их расстреливать.
Только после этого, после того, как у нас пошли первые жертвы, список их значительно увеличился, речь шла уже о нескольких десятках наших погибших миротворцев, там, по-моему, 15 – 20 человек уже погибло, а также уже были большие жертвы среди мирного населения, сотнями измерялись. Только после этого Президент России принял решение о вводе контингента для спасения жизней наших миротворцев и мирных граждан.
Более того, когда наши войска начали двигаться в направлении Цхинвала, они натолкнулись на тайно приготовленный грузинскими военными укрепрайон. По сути, там были зарыты танки и тяжелые орудия. Они начали на марше расстреливать наших военных. И все это было сделано в нарушение прежних международных договоренностей. Можно себе представить, конечно, что наши американские партнеры об этом ничего не знали. Но это очень маловероятно.
Абсолютно нейтральный человек, бывший министр иностранных дел Грузии госпожа Зурабишвили – по-моему, она французская гражданка и сейчас в Париже находится – она прямо, публично, в эфире сказала о том, что огромное количество американских советников и они все знали.
Ну, а если наше предположение о том, что в зоне боевых действий находились американские граждане подтвердится, то (повторяю: нужно дополнительную информацию получить от военных) тогда эти подозрения оправданны. Те, кто проводят в отношении России такую политику, они себе думают, что нас полюбят только в том случае, если мы умрем?
М. Чанс: Господин премьер-министр Владимир Путин, большое спасибо.
Интервью председателя правительства Российской Федерации В.В.Путина американской телекомпании «Си-Эн-Эн».М.ЧАНС. Спасибо, господин Путин, за то, что согласились дать это интервью. Многие люди в мире считают Вас – хотя Вы уже сейчас не являетесь президентом, Вы являетесь премьер-министром – главным руководителем в этой стране и считают, что именно Вы отдали приказ о вводе российских войск в Грузию.
Действительно ли это так?
В.В. ПУТИН. Это, конечно, не так. В соответствии с конституцией Российской Федерации вопросы внешней политики, обороны полностью находятся в руках президента России. президент Российской Федерации действовал в рамках своих полномочий.
Ваш покорный слуга находился в это время, как известно, на открытии Олимпийских игр в Пекине. Даже имея в виду это обстоятельство, я не мог принять участие в выработке этого решения, хотя, конечно, президент Медведев знал мое мнение по этому вопросу. Не буду скрывать, здесь нет никакой тайны, конечно, мы заранее рассматривали все возможные варианты развития событий, в том числе и прямую агрессию со стороны грузинского руководства.
Мы должны были заранее подумать о том, как обеспечить безопасность наших миротворцев и граждан Российской Федерации, проживающих постоянно в Южной Осетии. Но, повторю еще раз, принять такое решение мог только президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий вооруженными силами господин Медведев. Это его решение.
М.ЧАНС. Но в то же время не является секретом и то, что на протяжении длительного времени Вы настоятельно призывали Запад подходить серьезно и принимать во внимание озабоченности, которые имеются в России, в частности, в таких вопросах, как расширение НАТО на Восток, развертывание систем ПРО в Европе и так далее.
Не является ли этот конфликт, эти события вашей демонстрацией того, что в этом регионе власть или сила действительно за Россией, и здесь вы определяете ход событий?
В.В. ПУТИН. Конечно, нет. Более того, мы не стремились к конфликтам подобного рода и не хотим их в будущем.
А если этот конфликт произошел, если он, тем не менее, случился, то это только потому, что к нашим озабоченностям никто не прислушивался.
А вообще, Мэтью, я хочу Вам сказать следующее. Надо посмотреть на этот конфликт все-таки пошире.
Я думаю, что и Вам, и вашим – нашим сегодняшним зрителям будет интересно узнать хоть немножко о предыстории отношений между народами и этносами в этом регионе мира. Ведь об этом никто ничего не знает.
Если Вы сочтете это неважным, можете это «вырезать» из программы. Пожалуйста, я не возражаю.
Но я хочу напомнить, что все эти государственные образования в свое время добровольно вошли в состав Российской империи, и каждое в разное время. Первой вошла в состав Российской империи еще в середине XVIIIв., в 1745-1747 годах Осетия. Тогда это было единое государственное образование. Северная и Южная Осетия – это было одно государство.
В 1801 году, если мне не изменяет память, в состав России добровольно вошла сама Грузия, которая находилась под известным нажимом со стороны Османской империи.
Только через 12 лет, в 1812 году в состав Российской империи вошла Абхазия. Она сохранялась до этого времени как независимое государство, как независимое княжество.
Только в середине XIX века было принято решение передать Южную Осетию в Тифлисскую губернию. Таким образом, в рамках единого государства это считалось не очень важным. Но я могу вас заверить, жизнь последующих лет показала, что осетинам это не очень понравилось. Но де-факто они были переданы центральной царской властью под юрисдикцию сегодняшней Грузии.
Когда после Первой мировой войны развалилась Российская империя, то Грузия объявила о создании собственного государства, а Осетия пожелала остаться в составе России, и это было сразу после событий 1917 года.
В 1918 году, в связи с этим, Грузия провела там карательную операцию, очень жесткую, и в 1921-ом повторила ее еще раз.
Когда образовался Советский Союз, то решением Сталина эти территории окончательно закрепили за Грузией. Сталин, как известно, был грузином по национальности.
Так что те, кто настаивают на том, чтобы эти территории и дальше принадлежали Грузии – сталинисты – они отстаивают решение Иосифа Виссарионовича Сталина.
Но что бы ни происходило сейчас, и чем бы ни руководствовались люди, вовлеченные в конфликт, все, что мы сейчас наблюдаем, это, безусловно, трагедия.
Для нас это особая трагедия, потому что за многие годы совместного существования грузинская культура – а грузинский народ это народ древней культуры, – так вот, грузинская культура стала, безусловно, частью многонациональной культуры России.
И для нас это имеет даже, знаете, какой-то оттенок гражданской войны, хотя, конечно, Грузия – независимое государство, нет сомнения в этом. Мы никогда не покушались на суверенитет Грузии и не собираемся делать это в будущем. Но все равно, имея в виду, что почти миллион, даже больше миллиона грузин переехали к нам, у нас особые духовные связи с этой страной и с этим народом. Для нас это особая трагедия.
И уверяю вас, что, скорбя о погибших российских солдатах, в первую очередь о мирных жителях, у нас в России многие скорбят и по погибшим грузинам.
И ответственность за эти жертвы, конечно, лежит на сегодняшнем грузинском руководстве, которое решилось на эти преступные акции.
Извините за длинный монолог, я посчитал, что это будет интересно.
М.ЧАНС. Этот вопрос – история империалистической России – действительно, важен, интересен и актуален, потому что одно из последствий произошедшего конфликта заключается в том, что во многих странах – бывших республиках Советского Союза сейчас многие задают вопрос о том, что будет дальше. Особенно это актуально, например, для Украины, где значительная часть украинского населения является русской. В Молдове, в Центральной Азии, в балтийских государствах задают этот вопрос. Можете ли Вы гарантировать, что это никогда не произойдет, такие действия никогда не будут предприняты в отношении других соседей России?
В.В. ПУТИН. Я категорически протестую против такой формулировки вопроса. Это не мы должны гарантировать, что мы на кого-то не нападем. Мы ни на кого не нападали. Это мы требуем гарантий от других, чтобы на нас больше никто не нападал и наших граждан никто не убивал. Из нас пытаются сделать агрессора.
Я взял хронологию происходивших 7, 8, и 9 числа событий. 7 числа в 14.42 грузинские офицеры, которые находились в штабе Смешанных сил по поддержанию мира, покинули этот штаб, ушли оттуда – а там были и наши военнослужащие, и грузинские, и осетинские – под предлогом приказа своего командования. Они оставили место службы и оставили наших военнослужащих там одних и больше туда не вернулись до начала боевых действий. Через час начался обстрел из тяжелой артиллерии.
В 22 часа 35 минут начался массированный огневой удар по городу Цхинвали. В 22.50 началась переброска сухопутных подразделений грузинских вооруженных сил в район боевых действий. Одновременно в непосредственной близости были развернуты грузинские военные госпитали. А в 23 часа 30 минут господин Круашвили, бригадный генерал, командующий миротворческими силами Грузии в этом регионе, объявил о том, что Грузия приняла решение начать войну с Южной Осетией. Они объявили об этом прямо, публично, глядя в телевизионные камеры.
В это время мы пытались связаться с грузинским руководством – все отказались от контактов с нами. В 0 часов 45 минут 8 числа Круашвили это еще раз повторил. В 5 часов 20 минут танковые колонны грузинских войск начали атаковать Цхинвали, а перед этим был нанесен массированный удар из систем «Град» и у нас начались потери среди личного состава.
В это время, как Вы знаете, я находился в Пекине и имел возможность накоротке переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я ему прямо сказал о том, что нам не удается связаться с грузинским руководством, но один из руководителей Вооруженных Сил Грузии объявил о том, что они начали войну с Южной Осетией.
Джордж ответил мне – я уже об этом говорил публично – что войны никто не хочет. Мы надеялись, что администрация США вмешается в этот конфликт и остановит агрессивные действия грузинского руководства. Ничего подобного не произошло.
Более того, уже в 12 часов по местному времени подразделения вооруженных сил Грузии захватили миротворческий городок на юге Цхинвали, он так и называется – «Южный», и наши военнослужащие вынуждены были – там перевес был 1:6 со стороны Грузии – отойти к центру города. И потом, у наших миротворцев не было тяжелого вооружения, а то, что было, было уничтожено первыми артиллерийскими ударами. При одном из первых ударов у нас погибло сразу 10 человек.
Началась атака на северный городок миротворческих сил. Вот я Вам зачитываю сводку Генерального штаба: «По состоянию на 12 часов 30 минут батальон миротворческих сил Российской Федерации, дислоцированный на севере города, отбил пять атак и продолжал вести бой».
В это же время грузинская авиация нанесла бомбовые удары по г. Джава, который находился вне боевых действий в центре Южной Осетии. Кто на кого напал? Мы ни на кого не собираемся нападать и ни с кем не собираемся воевать.
Я, будучи президентом восемь лет, часто слышал один и тот же Вопрос. какое место отводит сама для себя Россия в мире, где она себя видит, каково ее место? Мы – миролюбивое государство и хотим сотрудничать со всеми нашими соседями и со всеми нашими партнерами. Но если кто-то считает, что можно прийти убивать нас, что наше место на кладбище, то эти люди должны задуматься о последствиях такой политики для самих себя.
М.ЧАНС. Вы всегда поддерживали тесные личные отношения с президентом Соединенных Штатов. Считаете ли Вы, что то, что он не смог сдержать Грузию от нападения, нанесло ущерб вашим отношениям?
В.В. ПУТИН. Это, конечно, нанесло ущерб нашим отношениям, межгосударственным прежде всего. Но дело не только в том, что Администрация США не смогла удержать грузинское руководство от этой преступной акции – американская сторона фактически вооружила и обучила грузинскую армию.
Зачем долгие годы вести тяжелые переговоры и искать сложные компромиссные решения в межэтнических конфликтах? Легче вооружить одну из сторон и толкнуть ее на убийство другой стороны – и дело сделано. Казалось бы, такое легкое решение. На самом деле оказывается, что это не всегда так.
У меня есть и другие соображения. То, что я сейчас скажу, это предположения, только предположения, и в них еще нужно разбираться как следует. Но мне кажется, что есть о чем подумать.
Даже во времена «холодной войны» – жесткого противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов – мы всегда избегали прямого столкновения между нашими гражданскими и, тем более, военными, военнослужащими.
У нас есть серьезные основания полагать, что прямо в зоне боевых действий находились граждане Соединенных Штатов. И если это так, если это подтвердится, это очень плохо. Это очень опасно, и это ошибочная политика. Но если это так, то данные события могут иметь и внутриполитическое американское измерение.
Если мои догадки подтвердятся, то тогда возникают подозрения, что кто-то в Соединенных Штатах специально создал этот конфликт с целью обострить ситуацию и создать преимущество в конкурентной борьбе для одного из кандидатов в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. И если это так, то это не что иное, как использование так называемого административного ресурса во внутриполитической борьбе, причем в самом плохом – в кровавом его измерении.
М.ЧАНС. Но это довольно-таки серьезное обвинение. Я хотел уточнить, Вы считаете, что какие-то лица в Соединенных Штатах, действительно спровоцировали этот конфликт для того, чтобы какой-то из кандидатов в президенты получил выигрышную позицию с точки зрения дебатов, набрал очки.
В.В. ПУТИН. Я сейчас поясню.
М.ЧАНС. И если Вы действительно высказываете такое предположение, какие у вас есть доказательства?
В.В. ПУТИН. Я вам сказал, что если подтвердятся факты присутствия американских граждан в зоне боевых действий, это означает только одно – что они там могли находиться только по прямому указанию своего руководства. А если это так, то значит в зоне боевых действий находятся американские граждане, исполняющие свой служебный долг. Они могут это делать только по приказу своего начальства, а не по собственной инициативе.
Простые специалисты, даже если они обучают военному делу, должны это делать не в зоне боевых действий, а на полигонах, в учебных центрах.
Повторяю, это требует еще дополнительного подтверждения. Я Вам это говорю со слов наших военных. Конечно, я у них еще запрошу дополнительный материал.
Почему Вас удивляет мое предположение, я не понимаю? На Ближнем Востоке проблемы, там не удается добиться примирения. В Афганистане лучше не становится. Более того, талибы перешли в осеннее наступление, десятками убивают НАТОвских военнослужащих.
В Ираке после эйфории первых побед одни проблемы, и количество жертв достигло уже свыше 4 тысяч.
В экономике проблемы, мы это знаем хорошо. С финансами проблемы. Ипотечный кризис. Мы сами за это беспокоимся и хотим, чтобы он быстрее закончился, но он есть.
Нужна маленькая победоносная война. А если не получилось, то можно переложить на нас вину, сделать из нас образ врага, и на фоне такого «ура-патриотизма» опять сплотить страну вокруг определенных политических сил.
Меня удивляет, что Вас удивляет то, что я говорю. Это же лежит на поверхности.
М.ЧАНС. Во всяком случае, то, что Вы говорите, представляется с известной мыслью несколько надуманным. Во всяком случае, во время конфликта я был в том регионе, был в Грузии. Я слышал множество слухов, которые тогда циркулировали, в частности, утверждалось, что некоторые американские военнослужащие были захвачены в районе боевых действий. Соответствует ли это действительности?
В.В. ПУТИН. У меня нет таких данных. Думаю, что это не соответствует действительности.
Повторяю, я запрошу у наших военных дополнительные сведения, подтверждающие присутствие американских граждан в зоне конфликта в ходе боевых действий.
М.ЧАНС. Давайте вернемся к дипломатическим последствиям произошедшего. Сейчас во многих странах говорят о необходимости принятия мер, включая возможность исключения России из «восьмерки» наиболее промышленно развитых стран. Говорят о замораживании контактов по военной линии с НАТО и принятии других мер.
Каким будет ответ России, если, действительно, будут предприняты такие шаги по дипломатической изоляции России с учетом роста напряженности?
В.В. ПУТИН. Во-первых, если мое предположение о внутриполитической окраске в самих Соединенных Штатах этого конфликта верно, то непонятно, почему союзники Соединенных Штатов должны поддерживать в ходе избирательной кампании одну партию Соединенных Штатов против другой. Это нечестная по отношению к американскому народу в целом позиция. Но мы не исключаем, как это было в прежние годы, что Администрации удастся и на этот раз подчинить своей воле своих союзников.
Ну что сделать? У нас какой выбор? С одной стороны, мы что, должны позволить себя убивать, но за это сохраниться, скажем, в «восьмерке"? А кто будет сохраняться в «восьмерке», если всех нас убьют?
Вот Вы говорили о возможной угрозе со стороны России. Мы с Вами здесь сидим сейчас, беседуем мирно в городе Сочи. В нескольких сотнях километров отсюда подошли американские боевые корабли с ракетным вооружением на борту, дальность действия которых как раз несколько сот километров. Это же не наши корабли пришли к вашим берегам, а ваши пришли к нашим. Выбор у нас какой?
Мы не хотим никаких осложнений, мы не хотим ни с кем ругаться, не хотим ни с кем воевать. Мы хотим нормального сотрудничества и уважительного отношения к нам и нашим интересам. Это разве много?
Вы говорите о «восьмерке». Но в сегодняшнем виде «восьмерка» уже неполноценная весовая позиция. Ведь без приглашения Китайской Народной Республики или Индии, без совета с ними, без влияния на их решения невозможно себе представить нормальное развитие мировой экономики.
А борьба, скажем, с наркотиками, с распространением инфекционных заболеваний, борьба с терроризмом, нераспространенческая тематика? Ну хорошо, если кто-то хочет делать это совсем без России. Насколько будет эффективна эта работа?
Я думаю, что не об этом надо думать, и не надо никого пугать. Не страшно совсем. Надо просто реально уметь проанализировать ситуацию, посмотреть в будущее и наладить нормальные отношения, с уважением относясь к интересам друг друга.
М.ЧАНС. Вы упомянули целый ряд важных проблем, или вопросов международного сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Особенно важно сотрудничество по иранской проблеме, по ядерной программе Ирана, которая вызывает значительные споры. Хотите ли Вы сказать, что если на Россию будет оказываться серьезное дипломатическое давление, то Россия может отказать в своей поддержке усилий в этих областях, отказать Соединенным Штатам, ООН?
В.В. ПУТИН. Россия очень последовательно и добросовестно работает со своими партнерами по всем проблемам – и которые я назвал, и которые Вы сейчас добавили. И не потому, что нас кто-то об этом просит, а мы хотим хорошо в чьих-то глазах выглядеть. Мы делаем это потому, что это соответствует нашим национальным интересам, что в этих областях наши национальные интересы и со многими европейскими странами, и с Соединенными Штатами совпадают. Если с нами никто не захочет разговаривать по этим вопросам и сотрудничество с Россией будет не нужно – ну ради Бога, сами работайте тогда.
М.ЧАНС. Что Вы можете сказать по вопросу энергетических поставок? Европа сейчас все в большей мере зависит от поставок российской нефти и газа. Будет ли Россия когда-либо использовать энергопоставки в качестве рычага воздействия на эти страны, если действительно будет продолжаться рост напряженности?
В.В. ПУТИН. Мы этого никогда не делали. Строительство первой газопроводной системы было начато в 60-е годы, в самый разгар «холодной войны», и все эти годы, начиная с 60-х годов и по сей день, Россия стабильно и очень надежно, вне зависимости ни от какой политической конъюнктуры исполняла свои контрактные обязательства.
Мы никогда не политизируем экономических отношений, и нас очень удивляет позиция некоторых официальных лиц администрации Соединенных Штатов, которые разъезжают по европейским странам и уговаривают европейцев не брать наш продукт, скажем, газ, – это просто потрясающая политизация экономической сферы, очень вредная на самом деле.
Да, европейцы зависят от наших поставок, но и мы зависим от того, кто покупает наш газ – это взаимозависимость, это как раз гарантия стабильности.
Но, поскольку мы заговорили уже об экономических вопросах, я хочу тоже Вас проинформировать об одном из решений, которое будет принято в ближайшее время. Хочу сразу оговориться, что это никак не связано с какими-либо кризисами – ни с ситуацией в Абхазии, ни в Южной Осетии – это вопросы чисто экономического характера. Сейчас скажу, о чем идет речь.
У нас давно идут дискуссии по поводу поставок различной продукции из различных стран, в том числе из Соединенных Штатов. И прежде всего, конечно, как правило, остро обсуждаются поставки сельхозпродукции.
В июле и августе текущего года наши санитарные службы проводили проверку американских предприятий, поставляющих на наш рынок мясо птицы. Это была выборочная проверка. В ходе проверки установлено, что 19 предприятий проигнорировали замечания наших специалистов, сделанные еще в прошлом 2007 году. Эти 19 предприятий будут исключены из списка экспортеров мяса птицы в Российскую Федерацию.
И 29 предприятиям будет сделано предупреждение о том, что они в ближайшее время должны исправить ситуацию, которая не устраивает наших санитарных специалистов. Надеемся, что эта реакция будет быстрой, и они смогут продолжать поставки своей продукции на российский рынок.
Это информация, которую мне только что сообщил министр сельского хозяйства.
Повторяю еще раз, мне бы очень не хотелось, чтобы все свалили в одну кучу – и проблемы конфликтных ситуаций, политику, экономику, мясо. Все имеет свое собственное измерение, и одно с другим не связано.
М.ЧАНС. Господин премьер-министр, то, что вы говорите, может показаться, прозвучать как равносильное экономическим санкциям. А если конкретно, в чем провинились вот эти 19 предприятий, что они сделали не так?
В.В. ПУТИН. Я же не специалист в области сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства сегодня утром доложил мне следующее.
Я уже говорил и хочу повторить еще раз. В июле и августе текущего года проводились выборочные проверки американских предприятий, поставляющих мясо птицы на российский рынок. Установили, что некоторые замечания, которые были сделаны нашими специалистами еще в 2007 году, проигнорированы, и эти предприятия ничего не сделали для того, чтобы устранить недостатки, выявленные в ходе прежних проверок. И поэтому Министерство сельского хозяйства приняло решение исключить их из списка экспортеров.
29 других предприятий тоже имеют определенные нарушения. Составлены соответствующие документы, им указано на то, что они должны изменить в своей работе, для того чтобы прежние договоренности о их поставках в Россию сохранялись. Они пока будут поставлять продукцию, эти 29 предприятий. Мы надеемся, что они быстро устранят недостатки, выявленные в ходе этих проверок.
Речь идет об избыточном наличии в их продукции некоторых веществ, которые у нас находятся под определенным контролем. Это чрезмерное количество антибиотиков. По-моему, там еще какие-то вещества, типа мышьяка. Я не знаю. Нужно, чтобы специалисты сельского хозяйства посмотрели. Это не имеет ничего общего с политикой. Это не какие-то санкции. Такие меры у нас предпринимались неоднократно и раньше. Ничего здесь катастрофического нет. Просто нужно вместе работать над этим.
Больше того, когда министр позвонил и говорит: «Мы прямо не знаем, что делать. Это будет смотреться как санкции, но нам нужно принимать какое-то решение. Мы можем, конечно, сделать какую-то паузу».
По-моему, они сказали мышьяк. Но у нас свои правила. Если хотите поставлять на наш рынок, надо приспосабливаться к нашим правилам. Они все знают. Им же сказали об этом еще в 2007 году.
М.ЧАНС. Соединенным Штатам это не понравится.
В.В. ПУТИН. Нам тоже не все нравится, что делают. Надо просто плотнее работать с нашим министерством сельского хозяйства. Это уже было.
Мы закрывали, а потом опять разрешили. Это было не только в отношении американских поставщиков, но и бразильских.
М.ЧАНС. Хотел бы в завершение интервью сказать...
В.В. ПУТИН. Можем поговорить. Я никуда не спешу.
М.ЧАНС. Г-н Путин, Вы больше, чем какой-либо другой человек ассоциируетесь с теми успехами, которые были достигнуты в деле восстановления международного престижа вашей страны после развала Советского Союза, после хаоса 90-х годов. Нет ли у Вас озабоченности, что сейчас эти успехи, эти достижения растрачиваются в результате этих событий, действий в отношении Грузии, запрета на импорт мяса птицы и других действий?
В.В. ПУТИН. Я же Вам сказал, что это не запрет мяса птицы США. Запрет для некоторых предприятий, которые не реагируют на наши замечания в течение целого года. Мы должны защищать внутренний рынок и своего потребителя, – так делают все страны, в том числе Соединенные Штаты.
Что касается престижа России. Нам не нравится то, что происходит, но мы не провоцировали эту ситуацию. Если говорить о престиже, то престиж некоторых других стран понес очень серьезный ущерб в последние годы. Ведь, по сути, в последние годы наши американские партнеры культивируют право силы, а не международное право. Когда мы пытались остановить решение по Косово, нас ведь никто не слушал. Мы говорили, не делайте этого, подождите. Вы ставите нас в ужасное положение на Кавказе. Что мы скажем малым народам Кавказа, почему в Косово можно получить независимость, почему здесь нельзя? Вы нас ставите в дурацкое положение. Никто не говорил тогда о международном праве, кроме нас. Теперь все вспомнили. Теперь почему-то все заговорили о международном праве.
Но кто открыл этот ящик Пандоры? Это мы, что ли? Нет, это не мы. Это не наше решение и не наша политика. В международном праве есть и то, и другое: есть и принцип территориальной целостности государства, есть и право на самоопределение. Надо просто договориться все-таки о правилах игры. Мне кажется, настало время в конце концов это сделать.
А что касается восприятия происходящих событий общественностью, то, конечно, это в значительной степени зависит не только от политиков, но и от того, насколько ловко они управляют средствами массовой информации, как они влияют на мировое общественное мнение. У наших американских коллег, конечно, это получается намного лучше, чем у нас. Нам есть чему поучиться. Но всегда ли это проходит в нормальном, демократическом режиме, всегда ли это честная и объективная информация?
Давайте вспомним хотя бы, как шло интервью маленькой 12-летней девочки и ее тети, проживающих, как я понял, в Соединенных Штатах, которая была свидетельницей событий в Южной Осетии. Как на одном из крупнейших каналов «Фокс ньюс» ее постоянно перебивал ведущий. Он ее постоянно перебивал. Как только ему не понравилось, что она говорит, он начал ее перебивать, кашлять, хрипеть, скрипеть. Ему осталось только в штаны наложить, но сделать это так выразительно, чтобы они замолчали. Вот единственное, что он не сделал, но, фигурально выражаясь, он был именно в таком состоянии. Ну, разве это честная, объективная подача информации? Разве это информирование населения своей собственной страны? Нет, это дезинформация.
Мы хотим жить в мире, согласии, хотим торговать нормально, работать во всех направлениях: и по обеспечению международной безопасности, и по разоруженческой тематике, по борьбе с терроризмом, с наркотиками, по иранской ядерной проблеме, по северокорейской, которая сейчас имеет тенденцию к некоторому обострению. Мы готовы ко всему этому, но мы хотим, чтобы эта работа была честной, открытой, партнерской, а не эгоистической.
Не нужно ни из кого лепить образ врага, не нужно этим врагом пугать свое собственное население и пытаться на этой базе сплотить вокруг себя каких-то союзников. Нужно просто открыто и честно работать над решением проблемы. Мы этого хотим и мы к этому готовы.
М.ЧАНС. Я бы хотел еще раз быстро вернуться к утверждению о том, что США спровоцировали войну, конфликт в Грузии ...
В.В. ПУТИН. Я легко отвечу на этот вопрос. Россия с начала 90-х годов, как только возник этот конфликт, а он возник в новейшей истории из-за решения грузинской стороны по лишению Абхазии и Южной Осетии их автономных прав. В 1990 и 1991 годах грузинское руководство лишило Абхазию и Южную Осетию автономных прав, которыми они пользовались еще в составе Советского Союза, в составе Советской Грузии; как только это решение состоялось, тут же начался межэтнический конфликт и вооруженная борьба.
И тогда Россия подписалась под рядом международных соглашений, и все эти соглашения мы соблюдали. Мы имели на территории Южной Осетии и Абхазии только тот миротворческий контингент, который был обговорен в этих документах, и не превышали его.
Другая сторона, в частности грузинская сторона, при поддержке Соединенных Штатов самым грубейшим образом нарушила все соглашения.
Под видом подразделений Министерства внутренних дел они в зону конфликта тайно ввели свои войска, регулярную армию, спецподразделения и тяжелую технику. По сути, они этой тяжелой техникой, танками окружили со всех сторон столицу Южной Осетии – Цхинвали. Окружили наших миротворцев танками и начали прямой наводкой их расстреливать.
Только после этого, после того, как у нас пошли первые жертвы и список их значительно увеличился – речь шла уже о нескольких десятках наших погибших миротворцев, там, по-моему, 15-20 человек уже погибло, а также уже были большие жертвы среди мирного населения, сотнями измерялись – только после этого президент России принял решение о вводе контингента для спасения жизней наших миротворцев и мирных граждан.
Более того, когда наши войска начали двигаться в направлении Цхинвали, они натолкнулись на тайно приготовленный грузинскими военными укрепрайон. По сути, там были зарыты танки и тяжелые орудия и они начали на марше расстреливать наших военных.
И все это было сделано в нарушение прежних международных договоренностей.
Можно себе представить, конечно, что наши американские партнеры об этом ничего не знали. Но это очень маловероятно.
Абсолютно нейтральный человек, бывший министр иностранных дел Грузии, госпожа Зурабишвили – по-моему, она французская гражданка и сейчас в Париже находится – она прямо, публично, в эфире сказала о том, что огромное количество американских советников, и, конечно, они все знали.
Ну, а если наше предположение о том, что в зоне боевых действий находились американские граждане подтвердится – повторяю, нужно дополнительную информацию получить от военных – то тогда эти подозрения оправданны.
Те, кто проводят в отношении России такую политику, они что себе думают, они нас полюбят только в том случае, если мы умрем?
Президент Сирии Башар Асад прибудет в Россию с официальным двухнедельным визитом. Основная цель визита – обсуждение стратегического партнерства, как в гражданской, так и в военной сфере, пишет NEWSru.com.Накануне в интервью российским СМИ Асад выразил полную поддержку позиции России в грузино-южноосетинском конфликте, и выразил надежду, что теперь Москва прекратит попытки сближения с Евросоюзом и блоком NATO. «Мы живем в мире, где правит сила, где нет этики, морали и международного права. На Кавказе Россия доказала, что является великой державой», – заявил Асад.
Президент Сирии осудил Запад за политику двойных стандартов по отношению к Косово и непризнанным кавказским республикам, сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с ситуацией на Кавказе, а также пообещал разъяснить президенту России Дмитрию Медведеву, находящемуся сейчас в Сочи, разъяснить роль Израиля в конфликте между Россией и Грузией, пишет «Газета GZT.ru. В интервью газете «Коммерсант» Асад подчеркнул, что попытки Запада изолировать Сирию провалились: «Это они остались в изоляции, потому что наш народ един и сплочен, а без Сирии невозможно разрешить ни одну проблему региона».
Асад предложил России ответить на размещение американских систем ПРО в Чехии и Польше размещением ракетных комплексов «Искандер» на территории Сирии, и заявил, что готов обсудить возможность превращения порта Тартус в основную базу Черноморского флота РФ после ухода из Севастополя. «Мы готовы сотрудничать с Россией во всем, что касается укрепления ее безопасности», – подчеркнул сирийский лидер.
Вчера сайт NFC сообщал, что сирийский порт Тартус должен снова стать базой российских кораблей. По утверждению сайта, российскую группировку в Тартусе возглавит тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кухнецов», ранее уже дважды заходивший в этот порт во время средиземноморско-атлантических походов 1995 и 2007гг. Также в группировку должны войти флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» и ряд подводных лодок.
Власти Швейцарии официально признали новые косовские загранпаспорта и готовы начать выдачу виз их обладателям, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства Швейцарии. «Косовские паспорта, выдача которых началась недавно, полностью удовлетворяют требованиям Швейцарии», – отмечается в сообщении.Теперь получившие новые паспорта жители Косово могут использовать их при получении швейцарской визы, говорится в документе.
Независимость Косово от Сербии албанские власти в Приштине в одностороннем порядке провозгласили 17 фев. 2008г., тогда же были приняты новые герб и флаг. Новый статус края признали 43 страны-члена ООН из 192. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.
Первые загранпаспорта были выданы гражданам самопровозглашенной почти полгода назад республики на торжественной церемонии в Приштине 30 июля. На обложке документа золотистым цветом нарисован герб Косово. Также золотистым цветом на ней написаны слова «Республика Косово» и «паспорт» на трех языках: албанском, сербском и английском.
Заявки на новые загранпаспорта принимаются с 21 июля. Срок действия документа – десять лет. Пошлина для его получения составляет 25 евро. До сих пор жители Косово пользовались так называемыми UNMIK-паспортами, выданными гражданской миссией ООН в крае (UNMIK). Они остаются действительными до окончания срока действия.
Власти Сербии уже заявили о непризнании документов, учрежденных албанскими властями в Приштине. Предполагается, что с новыми паспортами жители Косово также не смогут въехать в страны, не признающие косовскую независимость. Пока остается нерешенным вопрос, как они смогут передвигаться по Евросоюзу, разделенному по косовскому вопросу, или государствам зоны Шенгенского соглашения.
Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам переговоров с президентом Франции Николя Саркози. 12 августа 2008г., Москва, Кремль.Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемые господа! Только что завершилась наша беседа с президентом Франции Николя Саркози. По вполне очевидным причинам она была посвящена одной теме – трагическим событиям в Южной Осетии. Мы также интенсивно обменивались информацией с президентом последние два дня.
Прежде чем я скажу о результатах, которых мы сегодня достигли, хотел бы специально отметить, что встреча происходит в условиях нового статус-кво. Как вам известно, сегодня в связи с достижением цели операции по принуждению Грузии к миру я принял решение о ее завершении. И мы благодарны нашему партнеру, моему коллеге Николя Саркози за то, что он немедленно включился в поиски решения.
Теперь собственно результат, к которому мы пришли. Я сейчас зачитаю определенные принципы, впоследствии мой коллега сделает это на французском языке.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и президент Французской Республики Николя Саркози поддерживают следующие принципы урегулирования конфликтов и призывают соответствующие стороны подписаться под этими принципами. Их шесть.
Первый. Не прибегать к использованию силы.
Второй. Окончательно прекратить все военные действия.
Третий. Свободный доступ к гуманитарной помощи.
Четвертый. Вооруженные силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации.
Пятый. Вооруженные Силы Российской Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. До создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности.
Шестой. Начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
Думаю, что это хорошие принципы для того, чтобы решить проблему, выйти из той драматической ситуации, которая возникла. И эти принципы вполне могут быть использованы как Грузией, так и Южной Осетией.
Из Москвы президент Франции намерен отправиться в Тбилиси, чтобы довести эти принципы до грузинской стороны. Если грузинская сторона будет реально готова их подписать и действительно отведет войска на исходные позиции, выполнит то, что говорится в этих принципах, то путь к постепенной нормализации обстановки в Южной Осетии будет открыт. Дело за Тбилиси.
Н.САРКОЗИ. Господин президент! Очень рад, что мы провели несколько часов дискуссий позавчера, вчера и сегодня. Хочу сказать, что для всех, кто привержен миру, это хорошая новость, что Вы озвучили сейчас, – то, что Вы объявили временное прекращение огня, – и что, кроме того, мы провели очень свободные, открытые, откровенные дискуссии по поводу ситуации, которая порождает сегодня со всех сторон множество страданий и много травм.
В документе, который представил президент Медведев, изложены выводы всех этих многочасовых дискуссий между российской и французской стороной, которую представляли Бернар Кушнер и я.
Первый принцип – не прибегать к использованию силы. Нам не удалось, естественно, в ходе дискуссии решить все. Мы попытались подготовить короткий документ, который позволяет прийти к соглашению.
Второй принцип – окончательное прекращение военных действий. Пока что речь идет о временном прекращении огня. Это прекращение огня может быть окончательным, если сегодня мы с Бернаром Кушнером убедим Грузию подписать такой документ.
Третье – обеспечение свободного доступа гуманитарной помощи. Вы знаете, что много беженцев, им надо помогать.
Четвертый принцип – возвращение грузинских вооруженных сил в места их постоянной дислокации.
Пятый принцип – Вооруженные Силы России выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий, и до создания международных механизмов российские миротворческие силы (имеются в виду Вооруженные Силы России, действующие в рамках мандата ОБСЕ, которые присутствуют в Осетии) примут дополнительные меры безопасности.
Мы будем обсуждать эти меры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили до тех пор, пока не будет восстановлено доверие между осетинами, абхазами и грузинами.
Наконец, шестое – начало международного обсуждения вопросов будущих статусов Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
Напоминаю, что ситуация в этих регионах является предметом многочисленных дискуссий в Совете безопасности с 1992 года. Поэтому пока что, насколько я могу судить о кризисе, с которым мы столкнулись, окончательное решение проблемы найти не удалось.
Хотел бы в присутствии президента России Дмитрия Медведева сказать, что мы видим стремление России гарантировать суверенитет и уважать суверенитет Грузии. И это он сам может подтвердить, у нас тут нет никакой двойственности. Это очень важный момент.
Мы сейчас отправляемся в Тбилиси для того, чтобы продолжить дискуссии. И завтра Бернар Кушнер соберет всех министров иностранных дел стран – членов Совета Европы, с тем чтобы доложить о миссии, которую мы провели. И я должен к тому же уточнить, что прежде чем приехать на встречу с российским президентом, я вчера поздно вечером общался с Ангелой Меркель. Хочу сказать, что тут наблюдается полное сходство мнений госпожи канцлера и меня. Я говорил с Сильвио Берлускони. Встречались с сотрудниками Гордона Брауна и премьер-министра Сапатеро. Я сам имел возможность пообщаться с президентом Польши и с президентом Украины, с которыми мы встретимся в Тбилиси, поскольку они сейчас находятся именно там.
Хочу сказать, что у нас такой результат получен в результате нашей длительной дискуссии. Можно сказать, что мира нет, но мы имеем временное прекращение боевых действий. Естественно, надо проделать большую работу, надеюсь, что мы сможем добиться хороших позитивных результатов.
ВОПРОС. У меня вопрос к президенту России.
Скажите, пожалуйста, почему решение о прекращении огня объявлено именно сегодня, хотя Саакашвили уже заявлял об этом, если не ошибаюсь, два дня назад, что грузинская сторона готова именно к таким условиям? И каковы условия со стороны России для прекращения боевых действий?
И вопрос к президенту Франции. Все последние дни президент Грузии делал свои заявления, в том числе и о начале боевых действий, да и вообще все свои заявления на фоне флага Европейского союза, хотя, как известно, эта страна не входит в Европейский Союз? Как вы можете это объяснить?
Д.МЕДВЕДЕВ. Почему сегодня? Этот ответ я уже сегодня дал, готов еще раз это сделать. Дело в том, что та операция по принуждению грузинских властей к миру, которая велась усиленным российским миротворческим контингентом, принесла свои результаты, и поэтому мы ее закончили.
Это нужно было сделать именно сегодня, а не вчера и не завтра. Тем самым принято временное решение о прекращении огня до момента полного урегулирования проблемы в духе тех принципов, которые мы только что назвали. И самое главное, что мы достигли целей, которые ставили перед собой.
Какие это цели? Во-первых, мы защитили граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии. Во-вторых, мы восстановили статус-кво, защитили правопорядок в духе тех международных соглашений, которые были подписаны в 1992 году, а также в последующие годы, на базе которых осуществляется урегулирование в этой зоне. То есть мы полностью реализовали мандат миротворческих сил в расширенном, к сожалению, варианте, постольку поскольку этого потребовала жизнь.
Что же касается утверждений грузинского президента о том, что уже два дня соблюдалось прекращение огня, то это вранье. Грузинские силы обстреливали миротворцев. К сожалению, и вчера были погибшие. Делалось это из артиллерийских орудий и стрелкового оружия, то есть, иными словами, никакого прекращения огня с грузинской стороны не было.
Вы знаете, «отморозки» тем и отличаются от нормальных людей, что, когда они чувствуют запах крови, их очень трудно остановить. И тогда приходится прибегать к хирургическим методам. Но сегодня все условия, необходимые для реализации нашей миссии, выполнены. И это создало возможность вернуться к обсуждению основного вопроса – вопроса о мире – на основе тех принципов, которые мы только что с господином президентом, с моим коллегой, зачитали.
Н.САРКОЗИ. Могу подтвердить, что Грузия не является членом ЕС, но я не могу запретить главе государства поставить рядом флаг Европы.
Д.МЕДВЕДЕВ. Главное, чтобы это Европу не дискредитировало.
ВОПРОС. Господин Саркози, почему принцип территориальной целостности Грузии не фигурирует среди принципов? Это значит, что этот принцип больше для Вас не важен?
Господин Медведев, признаете ли Вы территориальную целостность Грузии? Можете Вы себе представить, что осетины будут жить в составе Грузии? Возможно ли это вообще?
Н.САРКОЗИ. Нужно выйти из кризиса. А для того, чтобы выйти из кризиса, надо, чтобы участники боевых действий прекратили эти боевые действия. Мы находимся в экстремальной ситуации, и наша цель заключается не в том, чтобы урегулировать все проблемы. Хочу заметить, что проблемы Осетии и Абхазии и в целом Кавказского региона является предметом многочисленных резолюций. Грузия – это независимая страна, это суверенная страна, и думаю, что эта формула является более широкой, чем формулировка, предполагающая территориальную целостность, – принцип суверенитета.
Добавлю, что до кризиса существовали международные силы, действующие на основании международного мандата, которые располагались на этих двух территориях. Не я это придумал, не я это оспаривал. И если там были миротворческие силы, на этих двух территориях, это значит, что там были проблемы, которые требовалось урегулировать. Была проблема, которая усугубилась в последние дни, но которая существовала и раньше. Если бы не было проблемы, то и не было бы международных миротворческих сил в этом регионе еще в те времена.
Два решения: либо мы пытаемся урегулировать все сейчас – и ничего не сможем сделать, либо мы попытаемся восстановить мир – и попытаемся через диалог найти решение на длительную перспективу, что мы собственно и попытались сделать. Вы понимаете, есть два слова: «суверенитет» и «независимость», – и я использовал именно эти слова, именно они важны. Если вы хотите быть посредником, то надо сблизить стороны, находящиеся на различных позициях. Именно в этом я вижу свою роль как президента страны, председателя Совета Евросоюза.
Понимаю, что у многих есть какие-то определенные мысли по поводу того, как надо урегулировать эту проблему, но эти окончательные идеи наталкиваются на проблемы беженцев из Грузии и русскоязычных беженцев. Естественно, эту проблему мы не можем решить сегодня. Да кто может надеяться решить эти проблемы сегодня?! Надо прекратить страдания, остановить гибель людей. И мы договорились на уважении суверенитета.
Грузия – это независимая страна. Россияне, российская сторона – и президент Медведев это подтвердил – не имеют никакого намерения оставаться в Грузии. Поэтому я использовал именно эту терминологию.
Естественно, Вы прекрасно знаете эту тему. Позже возникнет множество других вопросов. Это все понятно. И текст из шести пунктов не может, естественно, ответить на все вопросы. Более того, он не решает окончательно проблему, поскольку есть стороны конфликта. И сейчас, по горячим следам, мы не можем рассматривать эти вопросы. Потом предполагается открыть международные дискуссии. И надо, чтобы эти дискуссии все-таки реально состоялись.
Отвечаю Вам максимально откровенно. Именно так я думаю. И со своей стороны – ни от чего не отказываюсь, лишь хочу подтолкнуть людей к диалогу и к взаимному пониманию в регионе мира, где ситуация не проста. И не проста она уже в течение длительного времени. Поскольку там смешанное население, поэтому мы пытаемся облегчить ситуацию и восстановить мир. Собственно, что я и хотел сказать.
Поверьте, со своей стороны я ни от чего не отказываюсь. Но хочу лишь внести прозрачность и ясность. Речь не идет о том, что мне не хватило смелости, нет. (Не надо делать культа из смелости, впрочем. Позвольте мне это небольшое замечание. Гораздо легче написать редакционную статью, чем сблизить людей, которые находятся в состоянии войны. Это не потому, чтобы натолкнуть вас на неприятные мысли, просто я хотел вам это сказать.)
Д.МЕДВЕДЕВ. Что такое суверенитет? Это верховенство центральной власти. Признает ли Россия суверенитет Грузии? Безусловно, признает, равно как и независимость грузинской власти от каких-либо других властей. Но это не значит, что суверенное государство имеет возможность делать все, что ему заблагорассудится. Даже суверенные государства должны отвечать за свои действия.
Теперь в отношении территориальной целостности. Территориальная целостность – это отдельное понятие. И если суверенитет основан на воле народа и на Конституции, то территориальная целостность, как правило, показывает реальное состояние дел. И, несмотря на то, что на бумаге все будет и может смотреться хорошо, в жизни все бывает гораздо сложнее.
Вопрос территориальной целостности – это очень сложный вопрос, который не решается ни на митингах, ни даже в парламентах и на встречах лидеров. Это желание людей жить в одном государстве.
Здесь Вы правильно задали ВОПРОС. могут ли и хотят ли осетины и абхазы жить в составе Грузии? Этот вопрос нужно задать им самим, и они дадут на него свой недвусмысленный ответ. На этот вопрос не должна отвечать ни Россия, ни какие-либо другие государства. Это должно происходить в строгом соответствии с нормами международного права. Хотя и международное право за последние годы изобилует очень сложными примерами самоопределения народов и возникновения новых государств на карте. Давайте вспомним пример Косова.
Поэтому это тот вопрос, на который должны ответить осетины и абхазы с учетом истории, принимая во внимание и то, что случилось в последние дни.
ВОПРОС. Вопрос у меня к обоим президентам.
На ваш взгляд, была ли возможность у России как-то по-другому отреагировать на агрессию Грузии по отношению к Южной Осетии? И еще: во время переговоров поднималась ли такая тема, как этнические чистки?
Д.МЕДВЕДЕВ. Если бы у России была другая возможность отреагировать на агрессию Грузии в отношении Южной Осетии, мы бы так и поступили. Никакой другой возможности отреагировать не было. Когда убивают несколько тысяч граждан, государство должно реагировать адекватно. Когда нарушают международное право, государство и все международное сообщество тоже должны реагировать абсолютно адекватно, а не так вяло, как, к сожалению, происходит зачастую в нашей жизни. Поэтому никаких других возможностей отвечать у нас не было, и история последних пяти дней показала, что этот ответ был наиболее эффективным и наиболее последовательным. Если бы мы не сделали этого, количество смертей было бы многократно больше.
Что касается этнических чисток, то, естественно, эта проблема существует. И мы со всей твердостью этот вопрос поднимали и будем поднимать перед теми, кто за них отвечает. Хотя отдельные наши партнеры почему-то просят этот вопрос не поднимать, в том числе и в конфиденциальных разговорах. Стесняются, наверное. Это вопрос, который квалифицируется в международном праве как преступление, равно как и убийство тысяч граждан носит наименование «геноцид». Другого наименования нет и быть не может.
Более того, мы уже об этом говорили, очень странной является ситуация, когда один персонаж, совершивший убийство тысяч жизней характеризуется как террорист и ублюдок, а другой – как законно избранный президент суверенной державы. Международное право не имеет возможности использовать двойные стандарты, и в политической практике нужно придерживаться этого.
Н.САРКОЗИ. Вы видите, что раны еще живы, раны не зажили, не заросли и что каждый вопрос и с той, и с другой стороны может дать выход страданиям.
Франция считает, что для войны нет хорошего решения. Франция считает это и в отношении Грузии (они, вы знаете, предприняли определенные инициативы), и Франция сказала России: это неправильное решение – война. И по просьбе президента Медведева, чтобы убедиться, что страдают люди с обеих сторон, я попросил министра Кушнера посетить Тбилиси, посетить Северную Осетию, чтобы увидеть беженцев Южной Осетии. И позавчера президент Медведев попросил меня, чтобы министр иностранных дел Франции посетил и ту и другую стороны, чтобы увидеть реальное положение вещей.
Говоря об этнических чистках, о геноциде: существуют международные инстанции, существует международный уголовный суд. Если одна из сторон конфликта хотела бы привлечь виновного к суду в этих инстанциях – собственно, это ее право, для этого эти инстанции и созданы. Для этого надо начать расследование и прийти к истине. Каждый должен ответить за свои действия. Не могу упрекать ни одну страну за то, что эта страна захочет решить проблемы таким путем. Есть международные правила. Международный уголовный суд для этого, собственно, и создан.
ВОПРОС. Господин Саркози, Вы созовете Европейский совет для изучения досье? И что Вы думаете по поводу того, что Восточная Европа и Балтика на стороне Саакашвили? Что Вы думаете по поводу европейских миротворческих сил, которые могут сопровождать российский миротворческий контингент, который развернут в Абхазии и в Осетии? Согласитесь ли Вы, чтобы российские миротворческие силы были дополнены европейскими миротворческими силами?
Н.САРКОЗИ. Сегодня еще слишком рано говорить о целесообразности созыва Европейского совета на уровне глав государств и правительств. Думаю, Вы это имели в виду, задавая Ваш вопрос.
Я пока что еще не представил результаты наших переговоров грузинской стороне. Меня как председателя Совета Евросоюза беспокоит сохранение единства Европы. Каждый может занимать определенную позицию, более-менее активную, в зависимости от своей истории, прийти к согласию на уровне стран-членов Евросоюза – это непростое дело. Но думаю, что по французской инициативе я смогу заручиться поддержкой всех.
Не могу упрекать поляков, президента Польши за его инициативы и министра иностранных дел, что он поехал туда. Вы знаете, другие руководители туда поехали, вам известна ситуация. И европейское единство я намерен сохранять и поддерживать.
Мы посмотрим, как пройдет завтра заседание Совета министров иностранных дел, как пройдет встреча с Грузией. И в зависимости от этого у нас будет время подумать о целесообразности созыва Европейского совета.
Не хотел бы торопиться с созывом такой встречи. Знаю, что надо поехать на места, что сделал господин Кушнер. Надо обсудить вопросы с российскими властями, что я делаю сегодня, и с грузинскими властями.
Могла бы Европа участвовать в миротворческих силах? Европа готова, конечно же. Этот конфликт происходит на границах Европы. Вопрос отношений между Россией и Европой – это вопрос стратегический в том плане, что мы хотим иметь хорошие отношения с Россией. Более того, мы хотим укреплять отношения между Европой и Россией. И, само собой разумеется, мы, естественно, готовы подумать о возможности участия наших сил, если этого желают различные действующие лица.
Д.МЕДВЕДЕВ. Могу дополнить – буквально два слова на эту тему. Прочность миропорядка основана на системе международного права. И чем лучше мы это запомним, тем проще будет жить, тем меньше будет проблем.
Международные соглашения, по которым работают миротворцы, сформулированы в 1992 году и подкрепляются международными документами чуть более позднего времени, они остаются и действуют. И наши миротворцы продолжают исполнять свои функции и будут исполнять свои функции именно потому, что они – ключевой фактор обеспечения безопасности на Кавказе. Так было и так будет.
Первым министром обороны Косово, в фев. провозгласившего независимость от Сербии, назначен 45-летний Фехми Муйота (Fehmi Mujota), сообщили косовские СМИ. Соответствующее решение премьер-министр республики Хашим Тачи лично вручил новому члену своего кабинета.До сих пор Муйота был депутатом парламента от правящей Демократической партии Косово. В конце 1990гг. он занимал пост комиссара Освободительной армии Косово (ОАК) ответственного за политическую подготовку и моральный дух бойцов. ОАК – незаконная террористическая группировка албанских боевиков, которая вела боевые действия против армии и полиции бывшей Югославии, добиваясь независимости автономии.
В распоряжении Муйоты будут находиться формируемые Силы безопасности Косово (BSK), численность которых составит не менее 2,5 тыс.чел. и 800 чел. резерва, обучение и оснащение которых взяли на себя силы НАТО.
Независимость Косово от Сербии албанские власти в Приштине в одностороннем порядке провозгласили 17 фев. 2008г. при поддержке США и ведущих стран Евросоюза. Тогда же были приняты новые герб и флаг республики.
Новый статус края признали 43 страны-члена ООН из 192. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.
Торжественная церемония выдачи первых загранпаспортов Косово жителям самопровозглашенной республики состоялась в среду в здании муниципалитета Приштины, сообщили местные СМИ. «Это историческое событие, потому что тем самым завершается создание нашего государства. С сегодняшнего дня граждане идентифицированы. Граждане Косово стали подданными Косово», – заявил на церемонии вручения премьер-министр косовской администрации Хашим Тачи.По его мнению, Косово теперь будет проще интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Тачи лично вручил первые шесть паспортов. Первой документ получила местная жительница Теута Беголи. «Я очень счастлива и одновременно удивлена, что я стала первым гражданином с паспортом нового государства», – сказала девушка. На церемонии вручения присутствовали также вице-премьеры Хайредин Кучи и Рам Манай, а также глава МВД Зенун Паязити.
Паспорт имеет обложку синего цвета, с нарисованным на ней золотистым цветом гербом Косово. Также золотистым цветом на ней написаны слова «Республика Косово» и «паспорт» на трех языках: албанском, сербском и английском. Граждане самопровозглашенной республики могли подавать прошение на получение новых загранпаспортов с 21 июля. Бланки документов печатались в Лейпциге.
Законом установлено, что административные органы обязаны выдать документ в течение семи дней с момента подачи заявки. МВД будет выдавать обычные, служебные и дипломатические паспорта. Срок действия документа составляет десять лет. До сих пор жители Косово пользовались так называемыми UNMIK-паспортами, выданными гражданской миссией ООН в крае (UNMIK). Ими можно будет пользоваться до окончания срока их действия.
Получившие паспорта жители Косово смогут путешествовать в страны, признавшие независимость Косово или заявившие о признании паспортов; среди последних, например, Черногория или Македония.
Власти Сербии уже заявили о непризнании документов, учрежденных косовскими албанскими властями. Предполагается, что с новыми паспортами жители Косово не смогут въехать в страны, не признавшие паспорта нового статуса края. Пока остается нерешенным вопрос, как они смогут передвигаться по Евросоюзу, поделенному по косовскому вопросу, или государствам зоны Шенгенского соглашения.
Власти Словакии заявили, что в случае, если шенгенская виза будет стоять в новом паспорте находящегося на словацкой территории страны жителя Косово, то его будут рассматривать как нелегала именно по причине нелегальности его паспорта.
Независимость Косово от Сербии албанские власти в Приштине в одностороннем порядке провозгласили 17 фев. 2008г., тогда же были приняты новые герб и флаг. Новый статус края до сих пор признали 43 страны-члена ООН из 192. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.
Правительство Сербии на заседании 24 июля 2008г. единогласно приняло решение о возвращении послов в страны Европейского Союза, которые признали одностороннее провозглашение независимости Косово и Метохии. По заявлению министра по вопросам окружающей среды и пространственного планирования Оливера Дулича, «речь идет о частичном пересмотре плана действий кабинет министров, что укрепит позиции Сербии и предоставит пространство для маневра в достижении двух основных приоритетов: дальнейшей борьбе за КиМ и интенсификацию евроинтеграционных процессов».
Кабинет министров Сербии на заседании большинством голосов принял решение вернуть 11 послов Сербии, отозванных ранее из стран ЕС, признавших независимое Косово, сообщил на пресс-конференции в Белграде министр по делам защиты экологии Оливер Дулич.Предложение о возврате дипломатических представителей внес в правительство МИД. Говоря о причинах появления этого предложения, глава ведомства Вук Еремич ранее сообщил, что возврат послов будет произведен исключительно в страны Евросоюза с целью «повышения дипломатических усилий» в рамках плана страны получить до конца тек.г. официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.
Глава МИД отметил тогда, что если правительство примет такое решение, послы будут «сразу же возвращены». Отвечая на вопрос, почему Белград не хочет вернуть отозванных послов в другие страны, министр сказал, что «никогда не пошлет сигнал, который может быть истолкован как отказ от борьбы за территориальную целостность и суверенитет государства».
Послы Сербии вернутся в Австрию, Болгарию, Чехию, Финляндию, Францию, Голландию, Италию, Венгрию, Германию, Словению и Швецию. В остальных странах ЕС, признавших независимое Косово, у Сербии либо нет дипломатических представительств (Эстония, Ирландия, Латвия, Литва и Люксембург), либо не назначены послы (Бельгия, Дания, Польша и Великобритания).
Независимость Косово от Сербии албанские власти в Приштине в одностороннем порядке провозгласили 17 фев. 2008г. Новый статус края до сих пор признали 43 страны-члена ООН из 192. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.
Из стран, признавших суверенный статус Косово, Белград в рамках специального плана противодействий косовским властям начал отзывать послов. Пока не возвращаются дипломатические представители Сербии в США, Австралию, Хорватию, Японию, Канаду, Норвегию, Южную Корею, Швейцарию и Турцию.
Граждане самопровозглашенной республики Косово с понедельника могут подать прошение на получение новых загранпаспортов, сообщило косовское МВД. «Подготовительные меры завершены. Образцы документов для запросов переданы во все общины. Из Лейпцига, где были напечатаны бланки паспортов, получено достаточное их количество», – говорится в сообщении.Административные органы обязаны выдать документ в течение семи дней с момента подачи заявки. МВД будет выдавать обычные, служебные и дипломатические паспорта. Срок действия документа составляет десять лет. До сих пор граждане Косово пользовались так называемыми UNMIK-паспортами, выданными гражданской миссией ООН в крае (UNMIK). Ими можно будет пользоваться до окончания срока действия.
Получившие паспорта граждане смогут путешествовать в страны, признавшие независимость Косово или заявившие о признании паспортов, как, например, Черногория или Македония.
Власти Сербии уже заявили о непризнании документов, учрежденных албанскими властями самопровозглашенной республики. Предполагается, что с новыми паспортами граждане Косово не смогут въехать в страны, не признавшие паспорта нового статуса края. Пока остается нерешенным вопрос, как они смогут передвигаться по Евросоюзу, поделенному по косовскому вопросу, или государствам зоны Шенгенского соглашения.
Власти Словакии заявили, что в случае, если шенгенская виза будет стоять в новом паспорте находящегося на территории страны гражданина Косово, то его будут рассматривать как нелегала именно по причине нелегальности его паспорта.
Независимость Косово от Сербии албанские власти в Приштине в одностороннем порядке провозгласили 17 фев. 2008г., тогда же были приняты новые герб и флаг. Новый статус края до сих пор признали 43 страны-члена ООН из 192. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.

Зачем уходить из ОБСЕ?
Андрей Загорский, Марк Энтин
© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2008
А.В. Загорский – к. и. н., ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем войны и мира Научно-координационного совета по междкнародным исследованиям МГИМО (У) МИД России. М.Л. Энтин – д. ю. н., профессор, директор Европейского учебного института при МГИМО (У) МИД России.
Резюме Для восстановления баланса и исправления перекосов в деятельности ОБСЕ достаточно активизировать мероприятия по приоритетным для России темам, в особенности таким, как противодействие новым вызовам и угрозам европейской безопасности.
В 1986 году некоторые представители американского политического истеблишмента ставили вопрос о выходе Соединенных Штатов из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – предшественника нынешней Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Их аргументы звучали просто и привлекательно для многих. Баланс хельсинкского процесса был нарушен. В 1975-м при подписании Заключительного акта совещания СССР добился признания нерушимости границ, а обещанная Москвой либерализация политического режима оказалась поверх-ностной и временной. Десять с лишним лет спустя многим уже казалось, что движение повернуло вспять.
На этом основании в Конгрессе США раздавались призывы к американскому президенту выйти из хельсинкского процесса. Прорабатывая данный вопрос, юристы Госдепартамента и Библиотеки Конгресса пришли к выводу, что технически это сделать несложно. Достаточно отозвать подпись президента под Заключительным актом, уведомив об этом все государства – участники совещания. Однако Комиссия (Конгресса и правительства) Соединенных Штатов по СБСЕ сочла подобный шаг опрометчивым и рекомендовала воздержаться от него. Среди доводов против выхода фигурировали, в частности, следующие.
Во-первых, покинув СБСЕ, США не аннулируют Заключительный акт и не остановят хельсинкский процесс, но добровольно откажутся от возможности влиять на его развитие и позволят Советскому Союзу занять в нем доминирующие позиции. Это обстоятельство вряд ли расстроило бы Москву, с самого начала стремившуюся к налаживанию общеевропейского процесса без участия Америки.
Во-вторых, отказ от участия в СБСЕ дал бы негативный сигнал союзникам Соединенных Штатов в Европе, а также нейтральным и неприсоединившимся странам, которые, скорее всего, интерпретировали бы данный шаг как ослабление интереса и внимания Вашингтона к европейским делам.
Наконец, в-третьих, выход США из хельсинкского процесса мог привести к тому, что вопрос о правах человека в СССР и Восточной Европе переместился бы на периферию отношений между Востоком и Западом. Но ведь именно этого американские критики СБСЕ и хотели избежать.
Комиссия предложила терпеливо и еще более энергично добиваться реализации целей Соединенных Штатов в рамках хельсинкского процесса. Официальный Вашингтон в конечном итоге последовал этим рекомендациям. Заметим, что уже к 1989-му в обсуждении правозащитной проблематики и политического плюрализма наметился принципиальный прорыв. В решениях Венской встречи представителей государств – участников СБСЕ (1989) практически полностью были сняты вопросы гуманитарного сотрудничества, споры по которым не затихали с момента подписания Заключительного акта.
Двадцать лет спустя Москва, похоже, поменялась ролями с Вашингтоном. Сегодня российские политики сетуют на дисбалансы в деятельности ОБСЕ: географический (работа организации сосредоточена в основном «к востоку от Вены» – в странах бывшей Югославии и бывшего СССР) и тематический (с точки зрения России, сложился неоправданный перекос в сторону защиты прав человека в ущерб другим направлениям – в сферах безопасности, экономики и экологии).
Москва недовольна автономностью ряда институтов ОБСЕ, и прежде всего Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), осуществляющего мониторинг выборов. Российское руководство открыто обвиняет независимые институты ОБСЕ в предвзятости, в применении двойных стандартов и, по существу, говорит о том, что они «приватизированы» государствами Запада, в первую очередь Соединенными Штатами. Теперь уже в России заявляют, что такая ОБСЕ нам не нужна, все громче звучат призывы выйти из этой организации.
Ситуация, конечно, не совсем зеркально отражает период 1980-х годов. Да и ОБСЕ сегодня существенно отличается от прежней организации. Теперь это уже не просто серия совещаний и встреч экспертов, а система постоянно действующих структур и институтов.
Впрочем, не вполне ясно, чего добивается Москва. Хочет ли она, чтобы ОБСЕ активизировала свою деятельность «к западу от Вены» или чтобы сократила ее масштабы на востоке континента? Чтобы организация больше занималась вопросами безопасности в Европе или сокращала работу в области прав человека? Можно предположить, что Россия желала бы, чтобы ОБСЕ меньше занималась правами человека и больше – вопросами безопасности, вызывающими озабоченность Кремля.
Однако, хотя ситуация 1986-го не повторяется буквально, выбор, перед которым стоит ныне Москва, во многом аналогичен тому, который более двадцати лет назад должен был сделать Вашингтон: уходить из ОБСЕ либо более настойчиво добиваться того, чтобы в ее деятельности принимались во внимание интересующие Россию проблемы. При этом важно учитывать не только те аспекты, которые в последние годы стали объектом острой критики со стороны Москвы, но и более широкие тенденции в развитии организации, которые часто остаются за рамками публичной дискуссии в России.
Речь идет, в частности, о постепенном сокращении масштабов деятельности ОБСЕ, а также о все более заметном прямом взаимодействии США и Европейского союза с расположенными «к востоку от Вены» государствами – участниками организации. На этом фоне вопрос о целесообразности выхода России из ОБСЕ выглядит не столь просто, как кажется на первый взгляд.
МАСШТАБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ СОКРАЩАЮТСЯ
Тезис о том, что работа ОБСЕ (главным образом в виде миссий и различных центров и бюро) сосредоточена исключительно на востоке континента, в целом справедлив, но он нуждается в существенном уточнении. Главным регионом «полевой» работы всегда была Юго-Восточная Европа – страны бывшей Югославии и Албания. Постсоветское пространство практически никогда не было зоной сколько-нибудь масштабного присутствия организации. На балканские миссии в нынешнем десятилетии уходила добрая половина бюджета ОБСЕ. На проекты в странах бывшего СССР – около 20 % (см. рис. 1). Аналогичное распределение характерно и с точки зрения численного состава миссий. В страны Юго-Восточной Европы направлялось от 79 до 81 % всего международного персонала, работавшего на местах.
При этом пик активности полевых миссий пришелся на конец прошлого и начало текущего десятилетий. Сейчас же можно констатировать абсолютное и относительное сокращение финансирования миссий ОБСЕ на местах: со 184 млн евро в 2000 году до 118 млн в 2007-м и с 87 % до 70 % от сводного бюджета ОБСЕ за тот же период. Соответственно снижается и численность международного персонала. Причем как всплеск, так и нынешнее уменьшение размаха «полевой» деятельности совпадали главным образом с развитием ситуации на Балканах. Масштабы присутствия в странах бывшего СССР менялись мало. Правда, в последнее время они тоже сокращаются.
Так, самая крупная миссия ОБСЕ была развернута в 1999 году в Косово. В 2000-м в нее входили 649 международных сотрудников. В 2007 году их насчитывалось уже только 283. Миссия в Хорватии достигла максимальной численности в 1998-м, когда в ней работали 280 человек. В 2007 году, накануне закрытия, их было всего 30. В Скопье в 2002-м в миссии ОБСЕ по предотвращению распространения конфликта было 300 сотрудников. В 2007 году их осталось 82.
Тенденция к сокращению масштабов деятельности на местах в последние годы усиливается и набирает темпы – прежде всего за счет свертывания присутствия на Балканах. С 2008-го закрылась миссия ОБСЕ в Хорватии. Вместо нее в Загребе создано небольшое бюро. Под вопросом остается продолжение работы самых крупных на сегодняшний день миссий – в Косово, а также в Боснии и Герцеговине. В обозримой перспективе их функции в значительной мере либо полностью планирует взять на себя Европейский союз. Сходит на нет активность ОБСЕ в Македонии.
С учетом этой тенденции можно уверенно прогнозировать дальнейшее сокращение масштабов деятельности ОБСЕ в государствах-участниках. Закрытие или даже просто сокращение числа сотрудников миссий в Косово, в Боснии и Герцеговине равнозначно уменьшению бюджета «полевой» деятельности ОБСЕ почти вдвое, а международного персонала – более чем в два раза. При этом сворачивание работы организации на Балканах не компенсируется сколько-нибудь существенным наращиванием присутствия в странах бывшего СССР (см. рис. 2).
Самая крупная миссия ОБСЕ на постсоветском пространстве располагается в Грузии. На нее приходится примерно треть всех расходов этой организации в странах бывшего СССР. Однако после прекращения мониторинга российско-грузинской границы именно данная миссия подверглась наиболее существенным сокращениям. За последние пять лет ее бюджет уменьшился вдвое, численность персонала снизилась – со 148 до 64 человек (включая лиц, прикомандированных отдельными государствами-участниками).
Объем деятельности ОБСЕ в других постсоветских республиках – в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии – весьма скромен. Самые крупные по бюджетам и численности персонала – центры ОБСЕ в Киргизии и Таджикистане. Но их совокупный бюджет сопоставим с бюджетом относительно небольшой миссии в Сербии. Численность же международного персонала ОБСЕ в Сербии в полтора раза больше, чем в Киргизии и Таджикистане, вместе взятых.
Тенденция постепенного снижения активности «к востоку от Вены» подкрепляется и заметным – особенно с 2007 года – уменьшением внебюджетных (либо сверхбюджетных) средств, выделяемых государствами-участниками для реализации различными миссиями тех или иных целевых проектов. Больше всех внебюджетных средств на нужды ОБСЕ урезали США – в два с лишним раза в 2007-м. Сделали они это не столько из-за разочарования в эффективности организации, сколько из-за необходимости изыскать дополнительные средства для реализации иных проектов в других частях света.
Приведенные данные необходимы не для того, чтобы дать оценку деятельности ОБСЕ. Вопрос не в том, нужно ли было в условиях хаоса, практически с нуля проводить регистрацию и составлять списки избирателей в Албании и готовить местный персонал для самостоятельного ведения этой работы. Не в том, эффективно ли финансировались проекты по сбору легкого и стрелкового оружия в Таджикистане, или насколько полезным оказались программы повышения квалификации киргизской полиции. И даже не в том, следует ли ОБСЕ оказать содействие в составлении списков избирателей, скажем, во Франции.
Не так уж важно, будем ли мы позитивно либо негативно оценивать работу ОБСЕ «к востоку от Вены». Главное – пик ее активности позади. Масштаб деятельности организации, прежде всего на Балканах, неуклонно снижается. Каким-либо оживлением работы в странах бывшего СССР указанное снижение не компенсируется. Кстати, после закрытия миссии ОБСЕ по содействию в Чечне и отказа от мониторинга российских выборов в 2007-м эта организация не осуществляет практически никакой деятельности в Российской Федерации. Так что и здесь жаловаться на дискриминацию не приходится.
Если российская критика преследовала цель добиться сворачивания активности ОБСЕ «к востоку от Вены», то сегодня это происходит само собой. Если же задача состояла в том, чтобы расширить деятельность на Западе, то решается она иными способами.
НЕТ ОБСЕ – НЕТ ПРОБЛЕМЫ?
Неизменное присутствие в повестке дня ОБСЕ таких вопросов, как верховенство закона, формирование и развитие демократических институтов, соблюдение прав человека, проведение свободных и честных выборов (в Белоруссии, Узбекистане и ряде других стран), часто воспринимается как попытка проникнуть «в чужой монастырь со своим уставом». Это вызывает раздражение политического класса, рассчитывающего жить по своему уставу и впредь. Вплоть до порой нескрываемого желания выйти из организации, если она не предлагает взамен каких-либо ощутимых выгод. Неудивительно, что такие мысли посещают и российских политиков.
Опять-таки вопрос заключается не в том, насколько рационально это желание, а в том, является ли выход из ОБСЕ решением проблемы и сделает ли он жизнь российской политической элиты более комфортной.
Выход Москвы вряд ли приведет к развалу этой организации, в которой так или иначе заинтересованы практически все соседи России. Казахстан должен председательствовать в ней в 2010 году, и он интенсивно готовится к выполнению этой миссии. Даже для Белоруссии и Узбекистана, оказавшихся в политической изоляции на Западе, присутствие в ОБСЕ, несмотря на все издержки, остается важным символом вовлеченности в общеевропейский процесс. Впрочем, издержки не столь уж велики и в любом случае контролируемы, поскольку уровень, масштаб и качество взаимодействия с организацией и ее институтами (характер миссий, их численность, характер осуществляемых проектов и т. д.) определяются прежде всего самими государствами-участниками.
Отношение к ОБСЕ может измениться разве что со стороны Тбилиси, где она сегодня воспринимается не иначе как инструмент российской политики. Если Россия, выйдя из этой организации, перестанет влиять на принятие решений о деятельности миссии ОБСЕ в Грузии, официальный Тбилиси будет только приветствовать такое развитие событий.
Так что даже в случае выхода России из ОБСЕ та никуда не денется и будет продолжать свою традиционную деятельность, хотя, возможно, в более скромных масштабах, чем в настоящее время. При этом Москва уже не будет участвовать в определении политики этой организации и окончательно утратит рычаги влияния на взаимодействие ОБСЕ с соседними странами. Не способствуя существенному сокращению диапазона деятельности «к востоку от Вены», в том числе в гуманитарной сфере, Россия вряд ли добьется активизации ОБСЕ на западном направлении (если мы этого, конечно, хотим). Москва утратит даже возможность выступать с критикой в адрес организации и требовать проведения ее более глубокой реформы, тогда как ОБСЕ сохранится и, наверно, еще в большей степени, чем сейчас, станет инструментом продвижения политического и иного ноу-хау по линии Запад – Восток.
Принцип «нет ОБСЕ – нет проблемы» на практике не работает. Гуманитарная тематика является сегодня составной частью повестки дня многих международных организаций, в том числе в их сотрудничестве с Россией и странами, образовавшимися на постсоветском пространстве. В случае же ослабления ОБСЕ и существенного сворачивания ее деятельности в постсоветских республиках, скорее всего, просто ускорится формирование других механизмов западного политического влияния в рамках прямого сотрудничества ЕС и США с новыми независимыми государствами. Ныне эти механизмы находятся в рудиментарном состоянии, но их становление скажется на отношениях соответствующих стран с Россией.
Все государства – участники ОБСЕ, за исключением центральноазиатских, являются членами Совета Европы, в центре деятельности которого находятся именно вопросы укрепления демократических институтов и защиты прав человека. Стандарты Совета Европы в этой сфере не ниже, а в чем-то и выше требований ОБСЕ. Совет Европы, без сомнения, будет готов взять на себя и функции по наблюдению за выборами, которые в настоящее время осуществляются главным образом ОБСЕ. Совет Европы, очевидно, примет стандарты и технологию не любимого Москвой БДИПЧ, а возможно, и просто возьмет эту организацию под свое крыло.
В последние годы активизируется и приобретает более определенные контуры политика Европейского союза в отношении соседей России. Страны Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия, Украина) и Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) являются сегодня объектами «Европейской политики соседства», в рамках которой они сами выбирают темпы и направления более тесной интеграции с Евросоюзом, не получая перспективы присоединения к нему. В 2007-м ЕС принял стратегию и в отношении государств Центральной Азии, предлагая им выстраивать механизмы прямого политического взаимодействия. Все страны региона, включая Узбекистан, не преминули воспользоваться такой возможностью.
Вопросы верховенства закона, демократических институтов, свободных выборов и прав человека – одно из приоритетных направлений политического диалога Европейского союза с восточными соседями и со странами Центральной Азии. В повестке дня сотрудничества Брюсселя с государствами Центральной Азии значатся и такие традиционные для ОБСЕ вопросы, как реформирование и переподготовка сотрудников правоохранительных органов, современные методы и технологии пограничного контроля, противодействие наркоторговле, организованным преступным группировкам, коррупции, террористической и экстремистской деятельности.
Иными словами, Евросоюз уже сейчас постепенно вступает на поле ОБСЕ во взаимодействии со всеми постсоветскими странами, не исключая России. В отношениях с Москвой Брюссель стремится также институционализировать диалог и сотрудничество по проблемам прав человека и верховенства закона. Соответствующая запись включена в мандат Европейской комиссии на заключение нового широкоформатного соглашения с Россией и рискует стать одной из непростых тем на только что начавшихся переговорах.
Конечно, справедливо замечание о том, что эта деятельность ЕС пока плохо оформлена и малоэффективна. До сих пор Брюссель, финансируя около 70 % расходов на работу ОБСЕ в постсоветских государствах, предпочитал действовать не самостоятельно, а через эту организацию. Но и в Европейском союзе все громче звучат голоса тех, кто считает, что пора взять на себя решение задач, с которыми, судя по всему, ОБСЕ не справляется. Подкрепление же предлагаемого Евросоюзом стандарта «надлежащего управления» выгодами экономического сотрудничества (ЕС – главный торговый партнер практически для всех стран СНГ) и финансирования проектов в самых разных областях способно сделать Европейский союз вполне влиятельным фактором развития в регионе. Ведь ОБСЕ все последние годы не хватало именно самостоятельного экономического веса для того, чтобы стимулировать заинтересованность государств-участников в сотрудничестве.
Эту картину следует дополнить и тем, что вопросы реформы сектора безопасности и обеспечения демократического контроля над ним являются одним из элементов и условий взаимодействия НАТО с новыми независимыми государствами. Значение этого аспекта сотрудничества не стоит преувеличивать, поскольку интенсивность участия постсоветских государств в натовской программе «Партнерство ради мира» очень разная. Но данная тема неизбежно выходит на первый план для стран, которые ищут сближения с альянсом и тем более стремятся в него вступить.
Поэтому уход России и даже развал ОБСЕ, по сути, не снимает ни одну из проблем, от которых хотелось бы избавиться Москве. Он не снимает их ни в том, что касается деятельности ОБСЕ и других европейских и евро-атлантических структур на постсоветском пространстве, ни в отношениях самой России с этими организациями. Трансфер западного политического ноу-хау на постсоветский Восток продолжится. Масштабы же и характер такой деятельности в отношениях между западными странами и соседями России в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии будут определяться в данном случае без участия Москвы. При этом уменьшатся возможности России добиваться того, чтобы организации, принимающие участие в этом процессе, проявляли бЧльшую активность «к западу от Вены».
Результат такого решения может быть только один: выйдя из ОБСЕ, Россия самоустранится из названных процессов и утратит последние возможности влиять на них.
КАК СФОКУСИРОВАТЬ ОБСЕ НА РОССИЙСКОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ?
Во время визита в Германию 5 июня этого года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил провести общеевропейскую встречу на высшем уровне и подготовить новый «пакт о европейской безопасности». Идея поиска нового консенсуса участников общеевропейского процесса витала в воздухе на протяжении по-следнего года. Ее продвижение, безусловно, важно, но оно не должно отодвинуть на задний план решение ряда практических вопросов, от которых зависит дальнейшее функционирование ОБСЕ.
Программа глубокого реформирования этой организации, с которой до последнего времени выступала Россия, была сосредоточена на проведении ряда институциональных, юридических и процедурных преобразований.
Российская Федерация настаивала на нижеследующем.
Во-первых, на осуществлении институциональной реформы ОБСЕ, в результате которой ее главные структуры, действующие автономно на основе собственных мандатов (БДИПЧ, Представитель по свободе СМИ, а также достаточно самостоятельные в своей работе полевые миссии) были бы поставлены под более жесткий контроль со стороны работающего в Вене Постоянного совета ОБСЕ. Решения в нем принимаются на основе консенсуса, и все государства-участники обладают правом вето.
Такое нововведение предполагало бы необходимость единогласного утверждения основных решений, сегодня самостоятельно принимаемых отдельными институтами организации. Речь идет, в частности, и о фактическом запрете миссиям ОБСЕ по наблюдению за выборами обнародовать какие-либо оценки до обсуждения в Постоянном совете.
Во-вторых, на усилении политического руководства и контроля со стороны Постоянного совета над деятельностью миссий, имея в виду в том числе проверку выделения им внебюджетных средств на реализацию конкретных проектов и расходования этих средств (включая практику прикомандирования сотрудников миссий государствами-участниками). Речь идет о постепенном отказе от развертывания миссий в отдельных странах в пользу создания «тематических» миссий, действующих во всех государствах-участниках. Активность «тематических» миссий сосредоточивалась бы на совместном противодействии новым вызовам безопасности (террористическая деятельность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми и пр.).
В-третьих, на упорядочении деятельности и внутренних процедур управления организацией, зачастую формировавшихся спонтанно на основе решений Совета министров иностранных дел и Постоянного совета. С этой целью предлагается, в частности, наделить ОБСЕ правосубъектностью, принять Устав организации (проект документа распространен Российской Федерацией летом 2007 года), унифицировать стандартные процедуры управления различными операциями ОБСЕ и ее институтами. Соответствующие функции должны быть сосредоточены в Секретариате ОБСЕ в Вене. С этой целью необходимо провести реорганизацию Секретариата, укрепить его, как и полномочия генерального секретаря, одновременно сохранив их подотчетность Постоянному совету. Предлагается также изменить кадровую политику и увеличить представительство стран, расположенных «к востоку от Вены», в центральных структурах, основных институтах и миссиях. Следовало бы пересмотреть шкалу взносов в бюджет ОБСЕ и привести ее в соответствие с основными показателями платежеспособности государств-участников, что предполагало бы, в частности, сокращение взноса России.
За последние годы в организации сформировалась широкая коалиция сторонников ее реструктуризации и совершенствования управления в интересах повышения эффективности деятельности ОБСЕ. Обсуждение этих вопросов принесло плоды в виде существенных, хотя и недостаточных перемен.
Однако для многих государств неприемлемы требования Москвы, которая фактически предлагает надеть на автономные институты ОБСЕ жесткий «корсет» политического консенсуса, что поставит ее дееспособность в зависимость от успеха или неуспеха политического торга между Россией и ее партнерами по ОБСЕ. Это отбросило бы организацию в не самый успешный период ее развития – в 80-е годы прошлого века.
Такое направление реформирования ОБСЕ представляется нам и малоперспективным, и непродуктивным одновременно. Более разумно было бы обратить внимание на то, каким образом имеющиеся, по нашему мнению, на сегодняшний день недостатки могут быть обращены в преимущества.
Повседневная деятельность миссий и институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, осуществляемая независимо от хода политических переговоров, открывает немало возможностей для реализации проектов, представляющих интерес для Российской Федерации. Для восстановления баланса и исправления перекосов в деятельности организации достаточно активизировать проведение мероприятий по приоритетным для России темам, в частности и в особенности таким, как противодействие новым вызовам и угрозам европейской безопасности. Подобным мероприятиям необходимо придать систематический характер и ориентировать их на подготовку конкретных практических выводов и рекомендаций, которые затем могут быть положены в основу решений Постоянного совета и Совета министров ОБСЕ.
Для организации такой работы с привлечением всех заинтересованных государств-участников сегодня не требуется (во всяком случае, не всегда) достижение предварительного консенсуса. Опора на Секретариат и его подразделения позволит осуществлять эту работу на основе внебюджетного финансирования. Если в России сформировалось понимание необходимости усилить те или иные аспекты деятельности ОБСЕ, то для этого достаточно выделить необходимые ресурсы и прикомандировать своих сотрудников. При этом можно быть достаточно уверенным в том, что инициативы Москвы встретят позитивный отклик, а также вызовут готовность присоединиться к финансированию у многих государств-участников.
Выправить либо изменить баланс деятельности ОБСЕ можно, не особенно настаивая на свертывании того или иного направления ее работы: она сокращается в последнее время сама собой. Этой цели следует добиваться, инициируя такую деятельность ОБСЕ, которая, с точки зрения Кремля, больше отвечает его интересам и в большей степени отражает его представления о целях организации.
Собственно говоря, по подобному пути год назад пошел Казахстан, отстаивая свое право на председательство в этой организации. Астана предложила программы, направленные на содействие развитию других государств Центральной Азии, а также выдвинула инициативу взять под эгиду ОБСЕ проекты оказания содействия Афганистану в борьбе с наркотрафиком.
Москва сможет подправить баланс в деятельности ОБСЕ ровно настолько, насколько она готова финансировать необходимую для этого работу. Но нужна политическая воля. Если же не очень хочется, то, как говорится, не очень и получится.
Рис. 1. Расходы на деятельность в Юго-Восточной Европе и бывшем СССР, % от сводного бюджета ОБСЕ
Рис. 2. Бюджет миссий ОБСЕ в Юго-Восточной Европе и бывшем СССР, млн евро
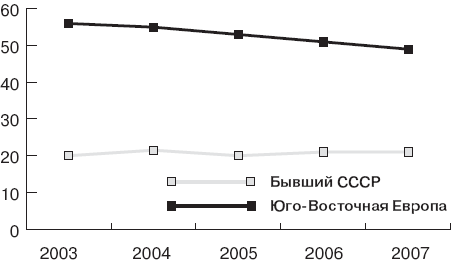
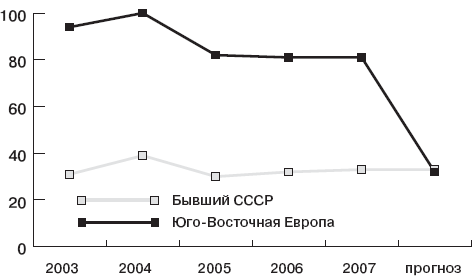
Американским послом в самопровозглашенном государстве Косово станет спецпредставитель США в Приштине Тина Кайданов (Tina Kaidanow), сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление государственного секретаря США Кондолизы Райс, сделанное в пятницу на совместной пресс-конференции с косовским лидером Фатмиром Сейдиу и главой правительства края Хашимом Тачи.США были одними из первых, кто признал независимость сербского края Косово, провозглашенную в одностороннем порядке пять месяцев назад, 17 фев. 2008г. «Более 40 стран признали Косово, в их числе – две трети Евросоюза и НАТО, и большинство стран-членов Совета безопасности ООН», – заявила Райс. «США продолжат содействовать Косово в строительстве мультиэтнического правительства и демократических институтов», – добавила она.
Независимость Косово от Сербии албанские власти в Приштине провозгласили 17 фев. 2008г. в одностороннем порядке. Сербия и Россия отказываются признавать независимость Косово, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и грубо нарушает нормы международного права.
Франция выступает за скорейшее предоставление Сербии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил в среду глава французского МИД Бернар Кушнер по итогам встречи с сербским коллегой Вуком Еремичем. «Это мое самое большое желание», – заявил Кушнер, говоря о предоставлении Сербии статуса кандидата – последней стадии перед началом переговоров о вступлении в ЕС.Он приветствовал «желание Сербии стать членом Евросоюза», в то же время признав наличие «серьезных разногласий» с этой страной по вопросу независимости Косово. «Сербия никогда не признает этот односторонний акт (объявление независимости Косово), и новое правительство Сербии тоже никогда не сделает этого. Косово является частью Сербии. Это источник разногласий», – заявил Вук Еремич. Он отметил, что Сербия настаивает «на перспективе вступления в ЕС для всех западных Балкан».
Евросоюз подписал 29 апреля договор о сотрудничестве с Сербией, который должен подготовить эту страну к членству в ЕС. Жесткая позиция Нидерландов и Бельгии привела к тому, что страны-члены Евросоюза выдвинули условие, что выполнение этого договора начнется только после того, как Ратко Младич будет передан МТБЮ.
Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что рассмотрит заявку Косово на членство в этой организации «в должном порядке», фактически признав независимость края, сообщает агентство Рейтер. «Было определено, что Косово отделилось от Сербии как новое независимое государство, а Сербия является государством-преемником», – говорится в заявлении МВФ.Правом на членство в ВБ и МВФ обладают только независимые государства. Сербский край Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза провозгласил в одностороннем порядке независимость 17 фев.
Пока независимость сербского края Косово от Белграда, провозглашенную в одностороннем порядке косовским парламентом 17 фев., признали лишь 43 из 192 государств-членов ООН. Москва поддерживает позицию Белграда, который считает отторжение части своей территории нарушением устава ООН и действующей резолюции Совбеза 1244, подтверждающей территориальную целостность Сербии.
Чешское правительство подписало с США соглашение о размещении радарной установки на территории Чешской республики. Этим оно перенацелило страну на лишенный логики геополитический эксперимент, который не основывается ни на нынешнем международном положении республики, ни на современной чешской истории. Соглашение подписано правительством Мирека Тополанека, не располагающим большинством в парламенте и продавливающим через него необходимые законы лишь при помощи голосов 2-3 депутатов оппозиции. Чешские СМИ месяцами ведут подсчеты, во сколько млн. это обходится правящей коалиции. Соглашение подлежит ратификации в чешском парламенте, однако входящая в правящую коалицию Партия Зеленых выступала и, теоретически, продолжает выступать против размещения радара. Как минимум, отдельные депутаты от Партии Зеленых не будут голосовать в парламенте за ратификацию соглашения. И в этом случае правящее меньшинство и дальше «съежится». Иржи Пароубек, председатель самой крупной оппозиционной партии – Чешской социал-демократической – уже заявил, что в случае победы на выборах его партия соглашение соблюдать не будет. Если соглашение о размещении радара не одобрит чешский парламент, его торжественное подписание превратится в комедию, достойную бравого солдата Швейка. Против размещения радара выступает 70% населения Чехии. На радар в Чехии должна быть завязана противоракетная база в Польше. Однако польское правительство тянет с подписанием соглашения и, возможно, вообще его не подпишет.К американским базам в Чехии и Польше как минимум прохладно относятся ведущие страны Европейского Союза. Вопреки этому США подписали соглашение с Чехией. Этим они ясно показали, что для них важнее «смотреть» аж до Урала, чем перехватывать иранские ракеты, которые расстояние до Польши и так бы не пролетели. Чешское правительство не способно в силу своего политического соглашательства осуществить обещанную в ходе выборной компании глубокую экономическую реформу, при этом американский радар в Чехии должен стоять. Это показывает, как заинтересованы США в радаре, и какое давление они оказали на чешское правительство.
Соглашением о радаре чешское правительство отбросило проверенную всем ХХ веком стратегию чешской внешней политики. Эта стратегия заключалась в том, что Чехия являлась частью Запада, однако стремилась иметь прочные или даже привилегированные отношения с Востоком. В 1922г. Чехия первой в Центральной Европе де-факто признала Советский Союз, в 1934г. признала его де-юре, а в 1935г. заключила с ним союзнический договор, который дополнял союзнический договор с Францией. Между 1 и 2 мировой войнами Чехословакия была ключевым государством Малого договора, куда входили еще и Югославия и Румыния. Тем не менее на Мюнхенской конференции в 1938г. западные державы – Франция и Великобритания – принесли Чехословакию в жертву Германии. Президент в изгнании Эдвард Бенеш, находясь в Лондоне в годы войны, убеждал западных политиков в необходимости союза с Советским Союзом. Он же в 1943г. первым заключил договор о сотрудничестве новой Чехословакии с Советским Союзом. С нацистами на восточном фронте воевала чехословацкая армия. С помощью такой стратегии Бенеш осуществил намеченные им основные цели. После 2 мировой войны обновленная Чехословакия, а значит, и нынешняя Чехия вернула себе изначальные предвоенные границы. Словакия также получила обратно предвоенные границы, слегка даже расширив их за счет Венгрии. В отличие от внешней политики Чехословакии, для которой характерно равноудаление от Востока и Запада, Польша между войнами и после войны избрала политику союза с отдаленными западными державами, которые стране в жизненно важных проблемах не помогали. Архитектором внешней политики Чехословакии был Эдвард Бенеш. Интересно, что в 2004г. чешский парламент принял закон о заслугах Эдварда Бенеша. И несмотря на закон, как раз сейчас Чешская республика нарушила его политическое завещание.
После распада Чехословакии в 1992г. Чешская республика находится в поиске своего места на европейской сцене. Надо сказать, что политик уровня Бенеша в чешской внешней политике так и не проявился. Вместо политики балансирования между Востоком и Западом Чешская республика, похоже, взяла на вооружение предвоенную польскую политику опоры на удаленного союзника. Этим удаленным союзником должны быть Соединенные Штаты. Чехия – член Европейского Союза, но полные скепсиса голоса в адрес Европы регулярно звучат с высоких государственных трибун. И наоборот, Чехия проявляет активность в НАТО, которое является главным инструментом американского вмешательства в европейскую политику. Нынешняя польская нерешительность по отношению к американской противоракетной базе в Польше, возможно, даже выгодна Чехии, потому что дает возможность вытеснить Польшу с позиции второго наивернейшего союзника США в Европе после Великобритании. Является ли такая политика для Чехии геополитически перспективной, уже другой вопрос.
Похоже, что внешнеполитические подходы Бенеша унаследовала от Чехословакии Словакия. Являясь членом ЕС, страна также вступает и в еврозону. Перспектива вступления в НАТО вызвала в Словакии намного большие протесты, чем в Чехии. Словакия не признала Косово. Очередное правительство Словакии постоянно направляет в Москву более дружественные сигналы, чем Прага, а словацкие дипломаты занимают значительные международные позиции благодаря поддержке Москвы, ЕС и США. Конечно, если бы не произошло раздела Чехословакии, решение о радаре принималось бы в Праге, однако с высоты словацких гор радар «разглядел» бы в России больше, чем с чешской равнины.
Размещение американского радара в Чехии – это вызов российской внешней политике. Если Россия не сумеет дать достойный отпор, это станет очередным признаком вытеснения России из Европы. Как это отразится на для стабильности и безопасности Европы? Ответить на это, похоже, не могут европейские политики, неспособные такой политике противостоять. В нынешней ситуации Россия не может рассчитывать на активную поддержку Европы даже в тех вопросах, которые она считает серьезной угрозой своей безопасности. Самое большее, чего она может ждать, это пассивности главных европейских государств, приглядывающихся, чем все в итоге закончится. В европейской политике Россия должна рассчитывать только на себя и в соответствии с этим ответить на размещение американского радара в Чехии. Если российский ответ не будет достаточно серьезным, рано или поздно РФ может ожидать дальнейших шагов по вытеснению из Европы. Ян Чарногурский.
Кондолиза Райс простила Михаила Саакашвили за нарушения в ходе выборов, разгоны мирных демонстраций при помощи слезоточивого газа и резиновых дубинок и не хочет торопить его со строительством демократии. К тому же госпожа Райс сделает все, чтобы Грузия стала членом НАТО. Таков итог визита американского госсекретаря в грузинскую столицу.
- Мы гордимся дружбой с Грузией и с пониманием относимся к сложностям строительства демократии в вашей стране. Ведь построить ее за один день невозможно, - философски заметила госсекретарь. Напрямую о фальсификациях, допущенных во время выборов - и президентских, и парламентских, - Райс не говорила, равно как и не вспоминала события 7 ноября 2007 года, когда полиция разогнала митинги оппозиции при помощи дубинок и слезоточивого газа. В общем, все это, судя по словам Райс, она готова Саакашвили простить - лишь бы президент продолжал строить демократию и не отказывался от натовских планов.
Правда, реверанс в сторону оппозиции госсекретарь тоже сделала: встретилась с ее представителями. В этой компании каким-то образом оказалась бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, которая хотя и вышла из пропрезидентской партии, о себе как об оппозиционере еще ни разу не заявляла.
После встречи с оппозицией Кондолиза Райс направилась прямиком в авлабарскую резиденцию президента. Судя по улыбкам, которыми госсекретарь награждала Саакашвили во время брифинга, для него переговоры прошли более чем успешно. Райс полностью встала на сторону Саакашвили и в вопросе НАТО (заверив, что рано или поздно Грузия в альянс войдет, уж коли так этого хочет), и в вопросе "непризнанных республик" (когда призывала не Грузию, а Россию к "сдержанности и соблюдению международных соглашений"). Райс открытым текстом сообщила: ее "беспокоят факты насилия, которое Россия осуществляет в зонах конфликтов".
ЦИТАТЫ
Кондолиза Райс, госсекретарь США:
"Не хочу говорить о мотивах России, но могу сказать о действиях. Россия - член группы стран друзей Грузии при генсеке ООН, и она должна действовать в соответствии с международными нормами, внести свой вклад в урегулирование конфликтов. Мы гордимся дружбой с Грузией. Это молодая демократия, и здесь идет поиск путей ее проявления. Построить демократию за один день невозможно. Но главное - желание. Будущее Грузии - в составе НАТО. США поддерживают стремление Грузии вступить в военный блок".
Михаил Саакашвили, президент Грузии:
"Несколько дней назад воздушное пространство страны вновь было нарушено российскими самолетами, они летали очень близко от столицы Грузии. Россия такими действиями подтверждает, что не соблюдает юрисдикцию Грузии в конфликтных регионах. После Второй мировой войны и холодной войны подобные действия недопустимы. Нельзя повторять негативные примеры прошлого, это вызов для Европы. Россия открыто говорит, что это ее реакция на расширение НАТО, независимость Косово и открытую поддержку Грузией Вашингтона".
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























