Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

5 ФЕВРАЛЯ МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» В РАМКАХ XV СЪЕЗДА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Во вступительной части доклада М. Соколов рассказал, что за предыдущие четыре года работа транспортного комплекса России вне зависимости от складывающейся экономической ситуации носила устойчивый и поступательный характер. При активной поддержке депутатского корпуса «Единой России»Министерство в 2015 году реализовало мероприятия по развитию транспортного комплекса страны в объеме 905 млрд рублей. В прошедшем году объем инвестиций в основной капитал в транспорте составил, по предварительной оценке, 1,9% ВВП.
По словам Министра, воздушный транспорт развивался наиболее высокими темпами. В 2014 году было перевезено более 93 млн пассажиров, в 2015 году – более 92 млн. Программы субсидирования сделали региональные и местные перевозки доступными для широких слоев населения. Это маршруты с Дальнего Востока и Сибири в центральную часть России, а также из Калининграда, региональные маршруты на территории Северо-Западного, Приволжского, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Всего субсидируется 288 маршрутов. Авиаперевозки осуществляются в том числе между населенными пунктами, где отсутствует железнодорожное сообщение. В 2015 году из федерального бюджета в рамках программы было выделено более 9 млрд рублей, а количество перевезенных пассажиров за прошлый год превысило 1,5 млн человек.
Аэропорты по итогам прошлого года обслужили более 126 млн российских и иностранных граждан на внутренних и международных рейсах. Широкомасштабное строительство и реконструкции аэропортовых и аэродромных комплексов проводились в связи с проведением саммита АТЭС во Владивостоке, всемирной летней Универсиады в Казани, зимних Олимпийских игр в Сочи, встречей глав государств и правительств БРИКС, заседания Совета глав государств-членов ШОС.
Как сообщил М. Соколов, в последние годы целый ряд аэропортов и аэродромов строится и модернизируется по всей стране, в том числе и в отдаленных районах. Ключевыми мероприятиями по развитию инфраструктуры гражданской авиации стали реконструкция и развитие аэропортовых комплексов Московского авиаузла: открытие терминала во «Внуково», начало строительства новой ВПП в Домодедово. Сегодня перед Минтрансом России стоит очередная масштабная задача – обеспечить строительство и модернизацию аэропортов к проведению Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Впечатляющую динамику демонстрирует аэропорт Симферополь, который уже вошел в пятерку крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку: в прошлом году он принял более 5 млн пассажиров. В мае 2016 года в Симферополе начнется строительство нового терминала аэропорта, который позволит обслуживать более 7 млн пассажиров в год, конец строительства намечен на второй квартал 2018 года.
Министр отметил, что по решению Президента РФ идет качественное преобразование БАМа и Транссиба. В первую очередь ведется масштабная модернизация Восточного полигона, направленная на увеличение его пропускной мощности на 66 млн тонн в год. Уже завершены строительство Кузнецовского, ?реконструкция Кипарисовского тоннелей. В 2016 году в процессе реализации находятся 867 объектов строительства и реконструкции Восточного полигона.
Возобновились перевозки грузов через железнодорожный пограничный переход Хасан – Туманган на российско-северокорейской границе. Совместно с китайскими коллегами начато строительство трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян.
Для беспрепятственного прохождения грузов в сторону портов Азово-Черноморского бассейна полным ходом идет реконструкция Новороссийского и Краснодарского железнодорожных узлов, а также реконструкция железнодорожных линий от Волги до Дона. Реализуются программы по развитию железнодорожных подходов к портам на Балтике. Открыто рабочее движение по основному ходу железнодорожного пути между станциями Лосево и Каменногорск.
М. Соколов напомнил, что при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Адлере был построен один из самых современных в Европе железнодорожных вокзалов с пропускной способностью 15 тыс. чел. в час. Также он упомянул строительство уникальной совмещенной автомобильной и железной дороги между Адлером и горноклиматическим курортом «Альпика-Сервис».
В мае прошлого года в присутствии руководителей России и Китая состоялось подписание меморандума о формах сотрудничества и финансирования проекта ВСМ «Москва – Казань».
Масштабный проект реконструкции Малого кольца Московской железной дороги, по мнению Министра, позволит связать пригородные перевозки и городской общественный транспорт столицы в единую транспортную систему. Услугами дороги смогут воспользоваться не менее 250 млн пассажиров в год.
В своем докладе М. Соколов затронул и тему пригородных пассажирских перевозок. В целях обеспечения их доступности и снижения финансовой нагрузки на бюджеты субъектов был установлен льготный тариф для перевозчиков за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта (0,01). Кроме того, приняты изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие установление нулевой ставки НДС, что позволило снизить расходы пригородных пассажирских компаний на сумму около 8 млрд рублей. На компенсацию потерь в доходах ОАО «РЖД» от льготного тарифа в 2015 году из федерального бюджета было выделено около 34 млрд. рублей. В текущем году на эти цели запланировано порядка 37 млрд руб.
Министр проинформировал собравшихся, что за четыре года объем перевалки грузов в российских морских портах вырос почти на 20%, превысив в 2015 году отметку в 676 млн тонн (в 2012 – 567 млн). Это стало возможно благодаря росту мощностей морских портов, которые возросли за указанный период на 13% и к концу 2015 года составили более 943 млн тонн. Также глава Минтранса рассказал, что сейчас ведется работа по расширению мощностей транспортного узла Восточный – Находка в Приморье, комплексному развитию Мурманского транспортного узла, развитию портов Азово-Черноморского бассейна, а также портов на Балтике. Растет число проектов, где основным источником являются частные инвестиции. Яркими примерами государственно-частного партнерства являются создание в ЯНАО морского комплекса по перевалке нефти на западном побережье Обской губы и арктического порта Сабетта, а также создание под Санкт-Петербургом многофункционального комплекса «Бронка», где уже осуществляется поэтапный ввод объектов в эксплуатацию.
Ранее в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи были построены 7 современных морских пассажирских терминалов и грузовой порт в Имеретинской бухте, фактически был создан новый Сочинский пассажирский морской порт. Керченская паромная переправа за прошлый год обеспечила перевозку на паромах 4,8 млн пассажиров в обе стороны. При этом за 3 летних месяца перевезено почти 2,5 млн человек, что сопоставимо с результатами всего 2014 года.
Также М. Соколов сообщил о модернизации ледокольного флота. К настоящему моменту заложены кили на четырех современных дизель-электрических ледоколах – одном мощностью 25 МВт и трех по 16 МВт, а также на атомном ледоколе мощностью 60 МВт. В конце прошлого года государственный флаг России был поднят на двух дизель-электрических ледоколах мощностью 16 МВт – «Владивосток» и «Мурманск».
Объем перевозок грузов по Севморпути в 2015 году впервые в постсоветское время превысил рубеж в 5 млн тонн и вырос на 40 % по сравнению с 2012 годом. В 2015 году Правительством утвержден Комплексный проект развития Северного морского пути.
Министр подчеркнул, что за прошедшие четыре года доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, снизилась и составляет на данный момент менее 17%, доля сооружений, имеющих опасный уровень эксплуатации, снизилась до 1,2%. Проведена реконструкция Рыбинского гидроузла и гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала. Для устранения лимитирующих участков в текущем году завершается первый этап проектирования Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге и начинается проектирование второго этапа, начало строительства запланировано на 2017 год. Также в этом году будет начато проектирование Багаевского гидроузла на реке Дон.
В сфере дорожного хозяйства М. Соколов в первую очередь отметил уникальные мостовые сооружения, построенные к саммиту АТЭС: мост на остров Русский и мост через пролив Золотой Рог. В рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи было построено и реконструировано почти 400 км автодорог, движение по которым обеспечивают 22 новых тоннеля. На принципах государственно-частного партнерства реализованы проекты северного обхода г. Одинцово и участки новой автодороги М-11 Москва – Санкт-Петербург.
По словам главы ведомства, постоянно ведется строительство мостов, обходов городов, ?вводятся в эксплуатацию современные участки на федеральных трассах. Продолжается строительство центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) Санкт-Петербурга, начата реализация одного из крупнейших проектов федерального уровня – возведение Керченского моста. Начались строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области, масштабная реконструкция федеральной трассы «Скандинавия» (А-181) до границы с Финляндией.
Впервые за многие годы финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения производится в полном объеме в размере 100% от нормативов. Всего за период с 2012 года было построено и реконструировано более 2 тыс. км федеральных трасс. За этот же период было введено в эксплуатацию около 9 тыс. км дорог регионального и местного значения.
Министр особо отметил знаковый для отрасли проект – Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр в Республике Татарстан, который был введен в эксплуатацию в самом конце прошлого года. Он расположен в зоне прохождения международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» и на пересечении еще двух транспортных коридоров: «Север-Юг» и «Запад-Восток».
М. Соколов рассказал, что для решения задач эффективного мониторинга состояния транспортного комплекса страны и уровня его технологической безопасности была создана отраслевая государственная система мониторинга и управления транспортным комплексом (АСУ ТК), которая интегрирована со всеми важнейшими информационными и телематическими ресурсами как транспортной, так и других отраслей экономики. С 1 января 2015 года введена в промышленную эксплуатацию государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС». По оценкам экспертов потенциальный экономический эффект от ее использования превышает 0,5% ВВП страны.
В рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте была введена в эксплуатацию Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), в состав которой входят автоматизированные базы персональных данных о пассажирах. В ходе реализации этой программы количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности, возросло с 26% до 77%, а уровень профессиональной подготовки сотрудников подразделений транспортной безопасности увеличился с 16% до 62%.
Также Министр ответил на вопросы, которые наиболее остро проявляются в регионах в части строительства и содержания дорог.
Правительство Японии направило по дипломатическим каналам в Пекине новый протест КНДР в связи с планируемым в период с 8 по 25 февраля запуском ракеты, вызывающей опасения соседних стран, передало информационное агентство Киодо.
Со ссылкой на правительственные источники агентство сообщает, что Япония "решительно потребовала от Пхеньяна сдержанности".
Ранее правительство Японии также требовало от КНДР воздержаться от запуска ракеты со спутником, который рассматривается соседними странами как возможное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. С учетом развития ядерной программы КНДР, такие запуски запрещены Пхеньяну рядом резолюций Совета Безопасности ООН.
Для перехвата северокорейской ракеты или ее обломков при возникновении угрозы для Японии на архипелаге Сакисима будут размещены зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" (РАС-3). Кроме того, для перехвата ракеты в Японское и Восточно-Китайское моря направлены три японских военных корабля, оснащенные противоракетной системой "Иджис" (Aegis).
Иван Захарченко.
Алтайские мукомолы подняли вопрос о расширении внешних рынков сбыта
В конце февраля – начале марта в Белокурихе состоится Зимняя зерновая конференция. Ожидается приезд высокопоставленных чиновников Минсельхоза, в частности, заместителя министра сельского хозяйства. На конференции алтайские мукомолы также планируют поднять тему стимулирования правительством расширения внешних рынков сбыта.
В прошлом году, по предварительным данным Алтайкрайстата, индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах края составил 107,5%. В то же время алтайские крупянщики и мукомолы несколько снизили объемы производства. «АП» решила разобраться в причинах с помощью руководства Союза зернопереработчиков Алтая.
Росли вместе с долларом
Чтобы лучше понять настоящее, вернемся немного назад. Прошлый аграрный сезон 2014/15 года с точки зрения сбыта был для мукомолов удачным. Вместе с укреплением доллара по отношению к рублю российское зерно стало весьма конкурентным на мировом рынке. Трейдеры бросились скупать его в европейской части страны, чтобы продать за границу. Российский экспорт зерна в 2014 году бил рекорды: продали за рубеж более 31 млн тонн. Такого не было никогда.
Ажиотажный спрос вызвал вначале рост цен на все зерновые культуры, в том числе на пшеницу, а потом и на муку. Затем цену на сырье подняли алтайские мукомолы, так как у них появилась возможность продавать свою продукцию подороже. Чтобы выполнить текущие контракты по поставке муки, в декабре 2014 года трудились даже в новогодние праздники.
В текущем сезоне 2015/16 года ситуация сложилась похуже. С одной стороны, получили больший урожай и были лучше обеспечены сырьем, но цены на муку, ограниченные покупательским спросом и перепроизводством ее в России, практически оставались на прежнем уровне. При этом затраты мукомолов (зерно, электроэнергия, запчасти) подросли, что повлияло на прибыльность. Прошлым летом тонна пшеницы третьего класса снижалась до 9,5 тыс. руб., а уже осенью 2015-го поднималась до 12 тыс. руб.
– Нас никто не убеждает платить крестьянам за зерно больше. Если цена муки на российском рынке выросла, то мы, конкурируя между собой за сырье, здесь же поднимаем цену на зерно, – объясняет Валерий Гачман, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая.
В 2015 году часть перерабатывающих предприятий не только не снизили позапрошлогодний уровень, но даже превзошли его, другие существенно сократили выпуск продукции, а кое-кто даже свернул производство. В каждом конкретном случае причины разные, но общая негативная тенденция связана со снижением спроса на продукцию. В итоге в 2015 году в Алтайском крае произведено 1056 тыс. тонн муки и 308 тыс. тонн крупы, что составляет 86,7 и 95,6% соответственно от показателей 2014 года.
Стратегическая задача
По мнению президента Союза зернопереработчиков Алтая Виктора Фоминых, внутренний российский рынок муки уже полностью насыщен и даже стагнирует. Мукомольные мощности в стране загружены только на 45%, а в крае – на 65%. В прошлом году Россия продала за рубеж более 31 млн тонн зерна, при этом российские мукомолы реализовали за границу лишь 100 тыс. тонн муки, из них алтайские –30,3 тыс. тонн. И сегодня стратегическая задача – завоевание новых рынков сбыта.
– Алтайские производители зерна жестко привязаны к переработчикам как основным платежеспособным покупателям алтайского зерна, которые продвигают на рынки муку и крупы. И если мы не расширим объемы продаж за границу, то у аграриев не будет возможностей увеличить производство и тем самым укрепить своё финансовое положение, – считает Виктор Фоминых.
В правительстве начинают это понимать. Минсельхоз разработал закон о поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Сейчас он проходит обсуждение на местах.
Виктор Фоминых называет закон хорошим, но не имеющим механизма реализации, то есть из проекта нормативно-правового акта пока неясно, кто будет его непосредственно выполнять.
В сентябре прошлого года в Ростовской области президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития АПК, на котором помимо прочих поставил две задачи. Во-первых, создать долгосрочную стратегию развития зернового комплекса и, во-вторых, разработать программу поддержки экспорта. Во исполнение этих задач в конце декабря состоялись первые заседании межведомственных рабочих групп. Благодаря усилиям губернатора края Александра Карлина в ее состав вошли представители Союза зернопереработчиков Алтая.
На заседании группы Валерий Гачман сказал, что развитие сельского хозяйства Алтайского края приведет к росту производства зерна и продуктов его переработки. Для достижения этого необходимо расширение рынков сбыта, в особенности за пределами страны. И продукция должна вывозиться из Алтайского края в переработанном виде. Для этого требуется активизация деятельности торговых представительств РФ. Там нужны специалисты по продвижению на рынки российского продовольствия. Они должны снабдить российских бизнесменов информацией о спросе и правилах торговли на местных рынках. Везде в мире такие маркетинговые услуги оплачивает государство-экспортер.
Говорил представитель Алтая и об устранении административных барьеров. Сегодня согласно наложенным на КНДР международным санкциям все банки отказываются подписывать паспорт сделки по поставкам продовольствия в Северную Корею, ссылаясь на указ о запрещении косвенного финансирования ядерной программы КНДР. А КНДР покупает за рубежом около 200 тыс. тонн муки, что больше всего российского экспорта. В России, по мнению Валерия Гачмана, процедура оформления сертификатов происхождения товаров является самой продолжительной и затратной, а ценности не имеет никакой. Не развита инфраструктура контейнерных перевозок, например, в Алтайском крае только одна станция Барнаул имеет возможность работать с морскими контейнерами.
В-третьих, считают в Союзе зернопереработчиков Алтая, требуется заменить в гуманитарных поставках зерно на продукты его переработки. Проявив настойчивость, мы могли бы отправлять не пшеницу, а муку, загрузив работой отечественных переработчиков, как это делают другие государства-доноры. Только выполнение этого решения в разы увеличит российский экспорт муки.
Транспортные расходы
И традиционно важной проблемой для алтайских переработчиков являются затраты на транспортировку. Самая короткая дорога от нас до порта растянулась на 3800 км (Барнаул – Санкт-Петербург). Чтобы конкурировать с иностранными производителями муки, нужно снижать железнодорожный тариф.
Напомним, что с 1 декабря 2008 года алтайские производители платили 50% от железнодорожного тарифа, начиная с расстояния 1100 км. Благодаря этому на отгрузке муки и крупы производители экономили ежегодно более 500 млн руб., что позволяло алтайской муке и крупе сохранять конкурентоспособность на рынке. Но эта льгота была исключительной, поэтому губернатору и краевому профильному управлению приходилось ежегодно в правительстве доказывать ее обоснованность. С 2012 года эту льготу заменили на другую, постоянную, внеся изменения в прейскурант тарифов ОАО «РЖД»: коэффициент 0,3 от тарифа, но с 2000 километра. Это сделало перевозку более дорогой. Но губернатор продолжает подписывать письма в адрес главы правительства, Минэкономразвития и Минсельхоза с просьбой установить коэффициент 0,3 с первого километра при транспортировке на расстояние дальше 1100 км. Правительство всякий раз аргументированно отклоняет предложение. Главные оппоненты алтайских мукомолов – ОАО «РЖД» и Федеральная служба по тарифам, которая, конечно же, стоит на стороне железнодорожников.
Правительство РФ должно договориться с казахстанскими коллегами о снижении ж/д тарифов на перевозки через дружественную России страну. По информации Валерия Гачмана, затраты на транзит через Казахстан в 2,5 раза выше, чем приходится платить за такое же расстояние при поставках муки и крупы для внутреннего рынка Казахстана.
ВТО
Мешают развитию экспорта и условия, на которых Россия вошла во Всемирную торговую организацию. Переговоры по вступлению в ВТО шли за закрытыми дверями. Боясь плохо выглядеть в глазах будущих партнеров по ВТО, наши переговорщики даже отказывались рассматривать установление льготного тарифа для перевозок муки, так как это якобы противоречит правилам ВТО. В результате Россия обязана постепенно отменить пошлины на ввоз из других стран сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Российское правительство не имеет права субсидировать свой экспорт. А большинство стран, являющихся нашими конкурентами на международном рынке, это делают, продвигая свою продукцию за рубеж. Турция – главный конкурент России на международном рынке муки. Она ежегодно экспортирует ее 2,5 млн тонн. Покупая российское зерно дешевле, чем оно стоит внутри своей страны, турки продают муку, например, в Индонезию ниже себестоимости за счет субсидирования экспорта.
Желанный для алтайских мукомолов рынок сбыта – Китай. Но власти КНР агрессивно защищают страну от импорта, невзирая на требования ВТО.
Китай через сто лет: до и после Азиатской войны
В числе ключевых вопросов и вызовов, которые будут определять будущее Китая в XXI веке, часто называют следующие.
Сохранит ли китайская экономика высокую динамику или замедлится вплоть до стагнации?
Сможет ли Китай продемонстрировать способность к прорывным научно-технологическим инновациям или по-прежнему будет заниматься в основном копированием западных продуктов и технологий?
Каким будет политический строй страны? Сохранится ли однопартийная автократия или будет движение в сторону демократии? Какой модели будет отдано предпочтение — мягкого авторитаризма Сингапура или плюралистической демократии Тайваня?
Сумеет ли Китай справиться с надвигающимся демографическим кризисом, связанным со старением населения?
Все эти вопросы, разумеется, крайне важны. Однако, на наш взгляд, самая главная переменная в бесконечно сложном уравнении о будущем Китая — это национализм. В настоящей статье предпринята попытка дать ответ на вопрос, какую роль могут сыграть национализм и спровоцированные им конфликты в судьбе Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Будущее Китая в прошлом Европы?
Сегодня Китай во многом напоминает вильгельмианскую Германию: экономический колосс с растущими геополитическими амбициями, подкрепленными усиливающимся военным потенциалом.
Если верить бывшему премьер-министру Сингапура Ли Куан Ю, «XXI век будет ознаменован соревнованием за лидерство на Тихом океане… кто не имеет твердых позиций в Тихоокеанском бассейне не может оставаться в роли мирового лидера». Вместе с тем ключ к пониманию будущего Азии, а вместе с ней и Китая может дать история Европы. Как считают Барри Бузан и Оле Вэвер, Азия схожа с Европой XIX века [1]. По мнению Аарона Фридберга, прошлое Европы может стать будущим Азии, которая превратится в «главный театр конфликта великих держав» [2].
Политики также не избегают соблазна провести исторические параллели. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что усиливающиеся китайско-японские противоречия напоминают конкуренцию между Германией и Британией накануне Первой мировой войны.
В конце XIX века европейское равновесие было нарушено стремительным ростом германской мощи. Германская империя, превратившаяся в доминирующую державу на европейском континенте, требовала себе места под солнцем. Для этого должны были потесниться другие ведущие игроки — прежде всего Британская империя, а также Россия и Франция, к чему они, разумеется, не были готовы.
Сегодня Китай во многом напоминает вильгельмианскую Германию: экономический колосс с растущими геополитическими амбициями, подкрепленными усиливающимся военным потенциалом. Подобно Германии, занимавшей место в центре Европы, Китай находится в сердце Азии. Это дает ему геостратегическое преимущество осевой позиции, но в то же время делает уязвимым перед угрозой стратегического окружения и войн на нескольких фронтах (очень похоже на преследовавший Германию «кошмар коалиций»).
Как и Европа сто лет назад, Китай и большинство других стран Азии переживают подъем национализма. Отодвинув марксизм на второй или даже третий план, национализм фактически превратился в главную идеологическую опору Коммунистической партии Китая. Лидер КНР Си Цзиньпин провозгласил «великое возрождение китайской нации» в качестве основного лозунга своего правления. Два других ключевых азиатских государства, Индию и Японию, также возглавляют политики националистического толка — Нарендра Моди и Синдзо Абэ. Мало сомнений в том, что те, кто придет им на смену, тоже будут активно апеллировать к идее «великой нации» — китайской, японской, индийской, вьетнамской, корейской и т.д.
Вестфальские принципы переместились из Европы в Азию.
Интенсивный национализм во многом связан с тем, что в Азии (и Китай не исключение) процесс формирования модерновых наций-государств еще продолжается. На Востоке он начался гораздо позже, чем на Западе, и, возможно, сегодня азиаты находятся на той стадии, которую европейцы проходили в конце XIX — начале XX веков. В Европе это было время, когда государство классического вестфальского типа, базирующееся на принципах неограниченного суверенитета и агрессивного национализма, переживало пик своего развития. Эпоха безраздельного господства Вестфальского порядка закончилась на Западе после 1945 г. во многом вследствие двух чудовищных войн. Однако вестфальские принципы переместились из Европы в Азию. По мнению Муфии Алагаппы, «среди стран мира именно азиатские государства в наибольшей степени приближаются к вестфальскому государству» [3]. С этим мнением солидарен и Генри Киссинджер, считающий, что в Азии принципы суверенитета господствуют «даже в большей мере, чем на том континенте, откуда они происходят» [4].
Национализм уже стал главным фактором политического поведения Китая и останется таковым на протяжении как минимум нескольких десятилетий.
Вестфальская система суверенных наций в сочетании с феноменом массового национализма ведет к обострению международных конфликтов. Европа в полной мере испытала это на себе во время войн первой половины XX века, в которых участвовали почти все европейские государства. В Азии еще не было своей, «общеазиатской» войны, но уже есть конфликты, напрямую связанные со столкновением «суверенных национализмов». Отношения Китая и Японии были мирными на протяжении столетий, однако в конце XIX века, когда обе страны приступили к строительству модерновых государств, между ними начался антагонизм. Индия и Китай сосуществовали исключительно мирно на протяжении тысячелетий — до тех пор, пока не превратились из империй-цивилизаций в нации-государства вестфальского образца. Рифы в Южно-Китайском море были никому не нужны, но стали яблоком раздора после того, как прибрежные государства начали распространять на морские пространства вестфальский принцип территориальности, воспринимая их как свою священную «голубую почву».
Национализм уже стал главным фактором политического поведения Китая и останется таковым на протяжении как минимум нескольких десятилетий. Современный китайский национализм отличается от традиционного синоцентризма, который, во-первых, был распространен преимущественно среди элиты (крестьянскому большинству населения было до него мало дела) и, во-вторых, делал акцент скорее на культурное превосходство Поднебесной, чем на геополитическое доминирование. Нынешний китайский национализм больше похож на британский джингоизм или великодержавный шовинизм Российской империи вековой давности, которыми в равной мере были заражены и просвещенная элита, и полуграмотная чернь. Примечательно, что в Европе на рубеже XIX–XX веков одним из главных рассадников националистических настроений в народе служила недавно появившаяся массовая печать — ежедневные газеты и популярная литература. В современном Китае схожую роль играют интернет-медиа, например социальная сеть Weibo.
На пути к Азиатской войне
Когда Китай достигнет военного паритета с США и ликвидирует асимметричную зависимость от экономик стран Запада, его внешняя политика с большой долей вероятности приобретет более жесткий характер.
Подъем великоханьского национализма, усиление комплексной мощи Китая [5], встречный национализм азиатских соседей Поднебесной и нежелание нынешнего гегемона, США, идти на значимые компромиссы с Пекином — все это создает ситуацию «идеального шторма». Впрочем, буря вряд ли грянет сейчас или в ближайшем будущем. Китай будет вести себя достаточно осторожно, понимая, что он — пока более слабая сторона. Урок Японии, которая в декабре 1941 г. рискнула с заведомо более слабой позиции бросить вызов Соединенным Штатам, хорошо усвоен пекинскими стратегами.
Во-первых, вооруженные силы КНР все еще значительно отстают от ВС США. Китаю может потребоваться 15–20 лет, чтобы достигнуть военного паритета с американо-японским альянсом в Восточной Азии. Во-вторых, несмотря на все разговоры об экономической взаимозависимости, Китай зависит от Соединенных Штатов гораздо сильнее, чем они от него. Он критически зависит от США и их союзников, стран Европы и Японии, в качестве своих главных экспортных рынков и источника высоких технологий. Кроме того, поскольку Китай импортирует существенную долю жизненно необходимого сырья и транспортирует его преимущественно по морю, он чрезвычайно уязвим для морской блокады, к которой Вашингтон может прибегнуть в случае крупного конфликта с Пекином (1, 2).
Укрепление стратегического партнерства Китая с Россией и продвижение евразийской интеграции в виде «Экономического пояса Шелкового пути» призвано, помимо прочего, ослабить уязвимость от контролируемой флотом США морской торговли и создать собственный континентальный рынок. Этому же будет способствовать и переход от экспортно ориентированной схемы развития к модели, в которой главным двигателем выступает внутренний спрос. Однако все эти меры Пекина дадут нужный эффект далеко не сразу — для их полного осуществления потребуются многие годы.
Можно предположить, что решающий сдвиг в соотношении сил наступит не раньше 2030 г. Когда Китай достигнет военного паритета с США, по крайней мере в западной части Тихого океана, и ликвидирует асимметричную зависимость от экономик стран Запада, его внешняя политика с большой долей вероятности приобретет более жесткий характер. Если Соединенные Штаты и их союзники не пойдут на серьезные уступки, открытый конфликт может стать неизбежным. Такие уступки от американцев вряд ли последуют. В отличие от постмодерновых стран Европы, США сохраняют многие признаки классической вестфальской державы. Американский национализм не менее, а, может быть, даже более воинственен, чем китайский. Более того, согласно предостережению А. Фридберга, если относиться к Пекину как к врагу, то рано или поздно он таковым и станет [6].
По оценке авторитетного австралийского аналитика Хью Уайта, линии поведения Вашингтона и Пекина в отношении друг друга ведут к катастрофе. При сохранении имеющихся тенденций война рискует вспыхнуть в промежуток от 2030 до 2050 гг. Casus bellum может послужить любой из следующих конфликтов или их комбинация: тайваньская проблема, территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, китайско-индийский антагонизм, кризис на Корейском полуострове. Не исключено возникновение нового спора, о котором в 2015 г. еще ничего неизвестно.
При сохранении имеющихся тенденций война рискует вспыхнуть в промежуток от 2030 до 2050 гг.
К 2030-м годам Соединенным Штатам, по-видимому, удастся сформировать индо-тихоокеанский аналог НАТО, куда помимо США могут войти Япония, Индия, Филиппины, Вьетнам, Австралия. Война Китая с одним из участников этого альянса будет означать войну со всеми. Впрочем, Пекин сможет опереться на евразийский альянс с участием России, центральноазиатских государств и Пакистана, который обеспечит ему надежный тыл и ограниченную военную поддержку.
Выстрелит ли в Азии ядерное оружие?
К 2030-м годам Соединенным Штатам, по-видимому, удастся сформировать индо-тихоокеанский аналог НАТО.
Азиатская война станет первым в истории прямым столкновением великих ядерных держав. Обладание ядерным оружием и стратегическими носителями — традиционно достаточное основание для поддержания постоянного диалога на высшем уровне и мощный фактор сдерживания. Как отмечал Эвери Голдстейн, ситуация ядерного сдерживания существенно уменьшит угрозу от обретения Китаем статуса глобальной державы, так как его поведение станет более предсказуемым [7]. Однако пока США и Китай не находятся в подобной патовой ситуации. Стратегические ядерные силы КНР ограничены количественно и качественно препятствиями технологического характера, что делает невыгодным любое упоминание в политическом диалоге о собственном ядерном оружии. Пекин также полагается на действенность своего заявления о неприменении ядерного оружия первым против любого противника в качестве гарантии от ядерного удара.
Ситуация может коренным образом измениться к 2030 г. ввиду проводимой Китаем форсированной политики наращивания стратегических ядерных сил (СЯС). При всей несомненной привлекательности идеи «ядерного нуля» она вряд ли будет реализована даже в XXI веке. Однако к 2030 г. Россия и США, вероятнее всего, взаимно сократят число развернутых на стратегических носителях боеголовок до 500. К этому же времени их догонит, а возможно, и перегонит Китай, поскольку в процессе сокращения стратегических наступательных вооружений в духе ст. VI [8] Договора о нераспространении ядерного оружия он пока не был задействован. Свидетельством усиления политического значения СЯС по мере их технологического совершенствования может считаться «Белая книга по вопросам обороны» 2013 г. В документе уже нет упоминания о неприменении ядерного оружия первым. Подтверждается только часть о том, что Китай ни при каких обстоятельствах не будет угрожать ядерным оружием государствам, не обладающим им, а также входящим в зоны, свободные от ядерного оружия.
Уже сегодня Китай ставит на вооружение новые подводные лодки с баллистическими ракетами, мобильные наземные комплексы с ракетами, оснащенными разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). В недалеком будущем потенциал СЯС будет дополнен ракетами средней дальности, способными достигать Гуама и территорий всех американских союзников в Восточной Азии. Ведутся работы в области перспективных систем — гиперзвуковой ракеты, а также баллистической ракеты, способной атаковать морские цели. НИОКР сконцентрированы и вокруг повышения возможностей преодоления любой противоракетной обороны вероятного противника. В связи с этим ведутся разработки маневрирующих боевых частей, легких и тяжелых ложных целей для размещения на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и баллистических ракетах подводных лодок с РГЧ ИН, противоспутникового оружия кинетического и электронного воздействия. Китайский ВПК работает над повышением точности стратегических и нестратегических боевых систем, включая совершенствование астрокоррекции и систем управления.
Как считают эксперты издания «Jane’s Defence Weekly», наибольшую опасность для США представляют МБР с РГЧ ИН на мобильных платформах и новые китайские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), находящиеся в патруле. По их мнению, уже к 2020 г. китайские СЯС смогут серьезно подорвать американскую стратегию сдерживания и поставят крест на Японии и американских военных базах в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии как на «непотопляемых авианосцах». Численность китайской спутниковой группировки превысит 100 аппаратов, что существенно укрепит архитектуру C4ISR [9] и повысит эффективность всех вооруженных сил в целом.
В ситуации наращивания Китаем «ядерных мускулов» и нерешенности проблемы с КНДР на обладание ядерным оружием могут решиться Япония, Республика Корея и, возможно, Австралия, что значительно осложнит обстановку в регионе.
Понимая, что обмен термоядерными ударами приведет к взаимному уничтожению, воюющие стороны, скорее всего, воздержатся от применения своих ядерных арсеналов и других видов оружия массового уничтожения. Это будет напоминать ситуацию времен Второй мировой войны, когда ее участники не стали применять друг против друга химическое оружие.
Вместе с тем полностью сбрасывать со счетов ядерный фактор нельзя. К 2030 г. США существенно укрепят потенциал глобальной ПРО: часть национальной территории будет защищена противоракетами GBI на Аляске и в Калифорнии, а зарубежные военные объекты и частично территории союзников — морским компонентом на основе системы «Aegis», наземными комплексами противоракетной обороны театра военных действий THAAD и зенитно-ракетными комплексами «Patriot». В результате у американцев может возникнуть иллюзия безнаказанности: оборонительные системы формально будут способны перехватить некоторую часть китайского стратегического потенциала первого запуска, а средства поражения в рамках стратегии «Глобального удара» — исключить возможность его перезарядки для повторного применения. Однако сложно предсказать, что к 2030 г. окажется эффективнее в традиционном противостоянии «брони и снаряда» — высокотехнологичные противоракетные системы или «умные» средства ядерного нападения. Кроме того, в ситуации наращивания Китаем «ядерных мускулов» и нерешенности проблемы с КНДР на обладание ядерным оружием могут решиться Япония, Республика Корея и, возможно, Австралия, что значительно осложнит обстановку в регионе.
Ситуация ядерного плюрализма и неопределенной возможности победы в ядерном конфликте, вероятно, уменьшит масштаб конвенциональных боевых действий. Сознавая, что противник может пустить в ход свои арсеналы как последнее средство, например в случае массированного вторжения на его территорию или бомбардировок крупных городов, стороны ограничатся действиями в периферийных, малолюдных или вовсе безлюдных районах. Главные сражения развернутся на море (и в воздухе над ним), в горных районах, космосе и киберпространстве.
Модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществляется в соответствии с доктриной операций по ограничению доступа к определенным территориям (anti-access/area denial — A2/AD). Фактически это асимметричный ответ на американскую концепцию «воздушно-морской операции» (air-sea battle). Китай форсированными темпами создает «флот открытого моря», который видится Чжуннаньхаю (китайскому Кремлю) мощным политическим инструментом по защите собственных интересов в АТР. Деятельность ВМС НОАК объективно будет захватывать в сферу своего военного доминирования американских союзников. К 2020 г. Пекин планирует получить возможность активного противодействия военно-морским силам США в «средней зоне» — Охотском, Японском морях и на пространствах до Марианских и Каролинских островов. А вскоре после этого он собирается обрести потенциал противостояния американскому флоту в «дальней зоне» — до Гавайских островов. Бесспорно, такие действия инициируют ответ со стороны США и их союзников.
Азиатская война может занять всего несколько недель или месяцев. После интенсивных и крупномасштабных сражений на разбросанных участках индо-тихоокеанского театра военных действий она закончится либо решительной победой одной из сторон, либо компромиссной ничьей. Но с такой же вероятностью эта война может затянуться на годы, а может быть, и на десятилетия (новая Тридцатилетняя война). В этом случае конфликт, скорее всего, примет вялотекущий характер и будет вестись со слабой или средней интенсивностью, позволяя государствам избежать тотальной мобилизации экономических и человеческих ресурсов для фронта. Во время Азиатской войны будут продолжать функционировать дипломатия и международные институты, сохраняя коммуникации между противниками. Возможно, воюющие стороны даже продолжат торговать друг с другом, совершая сделки через нейтральные страны (Корея, Сингапур). Конфликт в Азии будет напоминать скорее войны XVIII века (например, войну за испанское наследство или Семилетнюю войну), чем Первую или Вторую мировые. Однако даже в таком лайт-варианте это будет именно война — с человеческими жертвами, материальным уроном, постоянным страхом и угрозой эскалации до ядерного порога.
После войны
Основной итог Азиатской войны будет заключаться не в том, кто одержит военную победу — Китай или его противники, либо дело завершится ничьей. Главное — станет ли война для Азии таким же трансформирующим экзистенциальным шоком, каким для Европы послужили Первая и Вторая мировые войны? Сможет ли она покончить с агрессивным «вестфальским» национализмом в Азии?
После горячей войны в Азии может установиться холодный мир. АТР будет по-прежнему расколот на враждебные блоки. Национализм сохранится и будет лишь ждать удобного момента, чтобы привести к новой войне.
Тем не менее есть надежда, что большая война в Азии дискредитирует национализм и заставит отказаться от конфронтационной логики. Так же как когда-то в послевоенной Европе, бывшие противники установят прочный мир и создадут Азиатское сообщество. Китай и Индия будут в нем лидерами подобно тому, как во второй половине XX века два бывших непримиримых противника — Германия и Франция — возглавили процесс европейской интеграции.
Каким будет «послевоенный» Китай в конце ХХI — начале XXII веков? С большей или меньшей долей уверенности можно предположить, что Поднебесная сохранится на политической карте мира — в отличие от многих нынешних государств, которые канут в небытие. Для Китая наконец начнется эпоха постмодерна. Однако это будет постмодерн с китайской спецификой, возможно, весьма далекий от его западных эталонов.
1. Buzan B., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 174.
2. Friedberg A.L. Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia // International Security. 1993/1994 (Winter). Vol. 18. № 3. P. 7.
3. Alagappa M. Constructing Security Order in Asia // Alagappa M. (ed.) Asian Security Order: Instrumental and Normative Features. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 87.
4. Kissinger H. On China. N.Y.: Penguin Press, 2011. P. 527.
5. Термином «комплексная мощь» в Китае обозначают всю совокупность геополитических рычагов и ресурсов государства, прежде всего военную силу, экономический и научно-технологический потенциал, политико-дипломатическое влияние.
6. Friedberg A. A Contest for Supremacy: China, America and the Struggle for Mastery in Asia. N.Y.: W.W. Norton & Company, 2012. P. 5.
7. Goldstein A. Great Expectation: Interpreting China’s Arrival // International Security. 1997/1998 (Winter). Vol. 22. № 3. P. 70.
8. «Каждый Участник настоящего Договора обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем» (ст. VI ДНЯО http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml).
9. Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) — сетевые системы управления, связи, сбора данных, наблюдения, разведки местности и передачи информации.
Артем Лукин
К.полит.н., доцент кафедры международных отношений Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ
Андрей Губин
К.полит.н., руководитель Азиатско-Тихоокеанского центра РИСИ, доц. кафедры международных отношений ДВФУ, эксперт РСМД
Приоритеты Пентагона и «быстрый глобальный удар»
Игорь ШУМЕЙКО
На днях Пентагон внёс, а президент Обама одобрил предложение увеличить расходы на новейшее оружие и усиление позиций американских военных в Европе. Стратегическое значение этого шага вполне характеризуется статьёй Мисси Райан, опубликованной 2 февраля в The Washington Post: «Пентагон раскрыл бюджетные приоритеты на 2017 год: сохранение военного преимущества над Россией и Китаем».
Как видится американским военным содержание понятия «военное преимущество над Россией и Китаем»?
Фундаментальные константы соотношения сил в мире были зафиксированы еще в 1970-е годы, и они выглядели так: существует примерный ядерный паритет СССР и США, достигнут уровень гарантированного взаимного уничтожения. Договор по ПРО 1972 года ограничил гонку вооружений, уменьшил риск третьей мировой войны и ввел важнейший принцип, безотказно проработавший 30 лет советско-американского противостояния: согласие сторон ограничить противоракетную оборону, исходящее из признания того, что открытость для ответного удара – самое надежное средство сдерживания.
И с тех пор практически всю историю США можно рассматривать как череду бесконечных усилий по обходу этих констант. «Звёздные войны» обернулись неудачей: чисто технологически США не смогли уйти в отрыв от СССР настолько, чтобы обойти страшное для них гарантированное взаимное уничтожение. Полный провал потерпела идея сооружения орбитальных платформ, вооруженных лазерами и кинетическими перехватчиками… Более удачным для американцев стало уничтожение во времена Горбачёва и Шеварднадзе советских ракет средней и меньшей дальности без пропорционального снижения потенциала США.
Последующие шаги – попытки обхода Договора по ПРО - завершились односторонним выходом США из Договора под предлогом угроз уже не от России, а от «стран-изгоев». Окончательно Договор по ПРО прекратил действие 12 июня 2002 г. Несколько ранее, в 2001 году, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Договора по ПРО, за которую проголосовали более 80 государств. Против были только США и Израиль.
Уже тогда определился стиль дипломатических и пропагандистских действий США на этом поприще: демонизация «стран-изгоев», многократное преувеличение угроз, от них исходящих. Вдумайтесь в эту перемену: если раньше многие десятилетия переговорщики СССР и США точно считали уровни потенциалов и получали цифры, взаимно признаваемые обеими сторонами, то в XXI веке США стали монопольно замерять уровень военных потенциалов Северной Кореи, Ирана, Ирака. И так же монопольно отмеривали уровень своего противостояния этим «угрозам». Для Ирака в 2003 году такой образ действий США обернулся интервенцией.
Интересна ситуация 2015 года. С приближением подписания соглашения по ядерной программе Ирана, то есть с исчезновением даже повода для продолжения работ по новым позиционным районам ПРО, американская дипломатия проделала два новых кульбита. Первое: было объявлено, что США продолжают работы по ПРО с целью предотвратить безработицу («занять соответствующий сектор промышленности»). Второе: была предпринята попытка обойти принцип гарантированного взаимного уничтожения и пренебречь правом на равную безопасность, выдвинув концепцию «быстрого глобального удара» — удара неядерным оружием по любой точке планеты.
В чем принципиальная новизна этого плана?
1. Ранее американские наборы крылатых ракет, управляемых бомб с неядерными зарядами не могли нанести существенного урона ядерным силам СССР/России. А в войнах после 1991 года (Югославия, Ирак) уже были «обкатаны» удары с огромных расстояний.
2. Ключевым словом в словосочетании «быстрый глобальный удар» является «быстрый». Это атака в течение одного часа.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин комментирует: «В США разрабатывается концепция «молниеносного глобального удара», которая позволяет добиться преимущества над ядерным государством, благодаря лучшим техническим характеристикам вооружения, в том числе большей его скорости. В частности, речь идет о летательных аппаратах (в том числе беспилотных) и ракетах, способных двигаться в 6-20 раз быстрее скорости звука».
К средствам «быстрого глобального удара» относятся межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования типа Trident II D5, имеющие высокоточные неядерные боевые блоки, а также испытываемые американцами гиперзвуковые крылатые ракеты и другие гиперзвуковые аппараты (Falcon HTV-2 и AHW). Конструкторы полагают, что подобные устройства могут вообще не комплектоваться боеголовкой, поскольку их скорость и энергия будут достаточны для уничтожения цели прямым попаданием. Гиперзвуковая крылатая ракета большой дальности способна достичь цели в 5–6 раз быстрее, чем дозвуковая ракета «Томогавк».
Ещё одно средство «быстрого глобального удара» - кинетическое оружие. Это тяжелые тугоплавкие стержни из вольфрама, которые будут сбрасываться на цель с огромной высоты. В ходе испытаний американцы пришли к выводу, что стержень длиной 6 метров и толщиной 30 см выйдет на цель со скоростью 3500 м/сек., а в точке удара произойдет высвобождение энергии, эквивалентной взрыву 12 тонн тротила!
Это означает, что в случае вооружённого конфликта со страной, имеющей ядерные силы сдерживания, первоочередным становится фактор времени. Всё будут решать скорость, внезапность. Ведь решиться нажать «ядерную кнопку» гораздо сложнее, чем ударить неядерными силами. Информационным обеспечением таких действий может послужить тезис «агрессором следует признать того, кто первым пустит в ход ядерное оружие!».
Возьмём аналогию из шахмат. Допустим, у вас есть средства произвести «размен ядерных фигур». Есть на это и время: зафиксировал пуск ядерных ракет противника - пускай свои. А теперь представьте, что вам грозит размен ваших ядерных фигур на неядерные пешки противника, при этом его ядерные фигуры сохраняются в целости. А пропаганда уже включила рёв сирен: «Кто первым тронет фигуру на шахматной доске – тот и агрессор!»
И ещё одна аналогия из шахмат. Как известно, чемпионы выходят на серьёзные матчи не в одиночку, с ними целые команды: тренеры, секунданты… А если в команде вдруг обнаруживает себя группа (колонна №5), ретранслирующая «план игры» того, кто играет на противоположной стороне доски? «Нельзя! Мы станем агрессорами!»
И в этой ситуации – всего час на раздумья! Вполне, кстати, шахматный интервал времени.
Именно час, шестьдесят минут оставляет для принятия решения «быстрый глобальный удар». Сие означает, что понятие порога ядерной войны размывается, что требуется изменение механизмов принятия решений…
Возможно, именно это имел в виду заместитель министра иностранных России Сергей Рябков, когда сказал: «Развитие разрабатываемой в США системы «глобального молниеносного удара» может привести к конфликту с апокалипсическими последствиями».
Украинские предприятия впервые начали получать квоты на крупные поставки муки в ЕС
3 февраля первый экспортер получил разрешение на беспошлинную поставку 5 тыс. тонн муки – Ассоциация мукомолов.
Украинские предприятия впервые начали получать квоты на крупные поставки муки в ЕС, в частности, 3 февраля первый экспортер получил разрешение на беспошлинную поставку 5 тыс. тонн муки, сообщил директор объединения «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.
«До этого года поставок больше 50-100-200 кг или 2-3 тонны не было вообще. Был определенный механизм работы, который в прошлом году отработали несколько предприятий и вчера получили первые квоты. Идет речь о получении одним конкретным предприятием квоты в 5 тыс. тонн», - сказал Рыбчинский.
По его словам, еще три предприятия ожидают получения квоты на общий объем поставок в 15-17 тыс. тонн. Рыбчинский отметил, что украинские мукомолы испытывают трудности с выходом на европейский рынок. Они вынуждены соперничать с экспортерами зерна при получении квоты, поскольку ЕС выделяет одну квоту на пшеницу и муку.
«Мы хотим выйти на то, чтобы украинские мукомолы имели квоту отдельно от экспортеров пшеницы, потому что у них возможность выбрать квоту больше, чем у нас», - сказал Рыбчинский.
В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, действующая квота на беспошлинный ввоз мягкой пшеницы и муки в ЕС для Украины составляет 950 тыс. тонн.
Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства муки по итогам 2015 года составил 2,02 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем в 2014 году. При этом, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2015 году поставила на внешние рынки 304 тыс. тонн пшеничной муки, что на 23% больше, чем в 2014 году.
«Мукомолы Украины» отмечают, что объем экспорта муки 2015 года является рекордным для нашей страны.
Наибольшим спросом украинская мука пользуется в Корейской Народно-Демократической Республике (Северной Корее). За шесть месяцев нынешнего маркетингового года (июль 2015 – июнь 2016) в КНДР отгружено более 94 тыс. тонн, или больше половины общего украинского экспорта муки за этот период. Крупными импортерами являются также Израиль, Палестина, Молдова и Индонезия.
Экстрадиция на тот свет
Россия будет экстрадировать северокорейских перебежчиков обратно в КНДР
Артур Громов
Россия собирается экстрадировать северокорейских нелегалов обратно в КНДР, где их практически гарантированно будут ожидать лагеря и расстрелы. Соответствующий договор, подписанный накануне ФМС России и МИД Северной Кореи, уже вызвал критику в ООН и правозащитных организациях. «Газета.Ru» попыталась разобраться, почему было принято данное соглашение и к чему оно приведет.
За последние несколько лет Россия и Северная Корея подписали немало договоров: о сотрудничестве при расследовании уголовных дел, об авиационном взаимодействии, о списании долга в $11 млрд (разумеется, северокорейского). Теперь в копилке России и КНДР есть еще одно соглашение — о взаимной выдаче «лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих» на территориях двух стран.
«Сегодня в Москве заместитель руководителя ФМС России Николай Смородин и заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук подписали межправительственное соглашение о передаче и приеме (реадмиссии) лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих на территории Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также исполнительный протокол о порядке его реализации», — говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне на сайте ФМС.
Срок передачи задержанных нелегальных мигрантов другой стороне не будет превышать 30 дней. В миграционном ведомстве подчеркнули, что заключение российско-корейских международных договоров о реадмиссии будет способствовать сокращению количества нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию и КНДР. «Всего на сегодняшний день Российской Федерацией заключено 18 соглашений о реадмиссии и накоплен богатый опыт по их реализации», — добавили в ФМС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что в качестве головного ведомства выступила именно Федеральная миграционная служба.
«Заключение соглашения будет способствовать совершенствованию договорно-правовой базы», — отметила она.
Ни для кого не секрет, что любого беглеца из Северной Кореи на родине ждет практически неминуемая гибель. В расследовании ООН от 2014 года говорится, что насильно возвращенные граждане КНДР на родине подвергаются казням, заключениям, пыткам и сексуальному насилию. Российские чиновники настаивают на том, что экстрадиция не будет касаться тех, кто может подвергнуться преследованию со стороны властей КНДР. Но в действительности перебежчику еще надо доказать, что по возвращении на родину его ждет смертная казнь: если соответствующих доказательств предоставлено не будет, власти России могут этого человека депортировать.
На прошлой неделе большой резонанс получила история 36-летнего гражданина КНДР, который бежал в Китай во время голода в 1997 году, был оттуда депортирован на родину, где был подвергнут пыткам и отправлен в трудовой лагерь, а в 2013 году все-таки сбежал в Россию. Наши правоохранители арестовали перебежчика, но затем были вынуждены предоставить ему временное убежище после того, как он объявил голодовку. В 2014 году ему уже отказывали в убежище, однако тогда он смог выиграть апелляцию и добиться продления своего пребывания в стране. В январе этого года ФМС отказала ему во временном убежище. «Свой отказ миграционная служба мотивировала тем, что беженец не доказал, что его в КНДР могут убить: не привел соответствующие статьи корейских законов», — написала в фейсбуке зампредседателя комитета помощи беженцам «Гражданское содействие» Елена Буртина.
Стоит добавить, что после многочисленных публикаций в СМИ ФМС все-таки пригласила этого мужчину подать повторное заявление о предоставлении временного убежища — этот статус позволит ему избежать высылки.
По данным «Гражданского содействия», с 2004 по 2014 год с ходатайствами о признании беженцами в ФМС России обратились 211 граждан КНДР, с заявлениями о предоставлении убежища — 170 граждан. При этом статус беженцев получили только два человека, еще 90 было предоставлено временное убежище — но только на один год. Как правило, северокорейцы не убегают далеко от своей родины и остаются на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области.
Подписанный накануне договор о взаимной выдаче уже вызвал беспокойство в ООН, о чем свидетельствует заявление спецдокладчика ООН по правам человека в Северной Корее Марзуки Дарусмана. «Я был сильно разочарован, когда прочитал о том, что Россия подписала с Северной Кореей договор о взаимной экстрадиции», — признал Дарусман, добавив, что соглашение может де-факто поспособствовать экстрадиции в КНДР политических беженцев.
Впрочем, как выяснила «Газета.Ru», относительно этой инициативы существуют и другие мнения. «Я не вникал в этот договор, но уверен: у России аналогичные соглашения заключены и с другими странами, это обычная практика, — считает руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. — Не думаю, что пойманных нелегалов обязательно ждет расстрел. Зачем повторять за западной пропагандой?»
С востоковедом не согласна юрист Благовещенского пункта сети «Миграция и право» Любовь Татарец, занимающаяся в том числе северокорейскими беженцами. «Договор о взаимной выдаче вызвал бы у меня улыбку, если бы не возможные страшные последствия для беглецов. Смешное слово «взаимное»: вы считаете, что в КНДР есть хотя бы один беженец из России?» — усмехается юрист.
По ее убеждению, бóльшая часть так называемых перебежчиков будет выдана КНДР, однако какое наказание будет применено к ним со стороны властей КНДР — сказать невозможно. «Те случаи, о которых нам известно, — за пределом человеческого понимания», — поделилась она в переписке с «Газетой.Ru».
Как отмечает Татарец, для северокорейцев существуют два способа остаться в России: либо убежать от работодателя, уже находясь на территории России, либо незаконно пересечь границу.
Впрочем, таких перебежчиков в стране не так уж много: по ее оценке, за последние пять лет их было чуть больше 200 по всей России.
И это объяснимо, ведь их положение в России едва ли можно назвать роскошным. «Граждане КНДР занимаются в основном лесозаготовками, строительством, сельским хозяйством. Они завозятся сюда по квотам, причем по приезде у них у всех отбираются паспорта», — рассказала Татарец.
Глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин говорит, что понятие «права человека» для Северной Кореи имеет только теоретическое приложение. «То есть северокорейские товарищи могут говорить о правах человека, и даже несколько месяцев назад проходила удивительная информация, что, опять же, российские власти обсуждали проблему прав человека со своими северокорейскими коллегами. Ну, с таким же успехом можно обсуждать гуманизм с какими-нибудь людьми, которые едят людей», — пояснил «Газете.Ru» Никитин.
Организация использует снимки с космических спутников, чтобы следить за лагерями для заключенных на территории КНДР.
По изменениям правозащитники судят о происходящем там и считают, что «ситуация жуткая». При этом северокорейские власти отказываются пустить представителя ООН, чтобы тот провел проверку прав людей. «Таким образом, договор между Российской Федерацией и Северной Кореей рождает тревожные мысли. Потому что люди, которые фактически умирают от голода, люди, которые могут подвергаться преследованиям со стороны северокорейских властей всего лишь за мирную критику в свой адрес, должны по законам международного права получать убежище. И если Российская Федерация намеревается выдавать всех северокорейцев, которые сюда попадут, то это означает, что российская власть абсолютно не интересуется тем, что произойдет с этими людьми.
Я уверен, что люди, которые будут подписывать документы на передачу северокорейцев в эту страну, они наверняка знают, что на самом деле ожидает этих беженцев. Это представляется очень антигуманным», — считает Никитин.
Он подчеркнул, что недоумение и тревогу вызывает позиция России, которая делает вид, что Северная Корея — это страна, в которой нет нарушения прав человека. «Это удивительно, поскольку МИД России является высокопрофессиональным институтом. И эта организация, выпуская доклад о нарушениях прав человека во всем мире, заостряет свое внимание на таких странах, как США или Украина. А Северная Корея не находит должного описания в документах МИДа», — добавил представитель Amnesty International.
Сбить нельзя помиловать
Япония собьет ракету КНДР со спутником
Екатерина Згировская, Павел Котляр
КНДР обнародовала примерные даты запуска своей космической ракеты со спутником наблюдения, чем обеспокоила всю мировую общественность. Минобороны Японии даже пригрозило сбить северокорейскую ракету. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что заявлениями об испытаниях и запусках ракет КНДР пытается манипулировать своими соседями.
Южная Корея, Япония, США и Китай дружно бьют тревогу после того, как в КНДР объявили о намерении в скором времени осуществить старт ракеты для запуска космического спутника. Паника поднялась еще 28 января, когда японское агентство Kyodo сообщило о намерении Северной Кореи запустить ракеты. Правда, тогда сообщалось о готовящемся испытании баллистической ракеты дальнего радиуса действия, на что указывал анализ активности на космических снимках полигона Сохэ на западе страны.
Сразу после этого власти Японии разместили в центре Токио на территории министерства обороны страны зенитно-ракетный комплекс Patriot, а накануне глава военного ведомства Японии отдал приказ об уничтожении в случае угрозы северокорейской ракеты.
Для этого в районе Японского моря повышена готовность оснащенных ракетами SM3 кораблей с системой ПРО Aegis. Не исключено, что в других районах страны, как и в Токио, также развернут батареи PAC3. И лишь накануне в самой КНДР заявили, что готовятся запустить не баллистическую ракету, а спутник «Кванмёнсон». Об этом стало известно из уведомления генерального директора Морской администрации КНДР Джон Ки Чхола, направленного в Международную морскую организацию (IMO).
Пхеньян уведомил организацию о намерении запустить ракету в период с 8 по 25 февраля.
«Информирую Вас о решении правительства КНДР запустить наблюдающий за Землей спутник «Кванмёнсон» в рамках национальной космической программы развития», — говорилось в уведомлении. В другом письме, направленном в Международный союз электросвязи, КНДР сообщает, что спутник должен проработать на орбите четыре года.
Спутник должен быть запущен в один из дней с 7 до 12 часов утра по пхеньянскому времени (00.30 — 5.30 мск), также Пхеньян направил координаты падения ступеней ракеты.
Из предоставленных КНДР данных следует, что старт ракеты запланирован не традиционно — с запада на восток, а с севера на юг. Южнокорейское министерство морского транспорта и рыболовства предупредило суда об угрозе падения в 80 милях к западу от Кунсана, в 50 милях к западу от города Чеджу, а второй ступени — в 75 милях к востоку от филиппинской столицы Манилы обломков первой ступени ракеты КНДР.
Ожидается, что первая ступень ракеты должна упасть в Желтое море, обтекатель головной части — в Восточно-Китайское море, а вторая ступень — в Филиппинское море.
«Это солнечно-синхронная орбита. Она удобна для наблюдения Земли. Когда спутник идет по этой орбите, он видит объекты под одним и тем же углом солнца — удобно сравнивать. Так работают спутники-шпионы и аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», — пояснил «Газете.Ru» директор Института космической политики Иван Моисеев.
Он вспоминает, что в КНДР уже были аварийные запуски первых спутников, которые в Пхеньяне выдавали за успешные. «Обнаружить спутник и отследить его возможно. Если это не совсем маленький спутник, а аппарат нормальных размеров, тем более по объявленной орбите, он засекается по радиоизлучению и наблюдению», — считает эксперт.
Южная Корея и Япония 3 февраля заявили, что КНДР заплатит высокую цену, если попытается запустить ракету. Премьер Японии Синдзо Абе назвал это серьезной провокацией. Эксперты отмечают, что резолюции ООН запрещают КНДР использование любых испытаний баллистических ракет. «Это классический ход — пока не стихла реакция на ядерное испытание, вы проводите запуск ракеты. Север стремится делать такие вещи вместе», — рассказал изданию Defense News профессор Университета Енсе в Сеуле Джон Делури.
По мнению Моисеева, в случае запуска КНДР очередной ракеты есть два повода для беспокойства. «Первое, это что под прикрытием спутниковой программы КНДР разрабатывает свое ракетное оружие — это очень легко замаскировать. Есть и опасения, что не столь надежная ракета летит над чьей-то территорией — это вызывает беспокойство», — уверен эксперт.
Ранее, в начале января, КНДР объявила о первом в истории страны испытании термоядерного оружия. Государственное телевидение КНДР также рапортовало, что испытания водородной бомбы «прошли на 100% успешно» и были проведены исключительно с использованием северокорейских технологий. Южнокорейские аналитики отмечали, что взрыв ядерной бомбы мог быть приурочен к 33-му дню рождения главы КНДР Ким Чен Ына, который страна отмечала 8 января.
Теперь эксперты уверены, что февральский запуск спутника состоится к очередной годовщине со дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына.
По мнению доктора экономических наук, завсектора общих проблем АТР Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Федоровского, КНДР использует ракетные испытания как шантаж, рычаг для своих партнеров на получение финансовой помощи в ответ на обещание придержать свои наступательные программы, то есть для манипуляции.
«Во-вторых, это важный аспект мобилизации общества внутри страны. Всякая квазирыночная деятельность несет в себе элемент расшатывания системы. Эта мобилизация общества вокруг вождя, вокруг внешней угрозы — очень важна, — считает эксперт. — Третий аспект, страна должна показать, что власть легитимна, там управляет сила. В КНДР очень развит военно-промышленный комплекс, и он должен демонстрировать свои результаты, показывать, какая страна могучая, идет верным путем, противостоит большой внешней угрозе».
Он также отметил, что не стоит забывать о проблемах взаимоотношений между соседями КНДР: Китаем, Россией, США, Японией и Южной Кореей. По его словам, для Северной Кореи ситуация, когда партнеры находятся в состоянии полемики, «является лучшим вариантом и средой для политического маневра и достижения своих политических целей».
В прошлый раз КНДР заявила об успешном запуске спутника в декабре 2012 года, нарушив резолюции СБ ООН, запрещающие ей ядерные и ракетные испытания. Соседи КНДР опасаются, что ракеты для запуска спутников могут быть использованы как баллистические ракеты дальнего радиуса действия, которые могут быть начинены ядерными боеголовками.
Запуск ракеты «Ынха-3» со второй модификацией спутника «Кванмёнсон-3» был произведен тогда с того же космодрома (Сохэ) в уезде Чхольсан провинции Пхёнан-Намдо.
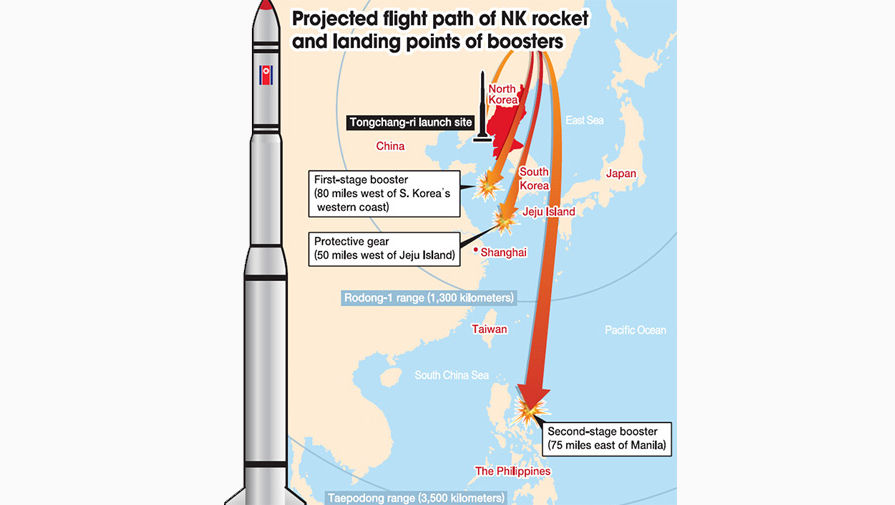
Год свободы не видать
Россия оказалась в аутсайдерах популярного международного рейтинга
Алексей Голяков
Российская Федерация заняла 153-е место в опубликованном накануне «Индексе экономической свободы», ежегодно составляемом американским фондом Heritage Foundation совместно с влиятельным изданием The Wall Street Journal. По мнению авторов рейтинга, место России ниже, чем у Таджикистана и Гаити, и чуть выше, чем у Алжира. В рейтинге, который регулярно публикуется вот уже 20 лет подряд, дается оценка ситуации в 178 государствах.
Эксперты Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс экономической свободы авторы базируют на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100. В числе критериев составителями индекса были взяты права собственности, защита от коррупции, положение в области налогообложения, госрасходы, ситуация на рынке труда, а также свобода предпринимательства и целевое использование денежных средств.
По сравнению с прошлогодним «Индексом экономической свободы» наша страна откатилась сразу на 10 позиций. Исходя из этого, авторы исследования включают Россию в группу стран с «преимущественно несвободными экономиками». Более того, аналитики фонда прямо указывают – долгосрочные перспективы России с точки зрения устойчивого экономического роста «остаются мрачными».
Главные претензии к России макроэкономического порядка сформулированы следующим образом: в стране отсутствует эффективно функционирующая правовая база, правительство продолжает вмешиваться в частный сектор через «мириады госпредприятий». На этот и без того крайне негативный фон, по мнению аналитиков, накладывается разбухающая коррупция, предстающая в отчете как все более актуальный фактор торможения российской экономики. Авторы индекса прямо указывают, что коррупция «продолжает подрывать доверие к властям».
Едва ли не единственным успехом российской экономики за минувший год названо наличие «налоговой свободы».
У партнера РФ по Союзному государству – Белоруссии также незавидные результаты: она лишь углубила свое «движение» вниз, со 153-й на 157-ю строку. Украина за год так и не сдвинулась с 162-го места. Вместе с еще 23 странами она отнесена к категории «подавленных экономик».
Стоит заметить, что для определения итогового места страны в рейтинге немаловажное значение имеет ее инвестиционный облик. При этом уровень развития и объем экономики по методике Heritage Foundation далеко не всегда гармонирует с показателями экономической свободы в конкретной стране. Так, Италия заняла в списке лишь 86-е место, а Китай – 144-е. Лидерами же рейтинга являются Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. Замыкают список из 178 государств Северная Корея, Венесуэла и Куба.
Экономическая свобода, считают авторы рейтинга, напрямую влияет на рост ВВП, уровень доходов, общее благосостояние, продовольственную безопасность и экологическую обстановку. Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков, комментируя «НИ» данные рейтинга, заметил, что показатели в любой стране могут кардинально изменяться в течение одного года и их усреднение не всегда объективно отражает ситуацию. В частности, эксперт не согласен с тем, что в России все хорошо с «налоговой свободой». Так, по данным Мирового банка, уровень налоговой нагрузки сегодня в РФ выше среднемирового – 47% против 40%. Для сравнения: в США, с их традиционно высокими налогами, этот показатель равен 43%. В таких странах, как Канада и Швейцария, он находится в пределах 30%.
«Что же касается концептуальной части индекса Heritage Foundation, то при всех замечаниях к методологии его выводы справедливы: мы действительно зависли во второй сотне государств, ранжированных по степени экономической свободы», – констатировал эксперт.

Сегодня в Москве заместитель руководителя ФМС России Николай Смородин и заместитель Министра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук подписали межправительственное Соглашение о передаче и приеме (реадмиссии) лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих на территории Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также Исполнительный протокол о порядке его реализации.
Заключение российско-корейских международных договоров о реадмиссии будет способствовать сокращению количества нелегальных мигрантов, прибываюших в Россию и КНДР.
Всего на сегодняшний день Российской Федерацией заключено 18 соглашений о реадмиссии и накоплен богатый опыт по их реализации.
Продукция из глубоководных крабов может появиться на российском рынке
На данный момент глубоководные крабы – мало осваиваемые объекты, почти вся продукция из крабов-стригунов красного и ангулятуса идет на экспорт, в том числе из-за пробелов в российских санитарных нормах
В Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре состоялось заседание биологической секции Ученого совета, на котором представлен путинный прогноз «Крабы-2016».
Как сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории промысловых ракообразных Алексей Слизкин, в настоящее время главными объектами отечественного крабового промысла являются четыре вида: краб-стригун опилио, бэрди, красный и ангулятус. Всего в 2016 году рекомендуется к освоению примерно 41,5 тыс. тонн крабов-стригунов.
Из них наиболее массовым и самым востребованным объектом является краб-стригун опилио, на его долю приходится 59,2% от всего объема допустимых уловов крабов-стригунов в текущем году.
Примерно половину общих допустимых объемов от шельфовых крабов составляют глубоководные крабы-стригуны – красный и ангулятус. Однако их объем не выбирается в полной мере. По мнению ученых, увеличить их добычу может только большое выставление флота.
Недоосвоение ресурсов глубоководных крабов (красного и ангулятуса) добытчики связывают с достаточно ограниченным рынком сбыта. Поставки крабовой продукции осуществляются только на внешний рынок. Экспорт живого краба в 2014-2015 годах в Республику Корею, Японию и Китай увеличился почти на 100%.
Поставкам же на внутренний рынок глубоководных крабов препятствуют отнюдь не экономические причины, а формальное превышение норм СанПиН. Было отмечено, что в настоящее время отсутствует разделение мышьяка на органически связанный (по литературным данным, безопасный для человека) и неорганический. В настоящее время НИИ питания РАМН совместно с отраслевой наукой разработана методика раздельного определения органически связанного и неорганического мышьяка в морепродуктах. Внедрение этой методики и внесение соответствующих изменений в нормативы позволит выйти крабовой продукции и на внутренний рынок, а появление спроса, возможно, будет стимулировать добычу в больших объемах. Также специалист напомнил, что в последние годы был принят ряд мер по предотвращению незаконного экспорта российских крабов. Вступили в силу международные соглашения с Японией, Республикой Кореей о борьбе с ННН-промыслом, действуют аналогичные соглашения с КНР и КНДР, а также ужесточен контроль за импортом российской продукции в США.
Ученый совет одобрил представленный путинный прогноз и рекомендовал подготовить его к распространению среди пользователей.
Обвинения на высшем уровне
Георгий Бовт о последствиях коррупционного скандала между Вашингтоном и Москвой
Прямые обвинения Владимира Путина в коррупции вызвали предсказуемое возмущение Кремля. Глава МИДа Сергей Лавров назвал их «беспардонными». Обвинения прозвучали в фильме «Би-би-си», посвященном «тайным богатствам Путина». Доказательная база слабовата, но тут главное — создать впечатление, а слово «коррупция» там произнес замминистра финансов США Адам Шубин, отвечающий за борьбу с «грязными» деньгами. Из Москвы потребовали разъяснений, и Белый дом официально поддержал своего чиновника: мол, мнение полностью разделяем.
Возмущение Москвы понятно. И не только потому, что еще, кажется, ни одного русского правителя так вот прямо в лоб в коррупции не обвиняли. В чем угодно обвиняли. Чаще всего в деспотизме. Обвиняли в коррумпированности режима в целом — скажем, ельцинского. Но лично лидера — нет.
Кроме того, такие манеры вообще не приняты в отношениях между крупными странами, имеющими дипотношения и ведущими конструктивные переговоры по ряду важных вопросов. Даже в условиях санкций. Кстати, далеко не самых жестких, если сравнить с Ираном, Кубой или КНДР.
Россия — это не «банановая республика» в северном исполнении.
От взаимодействия с Москвой зависит сирийское урегулирование, не говоря об украинском. В конце концов в мире полно стран, к которым можно предъявить претензии по части коррупции, при этом указав недвусмысленно на правительство. Однако Америка не разбрасывается такими же прямыми и официальными обвинениями. Не говоря о существовании режимов и лидеров, которых в Вашингтоне могут считать сущими «сукиными детьми», но «нашими».
Почему сейчас? Каковы будут последствия? Одно очевидно точно: отношения Москвы и Вашингтона выходят на новый, скандальный уровень.
Подобные оскорбительные обвинения первого лица прощать не принято.
Они могли прозвучать из уст американского чиновника и раньше, и позже. Вряд ли Шубин согласовывал формулировки интервью с Госдепартаментом и тем более с Обамой. Однако он исходил из того, что подобные речи в адрес Кремля сегодня в Вашингтоне непредосудительны и нечего, мол, деликатничать.
Еще подразумевается, что в свете таких обвинений против иностранного политика Америка, настаивающая на распространении своей юрисдикции чуть ли не на весь мир (в частности, в борьбе против «грязных» денег), непременно будет такого политика преследовать, едва с него спадет дипломатическая неприкосновенность. Не круто ли забирают? Не могут не отреагировать на это в России.
Представления о ситуации в России из Вашингтона укладываются в простецкую схему: падение нефтяных цен и давление санкций приносят результаты, Москва вынуждена будет пойти на уступки по всем направлениям — от Сирии до Украины. Она более не является ключевым партнером даже по тем переговорам, которые еще сохраняются: не захотят сотрудничать, справимся без русских. Тратить дополнительные усилия для прессинга режима Путина, скажем, провоцируя его масштабными поставками оружия на Украину, излишне. Достаточно американских инструкторов, тренирующих ВСУ, и вежливого сдерживания киевских политиков, поскольку большая война на Украине Америке просто не нужна. Там считается, что время на юго-востоке работает не на Москву.
Такая схема грешит сильными упрощениями, непониманием многих тонкостей российской политики (американцы вообще не любят разбираться в чужих тонкостях) и искажениями, проистекающими из дефицита в нынешней администрации США глубоких специалистов по России. «Русское направление», если сравнивать со временами «холодной войны», давно утратило приоритет. Его можно доверить чиновникам не первого ряда. Как ту же Украину, где ситуацию в свое время профукали, доверив кураторство «серым стратегам» из Брюсселя.
Влияние санкций на устойчивость режима в России в Америке, на мой взгляд, сильно преувеличивают, а инерцию системы и готовность людей приспосабливаться к трудностям, напротив, недооценивают.
На уровне политической элиты США отсутствует постановка вопроса о том, какой в будущем Америка хотела бы видеть Россию, чтобы вновь с ней подружиться, никто этим просто не заморачивается.
Тактика давления преобладает над стратегией долгосрочного просчета. Нет уверенности, что кто-то всерьез изучает в Вашингтоне и вариант возможного коллапса страны с полутора тысячами ядерных боеголовок, по сравнению с которым устроенные (в какой-то мере тоже по политическому недомыслию) ливийский, иракский и сирийский в виде того же запрещенного в России ИГ хаос и кошмар покажутся ерундой. Ведь если все же взят курс «на снос режима», то надо представлять, что настанет назавтра после утверждения на месте Империи зла Царства свободы. А если нынешняя политика по отношению к Москве — не политика «на снос», тогда зачем лидеру страны всячески дают понять, что дела с ним иметь больше не желают?
Возможно, в США, озадачившись имиджем Путина как «мачо», который смеет перечить «мягкотелому Обаме», решили отыграться на поле пиара, делая акцент на том, что «мачо», мол, клептократ. Такая игра с точки зрения политического прагматизма выглядит недальновидной, но, значит, «партнеры» не считают ее опасной.
«После Крыма» в США возобладала мысль о том, что теперь у Путина одна судьба — стать «изгоем».
Этот термин в моде. Считается, что с помощью санкций можно вызвать внутри страны процессы, которые рано или поздно такого «изгоя» изведут, — от «народных волнений» до раскола элит и дворцового переворота.
Возможно, за образец тут берут модель общения США с латиноамериканскими или африканскими режимами, где санкции давно стали отработанным механизмом. Так, с 1990 по 2007 год 80% американских санкций прямо декларировали требование изменения («демократизации») режима (William Walldorf. «Sanctions, Regime Type, and Democratization: Lessons from US — Central American Relations»). Обычно ставили при этом под удар цели, «чувствительные» для правящей элиты и авторитарного правителя. Для Сомосы, Дювалье, Трухильо или Батисты. Но такая тактика, как показывает опыт даже Латинской Америки, срабатывала худо-бедно лишь против режимов, отличавшихся «фракционностью» элит, — тех, где есть, скажем, самостоятельная военная каста. И наоборот, в режимах авторитарных элита чаще еще сильнее сплачивалась вокруг вождя. Такие режимы предпочитали «сражаться до конца», а издержки санкций перекладывали на население.
Сравнивать Россию с Латинской Америкой в целом неверно. Но заметим, что расчет на раскол российской правящей номенклатуры пока не оправдывается. Случаются «побеги» лишь отдельных проворовавшихся чиновников.
Открытой фронды не позволяют себе даже те, кто понес потери в «межвидовой борьбе» за сокращающиеся ресурсы. Власти, понимая, откуда исторически исходит в России главная угроза режиму, избегают серьезных покушений на интересы правящей номенклатуры. Даже вялая борьба за «суверенизацию», включая запрет выезда за границу некоторым «своим», видится (пока!) выверенным шагом: Запад теперь опаснее для высшей номенклатуры, нежели «родной» Следственный комитет, который не тронет, если ты «в обойме».
Как все это сочетается с намеками Джона Керри о возможности частичной отмены санкций против России уже в этом году, если будут выполнены минские договоренности? Да никак. Скорее всего, не будет никакой отмены санкций. Особенно косвенных, которые посильнее формализованных.
Во-первых, перспектива выполнения минских соглашений туманна. Москва, может, и хотела бы покончить с «проектом «Новороссия», но не ценой полной капитуляции. Киев же не спешит с выполнением своей части работы — и в силу специфики хаотичной и безответственной украинской политики, и потому, что давление Запада на него слабовато. Там не спешат «на помощь Путину».
Во-вторых, «размен Украины на Сирию» удался лишь частично. Диалог с США на тему судьбы Асада — это лучше препирательств на тему, кто больше виноват под Дебальцевом. Но все равно Сирия будет отдельно, Украина — отдельно, а перспективы отношений с Россией Путина — вообще третий вопрос. Видимо, в Вашингтоне исходят из того, что в Сирии при осознанной наконец угрозе ИГ можно не спешить, а Россия, выступая почти без союзников (Ирану после санкций большая война не нужна), долгого вмешательства не выдержит экономически.
На мой взгляд, американцы недооценивают нашу готовность бомбить, сколько понадобится. А мы за ценой в таких случаях обычно не стоим.
Вопрос о санкциях будет рассматриваться в ином контексте, чем на момент их введения. В свете, например, доклада по «делу Литвиненко», где в адрес российского руководства, включая президента, содержатся еще более «беспардонные» обвинения.
А впереди еще финальный доклад по делу малайзийского «Боинга». Трудно представить, как можно будет в такой атмосфере отменять санкции — вопреки конгрессу США или должным образом настроенному общественному мнению в Европе. При обилии относительно независимых игроков в политике на Западе, не считаться с которыми нельзя. Висит дамокловым мечом над российскими активами и приговор по делу ЮКОСа на $50 млрд.
Как все это прочитывается в Кремле? Скорее всего, как спланированная и, главное, скоординированная атака из ясно какого «штаба». Как теперь общаться с тем же Кэмероном, который, получив за два дня до публикации доклад судьи Оуэна, ничего не вымарал? У нас ведь исходят из того, что мог, но не захотел, оставив самые оскорбительные, притом довольно голословные (в суд с такими не пойдешь) обвинения. Как говорить теперь с Обамой? И если в Вашингтоне думают, что при невозможности более общения первых лиц Лавров с Керри смогут и дальше о чем-то успешно договариваться, то мне кажется это заблуждением.
Ситуация чревата непредсказуемостью. Более того, она взрывоопасна. Никто и не просчитывал ее до конца изначально. Все импровизируют на ходу.
Коррупция есть везде
Глобальная коррупция
Чем похожа Россия на Сьера Леоне? По мнению Transparency International (TI) эти страны согласно Индекса восприятия коррупции является соседями по списку, отражающему этот показатель. России, в этом мягко говоря не самом престижном рейтинге, отведено 119 место. Кроме Сьера Леоне с нами совсем рядом Азербайджан и Гайана.
Но бывает и хуже. Такие страны как Сомали и КНДР TI разместила не самом последнем - 167 месте. На планете нет хуже этих 2-х государств по уронвню коррупции – это уже «коррупционное дно».
Коррупция есть везде, но в некоторых странах она минимальная. Лучше всего с этим показателем, согласно Индекса, обстоят дела в скандинавском регионе
Transparency International в своем отчете отметил и государства, которые продемонстрировали большие достижения в области борьбы с коррупцией. К ним относятся: Великобритания, Сенегал и Греция. Есть такие, кто, наоборот, ухудшил состояние дел в этой сфере – это Турция, Австралия, Испания, Бразилия и Ливия. Оценка представлена на основании соответствующих данных по 2015 году.
Особенно разочаровала TI Бразилия. В этой стране на фоне крупнейшего коррупционного скандала разразился даже политический кризис. В прошлом году одна из самых крупных в Латинской Америке нефтяных компаний Petrobras была замечена в серьезных нарушениях закона, причем на самом высшем уровне. Политические деятели страны, как из правящей партии, так и оппозиции, оказались замешаны в коррупционных схемах этого концерна. Они попались на откатах за предоставление согласований контрактов и общественных работ. Общий объем сделок, которые были задействованы в подобных неблаговидных операциях, составил приблизительно 2,0 млрд. долларов США. Скандал разразился серьёзный. Это неудивительно, так как к нему были причастны 34 депутата нижней палаты. И это только те, кому было предъявлено обвинение. Сколько человек умудрилось не попасться? – Никто не знает. Более того, этот коррупционный скандал затронул и президента Бразилии Дилма Руссеффа. Дошло даже до того, что парламент страны решил запустить против него процедуру импичмента, а миллионы бразильских граждан вышли на демонстрации и протесты.
В Латинской Америке в прошлом году был еще один скандал, связанный с злоупотреблением правящей власти. На этот раз коррупционный «шум» поднялся в Гватемале. Он напрямую коснулся президента этой страны – Отто Переса Молины, который был пойман, как участник крупнейшей преступной схемы. Генеральная прокуратура обвинила его в создании своеобразной коррупционной модели под названием «Линия». Бывший президент, сразу же после разгоревшегося скандала ушедший в отставку, давал указания своим таможенным службам снижать, а иногда и совсем отменять, таможенные сборы. За это благодарные импортеры лично президента и его команду не «забывали», что вылилось только по доказанным фактам за один год в «благодарность» в виде суммы в 3,69 млн. долларов США. Расследование данного инцидента проводила Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, которая действует с 2007 года после официального обращения в ООН гватемальского конгресса.
Интересный факт
TI на основании свои глобальных исследований коррупции практически во всех странах мира, сделали еще один вывод – коррупции меньше в миролюбивых странах. Этот факт основывается на состоянии данного показателя в таких странах, как Дания, занявшая первое место в индексе TI, Финляндия – второе, Новая Зеландия – четвертое, Швейцария – седьмое и Канада – девятое. Кроме этих государств в десятку с наименьшим уровнем коррупции также вошли: Исландия, Австрия, Япония, Чехия и Австралия.
В наиболее «агрессивных» странах индекс коррумпированности «зашкаливает». Так, например, Афганистан по этому показателю находится на предпоследнем 166 месте. Чуть выше идут Судан, Южный Судан и Ангола – государства, в которых постоянно происходят военные конфликты.
Не лучше обстоят дела и в таких регионах, как Ливия и Ирак. Попытки создать в этих странах хоть какие-то институты власти, оказываются безуспешными. Самая главная проблема в подобных государствах – это кумовство. С ним очень тяжело бороться и пока оно существует, коррупцию не победить.
Но исследования TI показали, что даже компаниям из стран с низким индексом восприятия коррупции, не чужды подобные проблемы. Особенно это очевидно при их взаимоотношениях с партнёрами за пределами своей страны. Так, например, компаниюTeliaSonera, владельцами которой являются структуры из Швеции и Финляндии, подозревают в финансовом подкупе, который исчисляется миллионами. Эти огромные деньги они дали в виде взяток представителям властей Узбекистана за свободное и беспрепятственное продвижение на рынок этой среднеазиатской страны. Причем подобный скандал у компании не первый. В свое время она была замечена в коррупционных схемах при заключении контрактов в таких странах, как Азербайджан, Белоруссия и Казахстан. Не исключено, что без взяток данная компания не смогла бы выйти на рынки этих стран, но от этого её действия не стали более законными – данный факт все равно называется коррупцией, которая является преступной и подлежит наказанию.
Автор: Кононов Игорь
Испытание водородной бомбы КНДР и китайско-северокорейские отношения
Константин Асмолов
Разобрав международную реакцию на испытание водородной бомбы КНДР, обратим особое внимание на позицию Китая и американо-китайскую полемику по поводу того, «что делать и кто виноват».
Сразу же стоит отметить на заявление Синьхуа от 8 января. С одной стороны, действия КНДР были подвергнуты осуждению, с другой – отмечено, что «именно антагонистический подход Вашингтона подтолкнул Пхеньян идти дальше по пути развития ядерного потенциала». «Воинственный подход США обострил у Пхеньяна чувство неуверенности и побудил страну продолжать не признавать ограничения, касающиеся нераспространения ядерного оружия. Балансирование КНДР на грани ядерной войны, которое действительно заслуживает международного осуждения, учитывая, что оно серьезно подрывает региональную стабильность и мир во всем мире, может быть отчаянной попыткой страны улучшить свои позиции в борьбе с Соединенными Штатами».
При этом, по словам анонимных источников агентства Енхап в дипломатических кругах, в Пекине были очень разозлены ядерным испытанием, которое случилось для них совершенно неожиданно, особенно на фоне активных попыток Пхеньяна улучшить двусторонние отношения. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выступила с резким осуждением проведенных испытаний и фактически призналась, что Пекин не был предупрежден о запланированном испытании.
Также обратим внимание на ряд заявлений дипломатов и политиков США о том, что главный виновник случившегося – КНР и именно он должен принять максимум мер для «решения проблемы». Дескать, именно его политика и желание продолжать курс на шестисторонние переговоры превратились в попустительство по отношению к Пхеньяну. Как, например, высказался Госсекретарь США Джон Керри, «у Китая был конкретный подход к КНДР, и партнеры Пекина на шестисторонних переговорах – Россия, США, Республика Корея и Япония – согласились придерживаться такого курса. Он заключается в том, чтобы «дать пространство» КНР на взаимодействие с Пхеньяном в целях денуклеаризации Корейского пространства… Но теперь очевидно, что этот подход не сработал».
Иными словами, с 2003 года КНР продвигал идею шестисторонних переговоров как решения ЯПКП политико-дипломатическим путем, но его действия не привели к денуклеаризации. А значит, необходимо наращивать давление на КНДР и расширять санкции. Или модернизировать их так, чтобы они давали эффект, – а здесь многое зависит от Китая, через границу с которым идет основной товарооборот.
Дональд Трамп, скандальный кандидат в президенты США, также заявил 10 января, что Китай должен решить проблему, либо будет вынужден наблюдать, как страдает его торговля с США. Дескать, Китай обладает тотальным контролем над Пхеньяном, так что США должны найти способ заставить Пекин решить этот вопрос, максимально используя экономическое давление. Некоторые представители запада вообще начали заявлять о «китайском спонсорстве ядерного проекта КНДР».
Однако можно обратить внимание на то, что и эксперты по отношениям двух стран, и представители КНР иного мнения. Китайцы часто говорят, что у нас нет особых связей с КНДР, но это «нет особых связей» в зависимости от ситуации может означать как «у нас нет режима благоприятствования», так и «у нас нет рычагов влияния» и «наши возможности давить на КНДР ограничены». В чем-то это действительно так, поскольку идеологическое влияние действительно постепенно уменьшается, однако надо отметить, что и раньше Пхеньян слушал Пекин «постольку поскольку», особенно в ядерном вопросе. Ослабление влияния КНР связано и с тем, что Север выстраивает отношения с иными странами, в первую очередь, с Россией.
Затем, в Китае хорошо видно, как Америка и ее союзники под предлогом северокорейской угрозы накапливают силы отнюдь не против Севера, а в сложившейся ситуации пытаются обвинять Китай, хотя хорошо известно, чья неконструктивная позиция повлияла на срыв переговорного процесса как минимум не меньше, чем неуступчивость КНДР. Примеров тут можно привести много (хватит на серию статей, описывающих, как возникла ЯПКП и как пытались ее урегулировать), и нам будет достаточно вспомнить хотя бы то, как после того, как в 2005 году стороны выработали проект совместного решения, именно США и Япония сделали все для того, чтобы он не воплотился в жизнь.
Кроме того, в Китае хорошо видны военные приготовления. 13 января в своём обращении к народу президент РК Пак Кын Хе не исключила возможности рассмотрения вопроса о размещении в РК американских противоракетных комплексов THAAD. Это вызвало острую реакцию со стороны Пекина, где выступают против размещения THAAD, считая, что радары, которыми они оснащены, могут быть направлены на Китай.
Поэтому в газете «The Global Times» в ответ на обвинения Керри написали, пожалуй, еще жестче, чем в Синьхуа: «Истоки и причины северокорейской ядерной проблемы весьма сложны. С одной стороны, режим Северной Кореи избрал неверный путь для обеспечения своей безопасности, но с другой, США также постоянно выбирали враждебный подход к КНДР. И пока США, Южная Корея и Япония не изменят своего подхода к Пхеньяну, то нельзя надеяться на решение ядерной проблемы КНДР». Указано также, что надежда на то, что Пекин все за всех решит и заставит отказаться Север от ядерных амбиций, также «является иллюзией».
Комментируя возобновление пропаганды Сеулом и рейд стратегического бомбардировщика США в Южную Корею, представитель МИД КНР подчеркнул, что «ВСЕ стороны должны сделать совместные усилия для того, чтобы избежать дальнейшего нагнетания обстановки. Мы надеемся, что стороны будут принимать осторожные действия, чтобы поддерживать мир и стабильность в Северо-Восточной Азии». В общем, «мы-то делали все, что могли, а что вы сделали для того, чтобы сгладить проблему вместо того, чтобы ее обострять»?
Впрочем, Северу тоже демонстрируется неудовольствие. Как сообщили южнокорейские СМИ (а точнее, Чосон Ильбо) со ссылкой на свои источники в районе китайско-северокорейской границы, власти Китая ужесточили контроль на границе с Кореей. Будто бы, прекращено движение по мосту через реку Туманган, отменены некоторые проекты сотрудничества, а проходящие через пограничные и таможенные пункты грузы досматриваются теперь китайцами с особой тщательностью. О полноценных санкциях со стороны властей Китая данных нет, но они как минимум начали делать все «строго согласно правилам», которые ранее соблюдались не всегда.
Что это означает? На взгляд автора (мы не раз об этом писали) политика КНР в отношении государств Корейского полуострова постепенно начинает напоминать российскую с точки зрения «равноориентированности». При этом Китай играет на разногласиях двух Корей и на балансе сил. Северокорейский вопрос рассматривается им как в контексте создания на границах системы лояльных режимов (в этом контексте самовольные действия КНДР раздражают), так и в контексте потенциально усиливающегося противостояния с США (в этом контексте КНДР – союзник, пусть и непростой). Баланс этих факторов и определит конкретные действия.
ПРО. Южная Корея ставит ультиматум Китаю.
Испытание ядерного оружия Северной Кореей 5 января вновь поставило на повестку дня острый вопрос о размещении системы ПРО США на территории Южной Кореи, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на nationalinterest.org.
Власти Южной Кореи имеют все права выдвинуть ультиматум Китаю – «Если вы не будете эффективно оказывать давление на Пхеньян с целью прекращения провокационных ядерных и ракетных испытаний, мы обратимся к США с просьбой немедленного развертывания на нашей территории комплексов ПРО THAAD». Вместо того, чтобы оказать действенное давление на Северную Корею, Китай призывает Южную Корею «восстановить нормальные отношения» с этим непредсказуемым режимом.
Китай неизменно выступает против размещения комплексов THAAD в Южной Корее, пытаясь запретить суверенной стране самой принимать решение, какое оружие ей нужно для обеспечения своей национальной безопасности. Комплекс может отслеживать пуски БР из КНДР и северо-востока Китая.
Пекин поставляет Пхеньяну большой объем продуктовой помощи и энергоресурсов, на долю Китая приходится 70% всего внешнего товарооборота КНДР. Китайские власти имеют мощные рычаги давления на эту страну, но Северная Корея желает максимально поторговаться по своей ядерной и ракетной программам. Если Сеул придет к выводу, что Китай не может изменить политику Кима-младшего, развертывание системы ПРО станет делом неизбежным.
В настоящее время Южная Корея активно развивает отношения с Японией, таким образом, формируется треугольник США-Южная Корея-Япония для противостояния Северной Корее, и на этом фоне Китай должен сделать выбор – он является «ответственным участником» межкорейского урегулирования, или предпочитает оставаться адвокатом «изгоя» с ущербом для своей политической репутации.
Успешно полетела GBI.
Агентство по ПРО США успешно выполнило пуск противоракеты GBI (Ground-Based Interceptor) системы GMD (Ground-based Midcourse Defense System) без перехвата цели, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на defensenews.com.
Пуск ПР большой дальности выполнен 30-м космическим крылом ВВС США с базы Ванденберг, траектория отслеживалась РЛС типа AN/TPY-2 Х-диапазона, расположенной на Гавайских островах. Эта система предназначена для перехвата БР, летящих со стороны Ирана и Северной Кореи. Уничтожение вражеской боеголовки выполняется прямым попаданием перехватчика Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV) с инфракрасной ГСН.
В настоящее время на Аляске и Калифорнии размещено 44 шахтных ПУ системы GMD, ведется разработка версии противоракеты, способной нести несколько перехватчиков EKV.
Андрей РУСАКОВ
Ответственность культуры и культурное многообразие
Русаков Андрей Сергеевич, обозреватель издательского дома «Первое сентября», директор АНО «Агентство образовательного сотрудничества», автор книг «Эпоха великих открытий в школе девяностых годов» (СПб., 2005), «Уходящие перспективы. Школа после эпохи перемен» (М., 2000, 2-е изд. — СПб., 2014), «Школа перед эпохой перемен. Образование и образы будущего» (СПб., 2014).
Глава I. Культура и беспомощность
1.
«Вся моя Россия умещается у меня в голове и в моей домашней библиотеке. Моя Россия — это Россия Пушкина и Тургенева…» Теперь повсеместно то читаешь, то слышишь нечто подобное. Или еще так: «Сущность нашей страны — не безмозглые вожди, окруженные холуями и палачами, а Набоков, Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Бродский. Они останутся во времени, они и будут Россией, даже если из-за глупости правителей такое государство однажды перестанет существовать…» И прочее в том же роде об ужасной политике, жуткой истории, отвратительном обществе и прекрасной русской культуре, в которую можно спрятаться по детскому принципу «Я в домике».
Итогом русского культурного развития словно оказывается иллюстрация к антиутопии из «Машины времени» Уэллса, где злобные подземные морлоки живут в симбиозе с милыми интеллигентными элоями, которые лишь чуть пугаются, если кого-то из них утаскивают на ужин, и торопятся о том забыть, скрываясь, чтобы щебетать в уютных кущах.
В фокусе общественного внимания не наблюдается ни рациональных проектов конструктивных действий, ни даже намека на здравые, адекватные реальным обстоятельствам позитивные образы завтрашней России. Крах общественных ориентиров — момент профессиональной ответственности гуманитарно образованных людей; именно их знания и умения теперь наиболее востребованы. Как поступают офицеры в отставке, когда начинается война? Чего ждут от врача, которого будят среди ночи ради спасения больного? Но когда общество утрачивает здравые ориентиры и вместе со страной сползает в пропасть, чего ожидать в России от «людей культуры»? Только того, что они произнесут ряд гневных фраз и уедут перечитывать Тургенева в Баден-Баден или еще какую «внутреннюю Монголию». Но если за будущее сражаются только негативные сценарии, то никакая правильная Россия, «завещанная нам Пушкиным и Тургеневым», уж точно ниоткуда не возникнет.
Мы вступили в годы национального позора, за которые будет мучительно стыдно будущим поколениям русских людей. Через два десятка лет оправдания: «А я Тургенева читал», «я — как завещали: лучше жил в глухой провинции у моря», «я же каждый год на митинг выходил» и т.п. — прозвучат ничуть не лучше рассказов про то, что «нам же такое по телевизору говорили! все верили, ну и я отчасти…»
Никого лично ни в чем не упрекаю. Менее всего готов кого-либо осуждать за недостаточно активную жизненную позицию, понимаю и поддерживаю эмиграцию тех, кто разумно предпочитает уехать. Речь здесь не о гражданской позиции, а о параличе интеллектуальной работы, о внезапном исчезновении культурных ресурсов для нее.
Вдруг что-то не так именно там: «в России Тургенева»? Если национальная культура воспитывает лишь агрессивных идиотов, тихих обывателей и людей, которые в решающие для страны годы могут лишь наблюдать, рефлексировать и возмущаться, то, быть может, что-то не так с этой культурой? Или — как минимум — в наших с ней взаимоотношениях?
2.
а) Но разве культуру должно мерить ее общественной «отдачей»?
Отчасти — да, должно.
б) Но разве мы можем выбирать свою культуру по своей воле?
Отчасти — да, можем.
Пусть даже культура («возделывание» по первоначальному смыслу латинского слова) обращена прежде к личному, нежели к общему, к «возделыванию» человека прежде, чем к «возделыванию» народа, но само сочетание слов «национальная культура» указывает на факт вольной или невольной ответственность культуры за историческую судьбу народа, ее создающего и ею создаваемого. Кто-то готов видеть в культуре лишь сокровищницу артефактов для эстетического удовольствия и душевного развития; их право. Но эта статья обращена к тем, кто признает конструктивную роль национальной культуры для жизнеспособности страны:
· для национального взаимопонимания,
· для вменяемости общественных отношений,
· для выработки ориентиров общественной мысли.
Увы, перечисленные задачи в России едва ли выполняются, а предлагаемые «классической» русской культурой координаты все хуже ложатся на карту реальности. «Лучи света» и «темные царства», «народ и интеллигенция», «Европа и Россия», «Долой самодержавие!» или «За царя и отечество», «дворянство и большевизм», «Петр и Пугачев: власть и стихия», «Маленький человек и безжалостный мир», «Хорь и Калиныч», «Штольц и Обломов», «Героический бунт и теория малых дел», «Тварь я дрожащая» или «будем как Солнце» и т.д. — в вариациях на подобные литературные темы полтора столетия бился прибой живой мысли, исторических драм, судьбоносных решений. А теперь вода ушла. Осталась словесная пена, взбиваемая инстинктами «культурного воспитания».
Русская классика и в наши дни отзеркаливает множество узнаваемых архетипов, над которыми можно потешаться или которыми ужасаться, но не позволяет даже формулировать рабочие вопросы, подразумевающие возможность толковых решений, а не только патетических реплик.
Когда же символический язык культуры оказывается недееспособным, его роль с удовольствием берет на себя altеr ego русской «высокой» культуры, ее «черный человек» — незатейливая мифология имперского нарциссизма, убогого поклонения насилию и веселого презрения к человеческому достоинству и жизни.
«Вознесение» в фэнтезийные построения на мистические и/или геополитические темы вкупе с падением в пещерный примитивизм при выборе инструментов социально-политического действия — естественный результат отсутствия «общественной отдачи» от культурного наследия.
3.
Теперь о выборе. Мы не можем легко поменять культуру, но можем по-другому ее увидеть, по-другому осознать.
Многовековая национальная культура всегда значительнее того, что под ней в какой-то период интуитивно подразумевается большинством. Здесь уместна аналогия со спектром видимого света: глаза фиксируют лишь узкую часть диапазона реальных электромагнитных волн — ту, на которую они настроены. Так и культурное восприятие настраивается общественными традициями на свою «длину волны», позволяя воспринимать в качестве значимого лишь избранный слой культуры.
Мы не можем по своему произволу заменить русскую культуру другой, но вольны перенастроить свой взгляд, опознать, «расцветить» прежде «невидимые» части спектра. Тогда у нас есть шанс обнаружить качественно иные стратегии культурного мышления, множество нетривиальных ориентиров, неожиданные модели социально-культурных решений, — опирающиеся притом на родную для нас почву.
На самом деле «переоткрытия» культурного прошлого — норма национального развития.
Два масштабных отечественных примера:
· русская средневековая иконопись — которая для Пушкина и его друзей вовсе не представлялась искусством — была переоткрыта к началу ХХ века в качестве уникального достояния мировой культуры;
· русская религиозная философия, к которой небрежно и полуиронично относились современники, запретная и забытая почти все советские годы, в конце 1980-х вдруг торжественно воскресла и стала одним из главных идейных ресурсов эпохи перестройки1 .
«Высокая литература» два столетия ощущалась в России не только главным «нервом» восприятия современной жизни, но и главным источником общественного самосознания. Теперь нам жизненно важно обнаружить в качестве актуального творческого наследия гораздо более сложную картину русского культурного опыта.
Тема этой статьи требует аккуратного подбора слов и уточнения многих нюансов. Вряд ли это во всем получится — тем более, что обобщенное изложение принуждает к лаконичности. Вынужден заранее просить прощения за недостаточную корректность иных формулировок, за то, что буду опускать многие справедливые оговорки — увы, при беглом и широком обзоре этого не избежать.
Дальнейшие рассуждения я представлю в виде трех блоков тезисов с короткими комментариями-пояснениями.
Первый блок — иллюстративный и ретроспективный: о неслучайности явных трудностей с применением «культурных кодов» по-школьному понимаемой русской культуры в сегодняшних общественных отношениях.
Второй — указание на другие мощные слои культурной традиции, подсказывающие, как можно иначе «вырабатывать язык взаимопонимания», на основе чего формировать качественно иные образы будущего.
Третий (в связи со вторым) — варианты новых акцентов в поиске социально-культурных тактик и стратегий, в осмыслении общественных перспектив.
Глава II. Почему культура перестала «срабатывать»
Дальнейшие тезисы не носят полемического характера; я стремлюсь не доказать, а показать. Моя задача — попытаться поместить в центр внимания то, что обычно замечают в лучшем случае «боковым зрением», обозначить это как ресурс для осмысления возможных образов лучшего российского будущего и способов движения к нему.
Но предварительно придется хотя бы пунктиром обосновать, почему «привычная» русская культура («школьная», «интеллигентская», «высокая» — нелегко подобрать точное слово, когда пытаешься отграничить то, что принято воспринимать самодостаточным и всеобъемлющим) закономерно перестала «срабатывать».
Вот три (задолго до меня замеченных) особых качества той системы координат, в связи с которыми раскрывается нам «высокая» русская культура. Перед нами:
а) культура имперская,
б) культура литературоцентричная,
в) культура, «вертикально ориентированная».
По этим разделам и пробежим глазами.
Первый cюжет: Фантомные боли империи
и имперские фантомы культуры
Вот ряд характерных черт, которые накладывает имперская традиция на «высокую» русскую культуру, придавая ей сегодняшнюю общественную беспомощность.
1. Пространство культуры очерчено властью.
«Родной дом» русской культуры воспринимается не как пространство расселения народа или историко-географическое «ядро» нации, а как территория внутри имперских границ2 . Внутри них — все наше, уже завоеванное. Зато за границами империи — все чужое, «эмиграция и ностальгия».
2. Варианты отношений с государством: бунт, восхваление, смирение.
Доминируют три культурных архетипа гражданской позиции: или пылкая солидарность с властью — или смирение/убегание «в широкошумные дубровы» — или противостояние и бунт. Спокойный диалог с государством или же строительство общественного пространства по-своему и независимо от государства у нас — нонсенс.
Жизнь-восторг и жизнь-протест, жизнь-страдание и жизнь-умиление — естественные культурные состояния. Жизнь-работа (в том числе духовная), жизнь-сотрудничество, жизнь-домостроительство, жизнь-радость, жизнь-понимание — куда более экзотичны.
3. Отношение к политике — мистически-напряженное.
Политика глазами культуры — это действия центральной власти и действия против нее. А все доступные для практического наблюдения, понимания, диалога средние и нижние уровни политики — лишь приводные ремни централизованной государственной воли, иногда оттененные случайными человеческими качествами отдельных чиновников/командиров/наместников.
Политика если и поворачивается, то «вся вдруг» и всегда непредсказуемо.
Заоблачные высоты имперской власти не рациональны, а мистичны. В отношении культуры к политике нет места разумности и ответственности.
4. В империи важны столица и фронтир. Внутренняя провинция — инертна и единообразна.
«Высокая русская культура» всецело завязана на Москву и Петербург. Для нее существует жизнь столичная, жизнь провинциальная и «военный фронтир» (Кавказ, Польша, Туркестан, Дальний Восток, линии фронта на конкретных войнах и т.п.). Провинция (вся! — на одной шестой части суши!) воспринимается и обсуждается почти единообразно; легкий экзотизм Сибири или Малороссии только подчеркивают базовое единство взгляда3 .
Бажов, Писахов, отчасти Платонов — насколько ярки исключения! Но они лишь намекают, сколь многоликой могла бы предстать иначе организованная русская словесность4 .
5. Ироническое отношение к «провинциальным недокультурам».
То «пограничье», которое мыслится как фронтир — Польша, Грузия, Армения, в меньшей мере Финляндия и Средняя Азия — все-таки в центре культурного внимания и уважения. А вот те, кому суждено было оказаться «в тылу» — культуры Украины и Белоруссии, практически все национальные культуры нынешней России — в качестве серьезных явлений не воспринимаются. Судьба «провинциальных недокультур» — обогащать общеимперскую культуру, «сливаться в русском море». Служить для нее этнографическим материалом.
Глухота людей русской культуры к культуре украинской (бурно, ярко и убедительно разворачивающейся последние полтора столетия) уже не просто выглядит парадоксальной дикостью, а стала первой из сдетонировавших предпосылок русской национальной катастрофы. Пренебрежительная глухота к национальным культурам российских народов — столь же изумительна и столь же чревата бедой.
6 . Привычная самооценка: русская литература — великая сверхдержава мировой культуры. Она самодостаточна, а ее вклад в мировое культурное развитие соразмерен военной мощи российской/советской империи.
Пока культура молода и плодотворна, пафос собственного величия — хороший катализатор развития. С годами полезна большая адекватность. Особенно теперь, когда можно подводить итоги фактического воздействия русской литературы на мировую культуру ХХ века.
Что мы обнаружим? Огромно влияние Л.Н.Толстого — похоже, его значение для развития мировой художественной мысли перевесит вклад всей прочей русской изящной словесности вместе взятой5 . Половина оставшегося влияния придется еще на два-три имени: Чехов, Достоевский, полуанглийский Набоков. Совокупное влияние на мировую культуру прочих русских писателей едва ли превзойдет влияние литератур чешской или норвежской — литератур замечательных, но нимало не мыслящих себя культурными империями и самодостаточными сокровищницами ответов на любые вопросы.
7. Империя приучает мыслить рангами и регламентами, имперская литература — социальными типами и риторическими формулами.
Национальное государство может позволить себе опереться на общественные структуры, на гибкие механизмы обратной связи, на внимание к особенностям и подробностям. Империя не будет вникать в калейдоскоп ситуаций и не способна доверять кому-либо; в ней задаются простые и прочные повсеместные модели, алгоритмы, правила субординации. У империи — регулярность, чины и формы; у русской литературы — типичные представители, всеобщие идеи, узнаваемые положения.
«Высокая» русская культура в унисон имперскому стилю воспитывает в людях стремление свести конкретную ситуацию к известным схемам и архетипам; приучает развешивать ярлыки из общей культурной логики, а не пытаться понять ситуацию «по месту и времени», взглянуть на нее как на уникальный феномен6 .
Второй сюжет. Цена литературоцентричности
Литературоцентричная эпоха русской культуры очевидно завершилась (попробуйте, к примеру, вообразить современную русскую поэзию организующей силой культурного пространства страны). Но тип восприятия культуры вполне прочен.
«Литературоцентричность» интуитивно понимают как резкое преобладание словесности над музыкой, пластическими и изобразительными искусствами. В таком перекосе культурных акцентов есть свои проблемные стороны (припомним дисгармоничность внешнего вида большинства наших городов и поселков), но более существенно другое. «Литературный» взгляд на мир подавляет в русском культурном воспитании многие другие, не менее необходимые практики организации мышления, самосознания и взаимопонимания людей.
1. Литература подменяет собой религию и философию.
Любая европейская литература нового времени энергично вторгается в вопросы религии и философии, но мало у каких народов она по существу вытесняет их из культурного пространства, находится не в диалоге с ними, а замещает их собой.
Работа философа предельно строга и требовательна к интеллектуальным построениям; религиозное обсуждение жизненных вопросов сдерживается церковной традицией, аккуратностью изложения и моральными ограничениями. Но правила интеллектуальной дисциплины кажутся неуместными тем, кто привык строить мысль по литературным образцам с их установкой на художественное наитие и образную убедительность.
Привитая вольность литературного мышления дарит русским образованным людям «легкость в мыслях необыкновенную» в обсуждении вопросов любой серьезности и онтологической глубины.
2. Литература подменяет собой обществознание и гуманитарную мысль в целом.
Литературу привыкли воспринимать как общественного учителя, источник рецептов того, «как нам обустроить Россию». Хотя на такой вопрос вроде бы призван отвечать большой ряд гуманитарных исследовательских дисциплин — от географии до социологии, от семиотики до психологии, от экологии до методологии научного знания.
В проектировании «обустройства страны» странно вытеснять изящной словесностью мысли и труды тех, кто учился не «чему-нибудь и как-нибудь» (что нормально и даже естественно для писателя), а несколько более основательно, кто вещает истины не по наитию, а излагает их в виде результатов серьезной работы, научного кругозора, исследовательского опыта7 .
3. Литературное мышление подменяет собой правовое.
Привычка к бесправию в русской истории, конечно, не заслуга изящной словесности. Но в презрение к «формальному праву» она добавляет свою лепту. Традицию правового нигилизма литература усиливает своеобразным правовым утопизмом, умиляясь народной «жажде справедливости» в противовес европейскому «законничеству». Мол, милосердие и справедливость должны всецело торжествовать здесь и сейчас, иначе вся ваша жалкая юриспруденция — одно лицемерие.
Но закон никогда и нигде не торжествует безусловно; только идея закона, живущая в людях и их общественных отношениях, и порождает законосообразные практики, действия и поступки. Сначала закон оживает в людях — и только потом в государствах.
Когда же от представлений о праве отмахиваются как от иллюзии, то вскоре привыкают к тому, что искренняя эмоция — достаточное моральное основание для любого действия. Даже если последствия будут ужасны, а твое «чувство» навеяно очевидными внешними манипуляциями...
С этим очень удобно работать извне: посильнее нажать на регистр «праведной эмоции» — и воспитанный соответствующим образом человек чувствует себя вправе вершить любые преступления.
4. Исторические комплексы литературы программируют общественную закомплексованность.
В «литературоцентричную эпоху» русская культура вступила со зрелостью Пушкина и разгромом декабристов8 . Эта родовая травма «вшила» в нее роковое восприятие истории, комплекс общественно-политического поражения, болезненное расщепление взглядов на народ, государство и «образованный класс»9 , резкие перепады от радикализма к верноподданничеству и/или громко декларируемой аполитичности10 и т.п. Опыт взаимоотношений русской словесности и русской революции только закрепил эти невротизированные черты.
Третий сюжет. Вертикальная организация культуры:
ее привычная ненормальность
1. Модель вертикальной динамики: вверх — отбор гениев, вниз — «продвижение» их трудов.
Образ централизованного культурного строительства подобен имперскому: «наверх» жизнь выталкивает кандидатов в гении11 , вниз устремляется пропаганда их произведений.
Задача участвующих в культурной работе людей — послужить передаточными звеньями для передачи высокой культуры «в массы». А в целом русское образованное общество выглядит лишь фоном и ресурсом для деятельности «светил», оно обречено смотреть на окружение «гениев», как крепостная Россия на дворянство12 .
В реальности национальная культурная среда создается отнюдь не «передатчиками» и «пропагандистами достижений», а необычными и многогранными людьми, с уникальными судьбами и собственным значимым творчеством. Но зрение, настроенное скользить по «культурной вертикали», такую самобытность почти не замечает.
Характерна дистанция между столичной «культурной элитой» и миром трудовой интеллигенции: инженеров, учителей, врачей. Они рассматриваются не как основная часть культурного сообщества, не как соработники в создании культурной среды нации, — а лишь как «продвинутые потребители», досадное, но неизбежное «средостение» между «элитой» и мифологизированным народом.
2. Равнение на гениев.
Русская культура предстает прежде всего кругом вершинных литературных произведений и связанных с их создателями лиц и событий. Это кажется естественным: к кому присматриваться, как не к лучшим?
Да, биографии гениев — значимая часть национальной памяти; но если они начинают трактоваться как образцовые (что невольно и происходит), то с ролью учебных пособий справляются предсказуемо плохо.
Люди с гениальным призванием властно ведомы своим предназначением, множество вещей они «схватывают» не трудом понимания, а мгновенной интуицией, жизнь свою зачастую ведут на износ, на разрыв, на пределе физическом, нравственном, интеллектуальном; они готовы двигаться по «лучу судьбы», невзирая ни на что. Попытка подражания подобному жизненному стилю с большой степенью вероятности оказывается или разрушительной, или деморализующей.
Основная же стилистика многих тысяч созидателей культурного мира нации совсем иная: спокойная ответственность, вдумчивое сочетание решительности и осторожности, готовность считаться со многими и многим, заботливая внимательность не только к «провиденциальным собеседникам», но и к своим ближним.
Другие последствия равнения на гениев — в области гуманитарных исследований. Вот у нас великие поэты — а вот специалисты по ним. Вот гениальные музыканты, художники, физики и т.д. — и к ним приставлены соответствующие знатоки. Исследовательский (и соответствующий популяризаторский) аппарат настраиваются жестко специализированно. В результате те комплексные явления, которыми и держатся основные сцепления национальной культуры, или едва заметны, или сильно искажены (а то и вовсе невидимы).
3. Монолитность, закрывающая многомерность.
Русская поэзия (а во многом и вся русская художественная литература) двух прошлых столетий представляется нам практически единым произведением: она пронизана общностью сюжетов, ритмов, символов, идейных антиномий, пророчеств и их исполнений, перекличкой авторов и персонажей.
В этом ее великое художественное достоинство, огромная притягательная сила. Но эта же сила выступает и как затмевающая, заслоняющая собой отнюдь не монолитный, а многомерный характер русской национальной культуры в целом.
Когда на нашей памяти исчезла видимость круговорота культурных явлений вокруг привычного «литературного центра тяжести», то наглядная децентрализация культуры многими была воспринята как культурный распад. Оторопью от этого чувства отлично воспользовалось российское телевидение — оно взяло на себя функцию последнего симулякра централизованной культурной монолитности.
Степень убожества и инфернальности этой оси культурного единства показывает, что культуре в России больше не быть централизованной.
Вот только привыкнуть к тому, что твоя культура может говорить на очень разных символических, идейных и образных языках, — это отдельное открытие, отдельная душевная работа.
Другие миры русской культуры — не фон, не сырье, не обрамление, они — огромные явления, которые совсем иначе организованы, в которых мы обнаружим другие заботы, ценности, правила, способы самоорганизации.
О чем и поговорим далее.
Глава III. Русская культура на других частотах
Нашему обществу, чтобы выжить и удержать огромную страну в качестве своей общей родины, предстоит искать противоядия от большого ряда укорененных привычек:
· от культуры самоуверенного всезнайства,
· от культуры агрессивной сентиментальности,
· от традиции действовать «по наитию» там, где важно действовать по уму,
· от высокомерия к культурам большинства народов, с которыми суждено жить рядом,
· от нежелания присматриваться к той реальности, которая не соответствует нравящимся схемам,
· от общественно-политической невротичности,
· от привычки смиряться со сверхцентрализацией всего и вся.
Для этого потребуется разыскать то, на что мы сможем опереться. А для этого вспомнить:
· такую русскую культуру, которая не путает душевность, эмоциональность с духовностью, в которой принято соразмерять умозрительные построения и конкретные дела;
· русскую культуру, которая не состояла в симбиозе с имперским мышлением и не испытывает комплексов перед государством;
· русскую культуру, которая «горизонтальна» и объединена взаимодополняющим многообразием.
Эта главка — не каталог, а набросок, не строгий перечень, а первые приходящие на ум примеры автономных миров русской культуры, достойные обсуждения.
…«Областничество» и культура региональной идентичности. Культура научная. Культура крестьянская. Культура в «горизонтальном» рассмотрении: где «узлы» важнее «вершин». Культура педагогическая. Культура, созданная для мира детства...
Попробуем взглянуть на все это не как на периферию, а как на равноправные «центры сил», мощные основы для полицентричного («федеративного», если угодно) понимания национальной культурной жизни.
1. Культура в «горизонтальном» измерении:
когда «узлы» важнее «вершин»
Сперва взглянем на мир относительно привычных имен, но поменяем угол зрения. Наметим систему координат не по гениям, не по вершинам, а по тем личностям-явлениям, которые играли особую объединяющую и организующую роль в культурном пространстве.
В русской истории канонизирован лишь один образ человека универсальных культурных интересов — М.В.Ломоносов. Далее культурная преемственность привычно выстраивается уже «специализированно» по известному шуточному определению: «Ломоносов роди Державина, Державин роди Жуковского, Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди Лермонтова, Лермонтов роди Некрасова…»
Но попробуем повести «силовые линии» культуры не по литературному лидерству, а по людям с особой многогранностью творчества и особым масштабом созидательного вклада в русскую культуру.
Какого рода фигуры возникнут перед нами?
Вот ближайший друг и наставник Державина — Николай Александрович Львов. Он значительный поэт, но, конечно, меньший, чем Державин. Оригинальный и выдающийся архитектор — но все-таки не столь масштабный, как Михаил Казаков или Джакомо Кваренги. Львов — замечательный ученый-исследователь и изобретатель «инновационных» строительных и отопительных технологий, но вряд ли войдет в число первых ученых века. А еще — музыкант, гравер, драматург, переводчик, издатель летописей, собиратель народных песен и основоположник пейзажного садоводства. Еще важнее другое: объединив множество сторон культуры в своей личности, он соединял между собой ключевых творческих людей эпохи. Состоялся бы тот же Державин без литературного, художественного и музыкального кружка, собравшегося вокруг Н.А.Львова? Не факт. И нелегко решить, кто из них послужил более необходимым звеном в развитии русской культуры.
Следующий не безусловный, но вероятный «универсальный герой» — Николай Карамзин, все-таки получивший достаточное признание и в представлениях не нуждающийся.
Кто далее? Я бы наметил так.
Директор Публичной библиотеки13 Алексей Николаевич Оленин.
Редактор журнала «Московский телеграф» Николай Алексеевич Полевой14 .
«Любомудр» Владимир Федорович Одоевский15 .
Историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин16 .
Все имена небезызвестные, но школьные учебники сообщают о них в лучшем случае парой строк.
Конечно, В.Ф.Одоевский — меньший писатель, чем Лермонтов или Гоголь; Н.А.Полевой менее тонок в качестве литературного критика, чем Пушкин, а слог Кавелина не претендует на художественность тургеневского. Но в остальном их исследовательские, теоретические и публицистические работы, взгляды на вещи, страницы их биографий, образ их жизни и круги общения — все это предстает, ей-богу, не менее ценным и мудрым, чем аналогичные сведения о Пушкине, Блоке или Достоевском, что уже полтораста лет перебираются тысячами исследователей по строчке под микроскопом и выставлялись миллионам читателей как образцы национального мышления и миропонимания.
Если равняться на перечисленные выше имена, то картина русской общественной мысли предстанет нам достаточно непривычно.
· Никакой «роковой обреченности» — торжествует уверенность в личной возможности каждого образованного русского человека влиять на будущее страны.
· Вместо интуитивных оценок и призывов — стремление к предварительному изучению предмета, рациональному расчету, взвешенному решению.
· Вместо «слушания музыки революции» — выработка способов согласовать, договорить, уравновесить интересы разных идейных и общественных сил.
· Вместо взгляда на прошлое как на историю вождей и народных масс — внимание к человеческому измерению истории, к отпечаткам личности и творческих усилий разных людей.
· Вместо умиления русским народом или испуганного презрения к нему — трезвая оценка и активное участие в его развитии17 .
· Вместо риторических крайностей в высказываниях — сочетание сдержанности суждений с их прямотой и независимостью.
· Вместо метаний от бунтарства к верноподданничеству — работа по «примирению начала свободы с началами власти и закона»18 .
Разумеется, предложенный список — лишь вариация на тему; выбор имен должен быть расширен и может быть оспорен — важно, что перед нами иной тип культурного лидерства.
Роль этих людей — не прорывная, а согласующая, примирительная для современных им противоречий, а в то же время — запускающая «долгоиграющие» культурные механизмы на десятилетия вперед.
Известен афоризм Лао Цзы: «Самый мудрый правитель тот, о котором знают только то, что он существует». Влияние лидеров «горизонтальной культуры» растворяется в сложных процессах, их «наставничество» незаметно, но плодотворность усилий громадна. Они вырабатывали культурные практики, задавали конструктивные способы сотрудничества (в том числе общества и власти), создали инфраструктуру выживания и развития культуры19 .
Но главное для нас — все-таки не личный вклад этих нескольких замечательных людей, а ярко выраженный на их примере тип культурного деятеля20 . Ведь в каждой губернии находились десятки людей, чьи действия и усилия были им созвучны, сонаправлены.
Лидерство такого типа людей неочевидно в масштабах всей России, но несомненно — в создании культурных традиций в масштабах местных и областных. Своих Пушкиных и своих Некрасовых во всех губерниях не заведешь; зато повсеместно обнаруживались свои Оленины, свои Полевые, свои Одоевские, свои Кавелины. Ведь главная ткань «провинциальной» культуры — не гениальные литературные произведения, а запечатленные в памяти людей усилия по обустройству осмысленной и одухотворенной жизни.
Реальная, действенная доселе русская культура XIX века — не только страницы поэтических книг. Это культурные артефакты, сохранившие свою особенную силу в каждом месте: от зданий до бытовых правил приличия, от опыта с умом организованных когда-то хозяйств и предприятий до собранных музейных экспозиций, от памяти о культурных событиях до традиций школьного обучения — все это возделывало и возделывает души и характеры множества людей. Это наследие позволяет нам доселе видеть в окружающих людях столь много доброго и осмысленного, когда, казалось бы, все должно быть глубоко безнадежно в стране с такой внешней историей, как российская.
2. Культура региональной идентичности
Здесь нам потребуется несколько «цветофильтров». В традициях сопричастности культурному ландшафту, историческому пространству, ценностям и нормам региональной идентичности — мы обнаружим целый ряд сцепляющихся друг с другом, но существенно различных слоев.
А. Краеведческий слой. Как только в России намечалось расширение «свобод», первой волной обновления жизни прокатывался внезапный и бурный расцвет краеведения: исследований, изданий, всеобщего интереса и соучастия. Так было в начале ХХ века, затем — в 1920-е годы, потом — в 1960-е; наконец, на наших глазах — в 1980-е. Но следом краеведение столь же внезапно стушевывалось, вновь откатывалось на третий план, вновь оборачивалось смешным факультативным занятием (разве что снабжающим очередное местное начальство декоративной атрибутикой). Чаще спад выглядел естественным исчерпанием интереса и административных ресурсов, но иногда (как в конце двадцатых) обеспечивался и специальным силовым разгромом.
Подозреваю, что сказывалась внутренняя логика сюжета.
Первый такт очередной волны любознательности выносит в центр краеведческого внимания те ценности, что соответствуют общероссийской «культурной матрице», всем понятны и укладываются в раздел музейно-архивно-издательских забот. А вот далее высвечивались факты более странные, требующие каких-то новых способов обсуждения; следом совокупность «краеведческих» фактов увязывалась внутри себя и уже ощутимо резонировала с современностью. Проявлялась реальная Россия в своем историческом и пространственном развитии — слишком разная, слишком нестандартная.
Шутки заканчивались.
Во-первых, краеведение начинало свидетельствовать об уникальных объективных потребностях своего места, пространства и населения, никак не укладывающихся в имперское администрирование; за его политической наивностью вдруг проступали требования прав на самоорганизацию и самоуправление.
А во-вторых, при осмыслении калейдоскопа любовно перебираемых чудаками-краеведами достопримечательностей, загадок и анекдотов, экспонатов и топонимов, цифр статистики, живописных руин и прочих «бирюлек» иной раз вспыхивали очертания громадных смысловых сдвигов, огромных претензий на признание региональной самобытности; намечались контуры особых «российских стран», взламывающих фактом своего существования привычные политические и культурные мифологии.
Б. Символический слой. Теперь предмет разговора переходит в другой регистр. Перед нами уже не достопримечательности и экспонаты, а символические машины, культурные матрицы, воспроизводящие из поколения в поколение особые типы самосознания и мироощущения.
При этом обнаруживается, что Россия — набор разных, порой противоречащих друг другу идентичностей. Что Россия — совокупность разных «стран», потенциально самодостаточных в своих не только экономических, но и культурных ресурсах. И что сам факт «русскости» и «нерусскости» населения этих стран второстепенен перед сложившимися здесь неформальными сводами правил, наборами адекватных стратегий поведения, природосообразными методами хозяйствования.
Выдающийся современный опыт раскрытия таких символических машин — исследования, книги и фильмы писателя Алексея Иванова о «Горнозаводской цивилизации» — «Уральской матрице»21 , о целом материке (как обнаруживается) своеобычной и многослойной культуры, который был всецело не замечен русской словесностью.
А речь-то идет едва ли не о главном регионе современной России, едва ли не ключевом для ее будущего.
«Уральская матрица» представлена А.В.Ивановым как история в пространстве, а не во времени. Такая история разворачивается, а не развивается. В ее пульсирующем времени мы не обязаны выбирать «путеводную нить» правильного изложения событий, вставать на чью-либо сторону в конфликтах эпох, людей и мировоззрений. («Где в каждом столкновении, в каждой истории — минимум две правды. А то и три, четыре или пять».) Зато мы можем и должны увидеть, что из открывшегося нам прошлого по-прежнему актуально, к каким противоречиям надо привыкать, чем нельзя пренебречь, что способно нас выручить.
Найдется и немало работ (пусть не столь художественных и не столь выразительных, как книги Алексея Иванова) об особых «культурных матрицах» Сибири, Поволжья, Русского Севера, разгромленных стран казачества, Новгородско-Петербургского Северо-Запада…
Я бы посоветовал разыскать такой двадцатилетней давности учебник — книгу для чтения по краеведению И.Х.Салимова «Среднее Поволжье»22 . Ирек Салимов разворачивает «матрицу» Поволжья более мягко и осторожно, чем это делает Алексей Иванов относительно Урала, но в схожем масштабе, при той же внимательности и глубине. Позволю себе процитировать пару абзацев:
«…Удивительным фактом остается неосознанность россиянами своей Родины как пространства. При этом как бы выпадает среднее звено. Есть Россия, есть Сибирь, Кавказ, Поволжье… А дальше сразу начинаются города или более мелкие местности. Потому что Ульяновскую область вряд ли можно рассматривать как название местности. Это скорее похоже на кличку раба: раб Нерона. Местность как бы не принадлежит себе, а становится второстепенным приложением к городу…
В основе краеведения лежит идея о феномене края, страны. Край — это индивидуальная действительность, которую нельзя разрушить административными границами. Наблюдения, описания, художественные описания, памятники культуры — это события самого ландшафта. Поэтому чтение краеведческого текста предполагает осознание страны, перенос в нее своей мысли. Попытка правильно понять край — одно из самых ответственных событий в жизни самого края»23 .
В. Слой местных правил жизни. Чем сплачивает империя? Фактом неумолимой силы, с которым все поневоле вынуждены считаться. Представители «имперского народа» — агенты этой силы, они чужды местным отношениям и презрительны к ним24 . Свой образ жизни они носят с собой.
Но на деле не менее значимы для «имперского народа» и противоположные качества.
Как только часть русского населения перестает выступать лишь внешней силой — в виде солдат, чиновников, «бюджетников», вахтовиков, как только начинает соотносить свою жизнь с окружающим пространством и обживать его как свою родину, она оказывается и «национальной», и самобытной. Русский человек, например, в Башкирии становится равноправным носителем неписаного свода правил местной жизни: не в смысле принадлежности к национальной культуре башкир, а в смысле сопричастности культуре башкирской земли25 . В ходе такой «коренизации» русского населения между людьми разных национальностей интуитивно налаживается стремление понимать друг друга, учиться друг у друга, сосуществовать рядом и сотрудничать; видеть, помнить и ценить то, что помнят и ценят твои соседи.
Эти механизмы действовали веками, действуют и сейчас. Без них Россия была бы намного меньше нынешних размеров.
«Межнациональный диалог» в очень малой степени идет через изучение творчества поэтов, национальных историй и прочие «высокие материи». Он складывается в бытовом общении людей, в общем чувстве ландшафта, в чуткости к его культурным смыслам и символам, сохранившимся от разных эпох и народов26 .
Что это означает в культурном измерении? Речь идет о культуре человеческих отношений, воспринимаемой через ее исходные образы: освоение правил общения, ритуалов гостевых встреч, обычаев трудиться и праздновать, народных песен, практик хозяйствования или путешествий в местных ландшафтах.
В такой среде складываются и личная культура человека, живущего у себя на родине, и общее культурное наследие представителей разных народов, живущих на одной земле.
Национальная культура любит противопоставлять себя иным; она и сознает себя во многом по контрасту с другими. Культура региональной идентичности, напротив, — учит понимать, связывать, сглаживать различия, смягчать, а не обострять отношения.
Г. Проектный слой. Вместо объяснений — два примера-легенды о людях, создавших особые российские столицы эпохи перестройки: Пензу — центр российского краеведения и Красноярск — столицу российского образования.
Георг Васильевич Мясников, второй секретарь Пензенского обкома КПСС, начинал еще в шестидесятых. Двадцатилетие он двигался к тому, чтобы Пенза стала примером в деле исследований родного края, «Меккой» для краеведческих и музееведческих встреч27 .
«Историко-культурный рай» был cотворен из города, казавшегося захудалым, серым, малоизвестным. Ведь Пензенская область была когда-то «белым пятном» на культурной карте на взгляд не только среднего советского человека, но и собственных обитателей.
Мясников добился открытия множества музеев: от уникального по замыслу «Музея одной картины» до музеев Ключевского, Бурденко, Мейерхольда, Куприна. Он обязал райкомы и парткомы создать музеи на всех крупных предприятиях, в организациях и учебных заведениях. Он ставил один за другим памятники — от каждого скульптора добиваясь и выразительности, и неповторимости (будь то Денис Давыдов «с хитринкой и лукавым лицом», первопоселенец с копьем и плугом или единственный в стране «Лермонтов без погон» в Тарханах).
Пример второй. Советский Красноярск был поизвестнее Пензы: Енисеем, индустриальными показателями и значением для ВПК. Но к восьмидесятым годам в Красноярске сложилось поколение людей, желающих переделать свой край из индустриально-сырьевой колонии в страну, приспособленную к жизни людей; в мир, который не стыдно считать своим домом.
Быть может, решающим «ферментом» для успешного воплощения таких настроений стала деятельность профессора-физика из Новосибирского Академгородка Вениамина Сергеевича Соколова, который в 1975 году становится ректором Красноярского университета (а позднее и вторым секретарем крайкома). По воспоминаниям современников тех событий, Соколов намечает определенный план: резкое изменение культурной ситуации в крае за счет стремительных перемен в школьном образовании; базой для этих перемен становится университет, а «ядром» университета — специально создаваемый психолого-педагогический факультет с собственной экспериментальной школой.
К середине 1980-х В.С.Соколов приглашает в Красноярск на временную или постоянную работу ведущих (и по большей части опальных) отечественных психологов, дидактов и философов; на волне начинающейся перестройки они разворачивают в крае свои образовательные практики в сотнях классов, множестве учительских аудиторий и студенческих групп. Вскоре Красноярск уже служит главной опорой для складывающихся общественно-педагогических ассоциаций, новых научных, проектных и управленческих команд в образовании. (А лидерство в осмысленном реформировании школ Красноярский край уверенно сохранял до конца 1990-х годов.)
Всплеск регионального развития и самосознания в стране был почти повсеместным; не менее значительным он был в Екатеринбурге, Казани или Томске; Красноярск и Пенза уникальны именно ощутимостью усилий конкретных людей, притом движимых не политическими, а социально-культурными целями.
Проектный культурный слой региональной идентичности существенно дополняет остальные:
· он обращен не к прошлому и настоящему, а преимущественно к будущему,
· он рационален и рефлексивен,
· он опирается не только на местные силы, но «фокусирует» творческий потенциал людей со всей страны.
Со временем и в Пензенской области, и в Красноярском крае многое снивелировалось; города эти уже не так ярко выделяются и не столько притягивают выдающихся людей, сколько отдают своих Москве.
Но фактом культуры стал в перестроечные годы удивительный для русской истории успех региональных политических проектов: без привычного насилия, без истерического пафоса запугивания и «продавливания», без переламывания кого-либо через колено. Зато реализованных решительно и последовательно, с умелым согласованием разных интересов, собственных и общероссийских возможностей, интеллектуальных усилий и моральных ценностей.
3. Научно-центрированная русская культура
Что Блок родился в «ректорском флигеле», положено знать каждому петербуржцу. Куда простительней ничего не слышать о том, что тот самый ректор, дедушка Блока — А.Н.Бекетов — крупнейший русский ботаник, основоположник географии растительности в России и фактический создатель высшего образования для женщин в нашей стране («Бестужевских курсов28 »). И совсем мало кто решится подумать, что Бекетов, пожалуй, не менее значим для русской культуры, чем его замечательный внук.
Культурный человек обязан помнить, какова фамилия убийцы Лермонтова, из какого села Есенин и как звали любовницу Маяковского. Но для миллионов россиян с высшим образованием вполне прилично никогда не слышать имен А.А.Фридмана и Г.А.Гамова, создателей теории «Большого взрыва» (людей, ни много ни мало впервые представивших научно достоверную историю Вселенной!); Б.С.Якоби — изобретателя первого электродвигателя и открывателя гальванопластики; П.А. Сорокина — одного из создателей социологии ХХ века и т.д.
Знание о научном мире для русского гуманитарного взгляда распадается на два раздела: «история техники» и «биографии ученых». Оба они факультативны и периферийны в культурном сознании.
Что если посмотреть несколько иначе?
Многим памятен недавний фильм Леонида Парфёнова «Зворыкин-Муромец», который трудно назвать научно-популярным: судьба и деятельность В.К.Зворыкина предстают зрителю именно как явление русской культуры. История техники, приключенческая биография и прочее лишь помогают увидеть главное. Точно в той же мере, как история литературы и биографии писателей помогают постигать нечто важное в словесном искусстве. Там — понимание художественных произведений, здесь — понимание пути творческой мысли, картина преемственности и противоборства научных школ, сложная сфера ценностных явлений, пульсирующих вокруг мира науки. И там, и там — свой опыт осмысления человеческих возможностей, общественных событий, моральных ценностей.
…Вообразим: вдруг стерта культурная память русского народа со всеми ее свидетельствами; удалось восстановить лишь ту ее часть, что связана с российской наукой последних трех столетий. И вот предстоит, опираясь только на этот контекст, воссоздать нормы национальной жизни и культуры.
Могло бы получиться не так уж плохо.
Что за типы культурного мышления оказались бы нашими опорами?
Во-первых, сам образ жизни ученых. Столь не вяжущийся с литературно-утрированным образом русского человека: перед нами по преимуществу мир упорядоченных, отчетливо и ответственно действующих людей. Характерны известные книги Даниила Гранина об А.А.Любищеве («Эта странная жизнь») и о Н.В.Тимофееве-Ресовском («Зубр»): они, собственно, не о научной стороне дела, а именно о культуре самоорганизации личности, опыте самостоянья человека и мудрости выбора своего пути.
Во-вторых, норма осознания своей культуры в пространстве культуры мировой: в тесной связи и по единым правилам.
Известен период приписывания всевозможных открытий русским изобретателям (как несколько ранее в Германии взвешивали меру арийской крови); самое забавное, что эти попытки возвеличивания радикально умаляли реальный масштаб российской науки29 . Патриоты всех стран любят чваниться размерами «нашего вклада» в мировую науку. Но наука — не банковский сейф, «вкладами» не измеряется. Сами ученые ценят совсем иное: укорененность мировой мысли в родном для себя пространстве.
Чем выше интенсивность международных взаимодействий национальной науки — тем она значительнее, сильнее, самобытнее.
Кого мы видим главными фигурами отечественной науки XVIII века рядом с Ломоносовым? Прежде всего тех, кого в число «русских ученых» казалось вносить как-то неловко. Первым в ряду окажется крупнейший математик столетия Леонард Эйлер — проживший полжизни в Петербурге30 , и только прямыми учениками которого считали себя шестеро русских академиков. На следующее по рангу место мог бы претендовать великий естествоиспытатель Петр Симон Паллас («природный пруссак, отдавший всю жизнь России»). Дальнейший список каждый может продолжить по вкусу с помощью Википедии.
И в XIX веке биографическая двух-трехмерная национальная принадлежность великих ученых оставалась для России нормой, а не исключением. Можно умиляться самородкам, чей ум возник из ниоткуда и развился к своим открытиям от сверхъестественной русской смекалки. А можно гордиться другим. Что у Лобачевского и Гаусса был общий учитель — Мартин Бартельс, уехавший в Россию от наполеоновских войн, задавший уровень математики и астрономии сначала в Казанском, потом в Дерптском университете (а косвенно — и в Пулковской обсерватории). Что Альфред Нобель вырос в Петербурге и выучился химии у Н.Н.Зимина, что Ландау и Капица были равноправными участниками европейского сообщества великих физиков, раскрывших за несколько десятилетий тайны атомного ядра, что эмигранты Мечников и Сикорский смогли во Франции и Америке стать великими национальными учеными. Что великий лингвист И.А.Бодуэн-де-Куртенэ, несомненный и патриотичный поляк, вместе с тем может считаться и стопроцентным российским филологом, определившим интеллектуальную среду развития отечественной лингвистики в начале ХХ века. И прочая, прочая.
Вообразить актуальную для нас русскую культуру «наукоцентричной» — занятная задача. Но именно задача: ведь обзорной картины российского научного мира как культурного явления не существует даже в наброске; она разбита по отраслям знания, по персоналиям, по учреждениям, по жанрам изложения и т.д. Увидеть мир культурного наследия российской науки, объединенный одновременно и внутренней цельностью, и тесной связностью с мировой научной мыслью, еще никто толком и не пытался.
4. Культура мира детства
Отвечая на вопрос, почему в школах обязаны проходить тот или иной набор «классических» произведений, зачастую с умным видом заявляют: «Так закрепляется культурный код нации!»
Но попросите своих знакомых задуматься и, положа руку на сердце, ответить: какой именно «культурный код» чаще позволял находить с полуслова, с полушутки взаимопонимание с соотечественниками: из «России Тургенева и Достоевского» — или же из России Чуковского и Заходера, Эдуарда Успенского и Кира Булычева, Евгения Шварца и Николая Носова? По моим наблюдениям, вторая версия стабильно выигрывает. Можем еще спросить о том, какой круг произведений покажется нашим собеседникам более надежным и действенным источником светлых, добрых и умных чувств...
Михаил Яснов свою книгу о детской поэзии31 завершает так: «У нас давно уже есть национальная идея, способная объединить всех от мала до велика, — это детская литература, детская поэзия. На одних и тех же произведениях воспитывались все, кто сегодня представляет нашу страну в политике и промышленности, бизнесе и культуре. Но игра в стихи — опасное дело: в такой игре юный человек учится думать. Неспроста же именно детской литературе оказалось по силам пробуждать объединяющие всех чувства — любви, гордости, сострадания, совершенствования, то есть чувства понимания и удовольствия, которые так необходимы детям в общении друг с другом и со взрослыми».
Не раз отмечалось, что именно детская сказка, поэзия, литература, культура детства в целом выполняет ныне древнюю роль мифа, вводившего ребенка в социальные и культурные структуры общества, делавшего его человеком общественным32 . А впечатления от детской литературы отличаются особой глубиной восприятия и закрепляются в сознании на всю жизнь.
Удивит ли вас такой лозунг: «Культура для детей — основа национальной русской культуры»?
А ведь его принятие смотрелось бы итогом выстраданного исторического пути. Ядро советской детской литературы было очень непростым в своем происхождении и исполнении33 , оно удивительно в своем культурном потенциале и создавалось людьми исключительных талантов34 . Оно выросло из «высокой» словесности подобно «плоду на дереве», но отличалось очень многим.
Пожалуй, первое среди отличий: перед нами мир культуры всецело демократической — великого искусства, понятного всем.
У советской детской литературы хорошо известен исток ее масштабной истории: творчество Корнея Чуковского. Вот как обсуждает его М.С. Петровский: «Длинной Ѕфантастической мысльюЅ Чуковского — или Ѕтемой жизниЅ, как он сам это называл, — был синтез демократии и культуры, демократическая культура. Вот откуда у Чуковского многочисленные подступы к литературе для детей — быть может, самому естественному проявлению демократической литературы. Отсюда же проистекает стилистика его критических и литературоведческих работ, словно бы нарочно приспособленная к тому, чтобы говорить о самых сложных и высоких материях с самым простодушным читателем и одновременно радовать вкус читателя изощренного…
Удивительно ли, что именно Чуковский открыл и впервые описал в 1910 году то явление, которые ныне широко известно под названием «массовой культуры», «кича» и т.п. Чуковский не уставал доказывать, что кичевое искусство — при некотором внешнем сходстве — противоположно демократическому. В «киче» он открыл своего главного врага. Вирус пошлости, эстетическую дешевку, расхожий заменитель красоты, всякого рода литературный ширпотреб он разоблачал и предал публичному осмеянию — от ранней статьи о ЅТретьем сортеЅ до самых поздних, вроде статьи с выразительным названием ЅО духовной безграмотностиЅ»35 .
Культура духовной грамотности — формула, столь странно и столь точно звучащая по отношению к игровым, задорным, отнюдь не морализаторским произведениям. Ибо основы такой культуры пропитаны противоядием от пошлости, озлобленности, отчужденности36 . В сравнении с инерционностью русской «взрослой» словесности — перед нами сверкает искусство быстрого переключения:
· от бодрого и веселого — к сочувствию и состраданию,
· от забавы к делу, от развлечения — к усилию,
· от увлечения своим замыслом — к незашоренной чуткости относительно рядом происходящих событий.
Эта привычка быть чутким к незапланированному, искусство своевременной и уместной смены внимания — то, чего сильно не хватает в российской даже бытовой жизни, не говоря уже про общественную, культурную или политическую.
…Культура неустанно раскрепощающая, но приучающая к сосредоточенности, а не разболтанности. Культура игровая, но чуждая легкомыслию. Культура задорно предлагающая, но и внимательно прислушивающаяся, присматривающаяся к читателю-собеседнику.
Отметим еще пару особенностей.
Мир культуры для детей не очень-то литературоцентричен. Детские проза и поэзия даже внутренне устроены так, словно ждут своих перевоплощений в театре, в иллюстрациях, в мультфильмах37 , в семейных розыгрышах, в сценариях жизни подростковых клубов, в самом искусстве книги… «У Чуковского было основное требование к сказке: чтобы к каждой строчке можно было нарисовать картинку», — так вспоминал Валентин Берестов. Сам жанр детской книги сложился в 1920-е годы как равноправный труд писателя, художника и редактора. «Сочетание изысканности — и демократизма, оформительской щедрости — и вкуса, озорной раскованности — и почти математического расчета, причудливости сказочного образа — и непонятно откуда возникающего, но выпуклого и достоверного образа времени», — такова характеристика первого книжного издания «Приключения Крокодила Крокодиловича» 1919 года с рисунками Ре-Ми.
Изысканность и общепонятность, раскованность и расчет, причудливая фантазия и точность, жизненность впечатления — достойная формула слагаемых русской культуры для детей.
Занятно, что традиции нашей детской литературы (в отличие от взрослой) продолжают оставаться языком международного взаимопонимания. Когда последние годы детские писатели из разных постсоветских и восточноевропейских стран собираются на свои фестивали то в Грузии, то в Эстонии (а это и литовцы, и украинцы, и армяне, и поляки, и белорусы, и финны, и даже россияне, хоть и в небольшом числе) — то ориентиры детской культуры советской эпохи по-прежнему остаются объединяющими и всем близкими.
И еще одно. У разных поколений одной семьи, разумеется, разные увлечения и культурные интересы. Но настоящая детская литература способна «срабатывать» как удобная общая платформа для взаимопонимания между всеми поколениями — младших и старших детей, родителей, дедушек с бабушками. Ведь для взаимопонимания сегодня важно не только учитывать то, что взрослые могут поведать детям, но и угадывать другое: то, чем детство может быть значимо для взрослых.
5. Педагогическая культура
Что про нее достаточно знать русскому человеку до общей нормы? Что был такой Ушинский — чем-то там великий в свое время, а еще Макаренко, который трудных подростков строил в шеренги и перевоспитывал.
Прочие подробности — дело «шкрабовское», скучное, техническое.
Немногие догадываются о масштабе отечественной педагогической мысли — истории опытов и усилий, открытий и развернутых культурных практик, «художественно-методических» произведений и образовательных проектов. Что этот творческий мир не менее велик, своеобразен и увлекателен, чем мир литературный или научный. Что культурное пространство российской педагогики освещено двумя десятками только по-настоящему великих имен мирового значения и раскрывается в тысячах выдающихся культурных явлений. Что если выбирать стержень культурной истории страны последних двух столетий, то история педагогической мысли убедительно претендует на роль главного кандидата38 .
Легко вообразить, что означает отсутствие в обществе эстетической культуры или практической грамотности.
А что означает слабость культуры педагогической?
Всегда есть два альтернативных подхода к любым проблемам: один воспитывается педагогической культурой, другой — политическими инстинктами. Лаконично их можно выразить противоположностью двух формулировок:
· «Надо, чтобы…»
· «Чтобы — надо…».
Собственно, педагогическая культура — это разнообразная мудрость про создание условий для становления сложных явлений (таких, например, как человек).
Политическое решение: придумать цель. Затем — план ее достижения и потребовать исполнения; кто не соответствует — наказать и исправить39 .
Решение педагогическое: если вы чего-то хотите, то сначала нужно понять, какие для этого требуются условия. Потом — постараться эти условия создать40 . Заодно учесть вероятные побочные эффекты. (Если же условия не складываются или эффекты недопустимы — займемся исправлением целей.)
Переход от позиции «надо, чтобы…» к формулировке «чтобы — надо…» — это переход от логики насилия к логике культивирования.
Отсутствие педагогической культуры в обществе означает, что такой переход закрыт. Движение к лучшему будет вновь и вновь соскальзывать по сорванной резьбе на привычный виток насилия.
Известно наполовину шуточное, но и по-своему точное высказывание: «Педагогика — это то, как мы живем». Оставим в стороне практическое значение педагогических знаний для всякого обучения и семейного воспитания. Обратим внимание на три глобальных эффекта педагогической культуры:
1) она перенастраивает нашу мысль и соответствующий ей образ действия;
2) сколько-то существенный ее слой просто необходим для выживания в народе прочих культурных слоев;
3) самое удобное пространство для естественных позитивных общественных перемен — пространство взаимопонимания в связи с педагогическими задачами.
О первом эффекте мы упомянули. Теперь о втором.
Если в перегруженном культурными знаками пространстве у человека нет средств выстраивать свой «культурный космос», то изобилие может иметь худшие последствия, чем недостаток. Чуждая, навязываемая, но отторгаемая культура — огромная сила: давящая, раздражающая, невротизирующая, убивающая в человеке способность к мироустроению — и себя в мире, и мира вокруг себя. Нагромождения культуры, которые растущие поколения не способны осмыслить, принять, «переварить», превращаются в надгробные плиты над будущим.
На фоне такой ситуации именно педагогика становится главной отраслью культуры, без которой ничтожны по своему влиянию все остальные. Акт педагогически оформленной встречи с настоящей культурой все труднее чем-то заменить, и с каждым годом уменьшаются шансы на то, что такое произойдет естественным путем, без специальных умных усилий, без специально организованных культурных сред и пр.
Вот как об этом говорила Т.В.Бабушкина (выдающийся педагог-исследователь, воспитатель большого сообщества людей многих поколений, выросших за три десятилетия на базе ее легендарного клуба): «Когда стараются дать как можно больше знаний о культуре, думают, что этим мы делаем культурного человека. Но здесь ошибка. Мы просто водим ребенка мимо культуры, остающейся отчужденной. Она отчуждена объемом, отчуждена тем, что произошли резкие перемены, произошел скачок из тех культурных контекстов в какое-то вроде бы совершенно другое житейское пространство. Масса нажитого в культуре стала так велика, что оказывается неподъемной, непробиваемой для детей. Культура нависает пластами, которые детьми воспринимаются как мертвые. Мы подводим ребенка к культурным явлениям, а контакта нет; словно мы его подводим, а вот там, за какой-то перепоночкой, существуют себе культуры. Поэтому мне кажется, что на современном этапе более важной вещью, чем передача объема культуры и даже ее качественных принципов, является прецедент культуры. <…>
Это мне напоминает проклевывание цыпленком яйца» 41 .
Подобная задача не решается ни культурной, ни даже образовательной политикой — только грамотной педагогической практикой.
Такова негативная оценка ситуации: в чем не обойтись без педагогики. Но есть и обратная сторона дела — возможности педагогики как ресурса позитивных общественных перемен. А именно:
· использование образовательных проблем для налаживания согласия и взаимодействия в местном сообществе между людьми различных убеждений;
· использование «детского измерения» социальной действительности как приемлемой для всех основы выбора приоритетов и формулирования общих правил местной жизни.
Все это может начинаться через простую причастность людей к жизни окрестных школ и детских садов. Неслучайно во многих европейских городках именно школы и сады — центры притяжения всей местной жизни: ведь это идеальные места для встречи людей разных поколений, от трех лет до девяноста трех; здесь многое помогает не раздражаться друг на друга, а испытывать взаимное восхищение, нежность, неожиданный опыт прозрения и взаимопонимания.
Культурно, грамотно с точки зрения педагогики организованные сады и школы — это институты защиты семьи и вместе с тем средства преодоления семейной замкнутости. Это повод для людей объединиться в каком-то общем деле и, может быть, увидеть в этом несложном деле, за детскими забавами какие-то глубинные ценности, вдруг ощутить свою к ним причастность, ответственность за них.
Забота о детях в сотрудничестве с педагогами учит договариваться и действовать сообща, соревноваться в легком и естественном бескорыстии, переключаться со своих зачастую бесчеловечных социальных матриц на что-то близкое сердцу. Школы и детские сады дают шанс вместе с детьми и по поводу детей развиваться самим взрослым (впрочем, зачастую даже не развиваться, а просто «возвращаться к самим себе»).
Ведь главное не в том, что там «воспитывают наше будущее». Куда важнее, что отношением к школе или детскому саду определяется наше настоящее.
Именно поэтому они — основа национальной культуры.
6. Культура домашней жизни
Очень коротко о большом сюжете.
Если наугад заглянуть в местный музей где-нибудь в Скандинавии, то с большой вероятностью нас встретят экспозиции, воспроизводящие уклад жизни местных людей прежних десятилетий и столетий. Быт и труд в интересах своей семьи представлены чем-то изначальным, краеугольным. Первое, что считают важным показать в национальной культуре новым поколениям — это наглядная преемственность образов жизни, направленных на упрочение домашнего хозяйства, домашнего уюта, семейного согласия.
· Умение жить у себя на родине,
· умение жить своим домом —
вот базовые основы культуры любого народа, которые вытравлялись у нас с петровских времен — крепостничеством, с советских — устанем перечислять сколькими способами.
Привычность общаг, казарм, бараков, временных углов, где огромная часть населения проводила домашнюю жизнь, гармонично дополнялась советским идеалом «человека труда». За внешней мишурой его картонной героики пульсировала воплощенная во множестве людей антикультура отношения к труду как к мучению и подвигу (а заодно и к оправданию, индульгенции от прочих грехов). Неважно, что ты сделал, чего добился, что принес полезного людям и своей семье — важно, что «тяжко вкалывал на трудовом фронте». Это делает тебя достойным работягой, имеющим право ни о чем после работы не думать (и о самой работе, и о семье в том числе). Наружным фоном этого «отдыхающего после труда сознания» наметился адский морок типового поселка городского типа, откуда монотонно доносятся злобные бормотания вроде: «…И так сойдет… Ишь, чего захотели… И своя-то жизнь полушка, а уж чужая… Чай не баре…» и т.п.
Европейские народы ощутили реальность демократического уклада одновременно с тем, как сложились переходные формы между «крестьянским домостроительством» и «профессорским бытом». У наc же произошел разрыв прямо по «линии сшива»: метастазы бытовой антикультуры студентов-разночинцев были помножены на казарменные традиции и породили образцы взбаламученного революционно-обывательского быта.
Заращивание этой раны идет уже десятилетия и весьма далеко от завершения. Да и приобретает весьма специфические и уродливые формы42 .
Но исторические традиции умного домашнего обустройства, взаимной семейной ответственности, гармоничных бытовых взаимоотношений с другими людьми и окружающим миром были у русских не слабее, чем у других народов. Более того, на них когда-то пытались делать «стратегическую ставку»: вспомним о своеобразном культе одухотворенного домашнего быта у русских славянофилов43 .
Поколение моих ровесников еще могло застать по северным селам двух-трехэтажные столетней давности избы и фрагменты умного уклада жизни свободного, не знавшего крепостничества русского крестьянства; тогда мы могли еще услышать высказывавшееся старшим поколением интимное отношение к своему хлебному полю, лесу, лугу, реке, дому, церкви, односельчанам...
Наследию крестьянской культуры пришлось тяжелее всего; ее долго примитивно мифологизировали (то с умилением, то с уничижением), потом оклеветали (в немалой мере литературные светочи типа Максима Горького) и следом большей частью уничтожили44 . В конце ХХ века «археология» русской крестьянской Атлантиды была осознана большим кругом людей как особая обязанность45 . Какова будет ее отдача — пока загадка. Культурная традиция русского крестьянства прервана, опереться на нее непосредственно вряд ли удастся. Но сами очаги успешной сельской жизни завтрашнего дня будут поневоле «образовательно-емкими», будут нуждаться и в какой-то перекличке с ушедшей традицией, и в новом «крестьянско-профессорском» осмыслении национального дома и хозяйства.
Впрочем, культивирование семейной памяти о феноменах разумных укладов домашней жизни — дело всеобщее. Это ведь именно та часть национальной истории, что наиболее тесно переплетена с личной историей, с протянутой в прошлое и будущее семейной родословной.
7. Культура стойкости и ответственного гуманизма
Еще одно небольшое отступление; пара оговорок, чтобы несколько сгладить жесткость оценок «высокой словесности».
Ведь сама «высокая русская литература» — это культура не только Пушкина, Гоголя и Тургенева, но и Толстого, и Высоцкого.
«Великое искусство, понятное для всех» — у этой формулы демократического искусства есть и обратная сторона: культура уважения к человеку, культура личного выбора и ответственности за него. В этой связи хорошо известны, например, высказывания о творчестве А.П.Чехова46 . Но хорошо бы иначе взглянуть и на Льва Толстого — не только как на «вершину», но и как на универсальный «узел» культуры, да еще какой!
Филологам и идеологам привычно было видеть в толстовских религиозно-этических поисках по преимуществу смешные причуды, в его педагогических работах — «барские забавы». Но время расставило иные оценки.
Прямым последователем «наивного толстовства» стал Махатма Ганди — не только философ и подвижник, но и один из величайших политиков ХХ века — человек, который привел к независимости целый континент, огромную Индию. «Непротивление злу насилием» выросло в огромную политическую практику. Идея ненасильственного сопротивления, революций стойкости и духовной силы (а не только озлобленности и террора) — в корне своем не индийская, не европейская, а наша, толстовская. Нам, русским, стоило бы гордиться этим не меньше, чем военными победами.
А сколько насмешек вызвала опубликованная в 1862 году статья Льва Николаевича «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Сегодня она читается как один из важнейших поворотов мировой педагогической мысли. Толстой на полстолетия опередил замыслы общеевропейского движения «Новой школы»: внимательность к жизни детей, уважение к их возможностям, деятельный подход к учению, согласование школы с окружающими обстоятельствами и т.д. И в практике своей яснополянской школы, и в методике, и в теории он представил первообразы новых оснований педагогики на десятилетия раньше, чем это по-своему (и по его следам) осуществили на Западе Адольф Ферьер, Мария Монтессори, Джон Дьюи, Селестен Френе47 .
Теперь о поэзии.
«Русская лирика от Державина до Бродского» — примерно так принято именовать ныне разнообразные антологии. Только одно имя плохо вписывается в антологии, его или оставляют за бортом или пристраивают скромненько в общем ряду. Нет, все согласны, что речь идет о явлении исключительном, но каком-то автономном, ярком побочном эффекте: «Да, а еще у нас был и Высоцкий».
Но только творчество Высоцкого «как-то сбоку» не удержать; оно резко выступает своего рода вторым полюсом русской поэзии, на котором в той же мере сходятся все «силовые линии», темы и интонации, как и на творчестве Пушкина.
Здесь не место для литературных аргументов и дискуссий, но согласимся по крайней мере с одним: если какой поэт действительно объединяет русский народ, то уж точно скорее Высоцкий, чем кто-либо иной. Если понимать слова о «народном поэте» не как комплиментарную гиперболу, а буквально: когда личное отношение миллионов людей к определенному поэтическому миру становится фактом народного самосознания, истоком национальной солидарности, то именно В.С.Высоцкий занимает такое место в русской культуре. И подобный буквальный смысл едва ли приложим к Пушкину — великому поэту образованного общества; его-то поэзия до сих пор, несмотря на все усилия школы и государства, встречает отзыв у народного большинства разве что в детстве, разве что своими сказками.
Известно выражение Павла Флоренского: «Если есть Троица Рублева — значит есть Бог».
Несколько снижая пафос, но сохранив аналогию, я рискнул бы сказать так: в русской культуре есть Высоцкий — и значит, наше положение далеко не безнадежно.
8. А также… Несколько слов о «фильтрах внимания»
Поставим многоточие в нашем обзоре.
Очевидно, не упомянуто многое. Я не затрагивал круг церковно-православной культуры, дабы не говорить тривиальности и не вызывать неизбежные эмоции с какой-либо стороны. Не затрагиваю и огромное наследие русского христианства вне канонического православия: от старообрядцев до баптистов и лютеран, до различных исканий в духе «православного протестантизма», которые вряд ли оформятся во что-то определенное, но несомненно будут продолжаться48 . (Во всяком случае, христианская Россия явно не будет гладко-православной страной.)
Далее из неупомянутого, навскидку.
…Мир русской философии, разорванный на несколько очень разных эпох и лишь ожидающий как целостного прочтения, так и осознания в самых разных контекстах.
…То, что привыкли именовать «фольклором и этнографией», а теперь чаще называют «исследованиями русской народной культуры»: не столько поиск артефактов, сколько их осмысление и трактовка; связь символики, обрядов, методов ведения хозяйства с актуальными и сегодня правилами отношений с природой, методами самоорганизации, построения деловой жизни и т.д. Этно-графический «архаико-модернизм» все чаще обнаруживает себя не в музейных, а в проектных жанрах.
…Эстетика яркой многоликости: от субкультуры ярмарки до «московского барокко» — неразрывная антитеза той русской народной культуры, где (как мало в каких других культурах) под легким налетом удальства и молодечества изобилует заунывное, печальное, отчаянное.
…Традиции русского офицерства, глубокие, уникальные, драматичные, не так уж ощутимые за пределами офицерской среды и отнюдь не служащие простым приложением к имперской машине.
…Традиция интенсивного ученичества, внезапного «вытаскивания себя за волосы из болота», многократный опыт фантастически быстрого становления из хаоса и разрухи49 .
…Историческая практика интуитивной пространственной организации — свободной живописной панорамы, пейзажных ансамблей допетровских русских городов; за этой панорамностью просвечивает феномен образования русского народа как народа рек: двигавшегося по рекам и обживавшего речные долины; народа, чей глаз настроен на речные окоемы50.
Каждый может дополнить список тем, что было мной забыто.
Мы видим, что только поспорить за первенство способны два десятка традиций. Но речь не о конкуренции, не о выборе чего-то оптимального, а об умении быть причастным разным традициям своего народа, понимать тех, для кого смысловые акценты расставлены иначе, пользоваться несколькими культурными «фильтрами внимания», осмысленно комбинируя их.
Увы, лишь два с половиной фильтра внимания постоянно в ходу в России по отношению к любым событиям: литературный, военно-патриотический — да еще, пожалуй, фильтр «стеба», злобной или горькой иронии надо всем и вся, используемый как эрзац-утешение. Каждый сросся со своим.
На этих культурных инстинктах далеко не уехать.
Пора отдирать прежние фильтры от глаз, перестать ощущать себя заложниками надрывно сознаваемой истории.
Разрабатывать же любую культурную или общественную стратегию оправдано с использованием хотя бы нескольких «фильтров», с опорой на сочетание нескольких традиций.
Глава IV. Другие культурые основы —
другие общественные стратегии
«А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса»
Эти две строки Высоцкого часто смотрятся подходящим эпиграфом к нашей жизни. Дальнейшие тезисы сформулированы вроде бы утвердительно — но это не ответы, а скорее проблематика тех вопросов, к которым пора подбирать решения. Они не произвольны, а подсказаны тем русским культурным наследием, которое мы с вами вспоминали.
Подобных смысловых нитей должно быть достаточно много, чтобы начинать создавать ткань обнадеживающих и относительно рациональных образов российского будущего. Рациональных не только в смысле логичных и посильных, но и возможных в качестве предмета широкого согласия, предмета договоренностей между людьми, которые мыслят очень по-разному.
Попробуем взглянуть дальше событий ближайших лет, когда заведомо будет много дурного и мало осмысленного. Начнем намечать дальний горизонт, который важно удерживать взглядом уже сейчас, чтобы сохранить прямую осанку, веру в оправданность усилий, не пропускать те моменты, когда можно отталкиваться от наклонных плоскостей, не только отбиваться от обстоятельств, но и последовательно добиваться чего-то.
Сюжет первый. Домой
…У нас теперь вроде бы даже гранты выдают для финансирования исследований на тему «Пути России». Хотя почему-то никому не приходит в голову размышлять о «Путях Франции», «Лыжне Норвегии», «Трассах Бразилии» или «Хайвеях Китая», а с осмысленным развитием у этих стран получается заметно лучше.
Мне же чаще слышится другой напев, эмигрантская строчка: «…Вернуться в дом Россия ищет троп».
Едва ли не большинство населения страны ощущает себя словно в парадоксальной эмиграции, изгнанной из дома на какие-то «пути», наблюдает происходящее словно бы через стекло застрявшего в тупике вагона. Пора возвращаться. Уходить с большой дороги и сворачивать к дому.
Ориентиры образования: многоликие и поисковые
Уже не будут срабатывать никакие «золотые списки из 100 главных произведений, обязательных к изучению» и тому подобное (как бы государство их ни сочиняло и ни продавливало). Будет востребовано иное: множество разных входов в пространство русской культуры. Наряду с вариативностью возможных встреч с русским культурным наследием, важен и поисковый, исследовательский их характер. Такой ход дела по-настоящему сможет помочь и восстановлению связности и актуальности самой национальной культуры.
Ведь открытость культуры — мера ее жизнеспособности.
Залог взаимопонимания людей, встречавшихся с разным, научившихся разному, не в усвоении всеми одного «золотого списка», а в том, что разные стороны русской культуры переплетены между собой; тот, кто углубился в одни ее аспекты, найдет точки соприкосновения с теми, кто воспитывался на других ее сторонах.
Почему-то одни и те же люди требуют списков обязательных к изучению произведений (а то ужас как все погибнет!) и цитировать Тютчева про «умом не понять… в Россию надо просто верить».
Как раз тот самый случай, когда надо просто поверить.
Не страна дедов, а страна детей.
Про прошлое мы уже не договоримся (по крайней мере, как представители нынешних поколений). Многим из нас никогда не договориться и про общие ценности, пределы допустимого и запретного и т.д.
Но мы можем договариваться о делах наглядных, значение которых понятно всем: обсуждая Россию как страну, обращенную к детям. Как детям рядом с нами живется? На что они могут надеяться? Какой дом, город, область, страну мы им оставим?
Не «страна дедов», а страна детей и внуков. На это сложно переключаться, но самое время.
Вот — страна «от дома до работы», страна «где пьют и зарабатывают», «пашут и отрываются», где что-то истерично чтят и нечто настойчиво ниспровергают.
А вот — страна, уютная для детей, удобная для семейной жизни и воодушевляющая возможностями состояться в завтрашнем дне.
Каждый может оценить меру необходимых усилий для смены пейзажа.
Страна взрослых
Но страна для детей — это обязательно и страна взрослых. Тех, кто ответственно укрепляет общий с детьми житейский мир и демонстрирует образ «достойной взрослости».
Пока же детей в России окружает подростковый мир старших поколений: подростковый максимализм, утопизм, страсть к фэнтэзи, жажда простых решений, пафос «своих-чужих» и пр. Минимум чьей-либо ответственности и «кроме мордобитиев, никаких чудес».
«Высокая словесность» здесь помогает плохо. Классическая русская литература — культура мятежной юности, скорее романтическая по своему настрою (как, впрочем, и большинство европейских литератур Нового времени), культура высоких рискованных ставок и малой ценности еще не сложившейся жизни (не говоря уже о жизнях чужих).
Но даже до этой юношеской культуры общество сильно не дотягивает, всячески лелея в себе инфантильность семиклассника.
Приходит пора взрослеть. Всех этих заполонивших общественное пространство пенсионеров с подростковыми комплексами, старух Шапокляк, грезящих мелкими пакостями, всяких юношей бледных со взором горящим — задвигать в подобающие им цирки и богадельни. Потребуется упорно создавать, разворачивать такое общественное пространство, в котором разговаривают взрослые люди о взрослых вещах.
Или, изображая вечный подростковый бунт, стареющее российское общество продолжит заваливаться в старческий маразм — или все-таки соберется с умом и начнет демонстрировать черты зрелости.
Человек у себя на родине
Именно так: на родине с маленькой буквы. Не вообще в державе, а в своей стране — тех масштабов, которые человеку близки по складу биографии. Где он находит то, что для него лично дорого.
Вряд ли имеет хоть какую-то ценность нынешнее «патриотическое воспитание» — как надежда вселить рвение отдавать жизнь за начальство; куда нужнее воспитание людей, умеющих жить у себя на родине и намеренных сделать ее более достойной для жизни. А самих себя чувствовать в связи с этим достойными людьми.
Следом за обустройством своего дома приходит черед для восстановления общественного пространства вокруг, для взаимопонимания и самоуправления — вещей, так трудно пока приживающихся даже в головах.
Экономика согласия: домашнее измерение
У многих на слуху сочетание слов «устойчивое развитие»; оно интуитивно воспринимается как незатейливый принцип сохранения имеющегося и добавления к нему новых достижений.
Но понятие это куда менее тривиально; оно складывалось в ходе множества международных научных диалогов и опирается на обширный опыт радикальных социально-экономических перемен.
«Устойчивым развитием» обозначили задачу перехода от общества-завода, общества, мыслящего в логике «производство — потребление», к обществу, «живущему в своем доме» и о своем доме заботящемуся. Оно запускается движением не «вперед», а «вглубь и вширь» — не консервируя, а радикально преобразуя фундаментальные основы жизненного стиля.
«Устойчивое развитие» понимается как принцип отношения к жизни, основанный на открытии возможностей развития для каждого (причем не столько «равных» возможностей, сколько вариативных, почти индивидуальных). При этом резко меняются и структуры производства, и отношения местных сообществ к экономике, образованию, пространству жизни. И — главное — резко расширяется круг лиц, чувствующих ответственность за то, что происходит рядом с ними.
Так, понятию экономики возвращается его изначальный, еще античный смысл: от науки о зарабатывании денег она «переосмысливается обратно» как культура обустройства «домашнего» пространства (и в малых, и в очень больших масштабах).
Для нас речь идет не о выборе экономической стратегии, а о возможном принципе оценивания любых стратегий; способе выбирать меру их «социалистичности», «консервативности», «либеральности» и т.п.
Мы ведь убедились, что доллары-то сами по себе не помогут. Прошедшие годы относительного финансового изобилия оставляют страну еще более изуродованной, чем она была до нефтеденежных дождей.
Не пора ли видеть в экономических моделях не идеологии и знамена, а инструменты? Которые больше или меньше способны помочь в обустройстве дома.
Сюжет второй. Паритеты и договоры
Демократия как практика жизни
Россия никогда не жила при демократии, но уже успела выработать к этому слову устойчивую аллергическую реакцию.
Увы, другого слова не будет. Речь ведь не про власть большинства над меньшинством (или наоборот) — а про умение решать возникающие проблемы методом диалога, выяснения интересов друг друга и достижения согласия.
Нам доступны три способа решения проблем: договариваться между собой, подчиняться тому, кто «круче», или тихо ждать, что все разрешится как-то так, без нашего участия.
Приверженность первому способу и означает демократию.
Не будем предаваться иллюзиям. Никакой великой демократической России мы при жизни не увидим. Но добиваться паритета бюрократических сил и демократических практик, административной жестокости и человечности, безразличия к людям и уважения к ним — можно и должно.
Конечно, и без того слаборазвитые демократические традиции в стране сегодня задавлены тотальным триумфом административного аппарата. Но даже когда давление ослабнет — сможем ли мы этим воспользоваться? Чтобы потом добиваться хотя бы переменных успехов по существенным поводам, нужна заранее разработанная мускулатура.
Каркас вместо пирамиды
Разброд и шатание — или вертикаль власти. Уход от этой дилеммы выглядит необходимым условием выживания для страны. Нужно что-то прочное, но гибкое, сильное, но внимательное, разнородное, но равноправное.
Каркасная структура вместо пирамиды.
Сверху ничего в России уже не улучшить. Страна доцентрализовалась до той степени маразма, что государственный аппарат, похоже, способен ныне только распределять и разрушать (ну, и в меру сил над кем поиздеваться).
В «низовой» порыв самоорганизации инертных масс населения (или их внезапное просвещение) тоже не чересчур верится. А про совсем жалкую нынешнюю «элиту» даже вспоминать как-то совестно.
Диктатура сверху, жажда ее повалить, инертность «электората» или его ожидаемый повсеместный бунт — все это внешняя обстановка, дополнительные условия задачи, но не те данные, которые помогут решению.
Решения смогут обнаруживаться на среднем уровне. В «узлах» возможного горизонтального каркаса — среди широкого круга людей, привыкших брать на себя ответственность.
Понятно, что никакая полнота власти им не достанется; что все это будет не вместо, а вместе: и действующие круги ответственных людей, и ржавые иерархии, и эмоционально манипулируемые толпы, всегда готовые качаться от «ура» к «долой» и к «дайте мне»51 .
Потому нагрузка на «людей каркаса» будет тройная: поиск друг друга, налаживание сотрудничества, общие усилия по решению сверхсложных
проблем — только одна часть забот. Но еще и блокирование негатива, идущего с централизованных верхов, минимизация сваливающихся оттуда бед, отвоевывание фактических полномочий (часть вторая). И третья часть: культивирование практик поддержки для представителей аморфного населения, для тех, кто еще далек от самостоятельности и ответственности.
Возрождение федерации
России это слово досталось нечаянно, по советскому наследству. После стихийной федерализации-феодализации 1990-х все свернулось обратно, в сверхцентрализованную «недоимперию».
Теперь федерацию потребуется создавать уже осмысленно — и не с нуля, а с отрицательных величин.
Из редко вспоминаемых тривиальностей: федерация — это союз самобытных стран; государство, состоящее из совокупности меньших государств, каждое из которых способно к самостоятельности.
Даже если отбросить проблемы борьбы за власть и полномочия — большая часть административно нарезанных российских областей мало напоминает хотя бы претензию на какую-то цельность и самостоятельность.
Превращение российского государства в федеративное — задача столь же непростая, сколь и необходимая к разрешению.
Но ее решение — это и наш шанс на здравый компромисс между приватизаторами централизованной «вертикали» и теми людьми, которые что-то могут менять в стране к лучшему.
Компромисс можно формулировать хоть бы и так: вам «недоимперия» без демократии52 , а людям — их автономные внутрироссийские государства. И если верхний уровень российской державы почти неизбежно останется диким, циничным и как бы «имперским», то за адекватность, демократичность и вменяемость базового уровня государственности вполне можно побороться.
Когда-то «опричнину» отделяли от «земщины»; теперь пора бы поступить наоборот: отделить «земщину» от «опричнины» и убедить последнюю в земские дела не соваться.
Фанфарами, танками, доходами и знаменами «великой державности» при этом можно восхищаться или ужасаться ими; но надо добиться, чтобы центральная власть знала свое место и не зарилась на чужое.
Место на карте и стрелки на компасе
Россия убедительно показала, что европейской страной не является; иначе с ней вряд ли случилось бы то, что случилось. Но столь же трудно не заметить, как бодро взятый «антизападный» курс тянет государство к вероятному краху в обозримой перспективе.
Придется отказываться от привычки путать связность и принадлежность. Канада, Аргентина, Южная Корея — отнюдь не европейские страны. Но отчего-то там никому не приходит в голову с пеной у рта доказывать свою неевропейскость и культивировать ненависть к Европе. Скорее наоборот53 . (Вот у Зимбабве действительно подход ближе к нашему.)
Если же разворачивать страну больше на восток, чем на запад (что, возможно, правильно), то вряд ли получится сделать это без европейцев. Быть владельцами широкого европейского выхода к Тихому океану заметно перспективней, чем служить представительством Северной Кореи на Балтике. Да и удержать безлюдный Дальний Восток с опорой на европейские проекты куда больше шансов, чем без оных.
И еще одно географическое замечание. Быть может, вместо привычных ожиданий «ветра свободы» с Запада, мистических или геополитических откровений с Востока нам стоит повернуться на девяносто градусов?
Россия лишь в какой-то мере — Запад, в какой-то — Восток, но вот Север — по полной программе.
А у людей Севера есть много актуальных для нас привычек. Север — это умение всюду успевать, никуда не торопясь. Это привычка к вдумчивости и внимательности. Это память о необходимости согласия и сотрудничества (ведь, враждуя, на Севере долго не проживешь; да и в одиночестве долго не протянешь). Это и образ мира без тесноты и границ.
Быть может, поумерив не так уж свойственный нам южный темперамент, на том и подводить географические выводы?
Сюжет третий. Страна многих обликов и возможностей
Россия — страна бесконечно разнообразная, Россия — страна возможностей. Как-то так?
Или напротив: Россия — страна однотипных городских районов, схоже вымирающих деревень, единообразных чиновных кабинетов и инстинктов, унылолицых блюстителей закона, шаблонных моделей поведения, стандартных жилплощадей и дачных участков; страна, где всех держит прописка, где ни у кого нет денег никуда доехать (да и некуда ехать, кроме как к родственникам раз в пять лет), где все проселки давно заросли, а самолеты летают только в Москву, где в «социальных лифтах» электричество отключено за недоплату, где активные люди — явно бельмо на глазу для окружающих; Россия — страна безнадеги?
Страну возможностей, страну многообразия не создать простой поддержкой разных местных «самобытностей». Страна засветится, когда в каждом обжитом месте будут пульсировать, соединяться, обновляться различные культурные традиции, а перед каждым жителем будут открыты деловые, культурные и образовательные сообщества из многих мест.
Карта «страны возможностей» выглядит не разделенной на разноцветные лоскуты, а переплетенной разноцветными нитями. Чтобы они проступили на этой карте, грамотная разведка и эффективное использование культурных ресурсов становятся значительно важнее выкачивания ресурсов нефтяных.
* * *
…В стране нарастает холодная гражданская война, как фронты пройдут — еще непредсказуемо. На границах бьется война подлая и вполне горячая. Мир еще только начинает свыкаться с мрачным образом России, и даже если российская политика притормозит в своем безумии, еще многие годы отношение к нам будет только ухудшаться.
Хотя уже сейчас мало найдется стран, где бы у людей было так плохо с доверием друг к другу и к самим себе. Как повернуть на полувоенном фоне от инстинктов взаимоуничижения — к уважению человеческого достоинства, к непривычному налаживанию практик взаимопомощи? Достойный образ возможной завтрашней России — это ведь и более достойный образ самих себя уже сегодня.
Россия выходит из эпохи постмодерна и, соответственно, из элитарно-китчевого, высокомерно-вульгарного отношения к жизни.
Людям вновь придется отвечать на жизненные вопросы до боли всерьез.
Хорошо бы научиться отвечать на них в согласии с голосом совести, с ощущением умных усилий, с радостью от успешной помощи друг другу.
Кому-то в этой связи может пригодиться некоторое обновление культурных ориентиров — о чем мы и беседовали в данной статье.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В качестве примера локального, но выразительного можно еще вспомнить целый раздел искусства, закрепившийся на культурной авансцене по большому счету усилиями одного человека. Техника палехской и федоскинской миниатюры когда-то возникла как отрасль иконописного искусства и казалась почти обреченной на гибель; но благодаря великому искусствоведу А.В.Бакушинскому в советское время она умудрилась стать одним из символов русского художественного творчества.
2 Более того, привычно, что именно государство географически и социально очерчивает биографию деятеля русской культуры, придает форму его судьбе. Произвол власти — словно неизбежный и непредсказуемый «спарринг-партнер» для судьбы человека в «культурной России».
3 Белоруссия, заметим, и легкого экзотизма не удостоилась.
4 Обратим внимание, что творчество Бажова и Писахова запросто могло вовсе не случиться или остаться незамеченным; да и сейчас оно воспринимается по преимуществу «экзотикой».
5 Заметим для себя: не в малой мере это случилось и благодаря совершенно особому положению Льва Николаевича в ряду русских писателей — имперскость и литературоцентричность ему-то как раз были чужды до отвращения, а близки многие из тех «скрытых» аспектов русской культуры, о которых пойдет речь далее.
6 Конечно, типизация — одно из свойств любой культуры; но в большинстве случаев оно уравновешивается другим культурным вектором: любовной внимательностью к особенному, уважением к уникальности судеб и событий, культивированием ожидания «умной встречи» с непредсказуемым. В русской «высокой» культуре соотношение сил на этих полюсах весьма неравновесно.
7 Одним из последствий стала инфантилизация гуманитарного образования. За пределами псевдомарксистской риторики советское гуманитарное образование в огромной мере было обращено к области русской литературы и литературно воспринимаемой истории. Инерция сохранилась. Инерция количественная: в стране тысячи дипломированных исследователей поэзии Цветаевой и Ахматовой, но ничтожно мало адекватных специалистов по рациональному выбору общественных стратегий, социально-экономическому анализу и проектированию, социокультурной экспертизе и т.д. Инерция качественная: общая привычка к тому, что гуманитарное образование — это не о готовности искать и находить умные решения для многих острейших проблем, а приятное времяпрепровождение, самоценная «игра в бисер», приправленная вольными разговорами на свободные темы.
8 А вышла из нее, по всей видимости, на рубеже 1980-х годов — со смертью Высоцкого и началом расцвета рок-культуры — когда сама молодая поэзия ушла в мир рок-музыки, принципиально синкретичный.
9 Заметим, кстати, что русская архитектура и живопись, гуманитарная и научная мысль, да и многие другие стороны национальной культуры подобной закомплексованностью и «роковой обреченностью» взглядов на исторический процесс отнюдь не страдали и не страдают.
10 Мы так привыкли к пушкинскому «Я не ропщу о том, что отказали боги / Мне в сладкой участи оспоривать налоги / Или мешать царям друг с другом воевать… Иные, лучшие мне дороги права» и пр., что вряд ли вспоминаем о том, что именно ближайшие старшие товарищи поэта сочиняли «Опыты теории налогов», жарко обсуждали темы военно-политической стратегии и как раз свое собственное общество (а не царский двор и не крепостное крестьянство) почитали и ведущей сознательной частью народа, и ядром русской политической нации.
11 «Победителей и оправданье тиража», — по известному выражению Пастернака о Маяковском.
12 Потому и образ мира русской высокой культуры — не столько содружество сильных талантов, сколько свита вокруг гениев. Для честолюбивого среднеталантливого человека перспективнее не воплощать творческое призвание у себя на родине, а, воспользовавшись своим дарованием в качестве «разового взноса», сделать скачок наверх и пробиться в «свиту».
13 Это не самая значительная его должность, но все-таки самая драгоценная для русской культуры. Полковник в войнах екатерининской эпохи, управляющий Монетным двором на рубеже веков, первый помощник Сперанского, а после 1814-го двенадцать лет «исполняющий должность государственного секретаря» империи. Между делом — президент Академии художеств, археолог, археограф и рисовальщик. Миротворческий объединитель «карамзинистов» и «шишковистов» в своем салоне, покровитель Крылова и Гнедича, «которых приютил и приручил в библиотеке». Создатель русской эпиграфики — «науки о надписях» и признанный лидер в своеобразном направлении — «правилах медальерного искусства». Впрочем, в сносках не место для подробных биографий, а о роли Оленина в русской культуре — долгая история.
14 Николай Полевой — пример уже скорее трагической, чем гармоничной судьбы. Его «Московский телеграф» («каждая книжка его была животрепещущей новостью») соединял проповедь литературного романтизма с новинками европейской техники, философии и политэкономии; впервые вопросы культуры, образования, техники, промышленности, экономики рассматривались рядом друг с другом и в тесной связи. Купеческий сын, вынужденный всю жизнь биться за хлеб насущный, он попытался опереться на ориентиры и интересы образованного «среднего сословия». Он взялся создавать культурные основы для сближения и согласия разных сословий, просвещения и политики, технической мысли и художественной — в стремлении сделать своих читателей современниками европейского XIX века. В едва ли не безнадежной ситуации он умудрился продержаться почти десятилетие между прессом бюрократического николаевского государства и презирающим плебеев дворянским обществом.
О Н.А.Полевом не так давно вышла книга Самуила Лурье «Изломанный аршин» (СПб, 2012) — одна из замечательных «ласточек» радикального переосмысления картины культурного прошлого. Книга, в которой не жизнь пушкинского современника оттеняет жизнь поэта, а, напротив, судьба Пушкина выступает фоном для биографии его выдающегося ровесника. И сравнение их общественных и моральных позиций неожиданно оказывается отнюдь не выигрышным для Александра Сергеевича.
15 В.Ф.Одоевский отдельно известен как писатель, отдельно — как музыковед, отдельно — как организатор литературного салона, отдельно — как философ и естествоиспытатель, отдельно — как ответственный государственный чиновник. А еще — как директор Румянцевского музея, соучредитель Географического общества и основоположник отечественной фантастики. Все это редко осмысляется вместе. Еще менее знаменита его центральная роль в истории русской педагогики на протяжении двух десятилетий: между эпохой «Педагогического журнала» в начале 1830-х и расцветом деятельности Пирогова и Ушинского в 1850-х. Хозяин главного салона литературной аристократии (наследников «пушкинской партии»), он становится и главным народным просветителем, ведущим писателем и издателем массовых популярных книг для крестьянского и детского чтения.
16 Личность К.Д.Кавелина, одна из масштабнейших в XIX веке и ключевых в ходе «великих реформ», оказалась равно неудобной для идеологии почти всех партий. Кавелина с безразличием упоминают между делом то в одном, то в другом ряду под стандартными ярлычками; его привычно записывают то в число «западников», то в ряды «идеалистов» и «позитивистов» (причем одновременно — уникальный случай). Но вот примеры нескольких его мировоззренческих позиций, столь же актуальных сегодня, как и полтораста лет назад:
Рассмотрение в качестве ближайшей исторической задачи народа формирование личностного способа жизни: «как Россия, вбирая необходимые условия из своего прошлого и имея перед собой опыт других стран, найдет свой — русский — путь к личности».
Убежденность, что «психическое, юридическое и нравственное ничтожество личности в России» может быть прекращено только через согласование гражданских форм жизни с семейными, общинными и государственными.
Примирительный отказ от тупикового конфликта западников и славянофилов через постановку приоритетной задачи изучения России, «реальных явлений в жизни русской земли, русского народа, прошлой и настоящей, без всякой предпосылки».
Организация массовой работы по изучению России и русского народа (среди реализованных идей — разосланные и заполненные самими жителями в разных уголках страны формы описаний местности, в которой они проживают).
Его наиболее значительные книги — «Задачи психологии», «Задачи этики» и «О задачах искусства» — предложили продуманные основания для обширной и по существу доселе не воплощенной программы гуманитарных исследований. В совокупности своих трудов Кавелин впервые развернул систему представлений о том, что позднее назовут «культурно-исторической психологией». (Подробнее об этом см., напр., Шевцов А.А. Введение в общую культурно-историческую психологию. — СПб., 2000).
17 Напр., из «Письма к Достоевскому» К.Д.Кавелина (Вестник Европы, 1880, №11): «Не могу я признать хранителем христианской правды простой народ, внушающий мне полное участие, сочувствие и сострадание в горькой доле, которую он несет, — потому что, как только человеку из простого народа удается выцарапаться из нужды и нажить деньгу, он тотчас же превращается в кулака… Бойкие, смышленые, оборотливые почти всегда нравственности сомнительной. Теперь вглядитесь пристальнее в типы простых русских людей, которые нас так подкупают и действительно прекрасны: ведь это нравственная красота младенчествующего народа! Первою их добродетелью считается, совершенно по-восточному, устраниться от зла и соблазна, по возможности ни во что не мешаться, не участвовать ни в каких общественных делах… Мы бежим от жизни и ее напастей, предпочитая оставаться верными нравственному идеалу во всей его полноте и не имея потребности или не умея водворить его, хотя отчасти, в окружающей действительности, исподволь, продолжительным, выдержанным, упорным трудом... Что важнее, что должно быть поставлено на первый план: личное ли нравственное совершенствование или выработка и совершенствование тех условий, посреди которых человек живет в обществе? …Оба решения вопроса и верны, и неверны: они верны, дополняя друг друга; они неверны, если их противопоставлять друг другу».
18 По выражению того же К.Д.Кавелина.
19 Во многом именно А.Н.Оленина можно считать основателем правильной организации библиотечного дела в России; с легкой руки Н.А.Полевого в России появилось само понятие «журналист» и само представление о том, каким должно быть дело главного редактора. В.Ф.Одоевский — организатор системы работы в детских приютах и детских больницах, создатель одной из первых выстроенных систем педагогических методик и руководств (и уж заодно — законодатель отечественного музыковедения); Кавелин — один из главных деятелей реформ Александра II и т.д.
20 Если продолжать метафору, то главные «силовые линии» «горизонтальной культуры» проходят не по вершинам, а по перевалам. От таких точек отсчета открыт и путь вверх — к вершинам гениальных произведений, и спуск вниз, «в долины», но только не к литературных эпигонам, а к многосложному ходу культурной жизни в разных уголках и областях страны.
21 См. книги Иванова А.В.: Message-Чусовая. — СПб., 2007; Хребет России. — СПб., 2010; Горнозаводская цивилизация. — М., 2013; е-бург. Город храбрых. — М., 2014.
22 Салимов И.Х.Среднее Поволжье. Книга для чтения по краеведению. — М., 1994.
23 Вот еще несколько строк из книги: «…Следует ли воспринимать региональное сознание как нечто, данное нам изначально? Конечно, нет. Как человек воспитывается всю жизнь, точно так же происходит становление местностей. Народы не только заселяют местность, но из поколения в поколение происходит выработка местного самосознания. И в зависимости от давности заселения, от конкретных условий этот процесс в разных местах находится на разных стадиях.
…Итак, в России очень немного местностей среднего звена — краев. Можно сказать, что в настоящее время идет их становление. В этой связи Среднее Поволжье представляется очень интересным примером выработки самосознания, где наряду с уже устоявшимися традициями, представленными в основном коренным населением, происходит становление нового регионального сознания. С ростом местного самосознания укрепляется и сам край, т.е. от осознанности края во многом зависит его будущее.
…Будущее края должно быть таким, каким он сам себе его задумывает. Поэтому речь скорее должна идти не об экологии человеческого обитания, а об экологии мысли. Это возможно только тогда, когда мысль, освободившись от чуждой среды, поселится в ландшафте и из мысли о ландшафте превратится в замысел самого ландшафта».
24 За то себя и уважают, как известный волк из детского мультфильма.
25 В которую могут войти и книги таких «писателей земли башкирской», как Аксаковы, и знание календаря башкирских праздников, и чуткость к особенностям татарской речи, и представление об обычаях марийских и чувашских деревень и т.д.
26 Потому не менее значим и мысленный диалог с теми народами, что участвуют в нем из глубины времен; идет ли речь о древних вотяках и пермяках Урала или о тех, кто изгнан/истреблен уже в ХХ веке: как финны в Ленинградской области, евреи в Невеле и прочих городках вдоль черты оседлости, немцы на Саратовском левобережье и т.д.
27 К чему заводили такие проекты на свой страх и риск волевым начальникам, умным, обеспеченным, отлично встроенным в партийную систему, кроме надежды на добрую память потомков? В 1973 году в своем дневнике Г.В.Мясников формулировал так: «Мое устремление: 1) сделать Пензу интересным городом, пробудить у жителей настоящую любовь к нему. Но одними лозунгами сделать это сложно, нужна материальная основа. Надо иметь то, чем гордиться. 2) В ходе революции ни один народ не растерял традиций столько, сколько русский народ. Поэтому основная направленность "интересных" строек — это возрождение национального достоинства русского человека».
28 «Бекетовскими» они не стали зваться лишь потому, что коллега Андрея Николаевича, профессор К.Н.Бестужев-Рюмин, вызывал большее административное доверие.
29 Ведь патриотическая версия вынуждена была прицениваться: к степени «русскости» фамилий, нюансам подданства, мере зависимости от иностранных исследований и наставников (не дай бог оказаться кому должным!), «идейности» и понятности для современной власти и т.д. и т.п. — в результате от истории национальной науки оставалась лишь малая часть, загнанная в прокрустово ложе пафосных «героических» биографий.
30 А трое сыновей Эйлера — генерал, врач и ученый-физик — с юности привыкли считать себя российскими подданными.
31 Яснов М.Д. Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах. — СПб., 2014.
32 Вот пример формулировки: «Вобравшая в себя обломки, осколки и целые конструкции мифа древности, обогатившаяся многовековым опытом развития (сначала — фольклорного, затем — литературного), сказка в чтении нынешних детей стала чем-то вроде «возрастного
мифа» — передатчиком исходных норм и установлений национальной культуры. Сказка превращает дитя семьи — этого папы и этой мамы — в дитя культуры, дитя народа, дитя человечества. В «человека социального», по современной терминологии». (Петровский М.С. Книги нашего детства. — М., 1986.)
33 Из комментариев крупнейшего исследователя детской литературы Мирона Семеновича Петровского: «…Сказки Чуковского представляют собой перевод на «детский» язык великих традиций русской поэзии от Пушкина до наших дней. Они словно бы «популяризируют» эту традицию — и в перевоплощенном виде возвращают ее народу… осуществляя экспериментальный синтез этой высокой традиции — с традицией низовой и фольклорной... Великое искусство, понятное всем, было его идеалом, от которого он никогда не отступался...»
34 По замечанию М.Д.Яснова: «Детская субкультура всегда отличалась тем, что в ней «оседали» уже отработанные во взрослой культуре обычаи и представления. В XIX веке детская поэзия шла вослед взрослой; но в ХХ столетии ее место резко изменилось… разного рода запреты начали вытеснять в детскую литературу таланты, лишенные возможности реализоваться во взрослом обществе, но стремящиеся сохранить свою индивидуальность и присутствие в культуре (нечто подобное происходило в советском художественном переводе)».
35 Петровский М.С. Книги нашего детства. — М., 1986.
36 «Детская поэзия — это воспитание сострадания, сочувствия и умения эстетически воспринимать жизнь, — формулирует М.Д.Яснов, добавляя, — одно из предназначений поэзии для детей — раскрепощать читателя в отношении с языком, то есть с миром». (Яснов М.Д. Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах. — СПб., 2014.)
37 Вообще мультипликационная традиция едва ли уступает здесь по масштабности литературной и сохраняет свое величие до наших дней: вплоть до «ожившей живописи» фильмов Александра Петрова, до замечательнейшего проекта «Колыбельные мира»; до тех же «Смешариков» (всем привычных и поставленных на поток, но не менее от того достойных признания).
38 Только для ясности придется условно разделить два понятия. Назовем одно историей образовательной регламентации: нормирования правил обучения, бюджетов, физического устройства школ и вузов, селекции учащихся и учителей, формальных требований к ним, административных утопий и пр. А историей педагогической культуры другое: историю осмысления, изобретения, становления грамотных, человекосообразных форм передачи опыта жизни от взрослых к детям, практик достойного общения между людьми разных поколений. Педагогическая культура в чем-то воспроизводит себя из века в век, в чем-то узнаваемо обновляется, в чем-то вдруг оказывается совсем новой и неожиданной. Она распространяется в отечественном социальном пространстве рывками, прорывами, всплесками; вновь и вновь подавляется очередным торжеством бюрократического насилия при относительном равнодушии населения. Возможно, отсюда и нигилизм по ее поводу: мало какая культура так искорежена, искажена в социальной жизни; чтобы увидеть нечто настоящее, требуется с усилием разбираться, добираться до нее.
39 Умозрительная схема — силовое внедрение — наказание неисполнительных — частичный результат, достигнутый нежданно-дорогой ценой — обживание получившегося социального уродца: в политике такой жанр работы доминирует. Но когда подобная стратегия реализуется во всех сферах по любым возможным жизненным поводам…
40 А после того, как условия созданы, зачастую никаких дополнительных планов, распоряжений и усилий может и не потребоваться.
41 Бабушкина Т.В. Что хранится в карманах детства. — СПб., 2013. См. далее: «…В своей жизни мы каждый раз искали тот язык, ту роль ребенка, ту ситуацию, ту декорацию (в широком смысле этого слова), то произведение, через которое ребенок сможет проклюнуть скорлупу и зайти в эту бесконечность культуры. Для разных людей это может происходить в очень разных точках, иногда по поводу самых странных произведений. Когда происходит это глубокое прочувствование хотя бы чего-то одного, то человек уже как бы сам становится своим проводником, начинает душевно грамотно осматриваться и двигаться в культурном пространстве — поскольку все становится целостно».
42 Насколько странен даже столь привычный для нас жанр дачи-убежища — где-нибудь на огромных осушенных болотах, расчерченных квадратно-гнездовым способом на сотни одинаковых участков. Жажда хоть какого-то личного пространства и подобия семейного труда собирает летом миллионы людей в эти перенаселенные дачные города, где до ближайшего не засыпанного мусором леса иногда приходится шагать километры. Причем росли эти дачные города одновременно с вымиранием в живописнейших местах множества русских исторических деревень. Последующие дворцы российских нуворишей чаще всего выглядят воплощением все той же бездомной мечты о даче-убежище, но только раздутой до тех масштабов, на какие денег хватало.
Дружба Народов 2016, 1
43 Напр., у И.В.Киреевского: «Не природные какие-нибудь преимущества словенского племени заставляют нас надеяться на будущее его процветание, нет!.. Русский быт и эта прежняя, в нем отзывающаяся, жизнь России драгоценны для нас, особенно по тем следам, которые оставили на них чистые христианские начала»; «…Сама философия есть не что иное, как переходное движение разума человеческого из области веры в область многообразного приложения мысли бытовой».
44 Это наглядно заметно на фоне Украины, где культурный мир крестьянства все-таки выжил и во многом продолжает задавать тон в общенациональном диалоге. Сохранность крестьянской культуры мы обнаружим и у многих российских народов. У русских, изничтожающих сейчас последние сельские школы, дело обстоит едва ли не хуже всех; культура русского крестьянского хозяйствования едва держится в сельском пространстве обрывками, ошметками на фоне антикультуры лесорубовских поселков, индустриального типа сельхозпредприятий и затухающих деревень с последними пенсионерами.
45 Можно вспомнить и обстоятельный «Лад» Василия Белова, и поразительные крестьяноведческие исследования Теодора Шанина, и восстановления памяти о том удивительном слое русской интеллигенции столетней давности, которая была тесно связана с крестьянством и умела мыслить одновременно и научными, и общественно-хозяйственными, и крестьянскими категориями. К примеру, наследие таких выдающихся представителей «крестьянствующих ученых», как А.В.Чаянов и А.В.Советов, Ф.И.Гиренок раскрывает в качестве одной из наиболее значимых традиций оригинальной русской философии (в книге «Патология русского ума. Картография дословности». — М., 1998).
46 Знаменитая цитата из «Жизни и судьбы» Леонида Гроссмана: «…Чехов ввел в наше сознание всю громаду России, все ее классы, сословия, возрасты. Но мало того! Он ввел эти миллионы как демократ, понимаете ли вы, русский демократ! Он сказал, как никто до него не сказал: все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди, люди!.. Понимаете — люди хороши и плохи не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы — люди равны, потому что они люди. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов выразитель безвременья. А Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, — истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы. Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был; начнем с того, что будем уважать, жалеть, любить человека, без этого ничего у нас не пойдет. Вот это и называется демократия,
пока несостоявшаяся демократия русского народа. Русский человек за тысячу лет всего насмотрелся — и величия, и сверхвеличия, но одного он не увидел — демократии».
47 Да и сама «Школа Толстого» как педагогическая система вполне успешна поныне в разных странах. Если же говорить о влиянии на историю российского образования, то на рубеже ХIX — ХХ веков «толстовское» издательство «Посредник», руководимое И.И.Горбуновым-Посадовым, четверть века выступало явным лидером в цветущем тогда и многообразнейшем педагогическом книгоиздании.
48 Порой высказывают мнение, что и сама русская классическая литература в идейной своей направленности — несложившийся «протестантизм на православной почве».
49 По выражению философа Г.П.Щедровицкого: «Россия — такая странная, чудовищная и чудесная страна, что в ней потом возникает то, чего нет, появляется неизвестно откуда и оказывается на самом высоком уровне».
50 Воспоминание о «речном происхождении» русского народа звучит особенно болезненно при нынешнем небрежении и к путеводности рек, и к деградации речных долин, и к панорамам городов.
51 А также разнообразные бандиты и мародеры на всех уровнях — «вишенкой на торте».
52 Говоря по совести, не бог весть как много демократии найдется и в верхах американской или индийской политики. Но вот «этажом ниже» «государственные люди» уже резко перестают быть всесильны перед лицом местных сообществ, традиций, законов, интересов и т.д.
53 Еще есть странное чувство, словно «воинствующее безбожие» советской эпохи решили с внутренних целей перевести на внешние; потоки клеветы на христианскую церковь в России переадресовали к остальным странам христианского мира. (Только ведь если долго убеждать своих соседей, что они враги, то они постепенно поверят и будут как минимум со все большей опаской и брезгливостью смотреть на твою страну. Разубеждать придется долго.)
Названы самые свободные страны мира
Россия вновь получила статус несвободного государства.
Рейтинг самых свободных стран мира подготовила международная правозащитная организация Freedom House. Аналитики ежегодно вычисляют «индекс свободы» для каждого государства.
В докладе отмечается, что в 2015 году 72 страны мира ухудшили свое положение в рейтинге, что стало самым плохим результатом за последние 10 лет. Лишь в 43 странах ситуация улучшилась.
Хуже всего со свободой обстоят дела в Сирии, Сомали, КНДР, Эритрее и Узбекистане.
ТОП-5 самых свободных стран мира:
1. Финляндия
2. Исландия
3. Норвегия
4. Сан-Марино
5. Швеция
Лошадиная сила дебатов
Республиканцы провели дебаты без Трампа, но не забыли о Путине
Александр Братерский, Игорь Крючков
В ночь на пятницу в американском штате Айова прошли республиканские президентские дебаты, решающие перед партийным отбором кандидатов 1 февраля. Они прошли без главного кандидата Дональда Трампа, который на этот раз дебатировать отказался. В итоге каждый из его соперников так или иначе пытался занять место эксцентричного миллиардера. Больше всего старался Бен Карсон, назвавший Владимира Путина «страной с одной лошадиной силой».
Одной из самых обсуждаемых фраз республиканских дебатов в Айове стали слова о России Бена Карсона, бывшего врача-нейрохирурга. «Путин — это страна с одной лошадиной силой: нефти и энергетики», — заявил он, добавив, что Америке необходимо бороться с влиянием России в энергетической сфере.
Карсон рассуждал о мерах, которые он принял бы, находясь на посту президента, если бы российские военные без опознавательных знаков напали на Эстонию. Карсон перечислил такие ответы, как усиление военной составляющей балтийских стран, поставка оружия на Украину, а также продолжение строительства системы ПРО в Европе.
По мнению Карсона, президента России Владимира Путина надо рассматривать как «оппортуниста и задиру, с которым надо разбираться лицом к лицу».
Лошадиная энергетика
Комментаторы подняли Карсона на смех в связи с рассуждениями о Путине и лошадиной силе. Один из американских интернет-сайтов назвал эту фразу «самой запутанной фразой дебатов», а один из зрителей даже стал учить Карсона логике в своем Twitter: «1. Путин — это не страна. 2. У страны Путина больше чем одна лошадь. 3. Нефть и энергетика — это больше чем одна вещь. 4. И они не лошади», — написал журналист Рик Клейн.
Неясно, произнес ли Карсон фразу специально либо оговорился, перефразировав известное американское выражение «шоу одной лошади». Так говорят об отсутствии больших возможностей.
Карсон во время дебатов использовал это выражение сначала в традиционном смысле: «Путин — это шоу с участием одной лошади, энергетики». Так образно Карсон объяснил возможную политику по отношению к России. «Мы располагаем огромным количеством энергетики, но у нас очень много преград для ее экспорта, мы должны от них избавиться, — рассказал кандидат-республиканец. — Мы должны сделать так, чтобы Европа была от нас зависима в плане энергетики, и засунуть его в маленькую коробочку, где ему и место».
Стоит отметить, что Карсону специально не задавали вопрос о России, он перешел к нему, отвечая на вопрос о Северной Корее, с которой, по его мнению, лучше справится Китай.
Россия без Трампа
Российская тема — одна из любимых для миллиардера Дональда Трампа, лидирующего кандидата Республиканской партии, благодаря своим резким, непродуманным и ярким заявлениям, а также умением подать себя. В отличие от большинства своих соперников, он утверждает, что быстро найдет общий язык с Россией и лично с Владимиром Путиным, который, по мнению Трампа, ценит «сильных и талантливых людей».
Сам Трамп отказался участвовать в дебатах телеканала Fox. У кандидата и сотрудников телеканала натянутые отношения: на одних из дебатов Трамп грубо оскорбил его ведущую, популярную журналистку Меган Келли, которая вела дебаты и на этот раз.
Трамп же во время дебатов проводил выступление по сбору средств для своей кампании.
Без главного соперника на дебатах в Айове республиканские кандидаты пытались всеми силами занять место миллиардера.
Например, России в своем выступлении коснулся и бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби. Он решил использовать риторику Трампа. Отвечая на вопрос ведущего о борьбе с исламистами в Сирии, Хакаби заявил, что не против сотрудничества США и России в рамках сирийской операции. «Если кто-то может пострелять в тех, в кого стреляем мы, я буду рад, если они и свои пули добавят», — сказал кандидат, фактически повторив слова Трампа о выгоде сотрудничества с Москвой.
Правда, Хакаби — аутсайдер гонки и вместе с экс-главой компании Hewlett-Packard Карли Фиориной, экс-сенатором от Пенсильвании Риком Санторумом и экс-губернатором Виргинии Джимом Гилмором Хакаби выступал перед основными дебатами.
Главными «звездами» кампании, в свою очередь, были сенатор от штата Техас Тед Круз, сенатор от штата Флорида Марко Рубио, бывший нейрохирург Бен Карсон, губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, экс-губернатор Флориды Джеб Буш, губернатор штата Огайо Джон Кейсик и сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Все они были заметно рады отсутствию Трампа.
Наблюдатели отмечают, что дебаты прошли спокойно и гораздо более традиционно, чем в предыдущие разы, когда Трамп превращал политические обсуждения в скандальное шоу. Многие американские СМИ сочли это неважной новостью для всех, кроме миллиардера.
Газета The New York Times написала, что «отсутствие Дональда Трампа обернулось, бесспорно, его самым мощным присутствием». Американский онлайн-ресурс Vox и вовсе опубликовал статью под лапидарным заголовком: «Дональд Трамп победил на дебатах».
Прошедшие дебаты — седьмые по счету для республиканских кандидатов и последние перед партийными собраниями (кокусами) в штате Айова, где республиканцы и демократы будут определять фаворитов президентской гонки перед началом праймериз.
Монголия стала самой открытой и демократической страной в Азии
Организация “Freedom House” ознакомила страны мира с отчётом “Свобода глобального мира”. Отчётом охвачены 195 стран мира, среди которых называют самую свободную страну мира по показателям свободы прессы, свободы выражения своей точки зрения, экономической свободы, политической, выборной и правовой среды. Индекс свободы оценивается по 100-балльной шкале. Монголия набрала 86 баллов и заняла третье место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщает сайт www.freedomhouse.org.
В отчёте написано, что “За последние пять лет Монголия постоянно продвигалась вперёд и теперь стала одной из самых открытых и демократических стран Азии”. Самой открытой и свободной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе названа Япония, набравшая 93 балла, а за ней следует Тайвань, набрав 87 баллов.
Самыми закрытыми странами данного региона названы Узбекистан и Северная Корея, которые получили лишь по 3 балла. Самые могучие азиатские страны: Китай и Южная Корея набрали 16 и 83 балла соответственно.
Власти Китая предъявили канадскому гражданину Кевину Гаррату официальные обвинения в шпионаже и краже государственных секретов, передает агентство Синьхуа.
Китайские полицейские арестовали двух граждан Канады, Кевина Гаррата и его супругу Джулию Дон Гаррат, в августе 2014 года. Супругов подозревали в хищении секретных данных, касающихся военных и оборонных исследований КНР. Через несколько месяцев женщина была освобождена под залог.
Сообщается, что обвинения Гаррату были предъявлены прокуратурой города Даньдун в провинции Ляонин, где гражданин Канады содержится под стражей. В этом же городе пройдет суд над обвиняемым.
Кевин и Джулия Гаррат впервые приехали в Китай в 1980 годах, после чего занялись активной деятельностью с целью отправки гуманитарной помощи в КНДР.
Возвращение США к переговорам с КНДР возможно только при готовности Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы, заявил, комментируя предложение Сеула о проведении переговоров в пятистороннем формате, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.
"Северная Корея должна продемонстрировать приверженность стабильности и безопасности на Корейском полуострове и приверженность закрытию своей ядерной программы, это суть переговоров и это то, что они должны продемонстрировать, чтобы мы сели с ними за стол переговоров ", — сказал Эрнест, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон предложение президента Южной Кореи Пак Кын Хе о проведении пятисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе без участия КНДР.
КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, а в 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания. В 2009 году Пхеньян вышел из шестисторонних переговоров, в которых участвовали РФ, США, КНР, Япония, а также КНДР и Южная Корея.
Ситуация на Корейском полуострове осложнилась после проведения 6 января 2016 года четвертого по счету ядерного испытания в КНДР, которое в Пхеньяне объявили взрывом водородной бомбы. Южная Корея в ответ возобновила вещание антипхеньянской пропаганды вдоль межкорейской границы. По итогам экстренного заседания Совета Безопасности ООН все 15 членов решили немедленно начать работу над новой резолюцией по КНДР. CБ признал, что КНДР нарушила четыре его резолюции, принятых с 2006 по 2013 годы, и существует угроза международному миру и безопасности.
В минувший понедельник телеканал BBC показал фильм-сюжет, подготовленный репортером программы "Панорама" Ричардом Билтоном, в котором целый ряд индивидов, включая представителя Министерства финансов США, занимающегося вопросами санкций (в том числе — санкциями против России) Адама Шубина, утверждают, что президент РФ владеет де баснословными богатствами и, стало быть, "коррумпирован".
Фильм строится по стандартной схеме, не раз использованной против России: обвинения в адрес руководства РФ не просто бездоказательны, но представлены в виде "свидетельств" от людей не просто с сомнительной репутацией, но уличенных российским правосудием в различных уголовных преступлениях.
Впрочем, авторов фильма-пасквиля достоверность транслируемых мнений не заботит. Тут, судя по всему, требуется запустить месседж, способный вызвать волну обсуждений в массмедиа, — и такая волна, действительно прокатилась на этой неделе по западным и российским СМИ.
Целятся в Путина, чтобы попасть в Россию?
Замечу, что за несколько дней до запуска антипутинского сюжета на ВВС в Лондоне был опубликован доклад судьи-коронера Роберта Оуэна по делу Александра Литвиненко, в котором автор не сомневается, что убийство данного персонажа — дело рук российских спецслужб, и предполагает, что операция ФСБ, "возможно, была одобрена господином Патрушевым, а также президентом Путиным".
Некоторые российские эксперты и журналисты объявили эти фальшивки синхронизированной атакой на Путина. Но так ли это?
В России широко известно выражение философа и писателя Александра Зиновьева о том, что Запад и советские диссиденты "целились в коммунизм, а попали в Россию". И в этом смысле первое, что приходит на ум после активизации атак западных СМИ на российского президента, это приведенная мной зиновьевская цитата — с той лишь разницей, что коммунизма в РФ давно нет и врагам России остается целиться только в её сверхпопулярного лидера.
С другой стороны, в случае с информационными атаками на Россию мы имеем, во-первых, огромное количество заинтересованных в поражении РФ игроков, а во-вторых, — игру против неё на десятках площадок одновременно. Посему многочисленные и повторяющие (как под копирку) фальшивки с однотипными "расследованиями" не следует воспринимать столь прямолинейно.
Возьмем, к примеру, дело об убийстве Литвиненко.
Самое главное, на что в данном случае следует обратить внимание, — тот факт, согласно которому названное дело давно покинуло правовое поле. Его расследование было приостановлено еще в 2013 году под напором свидетельских показаний не в пользу обвинителей, и сегодня западному обывателю втюхивают политическое желаемое как судебный вердикт.
То, что доклад, в котором нет ничего нового по сравнению с выводами суда пятилетней давности, озвучил правоохранитель, не должно вводить нас в заблуждение. Совершенно очевидно, что в принципе проваленное британскими следователями дело "вдруг" достали из архива, может свидетельствовать только об одном: на его активизацию поступил политический заказ. Вопрос в том: кто заказчики? И кто, кстати, адресат?
С моей точки зрения, главный адресат — европейский обыватель, в сознании которого заказчикам необходимо постоянно поддерживать высокий градус русофобии. И здесь все средства хороши, независимо от того, против чего конкретно они направлены — против Путина, российской власти как таковой или российской "империи", "угрожающей" безопасности Европы.
В этом смысле в теме "коррумпированности" российской власти нет ничего нового. Голословные обвинения в непременно ТЕНЕВЫХ доходах (за отсутствием реальной информации о таковых) того или иного неугодного лидера, будь то лидер государства или глава ФИФА, — излюбленная тема заказчиков всякой "цветной" революции.
Что же касается заказчиков, то и здесь все банально, хотя и глобально.
Сегодня мир находится в той стадии глобализации, когда США (Госдепу, ведущим ТНК и т.п.) необходимо "съесть" Европу — ослабить Евросоюз и загнать европейские страны в новый интеграционный формат — в Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП). И Россия здесь — пугало, которое позволяет глобализаторам решить поставленную задачу.
Война против России по всем возможным фронтам
Война против России ведется сегодня по всем фронтам — и по линии футбола, и по линии WАDА, и по вопросу о "давлении" "Газпрома" на европейских потребителей. Западные СМИ и социальные сети попросту переполнены русофобскими квазиинформационными фальшивками. Такими, к примеру, в демонстрации которых был уличен недавно немецкий телеканал ZDF.
Или вот еще — публикация в СМИ всевозможных рейтингов коррупции в России, а также рейтингов гражданских прав и свобод, направленных на подрыв репутации РФ и, в качестве конечной цели, на как бы делигитимацию нынешней российской власти.
"Сразу три международные организации представили ежегодные доклады о положении с правами человека, гражданскими свободами и коррупцией в обществе, и Россия повсюду занимает последние позиции", — отмечает, в частности, сверхобъективная по отношению к РФ радиостанция "Свобода". "В докладе организации "Фридом Хаус" Россия обозначена как несвободная страна, а ее рейтинг — 6, притом что минимальный рейтинг — 7 — у таких стран, как Северная Корея, Сирия, Узбекистан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Западная Сахара и Туркмения" — утверждает радиостанция.
С моей точки зрения, здесь даже комментировать нечего. Согласно подобным квазирейтингам, на уничтожающей сотнями и тысячами своих граждан Украине гораздо больше демократии, чем в России; её больше и в Турции, руководство которой арестовывает академиков всего лишь за альтернативное мнение; ну а европейские страны, где жестко разгоняются митинги несогласных, например, с миграционной политикой ЕС, — так вообще в лидерах прогресса.
Информационная война — на то и война, чтобы уничтожить противника (в данном случае — Россию) любой ценой и любыми средствами, включая не только фальшивки в СМИ, но и самое "безупречное" правосудие.
Кстати, тот факт, что глобальный заказчик ради достижения своих целей готов пожертвовать не только репутациями западных политиков, газет и телеканалов, но даже репутацией британского правосудия, говорит о том, что арсенал возможных средств воздействия на западного обывателя почти исчерпан.
В Европе все меньше верят байкам об агрессивной России, а популярность "коррумпированного" Путина здесь только растет. Вот и приходится доставать из загашников разведок и архивов СМИ самые тухлые яйца вроде дела Литвиненко, а также прибегать к услугам таких "свидетелей", как проворовавшиеся бизнесмены Сергей Пугачев, Дмитрий Скарга и иже с ними.
Как следует реагировать на запуск русофобских фальшивок
Повторю, что главная цель запуска в СМИ русофобских "расследований" состоит в том, чтобы вызвать резонанс по схеме "дыма без огня не бывает". И это работает. Вот уже и российская оппозиция обвиняет Андрея Лугового (да и президента России тоже) в том, что они де не стремятся доказать свою невиновность. (См. программу "Специальный корреспондент" от 27 января, в которой известный оппозиционер Владимир Рыжков обвиняет в этом Лугового и российские власти).
Но где презумпция невиновности? И почему российская сторона должна опровергать направленные против России и её руководства инсинуации? Собственно, именно этого — чтобы российская сторона пустилась в оправдания и разного рода дискуссии на заданные темы — и добиваются заказчики псевдоразоблачений.
Самый верный способ реагирования на инсинуации — не обращать на них внимания. Полагаю, что в такой ситуации следует проводить собственные профессиональные расследования в отношении истинных планетарных воров и негодяев, запуская результаты этих расследований в российские и западные СМИ. А то уж больно деликатно ведет себя российская пресса в отношении, например, семейства Бушей, в собственных коммерческих интересах развязавших войну против Ирака, Джо Байдена, имеющего коммерческие интересы на Украине, или лоббирующих интересы саудовских олигархов Клинтонов и вообще — в отношении транснациональных корпораций, умножающих свои преступные деяния по всему миру.
Во всяком случае, эти темы западному обывателю не менее интересны, чем басни о "тайных богатствах" Путина или кознях ФСБ.
Владимир Лепехин
Правительство Японии разместило в центре Токио на территории министерства обороны страны зенитно-ракетный комплекс ПРО "Пэтриот" (PAC3) после того, как появились сообщения о подготовке КНДР к новому испытанию баллистической ракеты дальнего радиуса действия, передает агентство Киодо.
Второй день подряд в Токио также проходило заседания Совета национальной безопасности, на котором министры иностранных дел и обороны Фумио Кисида и Гэн Накатани обсудили меры реагирования на действия Северной Кореи.
Накануне глава военного ведомства Японии отдал приказ об уничтожении в случае угрозы северокорейской ракеты.
Как сообщил Киодо осведомленный источник, для этого в районе Японского моря повышена готовность оснащенных ракетами SM3 кораблей с системой ПРО "Иджис" (Aegis). Не исключено, что в других районах страны, как и в Токио, будут еще размещены батареи PAC3.
Ранее на этой неделе Киодо передало информацию о том, что данные спутниковых снимков указывают на то, что Пхеньян может на следующей неделе запустить баллистическую ракету со спутникового космодрома в Тончханни на западном побережье страны, который еще называют "Сохэ", то есть "западноморский".
Резолюции Совбеза ООН запрещают Северной Корее испытания баллистических ракет и ядерные разработки.
Тем не менее в декабре 2015 года эксперты американо-корейского института при университете Джонса Хопкинса сообщили, что Северная Корея завершает модернизацию космодрома "Сохэ" и может возобновить пуски с первого квартала 2016 года.
После 6 января, когда КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы для защиты от США, ситуация на Корейском полуострове осложнилось до такой степени, что в регион начата переброска американских стратегических вооружений, а в Южной Корее заговорили о необходимости создания собственной ядерной бомбы.
Иван Захарченко.
Термоядерное испытание в КНДР: вызов миру или путь к самосохранению (II)
Александр ВОРОНЦОВ
Последствия «ядерного грома» для КНДР, Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии
Ввиду нарушения Пхеньяном существующих резолюций СБ ООН, запрещающих КНДР проведение ракетно-ядерных испытаний, принятие Советом Безопасности нового, более жёсткого документа, видимо, неизбежно. Сейчас в закрытом режиме ведётся его сложное согласование, основными разработчиками проекта резолюции, как всегда в таких случаях, выступают США и КНР. Вряд ли мы ошибёмся, если предположим, что сейчас эти державы ведут упорный торг, в ходе которого Вашингтон проталкивает максимально жёсткий вариант санкций, а Пекин стремится к умеренному и сбалансированному документу.
На Западе осуществлённый северокорейцами 6 января взрыв ядерного устройства охарактеризовали как «безответственную хулиганскую выходку молодого Кима», как «суровую угрозу всеобщему миру» и потребовали «безжалостного наказания» непокорного режима. Получить представление о позиции Белого дома в данном вопросе можно, ознакомившись с рекомендациями ведущего сотрудника Heritage Foundation Брюса Клингера 13 января с. г. на слушаниях в палате представителей Конгресса США. Слушания носили название «Ответ США на ядерные провокации Северной Кореи». Стремясь опровергнуть тот вполне очевидный факт, что жёсткие и продолжительные санкции против КНДР не достигли цели и не остановили развитие северокорейской ракетно-ядерной программы, Клингер пытался доказать, что «санкции не работают только потому, что их недостаточно». Рекомендации сводились к тому, что необходимо ввести полномасштабную блокаду КНДР, для чего её надо вернуть в официальные американские списки стран, поддерживающих терроризм, занимающихся преступной экономической деятельностью и отмыванием денег.
Поиском и предоставлением доказательств причастности Пхеньяна к указанным криминальным деяниям Брюс Клингер, как водится, себя не обременил, но утверждал, что, приняв рекомендуемые им меры, Вашингтон получит способность «намертво» затянуть финансовую удавку, полностью перекрыть Пхеньяну возможности осуществлять какие-либо валютные транзакции, исключить его из международной системы межбанковских переводов SWIFT и т. д. Для этого, как подчёркивал докладчик, США должны располагать правом накладывать санкции на третьи страны и отлучать экономических субъектов этих стран от финансовой системы США в случае каких-либо контактов с фирмами КНДР. Нетрудно догадаться, что острие этой карательной политики нацелено против компаний и финансово-экономических организаций в первую очередь Китая и России.
Палате представителей Конгресса США было рекомендовано также повсеместно досматривать и задерживать воздушные и морские суда КНДР. То есть речь снова заходит о попытке расширения юрисдикции США на весь мир, об упорном стремлении навязать свою волю, свой диктат. А ведь именно такая политика и привела к нынешней международной ситуации, которая заставляет не только КНДР, но и ряд других, особенно небольших стран задумываться об обеспечении своей безопасности за счёт приобретения оружия массового поражения. Если данное положение дел не изменить, число таких государств будет неизбежно увеличиваться. Специалистам-корееведам не сложно просчитать и ответ Пхеньяна в случае принятия к нему предлагаемых драконовых мер. Ответом станет форсирование утверждённого Верховным народным собранием республики в 2013 году курса на параллельное развитие экономики и создание ядерных сил сдерживания («пёнчжин носон»).
На этом фоне отрезвляюще выглядит сдержанная позиция России, которая по-прежнему настаивает на переговорных вариантах урегулирования корейской проблемы в целом и её ядерного компонента в частности. В комментарии МИД РФ признаётся, что проведение в КНДР ядерного испытания стало «новым шагом Пхеньяна на пути развития ядерного оружия, что является грубым нарушением норм международного права и имеющихся резолюций Совета Безопасности ООН. Подобные действия чреваты обострением положения на Корейском полуострове, которое и без того характеризуется весьма высоким потенциалом военно-политической конфронтации». Вместе с тем в этом документе российской внешней политики сделан акцент на необходимости поиска дипломатических путей выхода из сложившегося положения: «Призываем все заинтересованные стороны сохранять максимальную выдержку и не совершать действий, способных вызвать неконтролируемое нарастание напряженности в Северо-Восточной Азии. Вновь подтверждаем нашу позицию в пользу дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова в рамках шестистороннего переговорного процесса и скорейшего запуска диалога, направленного на формирование надежной системы мира и безопасности в регионе».
Ещё более определённо данная установка прозвучала в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел РФ И. Моргулова с американским коллегой: «С российской стороны подчеркнута безальтернативность политико-дипломатического решения имеющихся на полуострове проблем в рамках шестистороннего переговорного процесса, а также необходимость избегать шагов, способных привести к росту конфликтного потенциала в регионе».
Рационально мыслящие эксперты в США также пришли к выводу о том, что продолжавшиеся 25 лет попытки Вашингтона остановить и повернуть вспять ядерную программу Пхеньяна с помощью санкций и давления завершились полным провалом. Единственными примерами успеха, достигнутого американцами за эти годы, были эпизоды, связанные с переходом США к субстантивному диалогу с Северной Кореей: односторонний вывод американского тактического ядерного оружия из Южной Кореи при Дж. Буше-старшем (1991) открыл дорогу к подписанию Совместной декларации КНДР и Республики Корея о безъядерном статусе Корейского полуострова в 1992 году, а заключение Рамочного соглашения между США и КНДР в 1994 г. на десять лет приостановило ядерную программу Пхеньяна. Период действия данного соглашения (1994-2002) оказался самым спокойным в послевоенной истории Корейского полуострова. Об этом следует помнить.
Серьёзные учёные в США и ряд отставных американских дипломатов США призывают своё правительство осознать необходимость комплексного дипломатического урегулирования корейской проблемы в качестве единственного пути решения ядерного вопроса. Увы, на сегодняшний день в Белом доме к таким рекомендациям не прислушиваются. А это означает, что при отсутствии содержательного американо-северокорейского диалога и продолжающейся конфронтации у Пхеньяна сохраняются побудительные мотивы и полная свобода рук для дальнейшего развития национальной ракетно-ядерной программы.
Надежды Вашингтона на то, что рано или поздно Пекин присоединится к Западному блоку в попытках удушить Северную Корею всеобъемлющими санкциями, наглухо закроет свою границу с КНДР и т.д., не имеют под собой, на наш взгляд, абсолютно никаких оснований.
Реализм подсказывает, что и сегодня, в условиях, созданных четвёртым северокорейским ядерным испытанием, требуется проявлять сдержанность, продолжать искать дипломатические решения. И это не умиротворение «возмутителя спокойствия», не поощрение «плохого поведения» нарушителя резолюций СБ ООН. Это рациональное понимание того очевидного факта, что недопустимо игнорировать всецело обоснованные озабоченности Пхеньяна по поводу его безопасности. Выход из сложившейся ситуации (по сути дела, тупиковой) возможен только на основе равноправных переговоров в шестистороннем формате, который оправдал себя в период 2003-2009 годов и к которому можно вернуться вновь. Для этого требуется только одно - наличие доброй воли всех без исключения участников «шестисторонки».
Термоядерное испытание в КНДР: вызов миру или путь к самосохранению? (I)
Александр ВОРОНЦОВ
Мотивация Пхеньяна
Экстренное турне в 20-х числах января специального представителя США по делам Северной Кореи Глена Дэвиса по трём странам-участницам шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова (Япония, Южная Корея, Китай) вновь привлекло внимание к произведенному Пхеньяном 6 января 2016 года ядерному взрыву. Миссией американского эмиссара было образование единого антисеверокорейского фронта с попыткой пристегнуть к нему КНР. США надеются преодолеть сопротивление Пекина в отношении принятия максимально тяжелого для КНДР проекта резолюции СБ ООН, обсуждаемого сейчас за закрытыми дверями.
2016 год начался на Корейском полуострове на тревожной ноте. Проведение Пхеньяном очередного ядерного испытания, естественно, будет иметь достаточно долгосрочные последствия, вызовет принятие очередной осуждающей резолюции СБ ООН с расширенным пакетом санкций, приведёт к усилению в регионе военной активности США, Японии и Южной Кореи. Неизбежным станет новый цикл роста напряжённости на Корейском полуострове и вокруг него.
При этом надо сказать, что руководство КНДР не пугает перспектива болезненных карательных мер, оно готово и дальше держать удар и платить цену за право укреплять национальные «силы ядерного сдерживания». Ряд официальных разъяснений, сделанных в Пхеньяне, не оставляют сомнений на этот счёт. «Проведение КНДР испытания водородной бомбы – это не «угроза» кому-либо, и не «провокация» для достижения каких-то целей. Это - необходимая процедура для осуществления нашего курса на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных сил, направленного на противодействие усиливающейся изо дня в день враждебной политике США в отношении КНДР... Мы смогли завершить процесс принятия на вооружение малогабаритных и стандартизированных боеголовок с водородной бомбой для баллистических ракет и тем самым смогли вооружить себя всеми видами сверхсовременных ударных средств... Теперь… мы можем предотвратить возникновение войны…» (1)
Разъясняя мотивы своего решения, руководство КНДР вновь указывает на противоправную практику США по свержению неугодных режимов в независимых государствах путём военных интервенций. «Что подарили США Ираку и Ливии, обманутым их соблазнами и посулами, за ликвидацию собственными руками ракет, приобретенных ценой крови и пота своей нации, за отказ от ядерных программ? ... Мир приносят отнюдь не пакет петиций или компромисс на переговорном столе ... Мира не добьешься выпрашиванием…» (2)
Отвергая устрашающие прогнозы западных политиков, Пхеньян утверждает: «Мы не будем распространять ядерное оружие и передавать средства и технологии, связанные с ядерным оружием. Наши усилия, направленные на денуклеаризацию всего мира, будут продолжены. Остаются в силе все предложения, выдвинутые нами в целях обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, в том числе предложение о приостановление наших ядерных испытаний в ответ на прекращение совместных военных учений США и предложение о заключении мирного договора» (3).
И всё же вопросы остаются. Почему это испытание было произведено именно сейчас? Насколько оно было неожиданным? В каком направлении и какими темпами развивается ядерная программа КНДР? Насколько возросли риски для соседних государств? Каковы возможные международно-правовые и военно-политические последствия произведенного взрыва?
Для начала имеет смысл разобраться, какое всё-таки испытание имело место 6 января. Пхеньян официально объявил, что была опробована водородная бомба малой мощности и только физическая ограниченность территории республики удержала физиков-ядерщиков от испытания серии водородных зарядов мощностью в несколько сот килотонн и мегатонн (4).
Безусловно, такое сообщение приковало к себе внимание всего мира. Создание Северной Кореей нового, гораздо более мощного, чем атомное, оружия не может не вызывать серьёзную тревогу. Вместе с тем с учётом сейсмических данных о взрыве мощностью 5-6 килотонн и других характеристик большинство специалистов в области ядерных технологий склонны считать, что имел место взрыв простой атомной бомбы, поскольку мощность термоядерного устройства, по мнению некоторых из этих специалистов, начинается со ста килотонн. Однако многие эксперты указывают, что на этот раз северокорейские ядерщики использовали новую технологию так называемого бустирования, позволяющую более надёжно контролировать ядерную реакцию, обеспечивающую более экономное и эффективное расходование ядерного топлива, но главное – создающую предпосылки для продвижения в направлении создания термоядерного оружия.
То есть прогресс в развитии ядерных технологий КНДР большинством специалистов признаётся.
Секрета из своих планов Пхеньян никогда не делал. В течение всего периода президентства Б.Обамы Вашингтон проводил в отношении Северной Кореи так называемую политику стратегического терпения, демонстрируя такой подход к КНДР, который исключает содержательный диалог сторон и нацелен на скорейшую смену режима в Пхеньяне. Исходя из этого, руководство КНДР и сделало свой выбор.
Напомним, что в течение 2014 - начала 2015 гг. Пхеньян всячески демонстрировал сдержанность, выдвигая многочисленные мирные предложения в адрес почти всех заинтересованных сторон. Эти предложения были названы оппонентами «пропагандой» и с порога отвергнуты. Знаковыми для позиции Вашингтона стали отказ без всякого рассмотрения от выдвинутого Пхеньяном 8 января 2015 г. предложения об отмене двусторонних американо-северокорейских военных манёвров в обмен на замораживание Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний, а также интервью Б. Обамы сервису «Ютьюб» 22 января 2015 г. В этом интервью президент США с шокирующей откровенностью поведал, что задача смены режима в Пхеньяне осложняется: ввиду наличия у Северной Кореи серьёзного военного потенциала, в том числе ракет и ядерного оружия, ликвидировать КНДР военным путём не представляется возможным. Тем не менее Вашингтон, рассчитывая на скорую перспективу поглощения Севера Южной Кореей, будет делать ставку на разложение Северной Кореи изнутри.
Этим самым Вашингтон полностью разрушил основу для будущих возможных субстантивных двусторонних контактов с Пхеньяном и подтвердил обоснованность выбора руководством республики линии на параллельное строительство экономики и создание ядерного потенциала («пёнчжин носон»). Ядерный тест 6 января 2016 года - прямое и естественное следствие такого развития событий.
Нельзя недооценивать и важность внутриполитического аспекта проведенного ядерного испытания в преддверии запланированного на май 2016 г. (после 36-летнего перерыва) VII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК). Теперь на съезде молодой лидер КНДР сможет уверенно объявить о наступлении новой «кимченыновской» и термоядерной эпохи в развитии республики, которая стала ещё более защищённой от угрозы внешней агрессии.
Некоторые обозреватели утверждают, что, проводя очередное ядерное испытание, Пхеньян пытался привлечь к себе внимание великих держав, полностью поглощённых в последнее время ситуацией на Ближнем Востоке. Послать, так сказать, сигнал Вашингтону с приглашением к возобновлению переговоров. На наш взгляд, ближе к истине другие суждения, суть которых в том, что теперь КНДР взяла на вооружение собственную концепцию «стратегического терпения» в отношении США, приучая Америку жить с ядерной Северной Кореей.
На этот счёт в январских заявлениях МИД КНДР имеются чёткие указания: «Так как враждебные акты со стороны США стали «обычным явлением»… Соединенным Штатам придется теперь привыкать к ядерному статусу КНДР, желают они этого или нет». (5)
В то же время «ядерный гром», грянувший 6 января 2016 года, явился отрезвляющим ответом Пхеньяна на укоренившееся в умах многих представителей южнокорейских верхов, но оторванное от реальности представление о неизбежности скорого краха КНДР и её поглощения Южной Кореей.
(Окончание следует)
Военный экспорт радует американский ВПК.
Широкий спектр глобальных угроз, исходящих от террористической организации ИГИЛ и таких стран как Иран, продолжает подпитывать рост поставок американских вооружений во всем мире, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на defenseone.com.
Несмотря на замедление продаж на внутреннем рынке США компания Lockheed Martin – крупнейший американский оборонный подрядчик – в 2015 году получила много иностранных военных заказов, которые составили 21% от общего объема продаж (46,1 млрд долл). Рост экспортного портфеля по сравнению с 2014 годом составил 6%.
«По-прежнему растет спрос на наше вооружение, особенно системы ПРО, в таких регионах как Ближний Восток, АТР и даже Европа», заявила президент, председатель совета директоров компании Мэрилин Хьюсон (Marillyn Hewson). 18-месячная бомбардировка объектов и позиций ИГИЛ привела к росту продаж высокоточных боеприпасов и прицельных систем. Ближневосточные страны, находящиеся в страхе перед ракетной программой Ирана, покупают комплексы ПРО THAAD и PAC-3. Угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи также повышают спрос на американское вооружение. Соседи этих стран увеличивают свои оборонные расходы.
Особое место занимает программа производства истребителя пятого поколения F-35. Хьюсон предполагает, что в течение следующих пяти лет заказы от других государств на эти самолеты достигнут примерно половину от общего количества производимых истребителей. В прошлом году компания произвела 45 самолетов, в этом году их количество достигнет 53 машин.
Общий объем американского военного экспорта, который в 2010 году составлял 21,4 млрд долл, в 2015 году вырос до 46,6 млрд (рост на 118%).
Названы наименее коррумпированные страны мира
Россия улучшила свои показатели в этом рейтинге.
Рейтинг наименее коррумпированных стран мира подготовила организация Transparency International. По данным аналитиков, серьезные проблемы с коррупцией наблюдаются в 68% всех государств на планете. Ни одна страна не является полностью свободной от этого недостатка.
В 2015 году серьезно улучшили свои позиции в рейтинге Греция, Сенегал и Великобритания. Изменилась ситуация в лучшую сторону и в России, которая теперь заняла 119-е место. Беларусь находится на 107-й позиции, Украина – на 130-й.
Интересно, что пять из десяти самых коррумпированных стран мира входят также в ТОП-10 наименее мирных мест в мире.
Лидируют в рейтинге северные страны. А вот в пятерку наиболее коррумпированных вошли Сомали, Северная Корея, Афганистан, Судан и Южный Судан.
ТОП-10 наименее коррумпированных стран мира:
1. Дания
2. Финляндия
3. Швеция
4. Новая Зеландия
5. Нидерланды
6. Норвегия
7. Швейцария
8. Сингапур
9. Канада
10. Германия
Международное движение по противодействию коррупции Transparency International сегодня опубликовало двадцать первый Индекс восприятия коррупции (ИВК), в котором Россия заняла высшую позицию за 4 года и находится на 119 месте вместе с Азербайджаном, Сьерра-Лионе и Гайаной, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации. Таким образом, страна оказалась на 49 месте из 168 относительно проникновения коррупции.
Индекс восприятия коррупции ранжирует страны мира по шкале от 0 до 100 баллов, где "ноль" - самый высокий уровень восприятия коррупции и как следствие - максимальный уровень коррупции среди чиновников публичного сектора. Сто баллов означает самый низкий уровень коррупции - отсутствие коррупции.
В прошедшем 2015 году, Россия получила 29 баллов и заняла 119 место в рейтинге. Это наилучший показатель с 2012 года, когда движение Transparency International перешло на 100-балльную систему расчета. в 2014 году РФ находилась на 136 позиции, вместе с Нигерией и Ливаном.
Первое место в рейтинге занимает страна Северной Европы - Дания - у нее 91 балл. Затем следуют Финляндия и Швеция.У Соединенных Штатов - 16 строчка рейтинга и 76 баллов.
Последние строчки рейтинга всего с 8 баллами занимают Сомали и КНДР.
Украина набрала 27 баллов и заняла 130-е место вместе с такими странами как Камерун, Парагвай, Никарагуа и Иран.
Некоторые российские политики с опубликованным предыдущим докладом за 2014 год и позицией России в нем не согласились и назвали документ "политически ангажированным".
Washington Post усомнилась в индексе коррупции
Washington Post призывает не относиться слишком серьезно к индексу коррупции от Transparency International. Примечательно, что это делает именно западное издание, а не СМИ развивающихся рынков. Журналисты Washington Post подвергают сомнениям не только свежие результаты исследования, но и саму его методологию.
Transparency International на протяжении года изучает 168 стран и по его итогам выставляет оценки – от 0 до 100. Чем ближе к сотне, тем лучше. Затем, в соответствии с количеством баллов, страны занимают свои места в глобальном рейтинге. Результаты в основном предсказуемы: побеждают почти всегда небольшие северные демократии. Вот результаты за 2015 г.: Дания (91) – 1-е место, Финляндия (90) – 2-е место. Швеция с 89 баллами, как несложно догадаться, заняла третью строчку. Последнее место делят Сомали и Северная Корея, набравшие по 8 баллов.
Однако в рейтинге Transparency International есть любопытные моменты, которые и вызвали вопросы журналистов Washington Post. Например, динамика Китая. По сравнению с 2014 г. оценка Поднебесной выросла всего лишь на 1 балл с 36 до 37. При этом в глобальном рейтинге КНР скакнула сразу на 17 мест – с 83-го на 100-е. Связано это с тем, что в мире 250 стран, а в таблице Transparency International на 82 меньше, и фиксированного списка просто не существует.
В 2015 г. из рейтинга выбыло достаточно большое количество участников, включая сразу 7 стран Карибского бассейна. Этим во многом и объясняется феноменальный успех Китая: он просто продвинулся вверх за счет выбывших. Антикоррупционная кампания Си Цзиньпина широко известна: из-за нее даже в Европе ощутимо упал спрос на товары класса люкс. Однако запущена она была еще в 2013 г., и с тех пор в Китае не придумали ничего радикально нового.
Статистика Transparency International учитывает только коррупцию в госсекторе и совершенно не принимает в расчет частный сектор, что тоже вызывает вопросы. То есть скандал с межбанковской ставкой LIBOR вообще никак не повлиял на оценку Великобритании. История с Volkswagen, занижавшей объемы вредных выбросов дизельных двигателей на тестах, не отразилась на Германии. В реальности и то и другое больно ударило по деловой репутации обеих стран, но в методологии Transparency International просто нет механизмов, способных это отразить.
Индекс коррупции иногда может лишь усиливать предрассудки и стереотипы, а не помогать бороться с ними, считают в Washington Post. Например, Афганистан всегда будет в замыкающих, какие бы меры по борьбе с коррупцией там ни принимались. А Дания, наоборот, спокойно может почивать на лаврах: первые места ей обеспечены. Между тем, в ходе последнего опроса, проведенного по инициативе Еврокомиссии, уже 12% датчан ответило, что лично знает людей, берущих взятки. Это стало максимальным количеством за несколько лет.
Конечно, Washington Post не призывает полностью отказаться от данных Transparency International. Но их реальная польза при оценке коррупции может быть весьма ограниченной, признают журналисты.
Украинский авиапром обречен на деградацию
Ольга Самофалова
Известный всему миру авиаконцерн «Антонов», еще в советское время создавший множество уникальных самолетов, ликвидируется. А его активы передаются «Укроборонпрому». Причина может быть не только в маниакальном желании украинских властей избавиться от известного бренда, который ассоциируется с Россией.
Всемирно известный украинский авиаконцерн «Антонов», выпускавший ранее самые крупные в мире самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», прекращает существование.
Согласно решению украинского правительства, концерн ликвидируется, а входившие в его состав предприятия передаются «Укроборонпрому». Киев принял такое решение «в связи с отсутствием участников», поскольку все три предприятия, которые собственно и составляли концерн, еще в прошлом году вышли из его состава и были включены в концерн «Укроборонпром», пояснила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.
В состав концерна входили само предприятие «Антонов», а также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и государственное предприятие «Завод 410 ГА» в Киеве. 14 сентября 2015 года концерн «Антонов» уже был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия «ОАК-Антонов», которое занималось разработкой ряда новых самолетов.
Антонов – это имя великого советского авиаконструктора, под руководством которого было создано авиационное опытно-конструкторское бюро в мае 1946 года на Новосибирском авиационном заводе.
«Это мировой бренд, расцвет которого пришелся на советский период и в первую очередь благодаря транспортным самолетам. Была создана целая серия уникальных самолетов. Ан-2 был создан в Новосибирске, и только после перевода АКБ в Киев приобрел украинскую прописку. Самая главная удача «Антонова» в пассажирском самолетостроении – это Ан-24/26, который до сих пор эксплуатируется в России, и, по сути, замены этому самолету так и не было найдено», – рассказывает редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров. Ан-24 – самолет для полетов на расстояния до 2000 км, его выпускали 20 лет – с 1959 по 1979 гг. На 1 января 2006 года в Госреестре гражданских воздушных судов РФ числилось 207 самолетов этого типа, из них 121 эксплуатировался. Ан-24 установлено 13 памятников в России и один в Узбекистане.
По сути, речь не идет о ликвидации самих предприятий, входящих в концерн «Антонов». Но авиазаводы переходят теперь под контроль госкомпании «Укроборонпром», теряя свой исторический бренд, свою связь с советской и российской авиацией.
Такое переформатирование концерна может иметь несколько причин. Во-первых, объединение в большой холдинг может помочь сократить расходы. Фактически предприятие уже не существует, это юридическое оформление в соответствии с реальным положением дел, что позволит сократить издержки и убрать «управленческую надстройку», говорит первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский.
С другой стороны, украинскому государству станет проще контролировать работу авиазаводов, например, в части пресечения сотрудничества с Россией. Еще одна причина, считает Андриевский, в маниакальном желании украинских властей избавиться от советского наследия. «Ведь «Антонов» – это советский бренд, который твердо ассоциируется с Россией. К тому же у предприятия очень тесные связи с российскими компаниями, некоторые модели на 90% собирались именно на российских предприятиях», – говорит он.
Роман Гусаров видит другую цель в ликвидации концерна «Антонов» и передаче активов в «Укроборонпром». «Понятно, что никто на Западе продукцию, которую делали авиационные заводы, входящие в концерн «Антонов», покупать не будет. Для самой Украины два авиазавода – это много, да и денег нет на то, чтобы строить самолеты и покупать их для внутреннего рынка. Значит, эти заводы будут переориентированы на производство чего-то другого, а конструкторское бюро, не имея продаж, будет потихоньку деградировать», – считает Гусаров.
Последние 25 лет экспортные заказы на самолеты Ан были единичными. А заявленные планы – выйти на годовой выпуск самолетов до 50 штук в год, а «затем достичь уровня выпуска СССР 200 машин в год» в кооперации с Западом – выглядят чистой фантастикой.
По мнению Гусарова, концерн «Антонов» ждет та же участь, что и запорожский «Мотор Сич», где производятся самолетные и вертолетные двигатели. В европейской прессе появилась информация, что США собираются модернизировать этот завод, чтобы производить на его базе противотанковые ракеты, ремонтировать и модернизировать вооружение украинской армии. Об этом сообщил французский ресурс Intelligence online.
«Цель очевидна. Сегодня на Украине имеется уникальное высокотехнологичное производство авиационных двигателей, это та область технологий, которой обладают считанные страны, а американцы, помахав обещаниями и зелеными бумажками, хотят переориентировать это предприятие, по сути, убив школу местного авиастроения», – говорит Гусаров.
«Еще недавно все российские вертолеты, которые продаются по всему миру в большом количестве, летали только на украинских двигателях. То есть до недавнего времени этот завод зарабатывал валюту для своей страны, а скоро украинский бюджет будет покупать на заводе противотанковые ракеты, причем на деньги, которые будут брать у США. И акционерами этого завода будут американцы», – объясняет эксперт. По сути, украинцы будут покупать ракеты у американцев и им же еще будут должны.
Если вспомнить, то вертолетные двигатели изначально были созданы в конструкторском бюро Климова в Санкт-Петербурге, а производство в советские годы было решено развернуть на Украине. Теперь России приходится тратить огромные деньги на воссоздание в Петербурге производственной базы вертолетных двигателей.
До сих пор АКБ «Антонов» существовало благодаря России. «Все-таки продлевались ресурсы эксплуатирующихся в России самолетов, проводилась модернизация самолетов, создавались новые машины. Ан-140 разработали совместно с Россией, строили их в Воронеже, и с каждого самолета украинский «Антонов» получал авторские отчисления. В производстве участвовали и украинские заводы. Проект создания Ан-70, который растянулся на десятилетие, также финансировала Россия. Теперь всего этого не будет. Никаких поступлений из России от продаж фирма «Антонова» больше не получит, а значит, она будет обречена на постепенное угасание, кадры будут вымываться», – считает Роман Гусаров.
Даже последние экспортные продажи в 2014 и 2015-м у «Антонова» были только благодаря российским деньгам. Например, в прошлом году ГП «Антонов» поставил один Ан-158 на Кубу и один Ан-148 в КНДР по контрактам, подписанным еще в 2013 и 2011 годах, а финансировала обе сделки российская лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко». Причем Куба продолжит получать заказанные Ан-158, а платить по-прежнему будет российская лизинговая компания. То есть перспективы экспорта самолетов Ан по-прежнему зависят от российских партнеров.
Ни Европе, ни США украинские самолеты не нужны, и они вряд ли захотят финансировать их продажи третьим странам.
«Никому в мире, кроме России, не нужна была Украина как авиационная держава. Россия долго держалась за это, было много идей по объединению, глубокой интеграции. Но, к сожалению, на Украине все жили одним днем, все хотели получить лично для себя больше дивидендов. Ни в коем случае ничего «москалю» не отдавать. В итоге сейчас отдают за бесценок американцам и европейцам. Обидно, потому что вся производственная база, авиационная школа создавались Советским Союзом, всеми вместе и долгие годы», – заключает Гусаров.
Перспективы же Анов на зарубежных рынках похоронил еще в 2013 году европейский гигант Airbus. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров тогда рассказал, что руководство Airbus прямо заявляло, что не допустит самолеты Антонова на мировые рынки. НАТО также отказалось от украинских самолетов.
«Таким образом, бренд «Ан» сейчас практически ничего не стоит. Он не интересен на постсоветском пространстве, поскольку Россия, как ключевой потенциальный заказчик, отказалась от закупок Анов, и он не может выйти на мировые рынки из-за противодействия Airbus. Конечно, у «Антонова» были и свои разработки, а инженерно-техническая база, заложенная еще в советское время, позволяла рассчитывать на развитие предприятия даже без участия России. Однако вывести «Антонова» из кризиса украинским властям оказалось не под силу. В итоге предприятие и сам бренд могут быть утеряны», – резюмирует Андриевский.
Россия страшнее, чем ИГ
Армия США боится действий России в Европе
Владимир Ващенко, Екатерина Згировская
Сдерживание «агрессивных действий Москвы» станет задачей номер один для американских военных. В новой военной стратегии командование американской армии в Европе объявило Россию своим главным противником. Эксперты считают, что слишком серьезно к этим заявлениям относиться не стоит, однако они лишний раз говорят об усилении военно-политического противостояния Америки и Российской Федерации.
Европейское командование вооруженных сил США в среду опубликовало свою новую военную стратегию. В документе Россия названа первой в списке угроз безопасности европейских стран и интересам США. Второе место в этом перечне заняло «Исламское государство» (запрещенная в ряде стран мира, в том числе — в России организация).
«Россия является причиной серьезной озабоченности из-за ее непрекращающегося агрессивного поведения в Восточной Европе и милитаризации Арктики.
Как показали события в Крыму и в Восточной Украине, Россия использует различные формы военных действий. Она сочетает действия вооруженных сил с действиями нерегулярной армии, а также применяет такие нестандартные методы, как постоянное манипулирование политическими и идеологическими конфликтами. Своей политикой Россия порождает нестабильность и отказывается сотрудничать в области безопасности с международным сообществом», — говорится в документе.
При этом отмечается, что США и их партнеры и союзники нацелены на сотрудничество с российским государством в вопросах общих проблем, связанных с безопасностью. «Однако российская агрессия и попытки Москвы влиять на НАТО, чтобы ослабить эту организацию и ряд стран Запада в целом, будут ограничивать шаги Вашингтона в этом направлении», — сказано в военной стратегии европейского командования.
Как указано в доктрине, посредством операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve)
Европейское командование вооруженных сил США будет взаимодействовать со своими союзниками и партнерами, чтобы сдержать агрессию России.
Командование ВС США в Европе будет также участвовать в международных учениях (как двусторонних, так и многосторонних). Одной из целей этих мероприятий станет обеспечение безопасности союзников Соединенных Штатов и сдерживания возможности России по использованию армии и нерегулярных вооруженных формирований, а также ведения со стороны РФ асимметричных боевых действий.
Далее в документе говорится, что с южной стороны Европа столкнулась со множеством угроз своей безопасности в результате сложной и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«ИГИЛ угрожает ключевым американским партнерам и союзникам, а также интересам национальной безопасности США.
«Исламское государство» активно вербует и обучает боевиков из разных стран мира, а потом направляет их в государства их происхождения. В дополнение к этому значительный поток мигрантов и беженцев в Европу с Ближнего Востока и Северной Африки приводит к серьезным экономическим и социальным проблемам в странах Европы», — считают аналитики европейского командования вооруженных сил США.
По их мнению, это создает дополнительные возможности для экстремистских организаций и транснациональных преступных сообществ. Они будут пытаться воспользоваться в своих интересах кризисом, возникающим в Европе.
Среди прочих угроз для европейских стран Соединенные Штаты назвали развитие баллистических ракетных систем у потенциальных противников союзников США, распространение оружия массового поражения, рост риска эпидемии инфекционных болезней, кибератаки, международный и национальный терроризм, наркопреступность и контрабанду.
В стратегии европейской безопасности предлагаются и весьма неординарные решения.
Отдельного упоминания в документе заслужило грядущее участие семерых военнослужащих из Азербайджана в регулярных международных учениях Всеобщей сети доступа (APA).
Маневры будут посвящены отработке способов коммуникации и связи между вооруженными силами стран — партнеров США.
Общий смысл документа сводится к тому, что США будут поддерживать боеспособность своего 65-тысячного контингента в Европе и не снизят его численность. Вашингтон продолжит активное взаимодействие со своими союзниками по НАТО. В том числе отработку возможного использования вооруженных сил армий европейских государств за пределами континента. Это будет происходить как в рамках формирования сил быстрого развертывания Североатлантического альянса, так и вне его.
Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко призывает не уделять много внимания новой доктрине, отмечая, что там ничего принципиального нового не упомянуто: «Это традиционная их политика. Они всегда считали Россию противником, потому что у нее сопоставимый ядерный потенциал и военная мощь, а также оборонно-промышленный комплекс, способный производить весь спектр вооружений. Американцы еще в 1993 году сказали, что их ключевая цель — не допустить восстановления СССР», — сказал эксперт «Газете.Ru».
По его словам, еще в 1991 году в своей стратегии безопасности США наметили основные приоритеты и с тех пор «из документа в документ они штампуются»:
«Еще в августе 1991 года американцами было прописано, что, хотя Советский Союз ушел из Восточной Европы, советская военная мощь угрожает всем бывшим соцстранам в Европе и американское присутствие нужно для противодействия. Это очередная перепечатка. Они всегда это ставили на первое место», — подытожил Фененко.
Директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает, что военного противостояния РФ и США опасаться не стоит, но противоборство Москвы и Вашингтона на политической арене все равно чревато серьезными проблемами для РФ.
«Ни американцы, ни НАТО не планируют и не могут осуществить военное нападение на Россию. Это все прекрасно понимают, но они боятся России, они боятся ее действий в последнее время в окружающих регионах — на Украине и на Кавказе.
Мы хотели им показать свою силу — нам это удалось, — пояснил «Газете.Ru» Арбатов. — Они испугались. И заявили, что они будут наращивать все для сдерживания РФ, чтобы Россия не применила к ним силу».
Эксперт напомнил, что Россия в своей обновленной доктрине от декабря 2014 года также прописала, что Североатлантический альянс является основным противником РФ, однако на Западе долгое время этому не придавали серьезного значения, только теперь обратили внимание на Россию. «Для нас это чревато еще большей гонкой вооружений, а значит — нам еще больше придется тратить денег на оборону в условиях экономического кризиса», — отметил собеседник.
Арбатов уточнил, что военный бюджет США в 10 раз больше российского, а с учетом союзников по НАТО — в 15 раз. Численность личного состава их вооруженных сил также во много раз превышает российское. Но ближайшие союзники России «не спешат помогать Москве в этом противостоянии». «Обратите внимание: никто из них не вышел из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и не ввел контракции против Европы вслед за Москвой. На противоречиях США и РФ играют все кому не лень — Китай, КНДР, Иран и ряд других государств», — сказал директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.
Новую военную стратегию США прокомментировал и постпред РФ при НАТО Александр Грушко. По словам дипломата, указание «агрессии» России как главной угрозы в Европе — тезис, «совершенно оторванный от реальности».
Любопытно, что вслед за публикацией американской стратегии свое заявление в адрес России сделал и президент Украины Петр Порошенко. «В длительной исторической перспективе главной военной угрозой есть и, к сожалению, будет оставаться, страна — агрессор Российская Федерация», — заявил Порошенко в среду на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Коррупция на уровне Западной Африки
Россия улучшила свое место в «Индексе восприятия коррупции»
Артур Громов
Россия улучшила свое положение в «Индексе восприятия коррупции», но все равно находится ближе к концу списка, составленного правозащитной организацией Transparency International. В топе стран, где проблема взяток и откатов практически ушла в прошлое, традиционно оказались Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия и Нидерланды, внизу рейтинга — Сомали и Северная Корея. Transparency International отмечает, что большинство стран поднялись в рейтинге, однако взяточничество и кумовство по-прежнему господствуют во всем мире.
Россия осталась в списке наиболее коррумпированных стран мира, заняв 119-е место в «Индексе восприятия коррупции», который ежегодно составляет правозащитная организация Transparency International. Всего в списке представлены 168 государств. Страны выстраиваются по шкале от 0 до 100 баллов. «Ноль» обозначает самый высокий уровень коррупции и, соответственно, максимальное распространение этих преступлений среди чиновников, а «100» — самый низкий, что означает, согласно методике подсчета, отсутствие коррупции. Затем составляется список, в топе которого — самые свободные от коррупции страны.
Относительно прошлого года показатель России улучшился на два балла и несколько ступеней: страна получила 29 баллов из 100. Эта цифра соответствует 119-му месту.
Наравне с Россией в 2015 году эту строчку заняли Азербайджан, южноамериканское государство Гайана и Сьерра-Леоне, расположенное в Западной Африке.
В 2014 году Россию поместили на 136-ю строчку рейтинга вместе с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном. В 2013 и 2012 годах показатель равнялся 28, что соответствовало 127-му и 133-му местам.
Что касается стран Евразийского экономического союза, то самый худший показатель — у Казахстана: составители рейтинга поместили его на 123-е место. Белоруссия оказалась на 107-м месте, а выше всех стоит Армения — 95-е место.
Украина также улучшила показатель относительно прошлого года, заняв 130-е место наравне с Камеруном, Ираном, Непалом, Никарагуа и Парагваем. В этом году страна получила 27 баллов, в 2014-м и ранее — 25–26.
На первых строчках рейтинга находятся Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия и Нидерланды — у них от 87 до 91 балла из 100 возможных. По традиции два последних места заняли КНДР и Сомали, набравшие по восемь баллов (их результаты в последние четыре года не менялись).
«2015 год продемонстрировал, что, работая вместе, люди могут преуспеть в битве против коррупции. Несмотря на то что коррупция по-прежнему господствует в мире, число стран, которые улучшили свои показатели в «Индексе восприятия коррупции», превысило количество государств, чьи позиции ухудшились», — отметили составители доклада.
По данным Transparency International, две трети из 168 стран в «Индексе» за 2015 год получили менее 50 баллов. «В таких странах, как Гватемала, Шри-Ланка и Гана, гражданские активисты как в группах, так и поодиночке, приложили много усилий для изгнания коррупционеров и тем самым показали обществу убедительный пример, призванный воодушевить других на решительные действия в 2016 году», — добавили правозащитники.
Данный рейтинг не апеллирует к конкретным фактам: Transparency International измеряет не уровень коррупции как таковой, а степень ее восприятия предпринимателями, аналитиками по оценке коммерческих рисков и специалистами из различных международных организаций. Подобная методология — основной повод для критики, звучащей в адрес организации.
Эксперты указывают, что индекс действительно измеряет уровень коррупции, и страны в конце списка, без сомнения, более коррумпированы, чем страны в начале. Но при этом индекс не очень чувствителен: то есть, например, можно согласиться, что Россия точно коррумпированнее Дании, но разграничить уровень проблемы на Украине и в России (даже если одна из стран выше в рейтинге, чем другая) достаточно проблематично.
К рейтингу предъявляются различные претензии: в частности, эксперты указывают на то, что индекс не дает возможности делать выводы о динамике уровня коррупции в той или иной стране. Кроме того, индекс обвиняют в том, что он создает «порочные круги»: одна из самых цитируемых статей про коррупцию в мире — работа Паоло Мауро «Коррупция и рост» — показывает, что коррупция приводит к меньшему экономическому росту через падение прямых иностранных инвестиций. Однако решение о прямых иностранных инвестициях принимается на основе рейтинга TI, таким образом, ситуация закольцовывается.
Наконец, индекс может слабо соотноситься с уровнем бытовой коррупции или ее восприятием. Как отмечают социологи, респонденты не всегда готовы честно ответить на вопрос, были ли у них коррупционные сделки за последний год, а с другой стороны, склонны отвечать: «Да, все вокруг коррумпированы» — увеличивая общее недовольство правительством.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2015 году, Москва, 26 января 2016 года
Добрый день,
Мы проводим традиционную встречу – большую пресс-конференцию, которая посвящена итогам прошедшего года. Будем готовы ответить на ваши вопросы по текущим событиям.
Год был сложным. Он запомнится, видимо, дальнейшим усилением глобальной конкуренции за воздействие на продолжающиеся процессы перемен и формирования новой международной системы.
В этом отношении налицо было два подхода, сталкивающихся между собой: с одной стороны – это попытки затормозить объективную тенденцию формирования более справедливой полицентричной международной системы, удержать свое доминирование в мировых делах, навязать другим свою волю, а с другой – все-таки пробивалось все большее стремление направить эту конкуренцию в цивилизованное русло и поставить во главу угла совместное противодействие общим для всех вызовам.
Ситуация в мировой экономике оставалась нестабильной. Это почувствовали практически все страны, включая Российскую Федерацию. Об этом очень подробно говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин, члены российского Правительства. Но на фоне неурядиц мировой экономики мы наблюдали попытки обеспечить свои интересы за счет других, создать замкнутые торгово-экономические союзы, раздробить глобальное экономическое пространство, т.е. присутствовал аспект деглобализации.
Продолжались интенсивные медийные кампании. Вы, наверное, лучше других о них знаете. В целом ряде случаев происходили настоящие информационные войны, в рамках которых были попытки не допустить распространения альтернативной информации или точек зрения на происходящие процессы. Порой были применены жесткие меры, связанные с прямым запретом на профессию журналиста. Вы тоже об этом знаете.
Продолжалось и усугублялось множество серьезных конфликтных ситуаций – в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, на Украине. В Африке многие страны остаются дестабилизированными. Все это соединялось в своего рода, я бы сказал, «кризисные ландшафты». На это наслаивались риски роста межконфессиональной напряженности и углубления межцивилизационных разломов, что крайне опасно для нашей цивилизации в целом.
Все это происходило на фоне беспрецедентного усиления террористической угрозы. ИГИЛ, провозгласившая себя государством, другие экстремистские группировки удерживали контроль над значительными территориями в Сирии и Ираке, стремились, и во многих случаях им это удавалось, закрепиться в других странах, в частности, в Ливии, Афганистане, в ряде стран «черной Африки». Все мы видели и были свидетелями жутких, бесчеловечных терактов против граждан России, государств Европы, Ближнего Востока, Африки, США, Азии, которые провоцировали массовый исход населения, в том числе на территорию Евросоюза. Как вам известно, террористы вынашивают и открыто заявляют о планах создания «халифата» от Португалии до Пакистана. Это реальная угроза не только региональной, но и всей международной безопасности.
В этих условиях Россия стремилась действовать активно, как постоянный член Совета Безопасности ООН, как одно из наиболее крупных государств с активной внешней политикой, действовала не только отстаивая свои национальные интересы, но и реализуя свою ответственность за положение дел в мире.
Ключевым направлением наших усилий стало продвижение инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина о формировании на основе международного права и под эгидой ООН широкой антитеррористической коалиции. Действия Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского Правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране, обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. В результате заодно существенно прояснилась картина происходящего, стало видно, кто борется с террористами, а кто выступает в роли их пособников, пытаясь использовать их в своих односторонних эгоистических целях.
Наше активное участие в антитеррористической борьбе способствовало принятию целого ряда важных резолюций СБ ООН, направленных на пресечение финансирования терроризма и феномена иностранных террористов-боевиков – резолюций 2199 и 2253. Мы добиваемся добросовестного их выполнения и, что, не менее важно, честных, подробных отчетов Секретариата ООН о том, как и кто выполняет свои обязательства по этим важнейшим документам.
Ясно, что только военным путем победить терроризм невозможно. Необходимо сочетать вооруженные действия с политическими процессами по урегулированию конфликтов, с мерами по недопущению использования террористами экономической инфраструктуры, которую они захватывают, наподобие того, как это сделал ИГИЛ в Ираке и Сирии, поставляя контрабандные нефть и прочие товары в Турцию для реализации. Важно, конечно же, думать и об экономической реабилитации пострадавших стран после того, как террористическая угроза будет отведена, а также противодействовать экстремисткой идеологии.
В сентябре, когда Россия была председателем в СБ ООН, мы провели специальное заседание на уровне министров иностранных дел, посвященное комплексному анализу всех этих угроз и мер, которые необходимо принять для их преодоления в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Это была интересная дискуссия. Думаю, что разговор о том, как действовать не от случая к случаю, а стратегически и во всеохватывающем ключе, необходимо продолжить в СБ ООН.
Мы активнейшим образом способствовали, как в свое время способствовали проведению встречи в Женеве в 2012 г. и принятию Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., формированию Международной группы поддержки Сирии и запуску т.н. «Венского процесса», одобренного резолюцией 2254 СБ ООН, которую нужно неукоснительно выполнять. Уверен, что вы меня еще спросите о подробностях этого процесса. Буду готов прокомментировать поподробнее.
Президент Российской Федерации В.В.Путин неоднократно говорил, что нахождение развязок самых сложных проблем возможно только при опоре на международное право, при уважении культурно-цивилизационного многообразия современного мира, права народов самим определять свою судьбу.
Исходим из того, что вообще в ХХI веке многостороннее сотрудничество может строиться исключительно на основе подлинного равноправия, взаимного учета интересов, совместной работы в интересах реализации общих целей. Именно так осуществляется деятельность интеграционных структур на постсоветском пространстве, включая Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество независимых государств (СНГ). На этих же принципах работают и такие перспективные форматы, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), саммиты которых состоялись в июле прошлого года в Уфе.
При этом, работая над интеграционными процессами на постсоветском пространстве, мы их не противопоставляем иным интеграционным усилиям, о чем громогласно и многократно говорило российское руководство. Мы готовы работать над гармонизацией интеграционных процессов и выстраиванием мостов, в частности между Европой, Евразией, Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). В истекшем году было заключено важное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, целый ряд государств (их десятки) проявляют интерес к подписанию аналогичных документов. Достигнута принципиальная договоренность о работе над сопряжением деятельности ЕАЭС и китайского проекта Экономического пояса «Шелкового пути», что предоставляет очень широкие возможности для объединения усилий.
Помимо поступательного развития наших отношений стратегического партнерства и всестороннего взаимодействия с КНР, мы укрепляли стратегическое партнерство с Индией, Вьетнамом, другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, активно участвовали в деятельности многосторонних механизмов в АТР.
Дополнительные перспективы для сотрудничества открываются в связи с инициативой Президента Российской Федерации В.В.Путина о начале вместе с нашими партнерами по ЕАЭС консультаций с членами ШОС и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу о формировании возможного экономического партнерства. Эти вопросы будут в повестке дня предстоящего в мае в Сочи саммита Россия-АСЕАН, который будет посвящен двадцатилетию наших отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
Набирало обороты сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, с теми объединениями и региональными структурами, которые действуют на этих континентах. Отмечу, в частности, традиционные и тесные контакты с Африканским союзом, Лигой арабских государств (ЛАГ), Организацией исламского сотрудничества (ОИС), Сообществом стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК).
Руководствуясь принципами баланса интересов, верховенства международного права и центральной роли ООН, российская дипломатия способствовала успеху коллективных усилий на целом ряде важнейших направлений международной повестки дня.
Отмечу завершение в прошлом году процесса ликвидации сирийского военно-химического потенциала, договоренность по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Несколько дней назад прекратили действие положения т.н. санкционных резолюций СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ в отношении Ирана, тем самым началась практическая реализация Совместной всеобъемлющей программы действий, которая обеспечит гарантии исключительно мирного характера иранской ядерной программы, осуществляемой в полном соответствии с Договором о нераспространении и правилами МАГАТЭ о мирном использовании ядерной энергии. Это крупный шаг на пути окончательной полной нормализации ситуации вокруг Ирана. Мы активно это поддерживаем, как и любые шаги по устранению искусственных препятствий для международного общения и участия любого государства в международной жизни.
Считаю огромным достижением прошлого года Минские договоренности от 12 февраля 2015 г. Весь последующий период мы настойчиво добивались урегулирования конфликта на Украине на основе выполнения именно тех обязательств, которые содержатся в этом Комплексе мер. Как вам известно, не все договоренности были выполнены, я бы даже сказал, далеко не все, прежде всего те, которые касаются обязательств Киева по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском для решений политических аспектов украинского кризиса. Поэтому было решено продолжить эту работу в 2016 году. Но задачи остаются неизменными, все они закреплены недвусмысленно в Минских документах. Мы будем требовать их неукоснительного исполнения в соответствии с теми дополнительными договоренностями и усилиями, которые предпринимались, в частности в рамках встреч лидеров стран «нормандской четверки». В целом мы будем по-прежнему привержены всеобъемлющему и исключительно мирному решению внутриукраинского кризиса, продолжим способствовать тому, чтобы украинцы восстановили национальное согласие и вернулись на путь нормального устойчивого развития.
Наш последовательный курс наряду с накоплением известных издержек конфронтационной политики некоторых наших партнеров, расширением проблем в мировых делах способствовал, по-моему, в истекшем году росту понимания всеми участниками международного общения безальтернативности широкого сотрудничества для совместного поиска выхода из кризисных ситуаций. Но процесс развивается не быстро и не просто. Продолжается инерция попыток сдерживать Россию, хотя эта линия давно должна была быть сдана в архив истории, продолжаются попытки извлекать односторонние выгоды и даже наказывать нас за самостоятельную внешнюю политику.
Конечно же, мы учитываем и будем учитывать это в наших действиях. Это не наш выбор. Мы готовы к самому тесному и конструктивному сотрудничеству и с западными партнерами, включая Европу, США, открыты для поступательного развития сотрудничества с ними. Но только и исключительно на равноправной взаимовыгодной основе при невмешательстве во внутренние дела друг друга и уважении принципиальных интересов каждой стороны.
Наши западные коллеги иногда запальчиво говорят, что с Россией больше бизнеса «как обычно» не будет. Убежден, что это именно так, и здесь мы с ними сходимся: больше не будет бизнеса «как обычно», когда нам пытались навязывать договоренности, которые учитывают, прежде всего, интересы либо Евросоюза, либо США, и убеждали нас в том, что это не нанесет ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Начинается история, которая может развиваться только на основе равноправия и всех других принципов международного права.
Пока же мы отмечаем продолжение весьма неконструктивной и опасной линии в отношении России, как я уже сказал, включая укрепление военного потенциала НАТО вблизи наших границ, создание европейского и азиатского сегментов глобальной ПРО США, к работе над которыми подтягиваются европейские страны и страны Северо-Восточной Азии. Мы считаем такие действия дестабилизирующими, недальновидными. К сожалению, попытки переосмыслить эту ситуацию предпринимаются, но с не очень впечатляющим успехом. Например, в ОБСЕ год назад была создана «группа мудрецов», которая предположительно должна была согласовать рекомендации о том, как возродить дух Хельсинкского Заключительного акта, вернуться к принципам равной и неделимой безопасности. К сожалению, ничего из этого не получилось. Западные эксперты «гнули» официальную линию своих правительств на сдерживание России, поэтому наш эксперт был вынужден дистанцироваться от этого документа. Из хорошей затеи, в общем-то, ничего толкового не получилось. Тем не менее, рассчитываем, что ОБСЕ - все-таки не совсем потерянная Организация: она активно работает на Украине, обрела «второе дыхание», у нее есть шансы отвечать тому предназначению, которое было заложено при ее создании. Мы надеемся, что поиск подлинно коллективных, равноправных подходов к претворению в жизнь идеалов общеевропейской безопасности все-таки начнется.
В рамках нашей внешнеполитической дипломатической деятельности неизбежно приоритетное место занимают задачи укрепления международного гуманитарного присутствия России, поддержки российских соотечественников, которые оказались за рубежом или находятся там с туристическими или иными целями. Особое внимание мы уделяли диалогу с неправительственными организациями, академическими кругами, российским бизнесом, в целом гражданским обществом, взаимодействию со средствами массовой информации. Вчера я видел статистику: мы (МИД России), вроде, по-прежнему на втором месте по медийной активности и открытости, т.е. есть над чем работать. Рассчитываю, что сегодняшняя пресс-конференция поможет нам двигаться вперед в том, что касается медийной открытости.
Готов ответить на ваши вопросы.
Вопрос: Американский стратегический центр «Стратфор» опубликовал традиционный ежегодный доклад по итогам ушедшего 2015 года, в котором также был дан прогноз на 2016 год. Эксперты считают, что текущий год будет непростым для большинства стран мира. Какие Вы видите главные вызовы для России и мира в начавшемся 2016 году?
С.В.Лавров: Если говорить наиболее обобщенно, то, конечно, главный вызов – это задача по созданию справедливой демократичной международной системы. Мы в одиночку этого сделать не можем, это объективный процесс. Появились новые центры экономического роста, финансового и политического влияния. Международная система должна адаптироваться к тому, что реально происходит в жизни. Это предполагает реформу институтов, как тех, которые занимаются международной финансовой и валютной системами, международной экономикой, так и занимающихся мировой политикой - я имею в виду ООН и ее Совет Безопасности. Но самое главное - не просто отразить объективные процессы в структуре тех или иных международных организаций, а вести дела в мире сообразно новой обстановке, что означает выработку таких решений, которые будут поддерживаться всеми ключевыми странами.
Хорошие примеры – урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, химическое разоружение Сирии, создание Международной группы поддержки Сирии, за что мы бились очень долго и упорно, поскольку целый ряд государств, напрямую вовлеченных в сирийский конфликт, отказывались приглашать за один стол переговоров, например Иран, исключительно по идеологическим соображениям. Большое достижение в том, что вместе с США (отдам должное Госсекретарю США Дж.Керри и его позиции) удалось все-таки настоять на формировании подлинно представительной группы.
Таким образом нужно действовать и во всех других ситуациях. Если мы будем обеспечивать инклюзивность во всех процессах, когда все влияющие на ситуацию игроки не будут изолироваться, а будут приглашаться за стол переговоров, это и будет отражением тенденции современного мира, отражением необходимости учитывать новые реалии в мире, в мировой политике и экономике.
Наверное, в этом ключ к любому конфликту, к любой ситуации, которую предстоит «разруливать», будь-то Украина, сохраняющиеся задачи по сирийскому урегулированию, конфликты в Африке, отношения между палестинцами и израильтянами, о которых ни в коем случае нельзя забывать. Этот принцип абсолютно востребован при решении главной на сегодняшний день задачи – борьбе с терроризмом. Когда пытаются коллективность этой борьбы обусловливать не относящимися к делу вещами (например, «вы согласитесь на смену режима в Сирии, тогда мы начнем бороться с терроризмом по-настоящему, коллективно и координировать свои действия»), я считаю это большой ошибкой тех политиков, которые такую позицию занимают.
Еще один аспект, который является вызовом для мировой политики, – это договороспособность наших партнеров, всех, кто подписывает какие-либо соглашения. В целом ряде случаев это проблема. Мы неоднократно наблюдали аналогичную проблему в процессе усилий по сирийскому урегулированию, когда Женевское коммюнике отказывались выполнять только потому, что туда не удалось вписать требования об отставке Президента Сирии Б.Асада и угрозы санкций, если Б.Асад не уйдет. В итоге более чем через год наше предложение все-таки прошло, и этот документ был одобрен в СБ ООН. Потом долгое время мы не могли возобновить переговоры, хотя об этом и договаривались, потому что, как я уже говорил, кто-то не хотел садиться за один стол с кем-то.
Такие капризы в современной политике не допустимы и весьма опасны. Есть главные, генерические вещи, которые являются вызовом для нас в работе над формированием новой международной системы, которая будет опираться на Устав ООН и существенным образом будет дополнена на основе тех же принципов Устава, который, между прочим, является очень гибким документом, и менять его нет никакой необходимости. Если мы сможем обеспечить эту системность в работе всех ключевых игроков в «Группе 20», говоря о мировой экономике и мировых финансовой и валютной системах, а также в СБ ООН, в МГПС, в тех структурах, которые занимаются решением конфликтов в Йемене, Афганистане, в палестино-израильском урегулировании, в самых разных частях Африки, то тогда это, безусловно, поможет продвижению вперед.
Вопрос: В течение последних трех лет отношения с Канадой были весьма прохладными. Как Вы считаете, могут ли отношения улучшиться с приходом к власти в Канаде нового правительства? Видите ли Вы для этого какие-либо сигналы?
С.В.Лавров: Мы заинтересованы в хороших отношениях со всеми странами. Когда мы говорим, что готовы и открыты к сотрудничеству с Западом, включая Европу и Северную Америку, конечно, мы имеем в виду и Канаду. У нас очень добрые давние отношения. Канада – влиятельный, уважаемый участник международных отношений. У нас во многом общие задачи, совпадающие интересы в том, что касается освоения Арктики и вообще сотрудничества в северных широтах, хороший опыт практического сотрудничества в целом ряде областей: в экономике, торговле, в северных широтах. В наших отношениях периодически были взлеты и падения, но в итоге каждый раз все-таки здравый смысл брал верх. Такие падения мы наблюдали в период правительства С.Харпера.
Я считаю, что последние два года были вообще периодом утерянных возможностей в отношениях с Канадой, когда предыдущее правительство вдруг взяло резко русофобскую линию, свернуло двусторонние связи, ввело санкции против российских физических и юридических лиц, приостановило сотрудничество Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.
Естественно, мы должны были принять ответные меры. Вы знаете об известном Указе Президента России В.В.Путина по вопросам ограничения импорта продовольственных товаров. Никому это на пользу не пошло. Нас удивило полное отсутствие какого-либо прагматизма в тех импульсивных действиях, которые предпринимало предыдущее правительство, взяв курс, насколько можно было понять, на абсолютно слепое следование требованиям оголтелых представителей украинской диаспоры в Канаде, просто игнорируя свои национальные интересы.
То, что в октябре 2015 г. на выборах победила Либеральная партия во главе с Д.Трюдо, - это конечно, важное событие, прежде всего для канадцев, для событий вашей внутриполитической жизни. Но, учитывая те комментарии, которые делает Д.Трюдо и его коллеги по внешней политике, можно рассчитывать, что появляются возможности выправить наши двусторонние отношения, которые были абсолютно искусственно и бессмысленно осложнены. Повторю, предвыборная риторика и риторика нового правительства после выборов указывают, что они готовы возобновить диалог по международным проблемам и восстанавливать двустороннее сотрудничество.
В ноябре на полях саммита «Группы 20» состоялась беседа Президента России В.В.Путина с новым Премьер-министром Канады Д.Трюдо. С обеих сторон было выражено желание, готовность и заинтересованность в нормализации отношений. Исходим из того, что практические шаги за нашими канадскими партнерами, которые вызвались и заявили о своем намерении исправлять ошибки своих предшественников. Будем ждать. Мы к таким позитивным переменам всегда готовы.
Вопрос: Хотел бы задать вопрос по отношениям между Россией и Германией, которые в последнее время, к сожалению, дали заметную трещину. Считаете ли Вы, что эти отношения зашли в тупик, находятся в кризисе? Что Вы ожидаете от германских партнеров, чтобы их улучшить? Ни для кого не секрет, что, говоря о Германии, мы часто говорим о Европейском Союзе, говоря об отношениях между Россией и Германией, мы говорим об отношениях между Россией и Европейским Союзом, считая Германию локомотивом Европы. Я задаю этот вопрос в преддверии визита в Россию в ближайшие дни одного из немецкий ведущих политиков Х.Зеехофера и его встречи с Президентом России В.В.Путиным.
С.В.Лавров: Я бы не стал характеризовать отношения между Россией и Германией как находящиеся в кризисе, а тем более в тупике. У нас идет весьма интенсивный диалог на высшем уровне между Президентом России В.В.Путиным и Канцлером Германии А.Меркель, на уровне министров иностранных дел, других министров. Деятельность целого ряда механизмов, которые помогают нам двигаться вперед, была осложнена, но не остановлена, прежде всего, благодаря позиции германского бизнеса, который активным образом продолжает деятельность по укреплению связей со своими российскими партнерами. Я слышал, что несколько десятков, а может сотен германских компаний приостановили свою деятельность в России, но все равно их количество здесь исчисляется тысячами. За последние два года я минимум два, а может и три раза встречался с капитанами германского бизнеса - один раз в Москве, другой - в Мюнхене, где мы с вице-канцлером З.Габриэлем проводили совместный диалог с бизнесменами Германии и России. Я вижу, насколько прагматично и здраво германские предприниматели оценивают ситуацию.
Если мы будем прагматичны и будем думать о своих национальных интересах, которые не нарушают какие-либо международные обязательства, то позитивный результат всегда достижим. Один из примеров – начавшаяся активная работа по проектированию и сооружению газопровода «Северный поток-2». Этот проект абсолютно экономический, коммерческий, он выгоден Германии, всей Европе и России. То, что этот проект подвергают такой идеологической критике и призывают не сотрудничать с Россией, потому что это будет во вред Украине (хотя мы все знаем, почему потребовалась работа, нацеленная на то, чтобы не зависеть от транзита через Украину), является попыткой затруднить, осложнить наши отношения извне, со стороны, взывая к некой атлантической, евросоюзовской «солидарности». Мне хотелось, чтобы не только в этом, но и во всех других случаях Германия, как, собственно, и Европа, да и любая другая страна, принимали решения вне зависимости от того, какой чиновник из одной или другой соседней или далеко расположенной страны приезжал и советовал, что делать, а в зависимости от четкого понимания своих национальных интересов.
Мы видим, насколько сложно сейчас формируется единая линия ЕС не только по миграции, но и целому ряду других вопросов. Мы видим, насколько важна роль Германии в качестве ведущей страны, локомотива Евросоюза, насколько Германия стремится максимально учитывать интересы всех стран ЕС. Делать это становится все сложнее и сложнее. Мы не заинтересованы в том, чтобы ЕС ослабевал, чтобы в нем тем более появлялись какие-то трещины, чтобы он раскалывался. Мы заинтересованы в едином, сильном Европейском Союзе, с которым комфортно работать в экономике и по всем другим вопросам. Но мы не можем не видеть происходящего. Мы видим и ценим усилия Германии, направленные на то, чтобы существующее внутри ЕС, я бы сказал, активно-агрессивное меньшинство по целому ряду вопросов и не только отношений с Россией, но и по многим вопросам внутреннего устройства ЕС, все-таки умеряло бы свои аппетиты и амбиции и следовало бы неким общим правилам, которые как в ЕС, так и в любой другой нормальной равноправной организации могут быть только консенсусными. Мы желаем Германии успехов и в том, чтобы справиться с тяжелейшими проблемами, вызванными мигрантами. Надеюсь, что эти проблемы не будут «заметать под ковер», не будет повторения случаев, как с нашей девочкой Лизой, когда новость о том, что она исчезла, по каким-то причинам очень долго скрывалась. Сейчас, по крайней мере, мы работаем с ее адвокатом, который работает с ее семьей, с нашим Посольством. Ясно, что девочка абсолютно точно не добровольно исчезала на 30 часов. Здесь должна восторжествовать правда и справедливость.
Очень надеюсь, что эти миграционные проблемы не будут вести к попытке политкорректно «залакировать» действительность в каких-то внутриполитических целях - это было бы неправильно. Проблемы нужно честно излагать, признаваться в них своим избирателям и предлагать открытые и понятные пути их решения.
Мы искренне заинтересованы в том, чтобы этот очень непростой период в Германии прошел без существенных потерь, чтобы были найдены решения по проблеме миграции, как внутри страны, так и внутри ЕС, по всем другим вопросам, которые предстоит в ЕС рассматривать в ближайшее время, включая то, как отразится на будущем этой структуры известный референдум в Великобритании, а также референдум в Нидерландах по поводу соглашения об ассоциации с Украиной. Это все серьезные вызовы Евросоюзу. Те, кто заинтересован, чтобы эта структура сохранялась в качестве единой, эффективной, а только в таком случае она может быть комфортным партнером для России и всех других, конечно, должны желать ЕС найти соответствующие решения, которые обеспечивали бы тот самый консенсус, опирались бы на тот самый принцип солидарности, но желательно не принимались бы за счет каких-то третьих стран, чтобы они были основаны на балансе национальных интересов стран ЕС, а не на позициях «троянских лошадок».
Вопрос: Вчера спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистура объявил дату начала межсирийских переговоров, однако, сохранил интригу относительно состава делегации оппозиционеров. Не могли бы Вы пролить свет на этот вопрос, а также прокомментировать публикации о том, что Россия и США якобы достигли компромисса по этому поводу? Означает ли это, что Россия могла согласиться на участие в переговорах таких групп, как «Армия Ислама» и «Ахрар аш-Шам»? На какие уступки мог пойти Вашингтон в этом случае?
С.В.Лавров: Россия и США не имели никакого мандата на формирование делегации оппозиции. Этот мандат был вручен ООН в лице Генерального секретаря и его спецпосланника по Сирии С.де Мистуры. Резолюция 2254 четко говорит о том, что именно он должен рассылать приглашения сирийским оппозиционерам, исходя из состава участников тех встреч, которые состоялись в Каире, Москве, в других точках и совсем недавно в Эр-Рияде. С.де Мистура советовался со странами, входящими в Международную группу поддержки Сирии, в том числе с Россией. Мы изложили ему нашу абсолютно очевидную точку зрения, которая заключается в том, что все, кто участвовал во встречах сирийской оппозиции в различных столицах и городах, должны быть приглашены. Он столкнулся с серьезной проблемой, потому что некоторые участники Международной группы поддержки Сирии, как я понимаю, настаивают на том, что только те, кто встречался в декабре 2015 г. в Эр-Рияде, достойны представлять сирийскую оппозицию, а всех остальных необходимо оставить «за бортом». Это очевидно грубое нарушение резолюции 2254, и это позиция России, США и ООН, которые, как вы знаете, являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии. Я исключаю, что С.де Мистура мог поддаться на такой откровенный шантаж. Он подтвердил, в том числе в ходе вчерашней пресс-конференции в Женеве, что круг приглашенных будет широким. По идее, он должен быть инклюзивным, как записано в резолюции, то есть представлять собой максимально широкий спектр оппозиционных структур.
В последнее время мы слышим сомнения одного члена Международной группы поддержки Сирии в отношении того, приглашать ли сирийских курдов, а именно Партию демократического союза. Исхожу из того, что без этого участника переговоры не могут принести результат, который мы хотим, а именно окончательное политическое урегулирование в Сирии. Сирийские курды составляют примерно 15% населения и занимают значительную, причем ключевую часть территории. Знаете, какой аргумент был выдвинут против их участия? Зачем их приглашать, если они не борются против Б.Асада? Такого критерия – приглашать на переговоры только тех, кто борется с Б.Асадом – никогда не было. Переговоры в конечном итоге должны быть о прекращении огня, о решимости и повышении эффективности борьбы с терроризмом, а также о политических реформах в Сирии. Как можно вести речь о политических реформах в стране (кстати, те, кто продвигают такую достаточно одностороннюю повестку дня в сирийском урегулировании, на первое место ставят не борьбу с терроризмом, а политические реформы), игнорируя ведущую курдскую партию – достаточно мощную силу, которая активно противостоит терроризму «на земле», той же самой ИГИЛ.
Неприглашение этой группы будет серьезнейшей ошибкой. Повторю, мы не будем накладывать никакого вето – это право С.де Мистуры. Он должен осознать свою ответственность, не должен прятаться за Россию и США и «идти на поводу» у тех, кто, в отличие от нас, пытается привнести инструмент вето в деятельность Международной группы поддержки Сирии. Рассчитываем, что Генеральный секретарь ООН вместе с С.де Мистурой в полной мере осознают свою ответственность и поймут недопустимость подыгрывать, как я понимаю, одному единственному члену Международной группы поддержки Сирии, который решил оставить курдов за рамками переговорного процесса.
Вопрос: Более полутора лет курды усиленно воюют против «Исламского государства» и других террористических группировок в Сирии и Ираке. Многие страны помогали им в этой борьбе. Как Россия помогала курдам в противостоянии ИГИЛ? Будет ли Россия увеличивать свою помощь? Какую роль курды занимают в российской стратегии?
С.В.Лавров: Безусловно, мы рассматриваем курдов как важный народ, который исторически проживает на территории многих государств региона, включая Ирак, Сирию, Иран, Турцию. Курды сейчас являются весьма эффективным отрядом в борьбе с ИГИЛ. Мы поддерживаем борьбу сирийского и иракского правительств против терроризма и начали делать это задолго до того, как в августе 2014 г. была сформирована т.н. «коалиция» во главе с США. Практически с самого начала появления этой террористической угрозы мы учитывали это в поставках вооружений в Сирию и Ирак. Осознавая, что в Ираке с «Исламским государством» борются правительственная армия и курдское ополчение, мы учитывали потребности курдов в поставках наших вооружений в Ирак, но они осуществлялись через центральное правительство, через Багдад. Мы в полной мере уважаем суверенитет и территориальную целостность Ирака, знаем о процессах, которые идут в отношениях между Багдадом и Эрбилем, арабами и курдами, суннитами и шиитами в Ираке, знаем о некоторых высказываемых теориях в пользу того, чтобы раздробить Ирак. Аналогичные теории есть по Сирии, Афганистану, и мы знаем, кто это продвигает, в их числе и соседние страны, у которых давным-давно выработана идеосинкразия в отношении курдов. Это очень опасно, и мы будем противостоять таким тенденциям. Вся наша помощь, идущая и доходящая, в том числе до курдов, направляется через центральное правительство.
Вместе с тем мы знаем, что ряд стран, прежде всего западных, помогают курдам напрямую. Как я понимаю, делается это в отсутствие возражений Багдада. Германия, в частности, оказывает помощь иракским курдам прямыми поставками. Партия демократического союза С.Муслима (сирийские курды) является союзником США, которые вооружают их напрямую, а американские инструкторы помогают курдам повышать свою боеспособность. Эту партию, которая реально борется с ИГИЛ, является союзником США, и боевиков которой Вашингтон поддерживает, пытаются не пустить на межсирийские переговоры. В данной ситуации, во-первых, это наша общая проблема, потому что это не то, что несправедливо, но вредно и контрпродуктивно, а во-вторых, это, конечно, проблема США, потому что, как я сказал, именно эту группу они считают одним из наиболее эффективных и близких союзников в борьбе с терроризмом. Надеюсь, что Вашингтон это так не оставит.
Вопрос: Заявлениями Пхеньяна об испытаниях водородной бомбы были обеспокоены как в регионе, так и во всем мире. Вопрос об опасности растущей ядерной угрозы на Корейском полуострове еще раз вышел на первый план. Возможно ли в будущем решение ядерной проблемы для КНДР по примеру Ирана? Какие трудности соответствующим сторонам нужно преодолеть в первую очередь?
С.В.Лавров: Я рассчитываю на возможность решения ядерной проблемы Корейского полуострова – мы называем ее не ядерной проблемой КНДР, а ядерной проблемой Корейского полуострова. Задача не в том, чтобы ядерного оружия не было у КНДР, а в том, чтобы на Корейском полуострове вообще ни у кого не было ядерного оружия – ни у Северной, ни у Южной Кореи, ни у США, которые не должны вновь завозить туда элементы своего ядерного арсенала.
Мы выступили с соответствующим заявлением после очередного проведенного Северной Кореей ядерного испытания, которое нарушает резолюцию СБ ООН. Сейчас мы консультируемся с США, нашими китайскими друзьями, представителями Республики Корея и Японии по поводу того, что это было. Мы не уверены, что это было испытание водородной бомбы, поскольку, если бы это было так, то означало бы, среди прочего, что резолюции СБ ООН, которые ввели жесткие ограничения на поставку в КНДР любых материалов, касающихся ядерной программы, неэффективны, и что дополнительные материалы и технологии, без которых нельзя создать и испытать такую бомбу, попадают в страну. Если же это было очередное испытание (подобное двум или трем предыдущим) обычного ядерного устройства, то это означало бы, что наши ограничения работают.
Я ухожу в сторону от того, насколько в принципе неприемлемо распространение ядерных технологий. Повторю, здесь важно иметь в виду следующий фактор: работают ли решения СБ ООН, которые были нацелены на недопущение дальнейшего прогрессивного развития ядерной военной программы Северной Кореи. В контактах с нашими коллегами, включая китайских, мы активно прорабатываем этот аспект ситуации. В политическом плане, безусловно, единственный путь – возобновлять шестисторонние переговоры. Попытки это сделать предпринимались последние года три, когда западные участники «шестисторонки», прежде всего, США, Япония и Корея отказывались от каких-либо гибких подходов и в бескомпромиссной форме настаивали на том, что КНДР сначала должна отказаться от своей ядерной программы, а потом с ней будут разговаривать. Наверное, это было бы самым простым и устраивающим всех решением, но это нереалистично.
Позиция России и Китая заключается в необходимости возобновления шестисторонних переговоров. Мы слышали предложение Южной Кореи о том, чтобы сначала собраться в формате «шесть минус один», то есть без Северной Кореи. Не думаю, что это хорошая идея, потому что это опять будет означать, что мы пытаемся кого-то изолировать. Когда т.н. международное сообщество в лице наших западных партнеров изолировало Иран, ничего хорошего не происходило – страна нарастила свою ядерную программу колоссальными темпами. С 2004 г., когда все это поддавалось несложному решению, и у Ирана было два десятка центрифуг, наши западные партнеры уперлись в принцип – ИРИ должна была от них отказаться, и после этого с ней бы начали разговаривать. В итоге стали разговаривать, когда эти центрифуги исчислялись тысячами. Все потому, что поначалу вместо переговоров Иран пытались изолировать. Нельзя повторять эту ошибку в отношении Корейского полуострова.
Вопрос: В пятницу Россия закрыла российско-норвежскую границу из-за беженцев, которых Норвегия попробовала отправить обратно в Российскую Федерацию. Сейчас по этому вопросу идут переговоры между двумя странами. Как можно решить данный вопрос, чтобы Россия приняла беженцев, которых она, в принципе, согласна принять?
С.В.Лавров: Знаю о причинах этой проблемы. Деталями не владею, но суть заключается в том, что речь идет о людях, которые приехали в Россию с целью работы в стране или посещения родственников. В анкетах не было указано, что цель посещения России – транзит в Норвегию. То есть, они заранее изложили ложные сведения о целях своего приезда в Российскую Федерацию. Таких людей мы не хотим принимать обратно – они нарушили наши законы.
Мы договорились с соответствующими властями Норвегии о том, что возьмем паузу и выработаем алгоритм для решения этой проблемы в интересах как России, так и Норвегии. Есть Соглашение о реадмиссии между Россией и Норвегией, и наша ФМС обсуждает со своими норвежским коллегами возможность быстро составить дополнение к данному Соглашению, которое будет решать в практическом плане проблемы, возникающие из-за таких недобросовестных путешественников.
Вопрос: Каковы перспективы развития российско-болгарских торгово-экономических отношений. Есть ли возможность сбалансировать двусторонний товарообмен в области машиностроения, пищевой промышленности, аграрного сектора, судостроения? Большой осадок оставил проект «Южный поток», а также Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Болгария и СССР работали во всех этих направлениях. Может ли Россия предоставить больше бюджетных мест для обучения болгар, поскольку поколение 90-х и 2000-х годов уже не будет знать свою историю? В Болгарии существует обеспокоенность по поводу наращивания присутствия вооружений стран НАТО, в том числе танков «Абрамс». Как говорят в России «зачем попу наган, если он не хулиган?».
С.В.Лавров: По-моему, не «зачем», и не наган, а баян! Вопрос эмоциональный. Я понимаю эти эмоции и во многом их разделяю. Считаю, что Россия и Болгария настолько тесно связаны исторически, культурно, духовно, просто по-человечески, что, конечно же обидно, мягко говоря, когда некоторые политики в угоду своим сиюминутным конъюнктурным целям в рамках ближайших электоральных циклов готовы все это разрушить и принести в жертву своим устремлениям, которые очень часто даже не являются их устремлениями, а продиктованы извне.
Россия никогда не была инициатором сокращения торгово-экономического и любого другого сотрудничества с Болгарией. Никогда. Это касалось проекта «Бургас-Александрополис», из которого Болгария вышла в одностороннем порядке еще в 2013 году, АЭС «Белене», «Южного потока». «Южный поток», как признал премьер-министр Б.Борисов, не дал строить Евросоюз, а именно Брюссель. Я хочу все-таки видеть разницу между Евросоюзом и Брюсселем. Есть Еврокомиссия, которая состоит из комиссаров и комиссарш, - это такая структура, которая как любая бюрократическая структура, хочет себя воспроизводить, хочет утверждать себя. Очень часто мы наблюдаем, как страны-члены начинают выражать все больше и больше недовольства теми шагами, которые принимает Еврокомиссия без согласования со странами-участницами. Так, кстати сказать, было в сентябре 2014 года, когда вводился первый большой блок санкций, когда Еврокомиссия сделала это, не выполнив договоренности глав государств и правительств. Целый ряд руководителей стран ЕС написали соответствующие гневные письма в Брюссель. Не знаю, поможет ли это или нет. Но проблема брюссельской бюрократии возникает все чаще в дискуссиях, в том числе, кстати, и в отношении того, как Германия себя чувствует в Европейском союзе.
Мы не могли ждать перемен в настроении Брюсселя в отношении «Южного потока» и стали искать альтернативу, потому что Европе нужен российский газ. Украинский транзит не надежен, в этом вы можете убеждаться ежедневно. Наши украинские соседи каждый день делают какие-то заявления: то, что они в десять раз повысят цену на транзит, хотя она обозначена в контракте, и так далее. Поэтому необходимость прямого выхода в ЕС российского газа - это данность, которая всеми разделяется. Был найден вариант «Северного потока - 2», хотя это мог вполне быть «Южный поток», если бы Еврокомиссия немножко думала не о геополитических играх, а о том, как сделать свою работу честно и надежнее обеспечить энергобезопасность ЕС.
Вы вспомнили о временах Совета экономической взаимопомощи, но это была другая история, другая эпоха. Сейчас мы, конечно же, ведем речь, что проекты должны быть взаимовыгодными, окупаемыми, рыночными, государственная поддержка тоже должна быть в формах, которые акцептованы сегодня в мировых экономических отношениях. Есть возможности оказывать такую поддержку, в том числе через Международный инвестиционный банк, который сохранился, и в котором участвуют наши страны наряду с другими странами Восточной Европы.
Насчет образования. «Эразмус-Мундус» и Болонский процесс - наверное, здесь необходимо двигаться навстречу друг другу. Россия и наши ведущие университеты присоединяются к Болонскому процессу, и одновременно мы расширяем в меру возможностей число студентов, которые приезжают к нам по государственным стипендиям. Кстати, большое число приезжают учиться на коммерческой основе, за свой счет. Это тоже показатель того, что наше образование пользуется хорошей репутацией, и оно востребовано в мире. Приезжают не только из стран, которые традиционно обучали своих студентов в России и в СССР, не только из развивающихся стран и стран Восточной Европы, но и стран традиционного Запада.
Мы готовы будем расширять количество стипендий, которые мы предоставляем Болгарии, если такая заинтересованность будет проявлена, и если Болгария будет самостоятельно определять свою линию в этом вопросе.
Насчет того, что Россия должна что-то сделать, чтобы Болгария не забыла нашу совместную историю, мне кажется, что это и болгарская история. В том числе и болгары должны думать, чтобы не забывать эту историю, не забывать, кто помогал сбросить Османское иго, кто помогал в других тяжелейших ситуациях. Уверен, что в Болгарии есть политики, общественные деятели (по крайней мере, когда я был в Софии некоторое время назад, я встречался с общественностью и видел этих людей), люди, которые не хотят и не позволят, чтобы эту историю переписали по примеру того, как это делается отдельными персонажами в некоторых других странах, в частности, в нашей любимой братской Украине.
И последнее. Вы упомянули о НАТО и размещении военной инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи наших границ, в том числе в Болгарии. И нас это тоже тревожит. Видел недавно статистику, что в бюджетном запросе Пентагона на 2017 финансовый год (должны представить его в следующем месяце в Конгресс) на операции в Европе необходимо вместо нынешних 790 млн. долл. около 4 млрд. долл. - это более чем четырехкратный рост. Цель – создание складов передового базирования техники, оборудования, ротация на постоянной основе американских военнослужащих. Это подтвердил Министр оборы США Э.Картер, выступая в Давосе.
Болгария – член НАТО, поэтому, конечно, вы должны следовать дисциплине, но, напомню, что решения в Североатлантическом альянсе принимаются консенсусом. Если сложить голоса моих коллег, официальных представителей своих стран, которые высказывают озабоченности тем, что НАТО опять начинает действовать на основе образа врага, то получится достаточно серьезная группа. Но почему-то, когда они приезжают в Брюссель и голосуют по тем или иным вопросам, они следуют блоковой дисциплине, а не своим национальным интересам.
Наш Президент В.В.Путин недавно сказал, кто определяет блоковую дисциплину. Проблема не в том, что это натовские идеи и попытки навязывать всем и вся свою волю (Европа – член НАТО), но проблема в том, что решения в НАТО принимают США, а Европа просто «берет под козырек».
Вопрос: Еще один эмоциональный вопрос. Как российская дипломатия будет реабилитировать такое словосочетание, как «русский мир»? Ведь вы всей планете показали, что это не «русский мир», а «русская война» и «русская смерть». В ситуации нарушения территориальной целостности Украины, как соседи России могут себя чувствовать в безопасности, если в случае необходимости все международные договоренности и обязательства нарушаются Россией?
С.В.Лавров: Если Вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили. Он содержит одно единственное обязательство – не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал и никаких угроз применения ядерного оружия в отношении Украины не звучало. Звучала обратная угроза. Ю.Тимошенко сказала, что «ватников» на Донбассе нужно наказать ядерной бомбой.
Что касается «русского мира», не могу Вам сейчас подтвердить, что «русский мир» - это некая российская выдумка. «Русский мир» существует, это не проект, а объективная реальность, так же как есть объективная реальность «украинского мира» в Канаде и в других государствах, также как есть реальность армянской диаспоры. Дело в том, что до недавнего времени у нас по разным объективным и субъективным причинам руки не доходили, денег не хватало, чтобы установить с этими людьми устойчивые контакты и каналы связи, чтобы посмотреть, чем мы можем им помочь, прежде всего, чтобы они чувствовали себя людьми не второго сорта в тех странах, где они живут, чтобы они могли пользоваться своим языком, чтобы у них были СМИ на родном языке, чтобы они могли встречаться, проводить мероприятия, которые помогают сохранить их культуру, самобытность и которые обеспечивают их права как граждан того государства, в котором они оказались, права, которые не были бы ущемленными и базировались бы на общепризнанных международно-правовых нормах. Это в полной мере относится и к тем русским, которые жили и живут на Украине. Эти русские надеялись. Президент за президентом избирались на Украине и обещали сделать русский язык государственным языком. Не получилось. Максимум на что пошел В.Ф.Янукович - это присоединиться (хотя и не до конца) к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, что тем не менее не выделяло русский язык, но обеспечивало ему и языкам других меньшинств, которых на Украине немало, соответствующие права в тех местах, где эти меньшинства компактно проживают.
Мы привержены выполнению всех обязательств по линии Совета Европы, ООН, включая принцип уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств, включая Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права. В ней говорится, что каждое правительство, которое заслуживает отношения к себе на основе уважения принципа территориальной целостности своего государства, обязано в рамках этой территориальной целостности обеспечивать самоопределение народов, населяющих эту страну, в том числе в том, что касается языковых, культурных и прочих прав. Это правительство должно обеспечивать свою территориальную целостность без применения насилия.
Теперь, если мы на фоне этих обязательств, которые действуют и для Украины, и для России, и для всех других, проанализируем то, что произошло с начала ноября 2013 г. по февраль 2014 г., то станет понятно, кто нарушал какие свои обязательства, кто покусился на то, что называется «русским миром». Могу процитировать Д.Яроша (удовольствие не из приятных). Всем известны его слова, которые он произнес задолго до того, как в Крыму произошел референдум. Он еще в конце февраля говорил, что русский никогда не поймет украинца, никогда не будет говорить на украинском языке, никогда не будет думать, как украинец, никогда не будет славить С.Бандеру и Р.Шухевича, поэтому русским в Крыму не место, их надо оттуда просто удалить. Он употребил, по-моему, даже более жесткие выражения. Потом Д.Ярош организовал «поезда дружбы», как вы помните, с вооруженными молодчиками для того, чтобы прорваться в Крым, потом организовали «пятую колонну», которая захватила Верховный совет Украины и так далее. Когда в Донбассе законно избранные по украинским законам и правилам руководители регионов стали восставать политически и морально против государственного переворота, когда вместо них из Киева стали присылать назначенных «казачков» – командиров и комиссаров, когда таких комиссаров не принимали и стали избирать народных мэров, украинское руководство, пришедшее к власти в результате путчей, стало использовать армию и авиацию против собственного народа. Помните, как бомбили Луганск? Про Одессу я вообще не говорю. Никогда это не будет расследовано. Совет Европы уже сделал заключение, из которого ясно, что украинские власти никогда не допустят правды. Кстати, когда был майдан, натовцы, американцы, Генсек НАТО взывали к нам, чтобы мы оказали влияние на В.Ф.Януковича, чтобы он не использовал армию против собственного народа. Он не использовал армию против собственного народа. А когда армию бросили в т.н. «антитеррористическую операцию» с авиацией, тяжелым вооружением против тех, кто не принял путч и протестовал против него, кстати сказать, ненасильственно, сразу на наши вопросы о том, нельзя ли посоветовать теперь и этим гражданам не использовать армию, от лица НАТО нам отвечали: «Вы знаете, они же как бы защищают свое государство».
Поэтому любому нормальному беспристрастному человеку, включая журналистов, вся эта история понятна: кто какой мир защищал, кто обеспечивал сожительство русского, украинского, польского, венгерского, болгарского, румынского «миров» в одном государстве, кто нарезал избирательные округа во время последних выборов, которые проводило нынешнее руководство Украины таким образом, чтобы ни одного венгра не оказалось в парламенте, хотя Будапешт и венгерское землячество на Украине умоляли сделать округ, который позволил бы им иметь одного представителя в Верховной раде. Поэтому разговоры про «русский мир», как и про все остальные «миры», - многогранная история, которой можно заниматься.
Самое главное, что я хочу сказать в заключение ответа на Ваш вопрос, это то, что есть немало желающих, которые все происходящее пытаются анализировать через призму «русского мира» в его абсолютно извращенном толковании –только одержимость России защитой, включая использование вооруженной силы, русских по всему миру является главной угрозой. На этом основываются те решения, которые сейчас, потирая руки, принимают в НАТО к радости военно-промышленного комплекса. Как я уже сказал, только расходы США на обустройство внешних границ НАТО поближе к России будет стоить не 700 млн. долл., а 4 млрд. долл. На это и расчет.
Получается, что всем дозволено заботиться о своих гражданах, и только Россия, когда начинает это делать, попадает в разряд агрессоров и нарушителей спокойствия, подрывника всех правил и законов международного общения. Это все от лукавого. Если говорить о том, кто что выполнял, я уже приводил пример Будапештского меморандума, который не был нарушен, потому что мы в нем не обязались, как не обязались США и Великобритания, поддерживать государственные перевороты в украинском государстве.
Если говорить о выполнении документов ООН, я изложил вам в общих чертах декларацию, которая описывает критерии, позволяющие уважать территориальную целостность тех или иных государств при тех или иных правительствах.
Переходя к документам более практического плана, хочу отметить, что из самого текста Минских соглашений вытекает то, что, прежде всего, выполнять их должна киевская власть. Соглашения можно прочитать и убедиться в этом лишний раз.
Мое настроение заключается в том, чтобы добиваться выполнения того, о чем договорились. Я уже говорил, отвечая на вопрос о главных вызовах наступившего года, что обеспечение договороспособности наших партнеров – один из серьезнейших вызовов, с которыми мы сейчас сталкиваемся.
Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать недавнее заявление Премьер-министра Украины А.Яценюка о проведении референдума относительно новой конституции? Каковы перспективы того, что Украина успеет вовремя внести поправки в конституцию в части, касающейся децентрализации, как того требуют Минские соглашения?
С.В.Лавров: Мне сложно это комментировать, потому что Минские соглашения одобрил и подписал Президент Украины П.А.Порошенко, взяв на себя ответственность за их реализацию. Другое дело, как эта реализация осуществляется. Об этом я тоже неоднократно говорил. Украинские власти пытаются защищать Минские соглашения не путем их последовательной и честной реализации, а путем подыгрывания радикалам, которые пытаются эти соглашения либо оспорить, либо извращенно и недобросовестно интерпретировать.
Не могу сказать, что являюсь большим экспертом в области конституционного законодательства Украины. Конституция Украины менялась много раз, и ее нынешний вариант, как отмечали эксперты Венецианской комиссии, достаточно запутан, и не понятно, какие нормы в ней окончательно должны действовать. За внешнюю политику Украины отвечает президент, и с этим пока никто не спорит. Президент Украины П.А.Порошенко заявляет, что никакого «Минска-3» не будет. Напомню, что про «Минск-3» говорил в Контактной группе некто Р.П.Бессмертный, который заявлял, что «Минск-2» уже рухнул. Спустя пару дней Президент Украины П.А.Порошенко вынужден был его поправлять, сказав, что кроме «Минска-2» ничего нет и никакого «Минска-3» не будет. После этого Р.П.Бессмертный, продолжая работать и представлять Украину в Контактной группе, а также отвечать за выполнение Минских соглашений, заявлял, что он думает про «Минск-2». Потом мы действительно услышали заявление Премьер-министра Украины А.Яценюка, который заявил, что должен быть только всенародный референдум. Председатель Верховной Рады В.Б.Гройсман уже сказал, что этого делать не нужно. Но мы исходим из того, что за внешнюю политику на Украине отвечает президент. Премьер-министр А.Яценюк уже много чего наговорил: всего год назад, уже в современную эпоху, он пугал Европу тем, что следующим после т.н. «украинской агрессии» будет нападение на Германию и Францию. Весьма странно, так как А.Яценюк был неплохим министром (какое-то время был министром иностранных дел Украины), он мне казался разумным человеком, вникал в аргументы, действовал адекватно, но, видимо, попал под дурное влияние извне. Больше ничего не могу сказать.
Вопрос: Предлагала ли Россия Б.Асаду уйти? Шла ли речь о политическом убежище?
С.В.Лавров: На эти вопросы уже были даны ответы. В обоих случаях ответ «нет». Читал спекуляции, которые распространялись со ссылкой на покойного начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации И.Д.Сергуна: якобы он специально ездил в Дамаск и предлагал Президенту Сирии Б.Асаду уйти. Это неправда. Такого рода разговор с Президентом САР Б.Асадом не был необходим. Б.Асад был в Москве, разговаривал с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, и известно то, о чем они договорились. Мы подтвердили публично, и Президент Российской Федерации В.В.Путин не раз об этом говорил, что президент Сирии Б.Асад согласился на проведение переговоров с оппозиционерами, включая вооруженную оппозицию, согласился с тем, чтобы формировать «на земле» более широкий антитеррористический фронт из сирийской армии, ее подразделений и подразделений патриотической оппозиции, которые будут готовы выступать для борьбы с ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусрой» и им подобным. В Москве также договорились, что сирийский президент Б.Асад в ходе политического процесса, для участия в котором он направит делегацию, будет готов рассматривать политические реформы, которые в конечном итоге были заложены в решениях «Венской группы» и резолюции 2254 СБ ООН. Ни о каком политическом убежище никто не просил, и никто ничего подобного не предлагал.
Вопрос: Сергей Викторович, Вы уже упомянули о резолюциях 2199 и 2253 СБ ООН, которые запрещают финансирование террористической деятельности. Но мы видим, что Турция и особенно Саудовская Аравия нарушают эти резолюции и препятствуют политическим процессам в Сирии. Сейчас т.н. «сирийская оппозиция», которая собралась в Эр-Рияде, грозит бойкотировать Женевские переговоры 29 января. Даже в случае, если эти переговоры состоятся, и будут приняты какие-либо договоренности, какие есть гарантии, что эти резолюции и договоренности будут выполняться?
С.В.Лавров: Мы тоже озабочены тем, как выполняются резолюции СБ ООН – не только эти, но и многие другие очень часто предаются забвению. Но в отношении антитеррористических резолюций по Сирии мы преисполнены решимости не допустить каких-либо игр и взяли под очень плотный контроль деятельность Секретариата ООН, который должен готовить информацию и в последующем доклад о том, как какая страна эти резолюции выполняет. Это особенно важно в отношении резолюции 2199 СБ ООН, которая касается обмена информацией и координации действий по пресечению и аресту т.н. иностранных террористов-боевиков – это проблема для России, Европы, наших соседей в Центральной Азии и на Кавказе, откуда вербуют своих бандитов ИГИЛ, которые работают в Сирии, Ираке, делают свое «грязное дело», а потом возвращаются домой. Это проблема для всех, в т.ч. европейцев, американцев. В Сирии проявились персонажи из Юго-Восточной Азии, Индонезии, Малайзии.
Если мы хотим подорвать базу финансирования террористов, то второй очень важной резолюцией является резолюция 2253 СБ ООН, которая запрещает торговать контрабандной нефтью, покупать артефакты и вообще что-либо у ИГИЛ и им подобных, в т.ч. нефть с месторождений, которые террористы захватили на территории Сирии, Ирака. В Ливии, в районе Сирта, в нефтеносных районах также появились эти террористы. Если говорить о других странах, то в Афганистане как метастазы распространяется влияние ИГИЛ. Недавнее решение США о том, чтобы в Афганистане разрешить американским военным преследовать террористов – это де-факто признание того, что ИГИЛ там пускает все более глубокие корни и все больше начинает набирать влияние, отбирая его, в том числе, у талибов.
Резолюция 2253 СБ ООН требует от Генерального секретаря готовить регулярный доклад о том, как она выполняется. Мы следим за тем, как идет подготовка первого доклада. Хочу воспользоваться этой пресс-конференцией, чтобы адресовать нашим коллегам в Секретариате ООН сигнал: по нашим данным (пока неофициальным, но мы хотим их сейчас перепроверить), практически ничего не говорится о таком феномене, как контрабанда нефти из Сирии в Турцию. Вообще ничего. Это возмутительно. Благодаря СМИ, таких фактов предостаточно, и они должны быть отражены в таком докладе. Мы будем этого добиваться, не позволим все это «замотать» и предать забвению.
Вопрос: В 2007 г. на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал следующее: «Мы нужны вам больше, чем вы нам». В этом году, насколько мне известно, на конференции Вы будете представлять Россию. Есть ли изменения в данной формулировке?
С.В.Лавров: Если Вы работаете в Москве, то, наверное, должны были слышать новость, что российскую делегацию будет возглавлять Председатель Правительства России Д.А.Медведев. Я тоже буду находиться в Мюнхене, буду выступать на одной из т.н. «панельных дискуссий». Уверен, что Председатель Правительства Д.А.Медведев изложит нашу позицию, и она прозвучит в других выступлениях участников от России.
Если Вас конкретно интересует ответ на вопрос о том, думаем ли мы по-прежнему, что мы нужнее Западу больше, чем Запад нужен нам, то, наверное, скажу Вам так. В идеале мы должны быть нужны друг другу, должны поддерживать друг друга и коллективно работать по пресечению общих для всех нас угроз. На деле получается, что Запад к нам обращается гораздо чаще, чем мы к Западу.
Например, санкции, которые были введены. Мы вообще о них не упоминаем, просто начинаем делать для себя выводы о том, насколько надежны и договороспособны наши западные партнеры, насколько они готовы следовать общепринятым подходам, которые заключаются в том, что только СБ ООН уполномочен принимать меры принуждения. Давая для себя отрицательные ответы на эти вопросы, мы занимаемся импортозамещением, структурными реформами – можно назвать это как угодно. Президент Российской Федерации В.В.Путин говорил об этом во многих своих выступления, включая вчерашнее выступление в Ставрополе. Речь идет о том, чтобы наша экономика была самодостаточной, отнюдь не изолированной от всего мира, а, наоборот, открытой для сотрудничества с теми, кто готов к этому на основе равноправия, а не на основе диктата. Но самодостаточность экономики предполагает технологическое развитие, инвестиции в человеческий капитал. Мы должны делать все, чтобы не зависеть от капризов той или иной группы стран, прежде всего наших западных партнеров (так произошло после того, как они «обиделись» на нас за то, что мы поддержали русских на Украине, не принявших государственный переворот). Я цитировал Д.Яроша, за это их хотели уничтожить на Украине либо урезать их в своих правах. От таких ситуаций мы хотим быть застрахованы.
Но, возвращаясь к логике Вашего вопроса, отмечу, что не мы сейчас бегаем за нашими европейскими коллегами и говорим: «Давайте что-нибудь сделаем, чтобы снять санкции». Отнюдь нет. Мы сконцентрировались на том, чтобы не зависеть от подобных зигзагов в западной политике, от того, чтобы Европа «брала под козырек» США. Но наши европейские коллеги в двусторонних контактах, приезжая к нам или встречая нас на международных форумах, говорят: «Давайте что-нибудь придумаем, помогите выполнить эти Минские договоренности, а то мы от этих санкций несем очень большой ущерб и хотим, чтобы эта страница была быстрее перевернута». Получается, что в данной ситуации мы им нужнее, чем они нам. В том числе, чтобы выполнять Минские договоренности. Минские договоренности – это про украинское правительство и Донбасс. Да, у нас есть влияние на Донбасс и мы его поддерживаем. Наверное, без нашей помощи и гуманитарных поставок Донбасс был бы в очень плачевном состоянии. Но также нужно влиять и на власти в Киеве. Нам нужен Запад в том, что касается влияния на киевские власти, но этого пока не происходит.
Или возьмите ситуацию с иранской ядерной программой. На решающих этапах этих переговоров нас буквально бомбардировали просьбами, когда нужно было решать вопросы вывоза обогащенного урана в обмен на природный уран, что было ключевым условием достижения договоренностей, когда нужно было решать вопрос о том, кто будет перепрофилировать обогатительные объекты «Форду» под исследовательские цели, под производство медицинских изотопов и т.д. К нам обращались с просьбами, которые имеют и достаточную финансовую нагрузку, по крайней мере, которые не приносят нам никакой материальной выгоды. Но мы свою часть работы выполняли. Сейчас по северокорейской проблеме все звонят нам и китайским коллегам: «Помогите сделать как-то, чтобы Северная Корея соблюдала свои обязательства».
Или, например, последнее развитие событий в отношении Сирии. Госсекретарь США Дж.Керри (я очень ценю наши с ним отношения) постоянно наталкивается на какие-то сложности с теми или иными партнерами США в регионе, включая Турцию и ряд других стран-соседей САР, и каждый раз обращается к нам с просьбой, чтобы мы помогли найти какой-то компромисс, какую-то развязку. Так было и во время заседания Международной группы поддержки Сирии.
Сейчас я не припомню, с какими просьбами за последнее время мы обращались к нашим западным коллегам. Мы считаем, что не очень корректно обращаться с просьбами. Исходим из того, что если переговоры завершились подписанием документа, то это не предмет для просьбы, а обязательства, которые необходимо выполнять.
Не хочу быть нескромным, я просто привел факты, а выводы делайте самостоятельно.
Вопрос: Сергей Викторович, в последнее время в прессе муссируются слухи о том, что на столе переговоров по НКУ находится т.н. «документ» или «предложение Лаврова». Скажите, пожалуйста, о чем идет речь и соответствует ли это действительности?
С.В.Лавров: Никакого «документа Лаврова» или кого бы то ни было еще не существует. Есть целый ряд документов (их 4-5, может быть 6), которые сопредседатели готовили на разных этапах переговоров о нагорно-карабахском урегулировании, когда шла речь, чтобы подготовить в качестве первого шага основные принципы урегулирования конфликта, а потом на основе этих основных принципов готовить мирное соглашение, которое имело бы уже юридически обязывающий, а не политический характер. Различные версии этого документа (он эволюционировал с 2007 г. до 2010-2011 гг.) были сопредседателями депонированы Генеральному секретарю ОБСЕ в Европе. Они находятся в сейфах этой Организации в таком депонированном качестве. Это единственные бумаги, которые можно назвать документами, учитывая, что ни один из этих документов, который официально существует, не привел пока еще к практическому решению всех компонентов нагорно-карабахской ситуации, а работа ведется на основе принципа «ничто не согласовано, пока всё не согласовано».
Российская сторона, как вы знаете, еще начиная с 2010 г., когда Президентом России был Д.А.Медведев, предпринимала усилия, чтобы найти развязки по вопросам, которые пока еще не являются предметом согласия сторон. Это помогло кое-где продвинуться. Потом была достаточно продолжительная пауза после того, как на саммите в Казани в июне 2011 г., вопреки ожиданиям, не удалось договориться по документу об основных принципах. Вслед за тем, когда Президент России В.В.Путин в очередной раз был избран на этот пост, он встретился с лидерами Армении и Азербайджана. По поручению трех президентов мы постарались возобновить усилия по поиску развязок. Такие развязки ищутся сейчас на уровне идей и размышлений вслух.
У меня состоялось несколько встреч с моими коллегами из Армении и Азербайджана. Мы все это обсуждаем с сопредседателями от США и Франции. Никаких документов, помимо тех, которые были депонированы в ОБСЕ, не существует. Все остальное – это поиск и «мозговой штурм».
Вопрос: Какие перспективы открывает новый год в российско-грузинских отношениях? Что на этом этапе максимально можно сделать в связи с тем, что между Россией и Грузией есть непреодолимые разногласия? Москва признала независимость Абхазии, Южной Осетии, в Москве есть посольства этих стран. Если не предвидится полноценного возобновления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, есть ли какие-либо другие перспективы и форматы? Насколько можно ожидать полной отмены визового режима с Грузией? Сейчас проходят переговоры между Тбилиси и «Газпромом» по транзиту газа. Спорный вопрос – монетизация этого транзита в Армению. Не будет ли этот вопрос иметь, в случае недоговоренности, политические последствия? Как тогда Россия будет доставлять газ в Армению?
С.В.Лавров: Мы за то, чтобы отношения с Грузией были нормальными и добрососедскими. Исходим из того, что грузинский народ не должен расплачиваться разрывом связей со своими российскими соседями, в которых заинтересованы грузины и россияне. Несправедливо расплачиваться за преступные ошибки бывшего президента Грузии М.Саакашвили. Не мы разрывали дипломатические отношения. Мы поступили в полном соответствии с нормами международного права, включая те, которые заложены в уже цитировавшейся мной сегодня декларации о принципах отношений между государствами, когда территориальная целостность, уважение территориальной целостности государства предполагают обеспечение этим государством прав населяющих его народов и недопустимость для такого государства использовать силу для принуждения этих народов к сохранению в составе этого государства. Все эти принципы были грубо нарушены М.Саакашвили. Не буду повторять историю вопроса. После нападения на Южную Осетию, на своих собственных граждан, после нападения на российских миротворцев Российская Федерация и ополчение победили М.Саакашвили. Южная Осетия и Абхазия, отчаявшись добиться переговорного решения о своей судьбе (за прошедшие годы было много вариантов: федерация, конфедерация), объявили о независимости. У нас не было другого выхода и варианта, кроме как признать их независимыми, чтобы обеспечить их безопасность и выживание югоосетинского, абхазского народов. Это не обсуждается, но повторю, что это было результатом преступной политики М.Саакашвили. Он знаменит такими провокациями, которые делаются, как мы понимаем, во многом по его собственной инициативе, но очень часто по заказу.
Мы довольны тем, что Женевские дискуссии продолжаются. Прежде всего, нас интересует проблематика безопасности, чтобы не было больше подобных рецидивов. Есть идеи, которые позволяют всем участникам Женевских дискуссий подписаться под документом, который будет гарантировать неповторение каких-либо рецидивов в применении силы в этом регионе. Нас, конечно же, интересует работа Женевских дискуссий по гуманитарной проблематике, включая проблему возвращения беженцев, перемещенных лиц. Подрывают конкретную гуманитарную работу продолжающиеся действия Грузии по внесению ежегодно резолюции в ГА ООН по проблеме беженцев и перемещенных лиц в одностороннем порядке.
Мы готовы обсуждать это в ООН, но с участием Абхазии и Южной Осетии, потому что именно к ним адресован набор требований в той резолюции, которую грузинская сторона продвигает в ООН. Они там отсутствуют, потому что их туда не пускают – наши американские коллеги не дают им визы, хотя представителям непризнанного Косово не просто выдаются визы, а обеспечивается режим наибольшего благоприятствования на территории ООН. Здесь двойные стандарты налицо.
Помимо Женевских дискуссий, у нас еще есть двусторонние отношения с Грузией. Эти отношения сейчас выходят из глубокой заморозки. Контакт был налажен по линии ведомств, занимающихся всякими фитосанитарными, санитарными вопросами, к нашему общему удовлетворению возобновилась торговля напитками, продовольственными товарами.
Вы абсолютно правильно сказали, что идут переговоры по линии «Газпрома». Не думаю, что здесь нужно как-то кликушествовать и ожидать срыва этих переговоров. По-моему это прагматичный процесс, отвечающий интересам обеих сторон. Армении это тоже будет выгодно. Поэтому я здесь все оставляю на усмотрение компаний и профильных министерств двух стран. Я убежден, что они найдут соответствующую развязку.
Мы делаем все, чтобы облегчить гуманитарные связи, даже когда после разрыва Грузией дипломатических отношений мы были вынуждены ужесточить визовый режим во многом из-за того, что террористическая угроза не исчезла из Панкисского ущелья (в свое время поэтому мы приостановили безвизовый режим). Кстати сказать, и сейчас иногда доходят некоторые сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы. В последнее время мы отразили процесс нормализации наших связей в введении облегченного визового режима, когда деловые, рабочие, учебные, гуманитарные визы выдаются вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Даже для частной визы приглашение не обязательно от родственников: ваш знакомый, товарищ может пригласить вас, и виза будет выдана. Мы готовы пойти в перспективе на безвизовый режим. Немного странно, если это будет обсуждаться в период, когда у нас нет дипломатических отношений, которые, повторю, не мы разорвали.
Отмечу, что за последнее время мы также смогли решить ряд проблем на взаимной основе, которые касаются оформления прав на дипломатическую недвижимость Грузии в Москве и России в Тбилиси. Это тоже полезное движение. Есть канал, который позволяет обсуждать любые вопросы – это формат «Г.Б.Карасин-З.Абашидзе». Они хорошо друг друга знают, у них установились доверительные отношения, которые позволяют затрагивать любые вопросы. Кстати сказать, я открыт к контактам со своим грузинским коллегой. Уверен, что и другие контакты вполне возможны. Президент России В.В.Путин, когда его спросили об этом, отнюдь не исключал такой возможности, если представится случай.
Вопрос: Мне бы хотелось задать вопрос, касающийся отношений России и Японии. Совсем недавно Премьер-министр Японии С.Абэ заявил, что Токио хочет выстраивать отношения с Россией, решать разнообразные задачи, с которыми сталкивается мир. Какие возможности и перспективы Вы видите на этом направлении?
Серьезные разногласия сохраняются по территориальной проблеме. Японская сторона считает, что заключение мирного договора – это синоним решения территориального вопроса. Российская сторона считает, что эта проблема закрыта.
С.В.Лавров: Мы заинтересованы в самых тесных и добрых отношениях с Японией. Это наш важный сосед, с которым у нас разветвленная система торгово-экономических, гуманитарных, культурных связей, много планов. Японские компании активно работают на нашем рынке в сфере освоения переработки углеводородов, в автомобилестроении, в других сферах высоких технологий. Мы хотим, чтобы эти проекты множились в интересах наших двух стран и народов.
Есть договоренность между Президентом России В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ о том, чтобы среди тех вопросов, которые предстоит решить, обязательно присутствовал вопрос мирного договора. Мы не считаем, что мирный договор – это синоним решения территориальной проблемы. Это шаг, который необходим для того, чтобы отношения между двумя странами были нормальными не только по сути, но и по юридическому оформлению. Напомню, что единственный документ, который был подписан и ратифицирован двумя странами в 1956 г., т.н. Декларация, очень четко ставит подписание мирного договора на первое место вне зависимости от того, как будет и может быть достигнута договоренность в окончательном виде по островам. Там сказано: мирный договор, а затем, возможно, не возвращение, а передача Советским Союзом Японии в качестве жеста доброй воли этих двух южных островов. Повторю, эта Декларация, прежде всего, исходила из главного тезиса: она фиксировала признание Советским Союзом и Японией итогов Второй мировой войны. Без подтверждения этой позиции и признания итогов Второй мировой войны, как они закреплены в Уставе ООН, нам практически невозможно двигаться вперед. Наши японские коллеги знают об этом. По поручению Президента России В.В.Путина и Премьер-министра Японии мы провели в прошлом году в рамках раунда переговоров по мирному договору специальную дискуссию, посвященную историческим аспектам проблемы мирного договора. В этих исторических аспектах мы должны прийти к какому-то общему выводу. Мы ведь не просим чего-то запредельного, а только одного: чтобы Япония, как и все другие страны, которые подписали и ратифицировали Устав ООН, сказала, что она привержена Уставу ООН во всех его частях, включая статью 107, где говорится, что итоги Второй мировой войны не подлежат пересмотру. Не думаю, что это слишком завышенные требования. Япония ратифицировала этот документ.
Тем не менее, мы готовы вести и будем продолжать вести диалог. Очередной раунд состоится уже в феврале на уровне заместителей министров иностранных дел. Мы будем обсуждать те вопросы, которые поставит японская сторона, мы не уходим ни от каких вопросов. Повторю, что исторический аспект, прежде всего итоги Второй мировой войны, – это та часть диалога, которую невозможно обойти, забыть или куда-то отложить в сторону. Мы все время будем натыкаться на эту проблему, наши японские коллеги об этом знают.
Президент России и Премьер-министр Японии (предшественники г-на С.Абэ и он сам) неоднократно фиксировали, что для решения вопроса о мирном договоре необходимо существенно наращивать наше взаимодействие во всех без исключения сферах – торгово-экономической, гуманитарной, культурной, в международных делах.
Я уже говорил про торгово-экономическую сферу. Кстати, японский бизнес идет впереди политики. Когда некоторые политические деятели Японии говорят, что, если будет заключен мирный договор и территориальная проблема решится, то тогда японский бизнес пойдет мощными шагами в российскую экономику, а если этого не произойдет, то и бизнес будет осторожничать. Мы не чувствуем, что японский бизнес осторожничает. Может быть, где-то его пытаются сдерживать. Наверное, можно гораздо больше делать в плане торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Бизнес в большинстве своем не ждет каких-то политических сигналов, а активно работает. Мы это приветствуем. Убежден, что чем тесней будет такое наше взаимодействие, тем легче будет обсуждать и решать любые вопросы.
Мы многократно и давно предлагали японскому Правительству поддержать идею широкого прихода японского бизнеса на эти острова. Предлагали создавать там какой-то особый дополнительный режим, свободную экономическую зону. Там много вариантов, которые позволили бы работать совместно на этих островах, не дожидаясь полного окончательного урегулирования проблемы мирного договора. Она во многом отражает не суть, а форму, потому что, по сути, мы живем с нашими японскими соседями в мире, сотрудничестве, т.е. отсутствие мирного договора не ощущается. Мы – не враждебное государство, хотя технически отсутствие мирного договора может истолковываться как то, что мы по-прежнему враждебное государство. Это не так. Тем не менее, было бы, конечно, хорошо его заключить.
Шикарно развиваются гуманитарные связи. Ежегодно в Японии проводятся фестивали российской культуры, на их открытие ездит Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкин. Это произойдет и в 2016 году. Наша публика всегда ждет приезда японских коллективов. Для того, чтобы мы выполнили договоренность лидеров наших стран и развивали отношения в качественно новых масштабах по всем направлениям, включая международную деятельность, нам хотелось бы сотрудничать более тесно во внешнеполитических делах и видеть более самостоятельную Японию, тем более, что она претендует на роль постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы с пониманием воспринимаем такое желание. Хотели бы, чтобы те страны, которые стремятся получить постоянную «прописку» в Совете Безопасности ООН, несли бы с собой добавленную стоимость и дополнительный элемент баланса в позициях. Когда кто-то занимает стопроцентно те же позиции, которые исповедуют США, то, наверное, это не добавляет многого в политический процесс, не добавляет баланса в вырабатываемые решения. Мы в принципе за то, чтобы каждая страна (Президент России В.В.Путин говорил об этом подробно в отношении Европейского союза) была самостоятельной на международной арене и руководствовалась своими национальными интересами. Это не изоляция и не самоизоляция, а следование международному праву, чтобы с опорой на международное право принимать решения, которые отражают интересы твоего государства и народа, и которые не отражают давления, которое оказывается на тебя для того, чтобы ты свою выгоду куда-то немного спрятал и делал так, как хочется кому-то еще.
Надеюсь, что мы к этому придем, хотя дипломатическая культура современного мира была создана в те времена, когда исторический Запад доминировал столетиями. Очень трудно избавляться от этих привычек. Надеюсь, что такое время все-таки не за горами.
Вопрос: Остался всего один год президентского срока Б.Обамы. Какова вероятность реальной перезагрузки в российско-американских отношениях в этом году?
С.В.Лавров: Вопрос не к нам. Наши межгосударственные связи опустились очень низко при всех великолепных личных отношениях между бывшим Президентом США Дж.Бушем и Президентом России В.В.Путиным. Когда в Белый дом пришел Президент США Б.Обама и бывший Госсекретарь США Х.Клинтон предложила «перезагрузку», то это было отражением того, что сами американцы осознали ненормальность ситуации, когда Россия и США не сотрудничают в решении тех проблем, которые без них не решить. Это был период, который казался тогда аномальным. Мы встретили «перезагрузку» достаточно конструктивно. Сказали, что ценим решение новой Администрации исправить ошибки своих предшественников. Достигли немало хороших результатов: это Договор о СНВ, вступление России в ВТО, целый ряд договоренностей по различным конфликтным ситуациям. Но как-то быстро это стало сходить на нет. Сейчас все, в том числе американские коллеги, нам говорят: «Давайте выполним Минские договоренности по Украине, и сразу все нормализуется. За один час мы сразу отменим санкции, и между Россией и США откроются заманчивые перспективы сотрудничества по гораздо более приятным вопросам не только в урегулировании кризисов, но и сразу сформируется созидательная партнерская программа».
Мы открыты для сотрудничества со всеми на равноправной взаимовыгодной основе. Мы, конечно же, не хотим, чтобы кто-то выстраивал свою политику исходя из того, что Россия, а не Украина должна выполнить Минские договоренности. В них написано, кто их должен выполнить. Надеюсь, что это хорошо известно США, по крайней мере, наши последние контакты с Госсекретарем США Дж.Керри, контакты заместителя Госсекретаря США В.Нуланд с помощником Президента России В.Ю.Сурковым говорят о том, что США хорошо разбираются в существе Минских договоренностей. По большому счету, все всё понимают. То, что западные санкции продлеваются, воспринимается Киевом, как согласие Запада с тем, что Киев не выполняет Минские договоренности. Это абсолютная констатация того, что происходит в украинской власти. Зачем им выполнять эти договоренности, когда Запад согласен с тем, что Киеву не обязательно их выполнять?
Сейчас я привел пример, который говорит о том, что нам как бы уже начали обещать новую «перезагрузку»: мы выполняем Минские договоренности, и все сразу становится нарядным, красивым, перспективным и заманчивым.
Охлаждение отношений с Администрацией Президента США Б.Обамы и прекращение периода, который ассоциируется с «перезагрузкой», началось задолго до Украины. Давайте вспомним, как все это было. Сначала, когда мы наконец добились согласия наших западных партнеров на приемлемые для России условия нашего присоединения к ВТО, американцы поняли, что сохранение поправки Джексона-Вэника не в их интересах, потому что иначе они будут лишены тех привилегий и льгот, которые сопряжены с нашим участием в ВТО. Они стали готовить к отмене эту поправку. Американцы не были бы американцами, если бы они ее просто отменили и сказали: «Все, давайте теперь нормально сотрудничать». Они придумали «закон Магнитского», хотя я уверен, что точка в том, что произошло с С.Магнитским, не поставлена. Очень надеюсь, что правда станет известна всем. Отвратительно, что была устроена провокация и спекуляция на смерти человека. Тем не менее, это было сделано, и вы знаете, кто этот закон лоббировал. «Закон Магнитского» тут же заменил поправку Джексона-Вэника. Это началось еще тогда, когда не было никакой Украины, хотя нам сейчас пытаются вменить именно нарушение принципов ОБСЕ. Все, что происходит между Западом и Россией, объясняется тем, что Россия не выполнила свои обязательства, не уважает миропорядок, который сложился в Европе после Хельсинкского акта и т.д. Это все попытки оправдать и найти предлог для того, чтобы продолжать политику сдерживания. Но эта политика никогда не прекращалась.
После «закона Магнитского» была совершенно неадекватно раздутая реакция на произошедшее с Э.Сноуденом, который оказался в России вопреки нашему желанию. Мы об этом не знали, у него не было паспорта – документ был аннулирован, пока он летел. Он никуда не мог выехать из России из-за решений, которые были приняты в Вашингтоне. Мы не могли не предоставить ему возможности остаться в России, чтобы быть в безопасности, зная, какие статьи ему грозили – американцы не делали из этого секрета. Это было сделано просто из элементарной защиты права человека на жизнь.
Президент США Б.Обама отменил свой визит в Россию, был поднят вселенский скандал, десятки телефонных звонков по линии ФБР, ЦРУ, Госдепартамента, прямые контакты между президентами. Нам говорили, что если мы Э.Сноудена не выпустим, то отношения будут подорваны. США отменили визит. Визит не состоялся, но Президент США Б.Обама приехал на саммит «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге, где мы, между прочим, сделали полезное дело – договорились о принципах химического разоружения Сирии.
Украина – это был еще один предлог. С украинским кризисом связано не столько праведное возмущение якобы нарушением Россией Хельсинкских принципов (хотя все началось с Косово, бомбежек Югославии и т.д.), здесь отразилось раздражение тем, что госпереворот не привел к тем результатам, на которые рассчитывали те, кто его поддержал. Скажу честно, мы не встаем в позу обиженного. У нас нет таких традиций в отношениях между государствами. Мы понимаем, что жизнь жестче, чем любые идеальные романтические схемы наподобие «перезагрузки» или чего-то еще. Мы также понимаем, что это мир, в котором жестко сталкиваются интересы, который выходит из эпохи тотального доминирования Запада и находится в длительном переходном периоде к более устойчивой системе, в которой не будет одного или даже двух доминирующих полюсов, – их будет несколько. Переходный период долгий, болезненный, старые привычки отмирают долго. Мы все это понимаем. Мы понимаем, что США заинтересованы в том, чтобы у них было поменьше конкурентов, даже относительно сопоставимых с ними по размеру, по влиянию, военной мощи, экономике. Это наблюдается в отношениях между США и Китаем, в том, как США работают с Европейским Союзом, стремясь «закольцевать» его в Трансатлантическое партнерство, а на востоке России создать Транстихоокеанское партнерство, которое не будет включать в себя Россию и Китай. Об этом подробно говорил Президент России В.В.Путин, когда анализировал процессы в мировой экономике и политике. Мы все это понимаем. Наверное, каждая эпоха приносит с собой новые тенденции, настроения в тех или иных элитах, особенно в крупных странах, которые по-своему видят пути борьбы за свои интересы. Было бы очень плохо и пагубно для всех нас, если бы эти процессы вышли за рамки общепринятых норм международного права. Тогда была бы, говоря по-простому, «куча мала», и мы были бы ввергнуты в мир анархии и хаоса – что-то вроде того, что происходит на Ближнем Востоке, может быть без крови. Каждый делал бы так, как он считает нужным, и ничего хорошего из этого не вышло бы. Очень важно соблюдать какие-то общие правила игры. Отвечая на Ваш вопрос, мне хотелось бы, чтобы у США состоялась «перезагрузка» со всем миром, чтобы «перезагрузка» была общей, чтобы мы все собрались и переподтвердили свою приверженность Уставу ООН, заложенным в нем принципам, включая невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета и территориальной целостности и право народов на самоопределение, право народов самим выбирать свое будущее без вмешательства извне.
Мы уже приводили пример, когда в середине 30-х годов XX века СССР и США договорились установить дипотношения. США настояли, чтобы эта церемония была оформлена обменом официальными письмами между министрами иностранных дел. По требованию США в этих письмах было заложено взаимное обязательство не вмешиваться во внутренние дела партнеров, не подрывать политический строй и экономическую систему. Этого США требовали от СССР в 30-е гг. Обмен такими письмами состоялся. Эти письма даже есть на сайте нашего Министерства.
Какое-то время назад мы предложили американцам повторить эти принципы в наших отношениях, но они ушли от этого. Повторю, такая «перезагрузка» была бы вполне своевременна.
Вопрос: Как бы вы охарактеризовали отношения между Россией и Великобританией после того, как расследование установило, что ФСБ причастно к отравлению А.Литвиненко?
С.В.Лавров: Все-таки Вы работаете в СМИ и должны более аккуратно формулировать свои вопросы. Вы спросили, если я правильно понял английский язык, как выстраиваются отношения между Россией и Великобританией с учетом того, что расследование установило, что ФСБ причастно к отравлению А.Литвиненко.
Вы пошли гораздо дальше, чем судья Королевского суда Лондона Р.Оуэн, потому что он, зачитывая свои заключения, не сделал ни одного обвинения, которое не сопровождалось бы словом «возможно», «вероятно», «по-видимому». Думаю, что СМИ должны аккуратно излагать хотя бы то, что говорят представители Вашего правосудия.
Выступление судьи Р.Оуэна изобиловало терминами «вероятно», «возможно». Он даже сказал, что дело основано на веских косвенных доказательствах (strong substantial case). По-моему, это беспрецедентно для судебной практики, по крайней мере, для дела, которое подается как расследованное беспристрастно и объективно. В адрес высшего российского руководства, между прочим, выдвинуты серьезнейшие обвинения, и при этом не предъявлено ровно никаких доказательств. Все выводы основаны на показаниях каких-то селективно подобранных свидетелей, лиц не объективных, типа г-на А.Гольдфарба, который не вызывает какого-либо доверия даже у многих англичан, или на засекреченных показаниях, которые непонятно кем и кому предоставлялись.
Помните, когда в 2011 г. начали коронерское расследование, то оно действительно опиралось исключительно на факты, не на домыслы. Следственный комитет Российской Федерации оказывал содействие этому расследованию. Все это происходило до той поры, пока в 2014 г. не было приостановлено расследование, и, соответственно, приостановился процесс, который был основан на фактах и в котором полноценно, открыто, во всех его частях без изъятий мог участвовать Следственный комитет Российской Федерации. Поэтому, наверное, оно и было приостановлено, а начато т.н. «публичное расследование». «Публичное» – это термин, вводящий в заблуждение, потому что, как я понял, публичное расследование позволяет засекречивать все его ключевые компоненты. Так оно и было. Причем с версией судьи Королевского суда Лондона Р.Оуэна не стыкуется столько фактов, что даже странно, что об этом говорят серьезные СМИ, не говоря уже о политиках. Политики есть политики, мы слышали, что сказал Премьер-министр Великобритании Д.Кэмерон и другие члены кабинета. Особенно понравилось, когда Премьер-министр Великобритании Д.Кэмерон сказал, что он шокирован, что расследование подтвердило то, что он знал с самого начала.
Это мне напоминает то, что говорили наши американские коллеги в отношении катастрофы малайзийского «Боинга» над Украиной, заявляя, что ждут окончательного доклада нидерландского комитета, хотя «и так знают, кто это сделал». В случае с «Боингом» и «делом А.Литвиненко» – это очевидное совпадение логики. Почему засекречены результаты вскрытия тела А.Литвиненко? Почему проигнорированы требования его первой жены, брата и отца провести эксгумацию и вновь провести вскрытие? Почему этого не сделано? Такого же рода вопросы возникали и возникают у нас в отношении малайзийского «Боинга». На них нет ответов ни у английского правосудия, ни у следствия Нидерландов. Причем всем известно, и это не отрицается следствием, что А.Луговой пришел на встречу с А.Литвиненко, в ходе которой он его якобы отравил, со своим сыном. Объяснений нет, как человек может подрывать здоровье собственных детей. Не говорю о свидетельствах людей, которыми сейчас полон эфир (из окружения Б.Березовского), рассказывающих интереснейшие факты, полностью проигнорированные следствием. Я уж не говорю о том, что мы, наверное, так никогда и не узнаем, от чего умер сам Б.Березовский, хозяин бара-ресторана Д.Уэст и многое другое. Мне кажется, что на фоне всего этого, если бы этим занялся грамотный юрист и проанализировал эти факты и те заявления, которые делают руководители британского правительства, можно было бы привлечь к ответственности за клевету. Для этого вполне накапливается материал.
Вы меня спросили о перспективе российско-британских отношений. Мы тоже хотели бы, чтобы в Великобритании провели объективное расследование множащихся случаев гибели российских граждан, о которых не то что помнят через 10 лет, а о которых забывают через несколько месяцев и ничего нам не рассказывают.
Согласен я только с тем, что сказал британский МИД: ««дело А.Литвиненко» еще больше осложнит наши двусторонние отношения». С этим я полностью согласен, только не «дело А.Литвиненко», а спектакль вокруг «дела А.Литвиненко» очень серьезно осложнит наши отношения. Причем наши отношения осложнятся без всяких «возможно», «вероятно», «может быть» – они точно осложнятся.
Вопрос: Вы сказали, что на территории Грузии в Панкисском ущелье тренируются игиловцы, восстанавливают силы. Это происходит около ваших границ, около Чечни. Какую роль играет в этом Чечня? Какую роль играет Глава Чеченской Республики Р.А.Кадыров? Как можно, по Вашему мнению, этому противостоять? Я отношусь очень серьезно к Вашим словам. Если это правда, то это очень серьезно.
Вы постоянно упоминаете некого Д.Яроша. Он играет какую-то роль в правительстве Украины? Он никогда не имел отношения к исполнительной власти, он – никто. В таком случае, можно ли серьезно относиться к заявлениям об отношениях России и Украины ваших политиков – людей, которые набирают на президентских выборах 2%? Уточните, почему Д.Ярош должен быть мерой ваших отношений с Украиной?
28 марта ООН заявила, что Россия аннексировала Крым. Готовы ли вы говорить с Украиной по поводу возвращения Крыма?
С.В.Лавров: Не волнуйтесь, я на все отвечу. Что касается Панкисского ущелья, есть сведения, что не только в Афганистане, некоторых странах Центральной Азии, ИГИЛ пытается создавать свои ячейки в Панкисском ущелье. У нас есть случаи, когда задерживали террористов. По собранным сведениям, они имели связи с ИГИЛ. Эти операции готовятся и проводятся в режиме секретности. Когда они происходят, о них всегда сообщается общественности. Вы об этом можете регулярно слышать из репортажей по телевидению, из других СМИ. Это наша общая беда. Ячейки ИГИЛ есть в очень многих странах Европы. Те теракты, которые состоялись недавно, в том числе в Париже, связаны с игиловцами. Ответственность за теракты на Западном побережье США также взяла на себя ИГИЛ. Поэтому здесь, наверное, нужно подключать все ресурсы и не дожидаться, пока кто-нибудь скажет: «Давайте уберем Президента Сирии Б.Асада и тогда будем соглашаться, чтобы коллективно бороться с ИГИЛ». Эти двойные стандарты мы уже проходили.
В коалиции под эгидой США, в которой участвует Испания, которую Вы представляете, есть целый ряд стран, чей послужной список, в том что касается связей с ИГИЛ, отнюдь не чистый. В отношении Панкисского ущелья я сказал, что есть сведения о том, что там есть игиловцы, которые лезут во все щели и дыры. Если мы не будем вместе с ними бороться, то от них никто не сможет укрыться.
На данном этапе мы имеем достаточно надежный заслон, и все проявления, которые мы наблюдаем на территории Российской Федерации, купируем. Надеюсь, что те предложения о сотрудничестве, которые мы делаем, не будут проигнорированы, и коалиция, которую возглавляют США и куда входит Испания, проведет в своих рядах работу по выявлению тех, кто не очень искренне сотрудничает в борьбе с ИГИЛ и прочими террористами.
Что касается Д.Яроша и Вашего утверждения о том, что он «маргинальный политик», чьи действия и слова можно не принимать в расчет, то это не совсем так. Д.Ярош и его «Правый сектор» был одной из главных, если не самой главной, движущей силой майдана, причем майдана не мирнопротестного, а силового, который был подчинен задаче спровоцировать насилие, пролить кровь и под эту «сурдинку» сменить власть. Если Вы поднимите публикации за ноябрь 2013 г. – март 2014 г. представленных здесь СМИ, то Д.Ярош был далеко не маргинальным деятелем на Украине. По крайней мере т.н. «поезда дружбы» на Крым собирал именно он, был весьма популярен, его цитировали. Мало того, сейчас он является депутатом Верховной Рады, он далеко не одинок. Совсем недавно были новые сведения о том, что представляет собой партия «Свобода» О. Тягнибока, который был членом оппозиционной коалиции, подписантом документа с В.Ф.Януковичем, под которым стояли подписи и наших коллег из Европы – Германии, Франции и Польши (О.Тягнибок, А.Яценюк и В.Кличко подписывали документ). О.Тягнибок к тому времени уже был известен как лидер партии, которая, пройдя в украинский парламент в декабре 2012 г., вызвала серьезный переполох в Европе. ЕС принимал специальное решение, которое требовало от украинцев изгнать из парламента эту неонацистскую политическую силу, также примерно как в 2000 г. Евросоюз добивался того, чтобы победивший в Австрии Й.Хайдер ушел из политики. В итоге в Австрии добился, а на Украине – нет.
Более того, после того, как в декабре 2012 г. ЕС дал такую характеристику неонацистской партии «Свобода», заявив, что с ней нельзя иметь дело, через пару лет Евросоюз уже поддерживал договоренности с участием О.Тягнибока, а руководство МИД Франции вообще говорило, что партия «Свобода» это чуть-чуть правее мейнстрима в политике, хотя ее учредительные документы прямо цитируют гитлеровские установки по поводу нового порядка в Европе и приверженности украинских националистов, которые в июне-июле 1941 г. поклялись на верность Гитлеру. Вот такие есть на Украине маргиналы, которые, как Вы считаете, не влияют на украинскую политику.
Насчет Крыма. Нам нечего возвращать. Никаких переговоров о возвращении Крыма мы ни с кем не ведем. Крым является территорией Российской Федерации в полном соответствии с волеизъявлением всех народов Крыма, включая тех, кто не имел никаких прав при украинской власти и кто обрел права, включая государственный язык, когда Крым вернулся в Россию после проведения референдума, итоги которого Вам хорошо известны. Можно, конечно, следовать той логике, которую проповедуют наши украинские коллеги, заявляя, что «в этом году мы возьмем Донбасс, а в следующем заберем Крым». Хотя на самом деле нужно говорить о выполнении Минских договоренностей, которые предполагают Донбасс в составе Украины, но с обязательными элементами децентрализации. Никак не может Верховная Рада выполнить то, о чем договорился Президент Украины П.А.Порошенко.
В отношении Крыма, наверное, лучше не руководствоваться высказываниями чужого дяди, а туда съездить. Многие журналисты, европейские политики – испанцы, французы, итальянцы, чехи, депутаты Европарламента, там уже побывали. Недавно я встречался с группой французских парламентариев, которые вернулись из Крыма. Лучше видеть своими глазами. Наверное, тогда и читателю будет интереснее знакомиться с тем, как то или иное СМИ излагает происходящее в Республике Крым Российской Федерации.
Вопрос: Сергей Викторович, как Вы оцениваете развитие российско-китайских отношений? Каковы их перспективы на 2016 год?
8 февраля по традиции отмечается китайский Новый год. Это очень важный праздник для Китая и китайцев. Не могли бы Вы поздравить китайский народ?
С.В.Лавров: Мы регулярно даем оценку российско-китайским отношениям, потому что у нас множество контактов. Ежегодно проходит несколько встреч на высшем уровне, несколько встреч глав правительств в рамках специальных визитов и различных мероприятий, будь то Генассамблея ООН, «Группа двадцати», ШОС, БРИКС, другие форматы. Прошлый год не был исключением. 9 мая состоялся визит в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина в связи с празднованием 70-летия Победы в ВОВ, затем 3 сентября Президент России В.В.Путин посетил Китай для празднования 70-летия окончания Второй мировой войны на Тихом океане и Победы китайского народа в освободительной войне. Были и другие контакты.
Наши отношения являются наилучшими за всю историю между нашими странами и народами. У нас стратегическое партнерство, многоплановое взаимодействие, базирующееся на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Еще с первых дней своей работы на посту Президента России В.В.Путин уделял приоритетное внимание развитию глубоких, разветвленных отношений с нашим великим соседом. Ни с кем у нас нет такой разветвленной сети механизмов сотрудничества: саммиты, встречи глав правительств, четыре комиссии, посвященные работе на различных направлениях – инвестиционного, торгово-экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества, которые возглавляются вице-премьерами, рабочие группы. Вся эта работа поставлена на системную основу, она позволяет достигать впечатляющих результатов.
Безусловно, нынешний экономический кризис сказывается на стоимостных объемах, но физические объемы у нас не уменьшаются, а нарастают в торговле с КНР. У нас очень много планов, которые помимо энергетики, совместных чисто углеводородных проектов, касаются высоких технологий. Это атомная энергетика, космос, современное прорывное взаимодействие в сфере авиастроения и многое другое.
Отмечу также, что взаимодействие России и Китая на международной арене является очень тесным, партнерским и, наверное, это один из важнейших факторов, который помогает обеспечивать стабильность в международных делах, несмотря на все потрясения. В основе нашего сотрудничества международное право и его неукоснительное уважение, уважение центральной роли ООН, недопустимость вмешательства во внутренние дела. С этих позиций мы теснейшим образом сотрудничаем по всем международным проблем, будь то Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан, иранская ядерная программа, ядерная проблема Корейского полуострова, противоракетная оборона. Наше сотрудничество помогает укреплять авторитет таких структур, как БРИКС, ШОС и «Группа двадцати», в рамках которой мы вместе отстаиваем проведение реформы международной валютно-финансовой системы с тем, чтобы она стала более справедливой. Нынешняя валютно-финансовая система так же, как и реформа международных политических отношений, должна быть более демократичной и отражать возросший вес, прежде всего, стран БРИКС. Первый шаг такой реформы благодаря совместным усилиям России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР был сделан совсем недавно. Пятилетний процесс повышения квот и голосов наших государств завершился, и страны БРИКС теперь практически обладают возможностью применять вето в МВФ. Это очень важное достижение.
В сфере контактов между людьми у нас с нашими китайскими друзьями есть добрая традиция проводить специальные мероприятия. В середине прошлого десятилетия проводился год России в Китае и год Китая в России, затем были годы национальных языков, туризма, дружественных молодежных обменов, завершившихся буквально несколько месяцев назад. В ближайшее время будут открыты годы СМИ России и Китая. Это новый крупный проект. Уверен, что многие из присутствующих здесь смогут найти свое место в соответствующей программе мероприятий.
Поздравляю Вас и всех китайских друзей с наступающим Новым годом по китайскому календарю. Как всегда, направлю специальное послание моему коллеге и другу, Министру иностранных дел Китая Ван И.
Вопрос: Вы нарисовали достаточно мрачную картину наших взаимоотношений с Западом. Прежде всего, на мой взгляд, это касается санкций. Ряд известных западных политиков высказывает оптимистичное мнение о том, что санкции могут быть сняты в течение нескольких месяцев. Что дает им основания для таких прогнозов? Мы слышали заявления Б.В.Грызлова, полномочного представителя России в Контактной группе по Украине о том, что некоторые прорывные решения вполне возможны.
Речь идет о том, что Запад может ввести «список Литвиненко» в дополнение к «списку Магнитского», как «дамоклов меч» висят над нами возможные новые аресты государственной собственности по якобы причитающимся выплатам ЮКОСу. Что Вы можете сказать о возможности достижения в 2016 г. перелома в отношениях с Западом? Обозначьте какой-то «свет в конце туннеля».
С.В.Лавров: Я не рисовал мрачную картину. Если у Вас создалось такое впечатление, когда я описывал позицию наших западных партнеров, то мы здесь не виноваты. Я постарался честно описать то, что вижу, общаясь с ними. Наш подход очень простой – мы из раза в раз подтверждаем открытость к сотрудничеству со всеми на равноправной, честной основе, на основе договороспособности. Некоторые западные партнеры говорят, что Россию нужно изолировать. Недавно польский коллега сначала по собственной инициативе прислал своего заместителя, чтобы передать сигнал о готовности наших польских соседей восстанавливать механизмы сотрудничества, а потом вдруг заявил, что раз русские об этом просят, то они готовы. Хотя все было наоборот. И тут же добавил, чтобы никому не казалось, что новое польское правительство дает слабину, что Россия – противник НАТО и ЕС, и из этого они будут исходить в отношениях с Российской Федерацией.
Не мы рисуем мрачную картину. Мы видим светлую перспективу, куда хотим двигаться вместе со всеми, в том числе с европейскими и американскими коллегами. Перспективы движения к миру, где уважают друг друга и интересы на взаимной основе, где все равноправно принимают участие в решении различных проблем, никто исподтишка никому не мешает развиваться, не строит никому козни, не создает искусственных препятствий и других не заставляет действовать не так, как им хочется, исходя из собственных интересов, а так, как хочется кому-то еще. Будущее, по-моему, достаточно светлое, пусть оно и омрачается некоторыми нашими партнерами.
Развивая Ваш вопрос, скажу, что все к большему количеству этих партнеров приходит осознание того, что так дальше жить нельзя и это себе во вред. То, что дает нам основания говорить о каких-то возможных позитивных переменах, заключается в следующем: наши западные партнеры все больше начинают понимать, что попали в созданную ими самими ловушку, когда сказали, что снимут санкции, после того, как Россия выполнит Минские договоренности. Они поняли, что, наверное, это была оговорка («slip of the tongue»), но в Киеве это очень быстро услышали и истолковали однозначно как индульгенцию, позволяющую им не выполнять Минские договоренности. Их невыполнение, помимо того, что Киеву не нужно будет предпринимать никаких действий и выполнять свои обязательства, означает, что Запад должен будет сохранять санкции против России. Что и требовалось доказать некоторым господам, раздувающим сейчас в Киеве радикальные настроения.
То, что Запад сам попал в свою ловушку, начинает проникать в сознание. Выход из этой ситуации может быть только один – заставить Киев выполнить то, под чем он подписался. Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Б.В.Грызлов, с которым я разговаривал после заседания Контактной группы, почувствовал настроения, которые проявляются в действиях посредников от ОБСЕ, руководящих рабочими группами в качестве координаторов, и участвующих в деятельности Контактной группы. Такие же настроения я ощутил, когда мы общались в рамках «нормандского формата» на уровне министров иностранных дел. Как Вы знаете, президенты России, Франции, Украины и Канцлер Германии тоже проводили телеконференцию 30 декабря. В ближайшее время (может, даже 8 февраля, в китайский Новый год – точная дата еще не определена) планируется министерская встреча. Запад понимает бесперспективность нынешней ситуации, когда все делают вид, будто Россия должна выполнять Минские договоренности, а Украина может ничего не делать – не менять конституцию, не предоставлять Донбассу особый статус, не проводить амнистию, не организовывать выборы в консультациях с Донбассом. Все понимают, что эти вещи за Украину никто не решит. Все понимают, что это аномалия, патологическая вещь, которая проявилась в превращении украинского кризиса, возникшего в результате абсолютно незаконного антиконституционного госпереворота, в мерило всех отношений между Россией и Западом, что это абсолютно ненормальная, нездоровая ситуация, искусственно раздутая из стран более отдаленных, нежели Европа, которая больше не хочет быть заложником этой ситуации. Для меня это очевидно.
Вопрос: Мы почувствовали на себе, что МИД России сейчас находится на втором месте по взаимодействию со СМИ – впервые наши крупные региональные газеты могут задать вопрос Министру иностранных дел России, хотя контактируем мы давно. Несмотря на заметное охлаждение отношений между Россией и Польшей, контакты между простыми россиянами и поляками, в частности, калининградцами и жителями приграничных с Россией воеводств, остаются достаточно тесными. Во многом это связано с режимом приграничного сотрудничества. Может ли подобная народная дипломатия способствовать улучшению взаимоотношений на межгосударственном уровне, и какова роль СМИ в данной ситуации?
С.В.Лавров: Конечно, может. Ваш вопрос скорее риторический, потому что очевидно, что контакты между людьми не должны страдать ни при каких обстоятельствах. В любых ситуациях, даже когда межгосударственные отношения «дают трещину» или напрягаются по той или иной причине, мы не хотим, чтобы страдали контакты между людьми.
Т.н. малое приграничное передвижение между Калининградской областью Российской Федерации и сопредельными соразмерными воеводствами Польши – это наше большое завоевание. Еще раз хочу напомнить, что это было сделано благодаря настойчивости моего коллеги в то время Р.Сикорского, который был министром иностранных дел Польши и лично приложил немало усилий к тому, чтобы та самая брюссельская бюрократия, о которой мы сегодня упоминали как о не всегда способствующей развитию позитивных тенденций, сделала исключение из неких правил, сопряженных с шенгенским режимом, и пошла на включение в территорию безвизового режима более крупной территории Польши, нежели можно было сделать, слепо и строго следуя шенгенским нормам. Считаю, что это один из важнейших вкладов, который Р.Сикорский вместе с нами внес в развитие контактов между людьми. Чем больше СМИ будут рассказывать об этом и о том, как комфортно люди себя чувствуют, тем будет лучше.
Там много и экономического передвижения – поляки и россияне смотрят, где что можно дешевле купить, а потом продать у себя: бензин и другое. Ну и что? Это жизнь и нужно это просто регулировать, что и делается пограничниками и таможенниками. Большинство же ездят, потому что хотят общаться. Уже установились связи по ту сторону границы. Мы это активно приветствуем и надеемся, что Вы будете чаще об этом писать и рассказывать.
Вопрос: Россия последовательно выступала за полную имплементацию договоренностей по иранскому ядерному досье, которая подразумевала в том числе отмену санкций на экспорт энергоресурсов. Одновременно многие критики говорили, что таким образом Россия помогает «пилить сук, на котором сама сидит». Мы видим, что цены на нефть рекордно низкие, Иран возвращается на рынок. В ответе на один из вопросов Вы упомянули финансовую невыгоду. Стоило ли рисковать экономическими, национальными интересами ради этой дипломатической победы?
Недавно на американском телевидении мы слышали, что США были готовы допустить некоторые жертвы среди гражданского населения при уничтожении такого важного стратегического объекта ИГИЛ, как финансовый центр террористов. Возможен ли для российской стороны такой вариант в Сирии, что будут допущены какие-то жертвы среди гражданского населения при уничтожении объекта, который будет являться очень важной целью?
С.В.Лавров: Мы уже неоднократно обращались к этой теме. Прежде всего, в рамках регулярных повседневных брифингов, которые организует Министерство обороны Российской Федерации, в ходе которых подробно периодически напоминают о том, каким образом выбираются цели для работы наших Воздушно-космических сил (ВКС). Эти цели перепроверяются не один раз. Делается все, чтобы убедиться, что гражданского населения в районе применения нашей авиации нет.
Если брать международное право, то Женевские конвенции и протоколы к ним не допускают применения вооруженной силы государства против объектов, на которых могут быть гражданские лица. Если то, что Вы сказали, о планах США действительно имеет место, то это нарушение международного гуманитарного права, хотя, я не уверен, что США участвуют в соответствующих международных договорах. Соединенные Штаты не являются участниками целого ряда универсальных документов по правам человека, как, в частности, не участвуют в Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о правах инвалидов, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. К этой стране есть много претензий в том, что касается следования и приверженности универсально применимым нормам международного права в сфере прав человека и в гуманитарной сфере.
Повторю, на войне бывает всякое. Министерство обороны Российской Федерации предельно откровенно и подробно рассказывает о том, что мы делаем в Сирии. Когда нам говорят, что мы не тех бомбим или что в результате наших бомбежек там погибли десятки мирных жителей, нам ни разу не предоставили никаких доказательств.
Вчера я разговаривал с Госсекретарем США Дж.Керри, он опять говорил, что для того, чтобы переговоры в Женеве все-таки «завязались», нужно сделать какие-то жесты, потому что оппозиция, которая собиралась в Эр-Рияде, заявляет, что никуда не поедет потому, что их продолжают бомбить не за что. Я ему сказал, что еще начиная с 30 сентября, когда было объявлено о том, что в ответ на просьбу сирийского Правительства мы будем использовать наши ВКС против террористов в Сирии, и по сей день мы продолжаем предлагать американцам как руководителям созданной ими коалиции наладить повседневную координацию между военными. Об этом не раз говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин. Когда нам говорят, что мы не тех бомбим, мы спрашиваем, где те, кого надо бомбить. Нам отвечают, что не скажут. Хорошо, тогда скажите, кого не надо бомбить. Этого нам опять не говорят. И потом тут же говорят, что мы бомбим не тех. Честно говоря, я уже даже просто теряюсь. Это какой-то несерьезный и невзрослый разговор.
Вчера мы опять подтвердили, что предложения, которые были направлены Министерством обороны Российской Федерации по налаживанию повседневной координации, остаются в силе. Если мы всерьез готовы и хотим повысить эффективность в борьбе с террористами, то нужно налаживать такую координацию, а не просто исполнять процедуры, позволяющие избегать непредвиденных инцидентов.
Насчет Ирана и экономической выгоды. Какое-то время назад в ответ на просьбу одного из журналистов я уже касался этой темы. Было бы хорошо, если бы в нынешних условиях какую-нибудь страну, а лучше несколько стран – производителей нефти каким-то образом закрыли бы, или начался какой-нибудь конфликт и им стало бы не до нефтяной промышленности и не до экспорта, либо произошла какая-нибудь катастрофа, либо на них наложили санкции и запретили экспортировать нефть. Тогда бы рынок отыгрался, и цены поднялись. Может быть, на несколько дней или месяцев стало бы легче и лучше, все бы вздохнули спокойно. Если мы все хотим жить в справедливом мире, насколько правильно выстраивать планы своего собственного развития, ориентируясь на то, что кто-то будет ущемлен в правах и против кого-то будут сохраняться санкции, либо кто-то будет разбомблен? Если ориентироваться на такие сценарии, то, во-первых, ты делаешь свое собственное развитие заложником неких событий, которые от тебя не зависят, а, во-вторых, ты ищешь не то, что «тепличных» условий, но каких-то легких путей решения повседневных проблем, тогда как требуются стратегические, глубокие решения, о которых сегодня говорит Президент Российской Федерации В.В.Путин и которые давно назрели в нашей экономике. Лучше и честнее, и, главное, гораздо более устойчиво, выстраивать стратегию своего развития таким образом, чтобы учитывать все факторы современного мира при его нормальном развитии, не закладываться на то, что кто-то где-то будет наказан, и рынок будет для нас более благоприятен. Надо исходить из того, о чем мы говорим вслух: все страны выступают за свободное развитие международных отношений, за свободное и всестороннее развитие каждого государства без каких-либо ограничений. По крайней мере, в долгосрочном плане это на 100% будет полезнее для нашей страны.
Вопрос: Известно, что в г.Мадае, который правительственные войска Сирии держат в осаде, около 40 тыс. человек по данным ООН голодают, есть смертельные случаи. Я знаю, что вооруженная оппозиция держит в осаде и другие города. У Москвы хорошие контакты с Дамаском. Может ли она что-то сделать, чтобы убедить Дамаск снять осаду или хотя бы допустить туда на постоянной основе гуманитарные организации?
С.В.Лавров: Насчет г.Мадаи. Там, действительно, была пакетная договоренность, согласно которой сирийское Правительство должно было допустить гуманитарный груз в Мадаю, а боевики – в два других населенных пункта. Посредником выступала ООН. В конечном итоге сирийское Правительство обеспечило такой доступ, несмотря на то, что боевики в последний момент от взаимности отказались. Это было осуществлено уже без какой-либо увязки.
Сейчас, в преддверии Женевских переговоров, ситуация в Мадае была сделана просто неким фетишем. Если в Мадае будет допуск гуманитарщиков, то тогда переговоры получат хороший старт, если нет, то оппозиция может не приехать. Мы сказали нашим ооновским коллегам, включая представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которые делали соответствующие доклады, в которых Мадая была почти единственным проблемным моментом, что нужно действовать все-таки по-честному и как ооновские чиновники, а не как исполнители чьего-то заказа, и тем более спекулировать на страданиях людей. Двести тысяч человек не могут получить никакой гуманитарной помощи и вообще какого-либо нормального питания, медицинского содействия. Они окружены в районе г.Дейр-эз-Зор. Об этом городе ничего не говорится в докладах наших ооновских коллег, и мы им на это указали. Это именно то место, которое окружено игиловцами и прочими террористами, с которыми никто не пытается ни о чем говорить, как будто этих двухсот тысяч человек не существует. Именно туда, в частности, наши гуманитарные грузы сбрасывает на парашютах сирийская транспортная авиация.
Я с Вами полностью согласен в том, что гуманитарные аспекты очень важны, всегда весьма эмоциональны и воспринимаются в качестве таковых. Мы исходим из того, что никаких предварительных условий для начала переговоров быть не должно, как некоторые пытаются сделать. Гуманитарные аспекты должны быть одними из центральных на переговорах между Правительством и оппозицией. Мы будем всячески поощрять т.н. локальные замирения до тех пор, пока не будет объявлено полное прекращение огня. Мы, кстати, как и США, за прекращение огня. Но некоторые страны Залива говорят, что они будут готовы дать команду тем, кто на них ориентируется, прекратить огонь только, если почувствуют, что политический процесс «завязался», и есть перспективы ухода Б.Асада. Делайте выводы о том, кто действительно думает о страданиях мирных граждан, а кто хочет любой ценой, даже ценой усугубления гуманитарной катастрофы, сменить режим в Сирии.Сергей Лавров
Визит госсекретаря США Джона Керри в Китай позволит Вашингтону и Пекину обсудить текущее состояние ключевых региональных конфликтов, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.
Керри прибудет в Пекин в среду, 27 января. Запланированы встречи госсекретаря США с высшим руководством КНР.
По мнению Габуева, в Пекине и Вашингтоне испытывают схожие чувства относительно действий Пхеньяна, который, по собственным утверждениям, провел испытание водородной бомбы. "Безусловно, главной темой станет ситуация вокруг КНДР, потому что это, все-таки, кризис дня и то, над чем и в Пекине, и в Вашингтоне очень много думают", — отметил эксперт.
"Американской политики в направлении КНДР мы особенно и не видели в последние полтора года. Китайская же политика явно не дает особых результатов. Между тем, недовольство действиями Пхеньяна очень большое у обеих сторон, и потому есть некая готовность действовать совместно", — полагает специалист.
Еще один региональный конфликт, который будут подробно обсуждать во время предстоящих американо-китайских переговоров, — территориальные споры в Южно-Китайском море. "Страсти здесь в последнее время улеглись, но, тем не менее, что-то небольшое каждую неделю происходит", — сказал Габуев, отметив, что в Вашингтоне по-прежнему опасаются внезапного обострения в регионе.
"Понятно, что уходящая вашингтонская администрация хотела бы оставить этот конфликт в наследство следующей, но вопрос состоит в том, как именно это сделать", — считает эксперт.
Кроме того, по мнению Габуева, Джон Керри обсудит в Пекине вопросы взаимодействия Китая и новой администрации Тайваня, а также ключевые международные темы, в частности развитие ситуации в Сирии.
Испытание водородной бомбы КНДР: международная реакция
Константин Асмолов
Действия Северной Кореи не могли не вызвать реакцию «цивилизованного мира» и можно сказать, что все заинтересованные стороны как бы «отработали обязательную программу», пусть и с некоторыми оговорками. Например, осуждая действия Пхеньяна в целом, ни один из лидеров не подтвердил собственно факт испытания термоядерного оружия. Как высказались руководители РФ и США, «если данный факт подтвердится, то это будет являться грубым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и не должно остаться без жесткой международной реакции».
Естественно, что ядерные испытания не приветствовал никто. В той или иной мере все страны-соседи отметили, что этот факт не увеличивает региональную стабильность и повышает напряженность, создавая угрозу режиму нераспространения. В некоторых заявлениях КНДР обвинили в нарушении международного права, хотя, по мнению автора, это не совсем корректно. Речь идет скорее о том, что КНДР последовательно игнорирует четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые запрещают ей развивать ракетно-ядерную программу. Даже с точки зрения некоторых критиков современной роли ООН альтернативы ей как глобальному арбитру нет. И потому северокорейские действия не могут не вызывать порицания. Во всяком случае, по итогам экстренного заседания Совета Безопасности ООН 11 января все 15 членов решили немедленно начать работу над новой резолюцией по КНДР. Отменено участие КНДР в Давосском форуме, плюс вопрос о ее денуклеаризации может быть включён в итоговый документ предстоящего в мае в Японии саммита G7. Как сообщило агентство Киодо Цусин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен внести этот вопрос в повестку дня саммита ввиду опасности таких действий для мирового сообщества.
Южная Корея будет добиваться принятия резолюции в СБ ООН по КНДР в течение этого месяца. Потому что потом председателями Совбеза будут «слишком дружественные» для Пхеньяна страны – Венесуэла и Ангола.
А пока в качестве локального ответа возобновилось пропагандистское вещание на границе. Северяне ответили симметрично и даже забросили на южнокорейскую территорию сколько-то мешков со своими листовками, однако стрельбы по репродукторам пока не было. Тем не менее на всякий случай в Желтом море провели учебные стрельбы, а глава Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Ли Сун Чжин уже анонсировал что «Пхеньян может пойти на дополнительные провокационные действия», и южнокорейские вооружённые силы должны сосредоточить усилия на сохранении готовности к любым провокациям и вызовам со стороны Севера.
Внутри страны обсуждаются новые санкции против Севера, а компании, принимающие участие в трехстороннем проекте «Рачжин-Хасан», в который они очень старательно старались влезть, лишились государственного финансирования.
Важнее иное – ультраконсерваторы в руководстве правящей партии Сэнури снова призвали правительство страны рассмотреть вопрос о создании Сеулом собственного ядерного оружия: «Настало время для нас мирно вооружиться ядерным оружием ради самообороны для отражения северокорейского террора и агрессии», – заявил во время беседы лидер парламентской фракции «Сэнури» в парламенте Вон Ю Чхоль.
Неясно, в этом ли контексте, но глава МИД Великобритании Филип Хэммонд призвал РК и другие страны региона быть более сдержанными в своих ответных действиях по отношению к провокациям Севера.
США провели традиционную демонстрацию силы и отправили в Южную Корею бомбардировщик B-52, который в сопровождении двух пар истребителей (американская и южнокорейская) совершил показательный полет на малой высоте в районе города Осана провинции Кёнгидо, где находится американская авиабаза. Бомбардировщик при этом был вооружен ядерными ракетами и бомбами типа «bunker buster», которые теоретически способны поражать северокорейские подземные коммуникации. Самолёт, который называют «летающей крепостью», составляет основу «ядерного зонтика» США, под защитой которого находятся страны-союзники, в том числе, РК.
Кроме того, по данным агентства Енхап, власти США будто бы рассматривают возможность отправки к берегам корейского полуострова авианосца «Рональд Рейган» или переброски на полуостров американских стратегических вооружений.
РФ и КНР ведут консультации: 8 января состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулова со спецпредставителем Правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэем. В ходе обмена мнений стороны согласились, что действия Пхеньяна нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и чреваты наращиванием военно-политической напряженности в регионе, но подчеркнули совпадающие подходы в пользу дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова в рамках шестистороннего переговорного процесса.
С другой стороны, можно обратить внимание на то, что реакция на четвертое ядерное испытание в КНДР совсем не такая резкая, как могла бы быть. В иное время Совет Безопасности собрался бы по этому поводу на следующий день. Сейчас этого нет.
Ожидались и более жесткие действия со стороны Китая, однако, хотя послу КНДР был заявлен официальный протест МИД, агентство «Синьхуа» и ряд иных центральных изданий заняли позицию: «да, их действия недопустимы, но при этом нам хорошо понятно, чем они вызваны и кто подталкивает их к таким рискованным шагам». Впрочем, эту полемику мы подробнее рассмотрим в отдельном тексте.
Северяне же 12 января наградили коллектив бомбосозидателей и продолжают поднимать ставки – заявлено, что теперь у них есть не только водородная бомба, но и термоядерная боеголовка. А что до споров вокруг «есть бомба или нет», то прозвучали мысли: «…Если не было бы ограничений по географическим условиями и была бы у нас обширная территория, то наши ученые полны решимости провести подряд взрывы водородных бомб мощностью несколько сот KT и МT, способных в один миг уничтожить всю территорию США, которые до конца пытаются удушить нашу колыбель и источник счастья – КНДР». Впрочем, в очередном заявлении от 15 января в очередной же раз подчеркивается, что «Нам не нужны ни эскалация напряженности, ни провокация кому-либо, потому что мы концентрируем ныне все силы в строительство экономической державы», а бомба – «лишь прохождение обычного процесса для реализации курса о параллельном ведении строительства экономики и ядерных сил».
В этом контексте автору хочется напомнить то, что он писал три года назад по поводу предыдущего испытания и его последствий: хотя из-за общей международной обстановки все развивается более гладко, чем могло бы, в долгосрочной перспективе проблема никуда не девается.
Чего ждать в остальном?
Вне зависимости от типа взрыва ядерное испытание является ушатом холодной воды на те горячие головы, которые уверены в том, что армия РК уничтожит Север за 90 часов.
Испытание вызовет всплеск напряженности и, возможно, новый виток гонки вооружений под предлогом борьбы с ядерной угрозой КНДР. США и их союзники постараются по максимуму разыграть карту «у них водородная бомба и нам срочно надо для борьбы с этим…».
Как обычно при таком всплеске, повышается вероятность конфликта вследствие не осознанной воли сторон, а иррациональных факторов.
ЕС нужно не развитие демократии на постсоветском пространстве, а геополитическая ориентация бывших республик СССР на Европу, считает председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Европарламент 21 января принял резолюцию "Соглашения об ассоциации/Глубокие и всесторонние свободные торговые пространства с Грузией, Молдовой и Украиной"; в документе, в частности, сказано: "Европарламент осуждает действия России, направленные на подрыв проевропейского курса, выбранного тремя странами".
"Итак, открыто заговорили именно о "проевропейском курсе". Это принципиальный момент, поскольку наконец-то вещи называются своими именами. Вся "маскировка" про ценности, свободы, демократию отброшена, теперь все предельно просто: нам важна геополитическая ориентация этих государств на Европу", — написал в Facebook Косачев.
По его словам, из этого логически следует, что ЕС, который в этой резолюции призывает Россию "немедленно положить конец прямому или косвенному участию в конфликте на востоке Украины, а также в замороженных конфликтах в Грузии и Молдове", делает это не из трогательной заботы о независимости этих государств.
"Окрик из Брюсселя означает: не тронь наше!" — написал сенатор.
Сам того не желая, Европарламент дал ответ и на вопрос о том, почему в Европе сохраняются реальные и замороженные конфликты, отметил Косачев.
"Как только Запад признает, что в любом конфликте есть две стороны, и на каждой из них – живые люди, а не "рука Москвы" или иные абстрактные геополитические силы, плетущие заговоры против западного могущества – то появятся и долгожданные развязки. Нужно элементарное уважение к правам и свободам людей, к их выбору, к их праву на безопасность от тех, кто, шагая проевропейским курсом, готов "люстрировать" инакомыслие вплоть до физического уничтожения", — убежден сенатор.
Однако пока до этого осмысления далеко, констатировал он. Пока в Европе, отметил Косачев, старательно блокируют на различных международных форумах предлагаемые нами резолюции о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств и стимулирование там госпереворотов.
"То есть – того самого "свободного выбора", которому так мешает "вредная" Россия", — заключил он.
Взорвалась ядрена бомба
Очередными подземными испытаниями КНДР отметила 10-летие своего ядерного статуса
Когда 11 лет назад, 24 января 2005-го, замглавы МИДа Ким Ге Гван впервые заявил, что его страна обладает ядерным оружием, ему мало кто поверил. Как сейчас не верят в то, что северокорейцы действительно взорвали водородную бомбу. А зря.
Если отойти от пропаганды и обратиться к фактам, то выяснится, что Пхеньян почти никогда не врет и действует весьма последовательно, жестко гнет свою линию. А потому стоит серьезно отнестись к недавнему заявлению о том, что «по стратегическому решению Трудовой партии Кореи успешно прошло испытание первой водородной бомбы чучхейской Кореи».
Сказали корейцы, что у них есть атомное оружие, — и 9 февраля 2006 года американские и российские сейсмические станции зафиксировали в Корее на глубине 2 км подземный взрыв мощностью в 550 тонн в тротиловом эквиваленте. То была первая атомная бомба «утренней свежести». Ее мощность, кстати, вдвое слабее «малютки», которую американцы сбросили на Хиросиму. Как мы сейчас видим, за 10 лет северокорейцы значительно продвинулись в разработке ядерного оружия и средств его доставки. Но, как ни странно, в этом немалая заслуга не только корейских военных и ученых, но и тех же США и мирового сообщества.
Вернемся на 10 лет назад и заметим: КНДР могла бы создать атомную бомбу гораздо раньше. Страна начала серьезные разработки после того, как американцы показали себя ненадежными партнерами. Они отказались выполнять соглашение, предусматривавшее отказ от разработок ядерного оружия при условии строительства в КНДР электростанций на легководных реакторах, исключавших наработку боевого плутония.
После заявления замминистра прошел год, прежде чем КНДР испытала ядерное взрывное устройство. Пхеньян медлил, пытался вести переговоры. И только убедившись, что в Сеуле и Вашингтоне продолжают бряцать оружием, испытал свое. Заметим, взрыв первой северокорейской атомной бомбы прозвучал на фоне американской антитеррористической истерии образца 2001 года. Уже горел Афганистан. В Вашингтоне раздумывали, по кому ударить — по Ираку или КНДР? Убедившись, что в Ираке нет химического и атомного оружия, взялись там внедрять демократию. Ирак был выбран еще по нескольким причинам, в том числе потому, что эта страна не располагала такой миллионной боеспособной армией, которая имеется у КНДР. Несмотря на это, северокорейское руководство готово было отказаться от атомной программы в обмен на мирный договор и гарантии безопасности. Именно договор, а не туманные обещания, над которыми маячат 30-тысячная американская армия на юге Корейского полуострова, авианосцы у берегов КНДР, стратегические бомбардировщики с ядерными боеголовками у ее территориальных вод.
КНДР добивается юридических гарантий своей безопасности, и что здесь предосудительного? Но то-то и оно: на предложения КНДР в Вашингтоне плюют. И что остается делать стране, если у ее носа постоянно размахивают ядерной дубинкой? Вооружаться.
Мне скажут, мол, в Пхеньяне сидят непредсказуемые деятели, вроде как террористы, а США — это цивилизованная держава, не допускающая спонтанных поступков. На самом деле все наоборот: на кого напали за 63 года существования КНДР северокорейские вожди? Сидят себе тихо за 38-й параллелью и требуют лишь одного — уважать суверенитет страны. А сколько стран за это время подверглись агрессии со стороны США? Или это покойный Ким Чен Ир бомбил Белград, уничтожил Ливию? Или корейские вожди решают за весь мир, где есть демократия, а где ее необходимо срочно насадить?
Еще факт, подтвержденный и в мемуарах экс-директора ЦРУ: в конце 1990-х США по «Сценарию 5027» готовились нанести ядерный удар по КНДР. Планировалось сбросить около 30 атомных бомб. Американцы даже проводили тренировки этого удара с применением бомбардировщиков и авианосцев. «Сценарий 5027» был бы реализован, не испытай КНДР свою атомную бомбу и средства ее доставки. Именно США своими методами поддержания мирового господства разрушили режим нераспространения ядерного оружия. Избирательный подход, по которому лояльным американцам странам (например, Израилю и Пакистану) можно иметь бомбу, а «несогласным» — нельзя, принес такие результаты: около 40 стран стоят на пороге создания атомной бомбы.
P.S. Опробовав водородную бомбу, северокорейцы тут же заявили: «КНДР как ответственная страна, обладающая ядерным оружием, не будет применять ядерное оружие первой, если враждебные силы не посягнут на наш суверенитет, и ни в коем случае не будет передавать средства и технологии ядерного оружия». Мировой мейнстрим вслед за Вашингтоном, конечно же, назовет это пропагандистским враньем. Но почему США не хотят заключить мирный договор с КНДР, постоянно твердя о коварстве и лукавстве корейских вождей? Да потому, что американцам пришлось бы вывести свои войска с юга полуострова. И как минимум задуматься о судьбе американского ядерного зонтика над Японией и американских базах в этой стране. Что тогда? Как контролировать Японию? Как в военном отношении давить на Россию и Китай на Дальнем Востоке? Ведь стратегия США — вести боевые действия на чужой территории.
Михаил Морозов
В Санкт-Петербурге во «Всероссийском научно-исследовательском институте им. А.П. Карпинского» 21 декабря 2015 года состоялась рабочая встреча по развитию международного сотрудничества в области металлогении и геологии урановых месторождений.
Участники встречи:
От ВСЕГЕИ – Петров О.В. (генеральный директор), Шатов В.В. (заместитель генерального директора), Миронов Ю.Б. (заведующий отделом геологии урановых месторождений и радиоэкологии - ОГУМРЭ), Фукс В.З., Бродов В.В., Арсентьева Е.А., Карпунин А.М., Михайлов В.А. – сотрудники ОГУМРЭ, Шатков Г.А., Куба Н.И.
От BRIUG – Zhang Feifeng (вице-президент), Qin Mingkuan (главный геолог), Wang Guorong, He Zhingbo, Liu Zhangyue, Song Jiye – научные сотрудники BRIUG, Han Xinchao (переводчик).
Во время рабочей встречи специалисты двух сторон заслушали и обсудили сообщения:
– «Урановые месторождения РФ» ? доклад заведующего ОГУМРЭ Ю.Б.Миронова об истории развития и основных результатах сотрудничества в области геологии и металлогении урана коллективов ВСЕГЕИ и BRIUG,
- В.З.Фукса «Методика прогнозирования урановых месторождений песчаникового типа»;
- Г.А.Шаткова «Результаты работ по совместным проектам ВСЕГЕИ и BRIUG»;
- Qin Mingkuana, «О предложениях китайской стороны по развитию совместных работ на ближайшую перспективу в области изучения урановых месторождений и металлогении, в том числе: проведение полевых экспедиций на урановые месторождения, экспертная оценка ураноносности перспективных районов и площадей, развитие новых технологических приемов прогнозирования, подготовка научных кадров, стажировка специалистов, обучение в аспирантуре, организация и проведение семинаров и конференций и др.».
Участники рабочей встречи отметили:
- Высокий организационный и профессиональный научный уровень геологов ВСЕГЕИ и технической оснащенности лабораторных служб института, способствующие выполнению прогнозно-геологических работ на уран различных масштабов и сложности;
- Заслушанные доклады и сообщения способствовали повышению знаний китайских специалистов об урановых месторождениях России и методике прогнозирования месторождений песчаникового типа.
По результатам обсуждения планируется подписать Протокол о намерениях ВСЕГЕИ и BRIUG о подготовке Соглашения о совместной деятельности в области металлогении и изучения геологии урановых месторождений России, Китая и других стран.
В Китае работы на уран начались после заключения в 1954 г. Договора о содействии СССР в организации поисков и разведке урановых месторождений. В 1955–60 гг. при проведении ревизионных и поисковых работ в южных провинциях Китая В.М. Терентьевым и В.Н. Федоровым были открыты промышленные месторождения Чанципинь и Дининцай. В конце 50-х годов, в связи с изменениями в политической обстановке, советские специалисты были отозваны на родину. Научные и производственные контакты между российскими и китайскими геологами возобновились лишь в конце прошлого века. В 1995–1997 гг. в КНР работал сотрудник ВСЕГЕИ Грушевой Г.В. По его рекомендациям к исследованиям был привлечен Печенкин И.Г. (ВИМС). Эти специалисты проанализировали возможность выявления новых гидрогенных урановых месторождений в осадочных бассейнах северо-западного Китая. Подготовленное ими «Методическое руководство по поискам и прогнозированию гидрогенных руд» опубликовано на китайском языке и используется при поисках. В 2004–2009 гг. в оценке перспектив отдельных районов КНР на различные типы уранового оруденения участвовали многие сотрудники ВСЕГЕИ (Шатков Г.А., Миронов Ю.Б., Бузовкин С.В., Шор Г.М., Пинский Э.М., Соловьев Н.С. и др.).
Эти работы проводились в рамках Контрактов с Китайской ядерной корпорацией, изучение геологии и металлогении урановых месторождений – с Пекинским институтом урановой геологии КНР. Научно-технические семинары для специалистов Китая ОГУМРЭ ВСЕГЕИ традиционно проводит более 15 лет. Согласованная тематика семинаров включает сообщения по ведущим промышленным типам уранового и ассоциированного с ним оруденения на месторождениях России, ближнего (Казахстан, Узбекистан, Украина) и дальнего (Австралия, Канада, США, ЮАР и др.) зарубежья, методике прогнозирования и поисков месторождений, новым идеям и разработкам российских специалистов в области геологии и металлогении урана и сопутствующих элементов. В семинарах принимают участие высококвалифицированные специалисты ОГУМРЭ и других отделов ВСЕГЕИ, родственных геологических организаций.
В 2004 г. под редакцией Г.А.Шаткова и А.С.Вольского была издана монография, характеризующая тектонику, глубинное строение и минерагению (в том числе ураноносность) Приамурья и сопредельных территорий (авторы А.С.Вольский, Г.А.Шатков, Л.И.Красный, Э.М.Пинский, И.А.Васильев, А.М.Коршунов, В.В.Пуринг, Н.С.Соловьев, В.М.Терентьев, Г.М.Шор, Г.А. Коршунова– Россия, Чжао Фынминь, Ху Шаокан, Чен Цзуи, Го Хуа, Сан Цзишэн – Китай). В работе приведены сводки по урановым месторождениям и рудопроявлениям на основе материалов ВСЕГЕИ, Сосновского и Таежного ПГО, Северо-Восточного бюро Китайской ядерной корпорации. В этих документах охарактеризованы 104 месторождения урана России, 15 – КНР, 5 – Монголии. Большая часть геологических задач решена в рамках Международного проекта «Атлас карт Центральной Азии» (О.В.Петров, В.В.Шатов, Дун Шувен и др.).
В связи с возросшей в последние годы тенденцией к интеграции стран Центральной Азии в 2008–2012 гг. в рамках Международного проекта «Составление комплекта карт Центральной и Северной Азии» силами государственных геологических организаций России, Китая, Казахстана, Монголии и Республики Корея проведены совместные исследования по геологии и металлогении Центральной Азии. Их результаты отражены в из-данных во ВСЕГЕИ Металлогенической карте Центральной Азии и прилегающих территорий масштаба 1:27nbsp;500 000 (2008 г.) и монографии – объяснительной записке (2012 г.) (Петров О.В., Шатков Г.А., Э.М.Пинский, Н.С.Соловьев, В.П.Феоктистов, В.В.Шатов, Л.Д.Ручейкова, В.А.Гущина – Россия; Чен Тинью, Дун Шувен, Чен Бинвэй, Гэн Шуфан, Хуан Дяньхао, Сунн Тяньруй, Шэн Цзифу, Чжу Гуаньсян, Лю Пин, Фань Бенсянь, Цзюй Юаньцзин, Ван Чженьян, Хань Куньин, Ван Лия – Китай; Г. Дежидмаа, О. Томуртогоо – Монголия; Бок Чул Ким, Хван Джэха – Республика Корея; Б.С.Ужкенов, А.Л.Киселев, Л.А.Мирошниченко, Д.В.Гуревич– Казахстан). Наряду с ураном охарактеризован в этих работах широкий спектр различных видов минерального сырья. Исследователями учтены новейшие опубликованные материалы по геологии и металлогении Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и КНДР.
Средняя продолжительность жизни в России достигла 72 лет
За последние три года средняя продолжительность жизни в России выросла и достигла почти 72 лет. Об этом сегодня, 22 января, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Первом региональном медицинском форуме.
«За последние три года у нас сделан качественный рывок, пока еще нет точных демографических данных, но мы вплотную приблизились к возрасту 72 года по продолжительности жизни», — сказала Голодец.
Следует отметить, что по данным медицинского журнала The Lancet, в 2013 году в глобальном рейтинге по общей продолжительности жизни Россия была на 108 месте из 188 — между Ираком и КНДР. По продолжительности здоровой жизни она заняла 107 место — между Гондурасом и Тонга. В 1990 году она занимала 88 место.
Россию опережают страны Прибалтики, Украина, Молдавия, Армения, Грузия, Таджикистан. А вот ее другие постсоветсткие соседи Белоруссия, Казахстан, Туркмения и Киргизия — уступают. Дольше всех в мире живут японцы и жители Андорры. В Японии мужчины доживают до 80,06, а женщины до 86,39 лет. В Андорре эти сроки составляют 80,88 лет для мужчин и 86,62 — для женщин.
Иран и «вся королевская рать» — от холодной войны к горячей?
Всплеск конфронтации между королевством Саудовская Аравия (КСА) и Исламской республикой Иран (ИРИ), вызванный казнью известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, постепенно переходит в вялотекущую фазу. Является ли он «случайностью», или перед нами очередной шаг к большой войне на Среднем Востоке?
Начнём с предыстории и хроники конфликта. В 2011-м ан-Нимр поддержал выступления шиитов на востоке страны. 8 июля 2012-го он был арестован (арест сопровождался перестрелкой и попыткой бегства). 15 октября 2014-го шейх был приговорён к смертной казни за разжигание розни и создание террористической ячейки. Это спровоцировало более чем резкую реакцию Тегерана, обещавшую стать ещё более радикальной в случае приведения приговора в исполнение.
2 января в Саудовской Аравии были казнены 47 человек, большинство по обвинению в причастности к террористическим атакам «Аль-Каиды» в 2003 — 2004 гг., включая лидера местной ячейки организации. Однако пятеро из казнённых были шиитами — в том числе ан-Нимр.
В Восточной провинции выступления не были многочисленными — власти заранее ввели туда значительные силы безопасности и бронетехнику. В единственной перестрелке погиб один человек. Однако за пределами КСА реакция была намного более «наглядной». Почти сразу же начались протесты шиитского большинства в Бахрейне. Протесты продолжались как минимум до 11−12 января.
В Тегеране протестующие ворвались в посольство. Было подожжено и частично сгорело консульство в Мешхеде. Полиция активно противодействовала, арестовав около 40 человек.
3 января. Утром посольство в Тегеране вновь пытались атаковать. Аятолла Али Хаменеи заявил: «Без сомнения, то, что кровь этого невинного мученика была пролита незаконно, будет иметь последствия, священное возмездие не минует саудовских политиков».
4 января. Саудовская Аравия разрывает дипломатические и торговые отношения с Тегераном. В тот же день её примеру последовал Бахрейн. Дипломатические отношения с ИРИ разорвал также Судан. ОАЭ отозвали посла.
5 января. Кувейт отозвал своего посла из Тегерана.
6 января. Эрдоган выступил с обвинениями в адрес Ирана. Катар отозвал своего посла из Тегерана. Джибути разорвало дипломатические отношения с Ираном.
7 января. Иран обвинил авиацию КСА в ударе по своему посольству в Йемене. Вечером того же дня глава Минобороны королевства, сын короля Абдаллы Мухаммад ибн Салман Аль-Сауд выступил с примирительным заявлением. «Это то, чего мы совсем не ожидаем, и кто бы ни подталкивал страны в этом направлении, он должен быть не в себе. Война между Саудовской Аравией и Ираном — это начало огромной катастрофы в регионе, и она отразится на всем остальном мире. Мы наверняка такого не допустим». Власти Сомали разорвали дипотношения с Тегераном.
9 января. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, состоит из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана) пригрозил Ирану «дополнительными мерами» в случае дальнейшего раскачивания ситуации. Представитель КСА прямо упомянул новые санкции.
10 января. Начальник генштаба пакистанской армии генерал Рахил Шариф сообщил, что любая угроза территориальной целостности Саудовской Аравии вызовет ответную реакцию Исламабада и якобы, заявил о готовности «уничтожить Иран». Лига арабских государств (ЛАГ) выразила поддержку КСА в конфликте с Ираном.
11 января — атака на здание саудовской госбезопасности в Эль-Катифе. Иран ввёл продуктовое эмбарго в отношении КСА.
14 января. Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Ираном.
16 января. Турция заявила, что разместит в Катаре военную базу.
История ирано-саудовского соперничества насчитывает более полувека. Его накал менялся, однако при этом страны с завидным упорством оказывались по разные стороны баррикад независимо от внутриполитических колебаний. Упрощая, в 50−70-х основным драйвером разногласий были гегемонистские устремления обоих игроков, стремившихся установить контроль над малыми государствами Персидского залива и «перетягивание каната» в рамках ОПЕК (Иран стремился сохранить за собой позиции нефтяного поставщика № 1); фон составляли идеологические противоречия. При этом тегеранский режим парадоксальным образом играл роль прозападной, произраильской и, разумеется, светской стороны, в то время как Эр-Рияд эволюционировал от вполне антизападных настроений в 50-х — начале 60-х до роли ситуативного регионального смутьяна с твёрдой антиизраильской позицией и «подрывными» инициативами в стиле нефтяного эмбарго в отношении США. Тем не менее наличие общих противников сделало своё дело — Иран и КСА оказались на одной стороне в противостоянии революционерам всех мастей и претендовавшему на региональную гегемонию просоветскому Египту и во время йеменского, и во время оманского кризисов.
Ситуация резко изменилась после исламской революции 1979-го в Иране. Страны Залива во главе с Эр-Риядом стали основным спонсором начавшего в 1980-м войну Ирака. Затраты КСА на поддержку Саддама Хусейна в 1980−88 оцениваются в $ 30,9 млрд. Значительная часть поставок оружия проходила через собственно Саудовскую Аравию, посадки и техническое обслуживание иракских самолётов на саудовских аэродромах не были из ряда вон выходящим событием. По сути, ирано-иракская война была «гибридной» войной монархий Залива против Ирана — только их массированная помощь позволила явно уступавшему по всем параметрам Ираку противостоять ИРИ. При этом людские потери Ирана в войне составили около 900 тыс. человек (при довоенном населении в 37,5 млн.), материальные — порядка $ 500 млрд в современных ценах. Начавшаяся в 1984-м «танкерная война» привела к прямым столкновениям — известен по крайней мере один воздушный бой (1984) между иранской и саудовской авиацией, стоивший иранцам одного самолёта; в 1986−88 было повреждено 8 судов под саудовским флагом. Наиболее резонансным событием того периода стали столкновения 1987-го между иранскими паломниками и саудовской полицией в Мекке, стоившие жизни 275 иранцам.
Война де-факто закрепила доминирование Саудии среди нефтяных монархий Аравии — в 1981-м был образован Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Экономически это соглашение привело к устранению тарифных барьеров. В 1983 г. началось создание объединенных вооруженных сил (ОВС) блока «Щит полуострова». Силы должны были подчиняться генсеку ССАГПЗ, непосредственное командование поручалось саудиту. В 1984 г. была выработана стратегия обороны аравийских монархий, которая предусматривала:
1. Опору на собственные силы и отказ от обращения к военной помощи к иностранным государствам.
2. Оказание коллективной помощи любой стране-члену ССАГПЗ.
3. Развитие объединённых вооружённых сил.
4. Координацию закупок вооружений.
Иными словами, Эр-Рияд обзавёлся собственным экономическим и военным блоком.
Девяностые были временем относительного затишья. Иран был ослаблен длительной войной и санкциями. КСА, наглядно убедившись в слабости своей армии во время войны в Заливе и полностью завися от снизившихся цен на нефть (подушевой ВВП обвалился с $ 25 тыс до $ 7 тыс), также не проявляла особой геополитической активности. ССАГПЗ как оборонный блок практически остановился в развитии — вопреки декларациям об опоре на собственные силы, монархии переложили заботу о своей безопасности на США, что, впрочем, не мешало аравийским монархиям активно наращивать закупки вооружений. Единственным полем опосредованной борьбы между двумя потенциальными гегемонами оказался Афганистан, где Иран активно поддержал Северный альянс, а Саудия — «Талибан».
Новый виток напряжённости пришёлся на середину «нулевых». В 2003-м США свергли суннитский светский режим Хусейна, что неизбежно должно было привести к доминированию шиитского большинства после прекращения оккупации.
В июне 2004-го на севере Йемена начался «шиитский мятеж» — восстание зейдитов (основной «компонент» хуситов). В Ливане после победы так называемой «Кедровой революции» (по классическому «цветному» сценарию) и вывода сирийских войск к власти пришло просаудовское движение «Аль-Мустакбаль» («Будущее»). Однако, столкнувшись с противодействием коалиции шиитов (просирийская «Амаль» и «Хезболла») и христиан («Свободное патриотическое движение»), «Будущее» не смогло одержать безусловную победу — так просирийский президент удержался у власти. В 2006-м, после Второй Ливанской войны, коалиция во главе с «Хезболлой» ещё более укрепила свои позиции.
Однако самым неприятным моментом для КСА и её союзников стал рост влияния шиитов в Ираке. В январе 2005-го в Багдаде к власти пришло правительство, состоящее из трёх шиитских партий; в июне между Ираном и Ираком было подписано соглашение о военном сотрудничестве. Реакция Эр-Рияда была весьма резкой. Министр иностранных дел КСА Сауд аль-Фейсал: «Иранцы в настоящее время входят на территорию, умиротворенную войсками Соединенных Штатов. Они входят в правительство, платят деньги, ставят везде своих людей, даже создают собственные милиции для защиты своих интересов. У нас все это не укладывается в голове. Мы выдержали долгую войну, чтобы помешать Ирану оккупировать Ирак, затем выгоняли иракских оккупантов из Кувейта, и все это для того, чтобы своими руками передать Ирак иранцам?».
Иными словами, активность и влияние шиитов на Ближнем и Среднем Востоке заметно возросли. В значительной мере это стимулировалось быстрым развитием их естественного лидера — Ирана. Рост ВВП ИРИ в 2004 составил 6%, при этом речь шла не только о нефтедобыче — так, на «страну-изгой» приходилось 63% производства стали в регионе, и оно возрастало на 8−10% в год. Ситуацию в машиностроении неплохо иллюстрирует динамика автопрома в том же 2004-м — производство легковых автомобилей за год возросло на 37%. Примерно та же динамика сохранялась вплоть до кризиса 2008-го: в 2005-м ВВП Ирана увеличился на 4,7%, 2006-м — 5,8%, 2007-м — 10,8%.
Между тем на Бахрейне шииты составляют 75% населения, в Кувейте 30−45%, в ОАЭ — 15−20%, в Катаре — 10%. В Саудовской Аравии «еретики» составляют, по разным оценкам, от 8 до 20% населения, но являются большинством (60%) в крайне болезненном для Эр-Рияда месте — в восточной прибрежной области, где сосредоточены практически все запасы саудовской нефти. При этом в том же КСА они официально лишены права занимать высшие руководящие должности и служить в любых силовых структурах. Неофициальная дискриминация намного жёстче. Нимр ан-Нимр: «С самого рождения вы живёте в атмосфере страха, угроз и всякого рода злоупотреблений. Нас всюду преследуют, и мы боимся всего. Мы боимся даже стен. Кто из нас не знает, что такое шантаж и беззаконие, с которыми мы постоянно сталкиваемся в этой стране?»
Однако вместе с ростом влияния Ирана перед автократиями Залива и их союзниками замаячил призрак конца «идиллии» апартеидного толка и тень «шиитского полумесяца» (территория от Ливана до Бахрейна как зона доминирования Тегерана). При этом воинственность нефтяных «королей» весьма стимулировалась позицией США — уже в 2002-м Иран был отнесён к «оси зла», а с 2003-го начала активно раскручиваться кампания вокруг иранской ядерной программы.
В итоге данные Wiki Leaks демонстрируют весьма агрессивные настроения аравийских монархов уже более семи лет назад: так, во время визита директора ЦРУ Дэвида Петрэуса в Эр-Рияд король Абдалла призывал США «отрезать голову змее».
Посткризисное развитие событий продолжало ту же линию. В феврале 2009-го Иран начал испытания АЭС в Бушере; спустя день после их начала (изначально отмеченного вполне нейтральным комментарием Госдепартамента) американский посол в ООН Сьюзан Райс обвинила Тегеран в поддержке терроризма и стремлении получить ядерное оружие. В сентябре произошло первое непосредственное столкновение саудитов с поддерживаемыми Ираном силами — КСА попыталась оказать помощь в подавлении зейдитского восстания, что обернулось гибелью 73 солдат. В том же году коалиция, возглавляемая «Хезбаллой», получила на выборах почти половину мест в ливанский парламент.
В 2009-м впервые прозвучали и заявления Эр-Рияда о готовности обзавестись собственным ядерным оружием. В дальнейшем они повторялись регулярно.
Весьма показательным для иллюстрации настроений монархий залива стало интервью посла Эмиратов в США в 2010-м, заявившего, что, несмотря на экономические издержки и вероятность внутренних восстаний, превентивный удар по Ирану является предпочтительным по сравнению с дальнейшим развитием его ядерной программы. Таким образом, позиция «нефтяных королей» была впервые озвучена публично, при этом наиболее экономически связанной с Тегераном монархией. Ровно то же, по сообщениям Wiki Leaks, озвучивалось в частном порядке: так, наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян назвал войну «значительно лучшей альтернативой в сравнении с долгосрочными последствиями, связанными с обладанием Ираном ядерным оружием».
Слова не расходились с делами — Саудия и её сателлиты раскручивали гонку вооружений. Военные расходы Ирана в 2009-м (точнее, с учётом иранского календаря, в марте 2009 — марте 2010) составили $ 11,8 млрд, или 3,2% ВВП, в то время как у КСА в том же году они составили около $ 40 млрд, или 8% ВВП (ещё в 2006-м он составлял «лишь» $ 31 млрд.). Военный бюджет ОАЭ был примерно равен иранскому — $ 13 млрд или 6% ВВП.
«Арабская весна» 2011-го ещё более запутала клубок противоречий в Заливе и окрестностях. Её наиболее заметным следствием непосредственно в странах ССАГПЗ стали выступления шиитов в Бахрейне, подавленные саудитами (84 убитых). Выступления продолжились и в 2012-м — так, в марте число протестующих составило 100 тыс. человек при общей численности населения страны в 1,23 млн. Меньшие по масштабам протесты шиитов прошли в Кувейте и на востоке Саудовской Аравии; саудовские власти ответили репрессиями и стрельбой на поражение.
Однако ключевые события произошли за пределами аравийских монархий. Началась война в Сирии, где в очередной раз столкнулись интересы Саудовской Аравии, Катара и Ирана. В Йемене Эр-Рияд активно способствовал смещению президента Салеха и установлению просаудовского режима Хади, однако на практике оно обернулось усилением влияния хуситов. В 2014-м гражданская война вступила в открытую фазу.
Одним из последствий этого стало продолжение раскручивания гонки вооружений. Динамика военного бюджета КСА до войны в Йемене выглядела самым недвусмысленным образом: 2010 — $ 45 млрд., 2012 — $ 52,5 млрд., 2013 — $ 67 млрд., 2014 — $ 80,8 млрд., что практически равно военному бюджету России. Импорт вооружений по ССАГПЗ в целом вырос в 2010—2014 на 71% по сравнению с периодом 2006−2010.
Собственно просаудовский блок развивался достаточно быстро, но… своеобразно. В 2009-м оформился монетарный союз, в 2009—2011-м была создана единая энергосистема.
В декабре 2012-го монархии договорились о создании единого военного командования. Однако, начиная с 2011-го стали очевидны противоречия между Саудовской Аравией и пытавшимся играть самостоятельную роль Катаром, вылившиеся в открытый конфликт в марте 2014-го, когда КСА, ОАЭ и Бахрейн отозвали своих послов из Дохи. Конфликт был урегулирован лишь к концу года, и интеграция продолжилась — прежде всего, в военной сфере. Так, в ноябре 2014-го было принято решение о создании совместных военно-морских сил.
Менее очевидным процессом, идущим в рамках ССАГПЗ, является поддерживаемое пропагандой формирование новой «культурной идентичности» — халиджи («залив»). В последние десять лет он зашёл достаточно далеко.
На общую динамику нарастающей конфронтации наложились внутриполитические факторы. В январе 2015-го королём стал Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, начиная с 2011-го занимавший пост министра обороны — с весьма прозрачными для политики КСА в регионе последствиями; антишиитские взгляды нового короля достаточно хорошо известны. Как и один из предыдущих королей, Фахд (до 2005-го), новый монарх принадлежал к клану («семёрке») Судейри. Непосредственный предшественник Салмана, Абдалла, принадлежал к клану Шаммар. Уже первые шаги нового короля подтвердили фактическое отстранение от власти клана Ас-Сунайян, наиболее влиятельный представитель которого, принц Бандар бен Султан, рассматривавшийся как вполне реальный претендент на трон, был отправлен с поста руководителя внешней разведки ещё Абдаллой. Его пост занял представитель клана Аль-Джилюви — Мухаммед Бен Найеф. В апреле, после изменения порядка престолонаследия он стал наследным принцем.
Однако де-факто и Джелюви и Шаммар были достаточно быстро оттеснены на вторые роли. Сын короля Моххамед бен Салман, стал министром обороны, председателем совета по экономике и развитию и руководителем государственной нефтяной компании «Арамко»; в пределах остальных «командных высот» в экономике произошла массовая зачистка занимавших их принцев с заменой на связанные с Мохаммедом «кадры». Иными словами, при поддержке Вашингтона клан Ас-Судейри и ближайшие родственники короля почти монополизировали достаточно аморфную до этого саудовскую «администрацию». При этом за кристаллизацией последней стоит проект радикальной либерализации саудовской экономики, до сих пор, по сути, представляющей собой «нефтяной феодализм».
Интервенция в Йемене в марте 2015-го в значительной мере была следствием острой необходимости в «маленькой победоносной войне», способной укрепить позиции принца. Равным образом, казнь ан-Нимра, инициатива которой, по некоторым сведениям, исходила от того же Мохаммеда бен Салмана, очевидно, имела целью спровоцировать ограниченный кризис, твердая позиция в ходе которого должна отчасти реабилитировать господствующий клан после неудачной кампании. Впрочем, статистика казней, достигшая невиданных за последние два десятилетия высот, демонстрирует общее усиление репрессивности режима — и причины его вполне прозрачны.
Иными словами, к конфронтации с Тегераном Эр-Рияд толкают и потенциально фатальные для КСА геополитические противоречия, и клановые интересы, в значительной мере маркирующие собой разные варианты развития королевства.
Перейдёт ли холодная война в горячую фазу?
ИРИ по определению в этом не заинтересована — стране тривиально практически нечем воевать. Иранские ВВС — это летающий музей. В их составе 60 «Тайгеров» F-5 и порядка 40 их местных клонов («истребитель для бедных», выпускался с 1959-го года), 24 китайских клона Миг-21, 25 F-14 «Томкет», 35 Миг-29, 10 Мираж-1. Иными словами, прикрыть собственную территорию истребительная авиация ИРИ не в состоянии. Ударная авиация — это 65 «Фантомов» в варианте бомбардировщика, 24 бомбардировщика Су-24 и 5 штурмовиков Су-25. Подавляющая часть иранской авиации практически исчерпала свой ресурс. ПВО Ирана тоже пока пребывает в «эфемерном» состоянии.
Флот Ирана в Персидском заливе — это три далеко не новых дизельных ПЛ («Варшавянка»), четыре «фрегата» (английский проект «Воспер» 60-х годов и его местное развитие) водоизмещением 1,3 — 1,5 тыс. тонн, несущие по 4 китайских ПКР С-802 (примерный аналог «Экзосет», дальность 120 км), три корвета и довольно многочисленный «москитный» флот из разнообразных катеров, часто весьма не новых. В любом случае в условиях тотального превосходства противника в воздухе его ценность стремится к нулю.
Единственная серьёзная надежда Тегерана — это довольно многочисленные береговые установки противокорабельных ракет и баллистические ракеты. При этом следует учитывать, что общепринятые представления о ракетном потенциале Ирана сильно преувеличены.
Основа его ракетных сил — жидкостные «Шахаб-3» разных модификаций и их дальнейшее развитие «Гадр». Дальность «Шахаб-3» составляет 1,3 тыс. км, масса боевой части 0,7−1 т. Круговое вероятное отклонение по официальным данным — 200 м, однако у северокорейского прототипа «Шахаб» («Нодон-1») оно составляет 2,5 км. Иными словами, базовый вариант ракеты с «обычной» боеголовкой — весьма сомнительное средство для поражения даже таких масштабных целей, как нефтяные терминалы и НПЗ. При этом, несмотря на мелькающие в западных СМИ астрономические цифры в 600 единиц, реальное количество этих ракет не превышает сотни. На поздних версиях дальность доведена до 2000 км, точность — до 30 м (очевидно, сильное преувеличение — учитывая обычную иранскую практику, на порядок), однако количество подобных ракет измеряется первыми десятками. Наиболее современной БРСД Ирана является твердотопливная «Седжил», однако их, видимо, крайне мало.
Прибрежные районы Саудовской Аравии, Катар, Бахрейн и ОАЭ находятся в пределах досягаемости иранских ракет малой дальности, начиная с «Шахаб-2» (вариация на тему пресловутого «Скада»; современная «модель» — «Киам -1»). На конец «нулевых» Иран располагал 64 установками и максимум 200 ракетами. КВО прототипа, от которого «Шахаб» отличается в основном увеличенным запасом топлива и облегчённой боеголовкой, составляет 450 м. Ещё одним экзотическим образцом вооружения, способным сыграть «стратегическую» роль в конфликте, является противокорабельная баллистическая ракета «Халидж Фарс» (вариант «Киам» с дальностью 300 км и официальным КВО в 8,5 м). Хотя точность ракеты заведомо завышена, вероятно, она действительно способна достаточно эффективно поражать крупные танкеры и другие корабли подобных размеров.
Посмотрим на другую сторону Залива. Как было замечено выше, элита ССАГПЗ не испытывает недостатка в воинственных настроениях, и при этом они достаточно эффективно транслируются в массы. 53% населения КСА считают Иран основным противником, на фоне 22% ИГИЛ и 18% Израиля. Технические возможности вполне соответствуют желаниям — даже второй эшелон аравийских монархий вооружён очень хорошо.
Так, ВВС ОАЭ сильнее иранских — они включают в себя 79 современных лёгких истребителей F-16 и 68 «Мираж 2000», при этом количество F-16 намечено увеличить ещё на 30 единиц.
Однако малые государства Залива, естественно, находятся в гигантской тени КСА. ВВС последней на данный момент — 82 F-15C/D, 70 F-15S, 32 «Тайфуна». Иными словами, в составе ВВС Саудии 184 современных истребителя, большинство из которых — тяжёлые F-15. Дополнением к ним служат 82 «Торнадо». В составе ВВС имеются также 6 самолётов ДРЛО, что значительно расширяет возможности воздушной группировки.
В рамках действующих контрактов намечено довести число «Тайфунов» до 74, закупить 84 F-15SA и модернизировать до их уровня 68 F-15 ранних модификаций. При выполнении этих контрактов ВВС КСА будут как минимум сопоставимы с российскими по количеству самолётов поколения 4+. Основа ПВО — 96 установок «Пэтриот», планируется их модернизация до уровня РАС-3.
Флот Саудии — 7 фрегатов (включая три «Эр-Рияд» постройки начала «нулевых», 4,5 тыс. тонн), 4 корвета, не считая катеров. При этом в 2012−13 королевство активно искало возможности по увеличению флота, включая 4−6 фрегатов и 5 (в перспективе — до 25) дизель-электрических субмарин.
Ракетный потенциал КСА вечно находится в тени иранского, однако это лишь следствие западного медийного освещения. На вооружении Королевских стратегических ракетных сил, во-первых, состоят до 60 жидкостных ракет «Дунфэн-3» китайского производства с дальностью в 2800 км и массой боевой части в 2,15 т. Круговое вероятное отклонение у поздних модификаций составляет порядка 1 км. Во-вторых, в 2014-м в том же Китае были закуплены на порядок более современные «Дунфэн-21». Речь о твердотопливной ракете в составе полноценного мобильного комплекса. Дальность составляет 1450−1800 км, масса боеголовки — 600 кг, по результатам испытаний 2010-го КВО составило порядка 40 м.
Иными словами, превосходство аравийских монархий на море огромно, в воздухе колоссально. Ракетный потенциал КСА как минимум сопоставим с иранским — при меньшей численности он отличается более высокой точностью.
Дополнительным козырем Эр-Рияда является нынешнее, весьма просаудовское правительство наиболее мощной (и при этом ядерной) державы региона. Пакистан зависит от помощи КСА и переводов гастарбайтеров из стран Залива; при этом саудиты оплатили почти 60% стоимости ядерной программы Исламабада. В итоге, позиция его элиты в отношении безусловной защиты территориальной целостности КСА не подлежит сомнению.
Тем не менее в краткосрочной перспективе переход конфликта в горячую фазу по инициативе Эр-Рияда малореален — у саудитов существуют нетривиальные затруднения с реализацией своего очевидного военно-технического преимущества.
Во-первых, армия КСА — включая ВВС — достаточно наглядно показала свою низкую боеспособность в Йемене.
Во-вторых, наиболее прямолинейный вариант решения этой проблемы закрыт. Традиционно её предполагалось решать за счёт привлечения пакистанских военных (это вполне открытая особенность саудовского военного строительства), однако даже нынешнее правительство Пакистана не слишком хочет участвовать в «наступательных» действиях Эр-Рияда. Так, несмотря на безусловную поддержку операции в Йемене на словах, Исламабад не пожелал предоставить для неё войска.
В-третьих, программы перевооружения армии королевства не завершены и пробуксовывают — в первую очередь это касается ВВС, где задерживаются поставки новых F-15 и модернизация устаревших.
В-четвёртых, падение нефтяных цен привело к сокращению военного бюджета КСА — расходы намечено сократить на 30%.
Наконец, в-пятых, чрезмерная агрессивность саудитов уже спровоцировала негативную реакцию в Вашингтоне.
Однако в средне- и долгосрочной перспективе риски военного столкновения будут расти. Иран располагает всеми необходимыми предпосылками для дальнейшей индустриализации и технологического роста и без интенсивного внешнего давления будет развиваться чрезвычайно быстро. При этом на глазах аравийских монархий материализуется пресловутый «шиитский полумесяц», а КСА, которой неизбежно придётся вступить в «эпоху перемен», критически заинтересована в обнулении шиитского фактора во внутренней политике. На этом фоне Иран откровенно проигрывает аравийским монархиям гонку вооружений. Иными словами, соблазн силового решения иранского вопроса может оказаться слишком большим.
Дополнительным фактором служит вполне очевидное втягивание Анкары в конфликты Персидского залива и де-факто реинкарнация традиционного соперничества между Турцией и Ираном.
Наконец, следует учитывать, что отказ неугодных режимов от оружия массового поражения никогда не служил для Запада и его сателлитов поводом для долгосрочного ослабления давления — он всегда провоцировал его усиление вплоть до военного вмешательства. Стандартная схема агрессии выглядит отнюдь не как «наличие ОМП — интервенция»; напротив, наличие значительного количества оружия массового поражения масштабную агрессию практически исключает. Фактический способ действий выглядит так «наличие ОМП — кампания по его „изъятию“ (угрозы, санкции, обещания) — удар по разоружённому противнику». Эту схему мы наблюдали в Ираке, Ливии и в смягчённой версии в Сирии, где беззастенчивая поддержка боевиков Анкарой стартовала именно после химического разоружения Асада. Иными словами, отказ Ирана от ядерной программы не снизит напряжённость в регионе — скорее, он ведёт к её резкому усилению в средне- и долгосрочной перспективе.
При этом России, если она захочет поддержать Тегеран, придётся столкнуться с блоком государств, чей военный бюджет суммарно превосходит российский, ракеты уже сейчас потенциально угрожают Москве, а приобретение ядерного оружия не составляет неразрешимой проблемы. В то же время приход к власти в Иране прозападного режима создаёт для РФ абсолютно неприемлемые геополитические риски.
Единственный рациональный вариант в складывающейся ситуации — это максимально насытить ИРИ современным оружием. Кроме того, следует понимать, что создание хотя бы ограниченной ПРО — это не роскошь для Тегерана, а необходимость. Что подтверждается оперативной реанимацией контракта на поставку Ирану российских оборонительных систем.
Наркопреступления в РФ: топ-13 регионов
Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге представил интерактивную веб-карту, которая показывает количество зарегистрированных наркопреступлений, виды и объемы изъятых наркотиков для субъектов и муниципальных районов Российской Федерации.
Карта позволяет увидеть, какие наркотики и в каких объемах изымаются на территории России. Исследование и интерактивная карта основаны на данных о каждом наркопреступлении, зарегистрированном правоохранительными органами в России за 2014 г.
Мы решили рассмотреть подробнее эту карту, и выявили следующие закономерности. Высокий уровень наркопреступлений наблюдается в регионах, которые являются дотационнымми, а качество жизни населения находится на очень низком уровне. Кроме того, много наркопреступлений совершается и тех регионах, где уровень жизни население высок, а сами регионы привлекают большие деньги, в основном это сырьевые и добывающие центры.
Важно отметить еще и то, что значительная доля регионов, где наблюдается высокий уровень наркопреступлений, это пограничные регионы, граничащие со странами Азии, откуда и идет основной поток наркотиков.
Итак, ниже представлены регионы с самым большим числом наркопреступлений.
Мурманская область
Число наркопреступлений: 1304
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,67 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,07 на 1 тыс. человек. 90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $7889. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $415.
56% изъятых наркотиков – героин.
Ведущая область экономики Мурманской области – горнодобывающая. Кроме того, город Мурманск является одним из важнейших портов нашей страны.
Однако, по данным на 2014 г., уровень безработицы в регионе составил 6,7%, что выше среднего показателя по Северо-Западному Федеральному округу.
Мурманская область заняла 2-е место в рейтинге уровня жизни населения (УЖН) в регионах по версии журнала "Профиль". Соответствующее исследование издание провело в конце года, где оценивало субъекты федерации сразу по нескольким параметрам.
Согласно опубликованным данным по уровню жизни населения заполярный регион уступил место лишь Московской области, которая вошла в десятку лидеров по среднедушевому доходу, а также имеет небольшую долю бедных, население в высокой степени обеспечено жильем, легковыми автомобилями и персональными компьютерами и направляет на отдых и культуру существенную долю дохода.
В "РИА Рейтинге" 2014 г. по уровню жизни населения Мурманская область заняла лишь 51-е место из 83 регионов.
Ямало-Ненецкий АО
Число наркопреступлений: 720
В 2014 г. МВД зарегистрировало 0,84 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,49 на 1 тыс. человек.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $17491. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $3338.
70% изъятых наркотиков – синтетические каннабиоиды.
Ямало-Ненецкий автономный округ считается регионом-донором. На 2015 и 2016 гг. в бюджете не заложены для него дотации.
В 2014 г. уровень безработицы в регионе был 2,9%, что в целом ниже, чем в Уральском Федеральном округе, в который входит автономный округ.
Основной ресурс и фактор развития Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — запасы природного газа и нефти. На долю ЯНАО приходится 86,3% общероссийской добычи естественного газа, 9,1% — нефти.
В "РИА Рейтинге" 2014 г. по уровню жизни населения Ямало-Ненецкий автономный округ занял 45-е место из 83 регионов.
Ханты-Мансийский АО
Число наркопреступлений: 2460
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,35 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,2 на 1 тыс. человек.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $4108. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $863.
62% изъятых наркотиков – синтетические каннабиоиды.
В 2014 г. уровень безработицы в регионе был 4,6%, что в целом ниже, чем в Уральском Федеральном округе, в который входит автономный округ.
Ханты-Мансийский автономный округ также считается регионом-донором. Он не получает дотаций из федерального бюджета в 2015-2016 гг.
Здесь добывается 56% российской нефти и 3% газа. Важнейшим негативным фактором являются суровые природно-климатические условия и неразвитость транспортной инфраструктуры.
В "РИА Рейтинге" 2014 г. по уровню жизни населения Ханты-Мансийский автономный округ занял 12-е место из 83 регионов. При этом в течение двух предыдущих лет (2013 и 2012 гг.) регион входил в десятку лучших по уровню жизни в стране.
Тюменская область
Число наркопреступлений: 2007
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,47 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 0,82 на 1 тыс. человек.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $17818. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $5109.
Самые популярные наркотики в регионе – каннабиоиды (28%) и синтетические каннабиоиды (37%).
Тюменская область – еще один регион-донор с развитым нефтегазовым комплексом. Фактически область является сырьевым центром нашей страны, здесь добываются нефть и газ, а на добывающую отрасль приходится значительная часть экономики региона.
В 2014 г. уровень безработицы в области составил 5,6%, что чуть меньше среднего значения по Уральскому федеральному округу (5,9%).
На сегодняшний день Тюменская область считается одним из самых экономически стабильных регионов России.
Важно отметить, что Тюменская область (вместе с автономными округами) в течение нескольких лет лидирует в рейтингах регионов России по уровню жизни.
Так, в 2014 г. Тюменская область вошла в десятку лидеров "РИА Рейтинга" регионов по качеству жизни. Она заняла почетное 8-е место.
Это прежде всего связано с тем, что в этих регионах активно работают крупные добывающие компании, что позволяет создавать новые рабочие места. Кроме того, эти компании, как правило, проводят активную социальную политику.
Томская область
Число наркопреступлений: 1096
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,39 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,03 на 1 тыс. человек.
Самые популярные наркотики в регионе – синтетические каннабиоиды (36%) и героин (26%).
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $21983. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $1678.
В 2014 г. уровень безработицы в Томской области составил 7,7%, что выше среднего значения по Сибирскому ФО (7,4%).
Добывающий комплекс также является одним из самых важных секторов экономики Томской области.
Тем не менее в последнее время качество жизни населения Томской области стало снижаться. Так, в 2014 г. Томская область вошла в число регионов, качество жизни населения которых максимально ухудшилось за год, по данным "РИА Рейтинга" качества жизни регионов.
В итоге в рейтинге Томская область в 2014 г. заняла лишь 36-е место из 83 регионов.
Алтайский край
Число наркопреступлений: 3792
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,58 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 0,69 на 1 тыс. человек.
39% изъятых наркотиков – каннабиоиды.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $23773. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $5575.
Уровень безработицы в Алтайском крае в 2014 г. был достаточно высоким – 9,3%, что выше среднего значение по Сибирскому федеральному округу (7,4%) и один из самых высоких уровней по стране.
При этом Алтайский край занял предпоследнее, 82-е, место, в рейтинге, составленном экспертами "РИА Рейтинг", по уровню благосостояния семей по итогам 2014 г.
Алтайский край угодил в группу регионов, где семьи живут на грани выживания, а также с наибольшей разницей в уровне жизни бедных и богатых.
А в рейтинге по уровню жизни населения регион оказался на 64-м месте из 83 регионов.
Тыва
Число наркопреступлений: 1032
Основная доля изъятых наркотиков (99%) – каннабиоиды.
В 2014 г. МВД зарегистрировало 2,61 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 0,96 на 1 тыс. человек.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $81200. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $5705.
В 2014 г. в Республике Тыва уровень безработицы был очень высоким – 15%, что намного выше не только среднего уровня по Сибирскому Федеральному округу, но и по России. В "РИА Рейтинге" регионов по качеству жизни за 2014 г. Тыва занимала последнее, 83-е, место.
Кроме того, Тыва является дотационным регионом России. В 2014 г. объем дотаций, направленных в регион, составил 11 307 млрд руб. Таким образом, размер дотаций на 1 жителя республики составил 36 599 руб.
Тыва – один из пограничных регионов России, через которые идет наркотрафик в нашу страну из стран Азии.
Бурятия
Число наркопреступлений: 2278
94% изъятых наркотиков – каннабиоиды.
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,87 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 0,77 на 1 тыс. человек.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $36 971. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $10052.
Бурятия – еще один аутсайдер регионов по качеству жизни населения. В 2014 г. в "РИА Рейтинге" республика заняла 75-е место по уровню жизни населения.
Кроме того, в 2014 г. уровень безработицы в регионе составил 8,1%, что также выше среднего значения по Сибирскому федеральному округу (7,4%).
Бурятия – это не только пограничный регион, через который идет наркотрафик из стран Азии, но и один из дотационных регионов.
Так, в 2014 г. Бурятия получила дотации на сумму 13 735 млрд руб. В итоге размер дотаций на 1 жителя республики составил 14 140 руб.
Амурская область
Число наркопреступлений: 2092
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,93 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,02 на 1 тыс. человек.
85% изъятых наркотиков – каннабиоиды.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $75225. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $15245.
Амурская область, как Тыва и Бурятия, также является одним из регионов-аутсайдеров по качеству жизни населения. Так, в "РИА Рейтинге" по качеству жизни регион занял 68-е место из 83 в 2014 г.
Если говорить об уровне безработицы, то в 2014 г. он составил 5,6%, что ниже среднего уровня по Дальневосточному федеральному округу (6,6%).
Важно отметить, что Амурская область – это еще один пограничный регион России, что играет свою негативную роль в ситуации с наркопреступлениями в регионе.
Еврейская АО
Число наркопреступлений: 178
В 2014 г. МВД зарегистрировало 2,1 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,03 на 1 тыс. человек.
92% изъятых наркотиков – каннабиоиды.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $35 632. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $23 816.
Уровень безработицы в регионе в 2014 г. составил 7,1%, что выше среднего уровня по Дальневосточному федеральному округу.
Кроме того, Еврейская автономная область является дотационным регионом. В 2014 г. она получила дотации на сумму 2 481 млрд руб., что на 1 жителя области составляет 14 230 руб.
По уровню жизни Еврейская автономная область также занимает довольно низкие места. Так, в "РИА Рейтинге" регионов по качеству жизни она оказалась лишь на 74-м месте из 83 регионов.
Приморский край
Число наркопреступлений: 3725
В 2014 г. МВД зарегистрировало 2,91 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,56 на 1 тыс. человек.
65% изъятых наркотиков – каннабиоиды, 23% - героин.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $79614. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $3848.
Приморский край – еще один пограничный регион, граничащий с Северной Кореей.
Уровень безработицы в регионе в 2014 г. составил 7,2%, что выше среднего уровня безработицы по Дальневосточному региону.
Уровень жизни населения в Приморском крае также оставляет желать лучшего. В "РИА Рейтинге" качества жизни в 2014 г. Приморский край занимал лишь 60-е место из 83 регионов.
При этом край вошел в число регионов, ситуация с уровнем жизни в которых сильнее всего ухудшилась за год. По сравнению с 2013 г. Приморский край потерял в рейтинге 7 позиций.
Сахалинская область
Число наркопреступлений: 642
В 2014 г. МВД зарегистрировало 0,94 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 1,81 на 1 тыс. человек.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $5639. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $2602.
48% изъятых наркотиков – каннабиоиды.
Несмотря на некоторую изолированность Сахалинской области от материковой части России, уровень наркопреступлений здесь довольно высок.
Если говорить об уровне безработицы, то в 2014 г. в Сахалинской области он составил 6,2%, что ниже среднего уровня по Дальневосточному федеральному округу.
По уровню качества жизни область занимает достойное 34-е место из 83 регионов согласно "РИА Рейтингу" за 2014 г.
Сахалинская область имеет важное экономическое значение для Дальневосточного экономического района, основными отраслями специализации области являются нефтегазовая, рыбная, лесная, горнодобывающая промышленность, машиностроение и металлообработка.
Здесь идет добыча угля, нефти, лесоматериалов и другого сырья.
При этом очень высок уровень инвестиций в экономику региона, которому в последнее время уделяется все большее внимания.
Магаданская область
Число наркопреступлений: 292
73% изъятых наркотиков – синтетические каннабиоиды.
В 2014 г. МВД зарегистрировало 1,19 наркопреступлений на 1 тыс. человек в этом регионе, ФСКН — 2,9 на 1 тыс. человек.
90% изъятых ФСКН наркотиков были дешевле $2469. 90% изъятых МВД наркотиков были дешевле $2194.
В 2014 г. уровень безработицы в Магаданской области составил 2,8%, что очень хороший показатель не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в России в целом.
По уровню жизни Магаданская область заняла в 2014 г. 40-е место из 83 регионов в "РИА Рейтинге", что является очень достойным результатом.
В 2014 г. в экономику региона было вложено инвестиций в объеме около 40 млрд руб. Это положительно сказалось на уровне жизни населения, однако ситуация с наркопреступлениями по-прежнему остается напряженной.

Заявление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Госсекретарем США Дж.Керри, Цюрих, 20 января 2016 года
Добрый вечер.
Закончились переговоры с Госсекретарем США Дж.Керри. Главное внимание мы уделили сирийскому кризису и ситуации по выполнению Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.
По Сирии мы сделали главное – пришли к однозначному выводу, что резолюция 2254, принятая СБ ООН в декабре, остается главным базисом для того, чтобы мы двигались дальше. В соответствии с этой резолюцией мы обсудили конкретные шаги, которые должны быть приняты для обеспечения условий для объявления прекращения огня. Кроме, конечно же, террористических организаций, как «ИГ» и «Джабхат ан-Нусра», которые не могут подпадать под договоренности о перемирии. Они остаются нашими врагами, и все мы будем продолжать с ними бороться – это война на уничтожение.
Во-вторых, мы подтвердили необходимость решать гуманитарные проблемы в Сирии. Мы рассказали о том, как ВКС России при планировании своих операций учитывают те программы, которые реализуют в САР гуманитарные учреждения ООН, МККК, другие неправительственные организации. Решили, что будем готовы более плотно координировать свои действия с американской коалицией и на этом направлении. Но главное, о чем мы говорили, это координация по антитеррористическим действиям. У американской стороны был ряд предложений, в том числе с учетом телефонных разговоров между Президентом России В.В.Путиным и Президентом США Б.Обамой, моих контактов с Дж.Керри, а также контактов по линии Министерства обороны России и Пентагона. Эти предложения, в принципе, идут в верном направлении, но мы считаем, что практическая реализация совместных действий, «разделение труда», если хотите, взаимная поддержка в борьбе с террористами все еще остаются нашей задачей, и мы здесь можем найти гораздо более эффективные договоренности, чем просто Меморандум, который действует и посвящен процедурам, позволяющим избегать непредвиденные инциденты. Таким образом антитеррористическое направление остается одним из центральных на сирийском фронте.
Не менее важно как можно скорее начать политический процесс. Мы согласились с тем, что когда он начнется, можно будет говорить об упомянутом мной прекращении огня (но не в отношении террористических организаций). Надеемся, что политический процесс начнется в ближайшее время – в течение января. Называются различные даты, но окончательное решение принимает Генеральный секретарь ООН по рекомендации своего спецпосланника по Сирии С.де Мистуры, который сейчас активно контактирует с сирийскими сторонами: с Правительством САР и различными группами оппозиционеров как внутри страны, так и за ее пределами. Советом Безопасности ООН на него возложена обязанность разослать приглашения сирийским участникам таких переговоров. Надеемся, что это будет сделано в самое ближайшее время, и переговорный процесс начнется в этом месяце. Подчеркну, процесс только начнется. Он займет не малое время: предстоит решать целый ряд сложнейших задач, которые сформулированы в резолюции СБ ООН и в решениях Международной группы поддержки Сирии, которая собиралась в Вене и Нью-Йорке.
Безусловно, Россия, США и другие участники Международной группы поддержки Сирии не будут участвовать в переговорах между Правительством и оппозицией САР, но мы будем сопровождать эти переговоры в тех формах, которые будут наиболее полезны для того, чтобы сирийцы достигали договоренностей о том, как им совместно решать задачи переходного периода, какой будет их конституция, как готовиться к досрочным выборам, и многое другое.
Обсуждался украинский вопрос, где была подтверждена центральная роль Контактной группы и ее рабочих групп. Нашими американскими партнерами была подтверждена позитивная оценка деятельности «нормандской четверки». Наши собеседники – Дж. Керри и сопровождавшая его, среди прочих, заместитель Госсекретаря В.Нуланд, отвечающая в Госдепе за европейское направление внешней политики США – подтвердили, что их работа на украинском направлении будет нацелена на то, чтобы помогать достигать договоренности в Контактной группе, «нормандском формате», а не подменять эти доказавшие свою полезность механизмы.
Обменялись мнениями об итогах проведенной на днях в Калининградской области встречи В.Нуланд с Помощником Президента России В.Ю.Сурковым. Говорили и о том, что такие контакты и российско-американский канал весьма востребованы сегодня. Напомню, что он был создан по договоренности между Президентами В.В.Путиным и Б.Обамой в ходе их обсуждения украинского кризиса в июне 2015 г. в телефонном разговоре.
Центральной задачей является выполнение Минских договоренностей во всей их полноте и в той последовательности, которую излагает Минское соглашение от 12 февраля 2015 г. Американцы с этим согласны. На данном этапе видим следующие ключевые задачи: добиться устранения еще сохраняющихся нарушений прекращения огня, обеспечить полное выполнение договоренностей украинских сторон об отводе вооружений и о постепенном разводе сил, чтобы между украинскими вооруженными силами и представителями ополчения Донбасса было как можно меньше прямого соприкосновения. Договорились о том, что нужно решать гуманитарные вопросы, снимать экономическую блокаду – все это предусмотрено в Комплексе мер, одобренном в Минске 12 февраля 2015 г. Центральная задача на долгосрочную перспективу, от которой будет зависеть окончательное урегулирование – это политический процесс. Наше общее с американскими коллегами понимание заключается в том, что вопросы проведения местных выборов на основе согласованного с Донбассом украинского закона, амнистии всех участников событий на Юго-Востоке Украины, постоянного специального статуса Донбасса (контролируемых сейчас ДНР и ЛНР территорий) и вопросы соответствующих поправок в Конституцию Украины представляют собой пакет, состоящий из взаимосвязанных элементов, которые должны рассматриваться в комплексе. Считаю, что этот сделанный нами вывод очень полезен. Надеюсь, что в ходе предстоящих встреч в Контактной группе и в рамках «нормандской четверки» мы подкрепим эти понимания.
Говорили также о некоторых других вещах, включая ситуацию на Корейском полуострове в свете недавнего испытания, произведенного Северной Кореей.
Обсуждали ситуацию в Ираке, Ливии. Наш общий вывод, относительно различных конфликтов на Ближнем Востоке и Севере Африки заключается в том, что Россия и США твердо выступают за суверенитет и территориальную целостность всех государств этого региона. Прежде всего, это касается Сирии и Ирака, поскольку в отношении этих стран порой можно слышать рассуждения, что было бы неплохо создать на их месте несколько государств. Россия и США категорически против этого. В наших практических шагах с другими партнерами, в том числе в регионе будем делать все, чтобы не допустить подобных сценариев.
Говорили также о некоторых вопросах двусторонних отношений, о графике предстоящих контактов. Это была наша первая очная встреча в этом году. Уверен, что не последняя.
Вопрос: Можно ли сказать, что между США и Россией пока нет договоренности по поводу участия в сирийских переговорах «Армии ислама» и «Ахрар аш-Шам»?
С.В.Лавров: Такой договоренности нет, потому что она и не предполагалась. Резолюция СБ ООН поручает спецпосланнику Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуре рассылать сирийским сторонам соответствующие приглашения от имени Генерального секретаря. Готовя список приглашенных он должен руководствоваться, среди прочего, результатами встреч, которые оппозиционные круги проводили в Москве, Каире, недавно в Эр-Рияде, и другими инициативами, как записано в этой резолюции.
Свои пожелания о том, каким бы мы видели состав переговорщиков со стороны оппозиции, приглашенных для переговоров с Правительством САР, мы передали в свое время С.де Мистуре. США и другие члены Международной группы поддержки Сирии сделали то же самое, передав свои пожелания. Спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии сейчас все это перерабатывает, оценивает. Уверен, что он сформирует делегацию, которая, как и требуется от него в резолюции, будет представлять максимально широкий спектр сирийского общества.
Вопрос: До конца января остается несколько дней. Между тем, списка оппозиционных сирийских партий для участия в переговорах до сих пор нет. Рассматриваете ли Вы перенос даты начала переговоров на февраль или другие месяцы, если они не состоятся в конце января?
С.В.Лавров: Во-первых, до конца января еще долго. Все же 11 – это не несколько дней. У нас нет каких-либо размышлений о том, чтобы переносить начало переговоров с января на февраль. Это позиция как России, так и США. Уверен, что в ближайшие дни в январе такие переговоры должны начаться.
Вопрос: Координатор сирийской оппозиции Р.Хиджаб заявил, что делегация оппозиции не готова к переговорам 25 января, если в них будут участвовать какие-либо третьи стороны. Вместе с тем он сказал, что список представителей оппозиции, входящих в делегацию, определен, и в нем числится представитель группы «Джеиш аль-Ислам». Как бы Вы прокомментировали данное высказывание, и будет ли Москва добиваться исключения представителя данной группы из состава делегации?
С.В.Лавров: Могу лишь повторить только что сказанное. Резолюция 2254 СБ ООН требует от Генерального секретаря через его специального посланника по Сирии разослать приглашения участникам переговоров, которые должны представлять собой максимально широкий спектр сирийского общества – как Правительства, так и оппозиции, учитывая при этом тех деятелей и оппозиционные группировки, которые делегировали своих представителей на встречи оппозиции, состоявшиеся за последний год-полтора в Москве, Каире и совсем недавно в Эр-Рияде. Это мандат, и каких-либо односторонних рассуждений о неких первых, вторых или третьих сторонах здесь быть не может. Так что решать не кому-то за пределами ООН, а спецпосланнику Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуре.
Вопрос: Помощник Президента России В.Ю.Сурков по поводу встречи с заместителем Госсекретаря США В.Нуланд говорил, что это был «мозговой штурм» по поиску компромиссов по реализации Минских договоренностей. Достигнут ли какой-то компромисс?
С.В.Лавров: Когда встречаются дипломаты, они всегда «включают мозги», – это естественное состояние любого переговорщика.
Минские договоренности не подлежат какой-то интерпретации по своей сути. Там записаны абсолютно все необходимые действия, которые должны быть предприняты, прежде всего, Правительством Украины, но так же и ополчением, и через прямой диалог Киева и Донбасса должны привести к урегулированию всей этой ситуации в комплексе. Повторю, что последовательность действий и содержание каждого шага уже определены в совершенно недвусмысленных выражениях. Тактически же всегда есть несколько вариантов о том, как осуществлять те или иные реформы, предусмотренные в Минских соглашениях. По понятным причинам не буду вдаваться в детали, но уверяю вас, что компромиссы нужно искать, но о том, как осуществлять записанное в Минске, а не о том, чтобы переписывать Минские договоренности. Это разделяется и нашими американскими партнерами.
Вопрос: Означает ли то, что прекращение огня не будет касаться «Джабхат ан-Нусры» и «ИГ», что Москва больше не настаивает на включении «Джеиш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и других организаций в список террористических?
С.В.Лавров: Нет, это не означает, что мы отказались от своих позиций в отношении террористической сущности «Джеиш аль-Ислам» и «Архар аш-Шам». Первая из них печально известна тем, что неоднократно обстреливала жилые кварталы Дамаска, в том числе территорию Российского Посольства, а вторая является прямым порождением «Аль-Каиды».
Мы представили свои материалы, в которых приводятся факты, доказывающие справедливость нашей позиции. В рамках Международной группы поддержки Сирии продолжается процесс идентификации террористических организаций. Рассчитываем, что эти аргументы будут приняты во внимание нашими коллегами.
Заметки по прочтению новогодней речи лидера КНДР
Константин Асмолов
Делая прогнозы о сути будущего съезда ТПК, мы упомянули, что какие-то вещи станут более понятны после новогодней речи северокорейского лидера, и потому хотим обратить внимание на то, что показалось нам в этом выступлении наиболее важным. Так как Ким Чен Ын весьма серьезно относится к своим обязанностям национального лидера, подобная новогодняя речь воспринимается как своего рода задел на будущее. Конечно, это надо делать осторожно – например, то, что о ядерном оружии не было сказано ничего, кроме как «производить средства военного удара нашего образца во всем их разнообразии, способные полностью подавить противника», расценивалось как указание на то, что в ближайшее время новых ракетно-ядерных тестов не будет. Ан нет – взорвали.
В большой речи северокорейского лидера можно выделить несколько тем:
Преемственность
Ким Чен Ын очень серьезно демонстрирует преданность отцу и деду, «бой курантов» он встретил в мемориальном комплексе, где похоронены Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Новогоднее выступление он начал с новогоднего привета своим предкам, а затем – всему народу страны. Но при этом, когда говорит о массах, сначала упоминает армию, потом – народ. Это можно трактовать как то, что окончательного отхода от политики сонгун не произошло, и партия и армия упоминаются примерно с одинаковой частотой.
2016 год позиционирован им как год будущего съезда, который «подытожит успехи нашей партии в революции и строительстве социализма, достигнутые под мудрым руководством великих вождей, и начертает светлый проект для ускорения процесса достижения окончательной победы нашей революции». Однако далее съезд назван историческим водоразделом, так что какую-то риторику «вступления в новый этап» следует ждать.
Нет указания на реформы, но есть четкая демонстрация того, что победа еще впереди. И что будут сделаны некие изменения в проектных документах. Нет и отказа от термина «социализм». «Цель нашего продвижения – социалистическая держава чучхейской ориентации». Таким образом, преобразования на съезде будут поданы как развитие существующего тренда, а не его смена.
Также подчеркивается опора на собственные силы: «низкопоклонство и опора на внешние силы – путь к гибели страны».
Сплоченность
Она идет одним из рефренов и раскрывается в двух аспектах – как «единомыслие» в стиле «действовать согласованно с партией по идеям, дыханию и поступи», так и преодоление социального расслоения и бюрократического перерождения чиновников: «партийные формирования должны быть в курсе настроений народа, тесно сплачивать широкие массы вокруг партии и интенсивно разворачивать среди руководящих работников борьбу против замашек и злоупотребления служебным положением, бюрократизма и коррупции, которые разъедают и разрушают единодушие и сплоченность рядов».
Для меня это очень жесткое указание на то, что Ким видит опасность социального расслоения, бюрократических пороков и коррупционной номенклатуры. Эту проблему он поставил даже раньше, чем вопрос об обороноспособности страны. Это разумно, так как в результате бюрократического перерождения элиты государственная система может развалиться. Потому рискну предположить, что на грядущем съезде кадровое обновление частично может пройти под лозунгом борьбы с коррупцией.
Ощущение такое, что Ким понимает, что выход на новый этап развития государства не обойдется без проблем: как внутренних (в процессе преобразований всегда есть уязвимые точки, когда старое разрушено, а новое еще не сложилось), так и внешних (сил, которые хотели бы краха режима, хватает). Но при этом основной принцип руководства остается неизменным со времен тэанской системы: партия воодушевляет народ, и он сворачивает (точнее – переносит) горы и засыпает море.
Но вот что с новыми кадрами? Да, он специально отметил молодежь и то, что миллионы выросли с правильными убеждениями – это безмерная гордость. Однако, похоже, что высокая мораль все еще подменяет профессионализм: «придать мощный импульс делу утверждения морально-нравственной атмосферы, чтобы во всем обществе царил здоровый, цивилизованный образ жизни». Здесь интересно упоминание слова «цивилизованный» и то, что про обучение новым технологиям за рубежом тоже не сказал, а мне очень важен вопрос, как он будет готовить новое поколение кадров.
И еще одна любопытная деталь. Говоря об обороноспособности страны, Ким отметил не только собственно армию, но и оборонную промышленность и внутренние войска, которые «должны разбить вдребезги уже на стадии зародыша акции классовых врагов, враждебных элементов, пытающихся посягнуть на руководство революцией, социалистический строй, жизнь и имущество народа». Вижу в этом указание на то, что действия определенных сил по раскачиванию лодки стали системной проблемой, заслуживающей специального упоминания.
Экономика
После приветствий и итогов года Ким начал именно с нее, причем среди итогов на первое место поставил не Дворец науки и техники или новый микрорайон в Пхеньяне, а две новых ГЭС. Это важно, поскольку корни тяжелого экономического положения КНДР лежат в экономическом кризисе. При этом употребил термин «экономика знаний», который распространен и на Юге. Мне это говорит о том, что молодой Ким понимает, в каком направлении надо развиваться.
В качестве основных направлений развития промышленности выделены энергетика, угольная промышленность, металлургия и железнодорожный транспорт. Специально отмечены рыбоводство, восстановление лесов и необходимость борьбы за экологию.
Межкорейские и международные отношения
Воссоединение остается «самой актуальной, жизненно важнейшей величайшей задачей нации», и в начале выступления Ким послал новогодний привет соотечественникам на Юге, что говорит о неизменности подхода к населению РК.
Однако нельзя сказать, что Ким как-либо изменил отношение к властям РК и декларировал курс на большее миролюбие. Власти Южной Кореи идут наперекор течению межкорейского диалога, открыто заявляя о поглощении и смене режима. Если они искренне желают оздоровления отношений, «им не следует преследовать бессмысленное противоборство систем, а надо показать свою готовность» уважать основы существующих договоренностей, в первую очередь трех принципов объединении (1972 года) и Декларации Севера и Юга от 4 октября. И не пытаться интернационализировать проблему: «Никто не дарит, да и не может дарить нашей нации объединение. Вся нация должна решительно бороться против низкопоклоннических, продажных попыток антиобъединительных сил прибегать к содействию внешних сил». Это камень в огород той политики, которая началась в РК со времен Ли Мён Бака.
Интересна оценка 2015 года с точки зрения августовского обострения межкорейских отношений. Таковое «показало, что даже малейший случайный инцидент, возникающий между Севером и Югом, может обернуться искрой войны, и она может перерасти в пожар тотальной войны». Однако армия и народ предотвратили опасность войны и урегулировали взрывоопасный кризис, чреватый возможностью вооруженных столкновений из-за серьезных военно-политических провокаций враждебных сил. Так что к диалогу мы готовы, но на провокации мы ответим «беспощадной, справедливой священной войной». Заметим, кстати, что и новогодняя речь Пак Кын Хе была выдержана в похожей стилистике: мы мирные люди и готовы к конструктивному диалогу, но наш бронепоезд стоит где надо, и на вражеские провокации будет дан адекватный и жесткий ответ.
Остается в тренде и антиамериканизм. Именно США ставят препоны делу объединения. Из-за их стратегии установления господства в Азии Корейский полуостров может стать горячей точкой, они отказываются подписать мирный договор и устроили «шумную заговорщицкую затею с правами человека».
Ни Россия, ни Китай специально не упомянуты, но отмечено, что партия и правительство будут укреплять «солидарность с народами мира… со всеми странами, уважающими суверенитет нашей страны и дружелюбно относящимися к нам».
Конечно, лидер КНДР показал себя склонным к неожиданным шагам, но анализ его речи скорее говорит о том, что, понимая необходимость перемен, он не намерен отказываться от основополагающих принципов северокорейской государственности.
Reality and Hypocrisy: DPRK Nuclear Test Condemned By Nuclear Powers
Christopher Black
The news of another nuclear weapon test by the Democratic People’s Republic of Korea, often referred to in the west as North Korea, has been met with condemnation from the most powerful nuclear armed state of them all, the United States of America, the only nation to have actually used them, against the people of Japan in 1945, and a nation that still retains a first strike strategy against its claimed enemies. This was to be expected from the greatest hypocrite state in the world. But the United States is not the only nuclear weapon state that showed blatant double standards in reaction the news. Both Russia and China have condemned the test of what the DPRK claimed was a miniaturized hydrogen bomb.
This hypocrisy is even more startling since both Russia and China are modernizing and increasing their nuclear weapon systems to deal with the existential threat from the United States which is doing the same. Meanwhile Britain claims the right to renew its Trident submarine programme with its nuclear arsenal and France, Pakistan, India, and Israel continue to maintain their nuclear weapon systems. None of them have followed South Africa’s example of dismantling its nuclear weapons as it did after the African National Congress took power in the early 90’s.
One would have expected that Russia and China, which constantly and rightly complain about western double standards vis a vis their policies and actions, would support the right of the DPRK to defend itself against the nuclear threat from the United States and demand that the United States itself disarm its nuclear weapons in return for the DPRK eliminating its nuclear arsenal. One would have expected solidarity with the DPRK that faces the same common enemy as Russia and China face and that they would understand the fears of the Koreans in the face of that threat. But it seems that the Americans are not the only ones capable of displaying double standards.
And why is it that Israel, a state that continues to lie about its possession of nuclear weapons, escapes this criticism? Why does Iran suffer under years of economic sanctions, as does the DPRK, merely for developing a civilian nuclear programme with only the possibility of building nuclear weapons? We can only scratch our heads at this irrationality, arrogance and hypocrisy of the big and medium powers; as well as the United Nations that joined in the condemnation of the DPRK but which stays enigmatically silent about the weapons possessed by those most likely to use them.
Since no journalist has asked these powers to justify their hypocrisy and no newspaper or media dares to question it, we, the people of the world are not allowed to know the real reasons why this double standard is applied to the DPRK and to Iran, except that the nuclear armed nations do not want those two countries to be able to defend themselves in the event of a military attack by the United States and its allies. Why this is so they must explain. For it is obvious that neither the DPRK nor Iran have any desire to use such weapons offensively against any nation and surely not Russia or China.
Russia and China need all the credibility they can establish to be able to counter the domination of the United States, to create a truly multipolar world, or even better, a world of equal nations where no nation dominates any other. They lose credibility by acting in the same manner as the imperial power they rightly criticize. Instead of appearing as defenders of the weak and oppressed, they will come to be perceived as just another set of bullies, threatening smaller nations that dare to actually be equal. And, in the case of the DPRK, they lose their credibility the more rapidly they ignore, or pretend to ignore, the history of the Korean peninsula since the Americans attacked the north in 1950, which itself was a failed attempt to make a thrust into China to attack the newly established communist government
During the savage war that followed, the Americans and their allies killed an estimated 5 million Koreans. The Chinese, who came to the aid of the north then, as did the Soviet Union, also suffered large numbers of casualties in repelling the American attack. The Russians and Chinese are now acting as if none of this ever took place. But the DPRK has vowed that it will never happen again and so they defend themselves, as best they can.
The only justification for Russia or China condemning the DPRK nuclear weapons programme would be if they guaranteed the security of the DPRK, but this is something they are clearly not now prepared to do, though once they did. So what choice does the DPRK have? And yet, and yet, the government of the DPRK has stated consistently that it is prepared to eliminate its nuclear weapons if two conditions are satisfied; first the removal of the American occupation forces and the reunification of the Korean peninsula under a federal system in which both the south and the north retain their current socio-economic systems and, secondly, a written guarantee from the United States that it will not attack them. Since the United States refuses to provide such a guarantee (probably worthless anyway knowing their history of duplicity) the government of the DPRK is convinced that the Americans intend to attack it. No other conclusion is possible from their point of view and that view is entirely logical.
During my visit to the DPRK in 2003 as part of a team of the National Lawyers Guild of the United States, I had the opportunity to speak to members of the leadership in the government and what was learned is contained in our report of that trip. I will restate it here.
Just prior to his death in 1994, Kim Il Sung wrote that the two countries on the Korean peninsula must make all efforts to achieve reunification. In fact a monument to that historic document is found on the north side of DMZ. We must remember that the country has been one nation for 1300 years, and two nations for only 68. In 2000, a joint declaration was made, after a meeting between the Presidents of the two splintered nations, to use their respective proposals to achieve a confederation. They agreed further to economic cooperation and exchanges in “civic, cultural, sports, public health, environment and all other fields.”
The DPRK officials provided us with their written proposal for unification. It calls for a Federation with a joint Supreme Assembly to pass laws for the federation, but one that allows each side to maintain its systems of government. Whether this is achievable remains uncertain, but the point remains that both sides want to have a united and peaceful nation.
It was our observation that the U.S. “defenses” on the peninsula may be doing more than “protecting” the South Koreans as is claimed by the US. ?In fact, a unified and peaceful Korea, with a combined population of 77 million people, coupled with the growing economic power of China and the increased trade with Japan, makes all Asia an increasing threat to the economic prowess of the United States. It was our opinion that by maintaining instability in Asia, and maintaining a massive military presence there, in Japan and Korea, they try keep China at bay, Japan a vassal and Russia off-balance.
With the continuing pressure to remove the U.S. bases in Okinawa, the American military occupation of the peninsula remains a central focus of American efforts to dominate the region. Furthermore, when read in light of right wing pronouncements in the United States of a New American Century and the Clash of Civilizations, wherein the United States has planned and fought several simultaneous wars to “preserve Western culture against Islam” and defend the west against “terrorism” it is clear there is more at work here than we are being told.
The U.S. military estimates that a new Korean war would lead to as many as I million people being killed, including 80-100,000 Americans, with out of pocket expenses of over $100 billion and an impact on the region of over 1 trillion dollars. War is not a viable or civilized option. Yet, the U.S. continues to spend huge sums every year to maintain its equipment and forces in South Korea.
The fundamental foundation of DPRK policy is to achieve a non-aggression pact and peace treaty with the United States. The North Koreans repeatedly stated that they did not want to attack anyone, hurt anyone or be at war with anyone. But they have seen what has happened to Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libya and Syria. They have no intention of having that happen to them. It is clear that any U.S. invasion would be defended vigorously and that the nation can endure a long, arduous struggle
The real issue is not whether the DPRK has or can have nuclear weapons, but whether the United States, which has nuclear arms capability on the Korean peninsula, is willing to work with the North towards negotiating a peace treaty. We found North Koreans sincerely searching for peace. They are not attached to having nuclear weapons if peace can be established.
However, in this age of “regime change,” “pre-emptive war” doctrines, American efforts to develop low yield nuclear weapons, and their abandonment of international treaties, it is not surprising that the DPRK plays the nuclear card. The tragedy is the failure of the American people and now the Russian and Chinese people, in fact the people of the world, to demand that their leaders exhaust all avenues of dialogue and peace before contemplating war and using constant deception to justify maintaining a state of militarism on the Korean Peninsula, a militarism aimed straight at the heart of the people of the DPRK.
Instead of berating the DPRK for developing a defensive nuclear weapons system, it would be better for the nuclear powers to lead the way forward and declare an immediate programme of disarmament of their own nuclear weapon systems and all other weapons systems capable of mass destruction. It would be better if they would guarantee that no nation would be subject to their aggression.
In the meantime, if Russia and China want to prevent a nuclear catastrophe from happening on the Korean Peninsula then they should consider the real danger that the DPRK faces from the United States, and remember the recent history of American aggression and occupation. They must approach the DPRK, not as inferiors, to be lectured and scolded, but as serious and worthy equals with valid concerns about their security, who require their assistance and cooperation, not their hypocrisy and rejection.
I will conclude with the words of Albert Einstein, expressed in the Japanese magazine Kaizo in September 1952, since they convey the very thoughts expressed to me by leaders of the DPRK when I had the chance of meeting some of them on our visit there some years ago and which, I am sure, still reflect their position:
“To kill in war is not a whit better than to commit ordinary murder. As long, however, as the nations are not resolved to abolish war through common actions and to solve their conflicts and protect their interests by peaceful decisions on a legal basis, they feel compelled to prepare for war. They feel obliged to prepare all possible means, even the most detestable ones, so as not to be left behind in the general armament race. This road necessarily leads to war, a war which under the present conditions means universal destruction.
Under these circumstances the fight against means has no chance of success. Only the radical abolition of wars and of the threat of war can help. This is what we have to work for.”
Навстречу VII съезду ТПК
Константин Асмолов
В преддверии нового съезда трудовой Партии Кореи, который пройдет в 2016 году после более чем 30-летнего перерыва, мы слышим множество предположений о том, зачем Ким Чен Ыну этот съезд и что на нем ожидается. – Сделаем свой прогноз, попутно объясняя, как вообще делаются прогнозы, особенно в условиях ограниченной информации: реальных данных о внутренних раскладах пхеньянской элиты нет, и потому любые рассуждения о «противостоянии ближнего круга и военных технократов», на самом деле являются спекулятивными.
Во-первых, сразу отметим, что серьезный аналитик крайне редко говорит, что событие точно случится или точно не случится, – он имеет дело с вероятностями и пытается прогнозировать некий суммарный вектор, который складывается из воздействия множества факторов, причем любой прогноз на будущее включает вероятность того, что к существующим трендам давления добавится новый, связанный или не связанный с Его Величеством Случаем.
Во-вторых, когда политолог сталкивается со слишком широким спектром вероятностей, и не имеет возможностей без неких дополнительных вводных предугадать ход событий, он идет по пути наименьшего сопротивления, используя метод «трех сценариев». Ведь почти в любой ситуации можно наукообразно сказать, что есть три варианта развития событий. Все изменится в одну сторону (допустим, хорошую); все изменится в другую сторону (допустим, плохую); все остается плюс-минус как есть. Это дает хорошую вероятность того, что один из прогнозов сбудется, и при любом изменении ситуации аналитик может сказать: «А я же говорил!». Но хороший аналитик отличается тем, что на определенные вопросы он может дать качественный ответ «у меня не хватает данных», не занимаясь вместо этого общей болтологией и высасыванием теории из пальца. «Я знаю, что ничего не знаю, (но внимательно наблюдаю за ситуацией и жду развития событий)».
Потому и мы постараемся отойти от практики сферической болтовни и попытаемся реконструировать то, на основании чего могут быть сделаны прогнозы и какие именно это будут прогнозы.
Теперь к делу. Съезд партии отличается от партконференции тем, что включает в себя некую обязательную программу, вокруг которой и начинает складываться определенная интрига. На съезде партии обычно должны приниматься программные документы (устав и собственно программа; они могут несильно изменяться, но, как минимум, происходит их переутверждение), а также происходят выборы или перевыборы партийного руководства.
Некоторые элементы съезда можно предсказать точно. Например, то, что будут внесены изменения в устав, и они будут связаны с тем, что к вечному президенту Ким Ир Сену уже добавился вечный генсек Ким Чен Ир. Де-факто это уже есть, но в программные документы этот момент надо вносить на съезде, ибо, хотя главный пост Ким Чен Ына – это «руководитель Государственного Комитета Обороны», в партийной иерархии он является не генеральным, а первым секретарем.
Кроме того, ожидается определенное кадровое обновление. Значительная часть высшего партийного руководства или умерла, или находится в очень преклонном возрасте, и вряд ли способна исполнять свои обязанности с физической точки зрения. Этим людям, вероятно, надо будет найти замену. Провести кадровое обновление. Интрига скорее заключается в том, каким именно будет состав – будет ли это умеренное обновление, когда 80-летних заменят 60-летние, либо речь пойдет о большем присутствии во власти людей молодых, пусть и необязательно ровесников Ким Чен Ына.
Во время интронизации Ким Чен Ира существовали так называемые «группы трех революций», в которых талантливая молодежь из ровесников молодого Кима проходила партийную обкатку, и выходцы из этого поколения впоследствии становились его опорой. Однако Ким Чен Ира вводили во власть почти 30 лет. У нынешнего руководителя такого времени не было, но можно заметить, что, хотя некоторые западные политологи ожидали, что тридцатилетний руководитель будет скорее церемониальным правителем, исполняющим волю властных стариков, с таковыми Ким разобрался более или менее решительно.
Но это не отменяет вопроса о том, как велико количество молодых партработников, которые являются кадрами, ориентированными лично на молодого Кима. Неясно, объявлялся ли специальный партийный набор.
Что касается изменений в программе, то, понятно, что они назрели. Конечно, нужен документ, который должен зафиксировать текущие представления о месте ТПК и КНДР в изменившемся с 1980 года мире. Но здесь существует две точки зрения, которые стоит назвать смелой и осторожной.
Сторонники смелой интерпретации полагают, что на съезде Ким Чен Ын провозгласит некий принципиально новый курс, который будет в значительной мере отличаться от курса отца и деда. Мера этого отличия обычно определяется фантазиями политолога и его политическим или идеологическим бэкграундом, но обычно приходят к выводу о том, что Ким открыто заговорит о реформах по китайскому или вьетнамскому образцу или разработает конструктивную программу взаимодействия с Южной Кореей.
В основе подобных смелых интерпретаций лежит следующая предпосылка. Ким Чен Ир мог затягивать реформы, понимая, что на его век стабильности хватит, молодой Ким, если он рассчитывает провести ближайшие тридцать лет на посту руководителя КНДР, вынужден что-то менять до того, как ситуацию сменят неподвластные ему обстоятельства. И, поскольку с точки зрения подобных специалистов, «главным приоритетом северокорейской политики является сохранение правящего режима», этот режим может активно меняться, лишь бы удержаться на плаву. Некоторые даже договариваются до того, что Ким объявит о готовности свернуть ядерную программу и ориентируются при этом на историю режима в ЮАР, где режим отказался от дальнейшего развития ядерной сферы, когда стало понятно, что в ближайшем будущем власть белого меньшинства разрушится.
Сторонники осторожной интерпретации обращают внимание на то, что любое первое лицо не обладает полной самодержавностью. Действие любого руководителя страны можно сравнить с ездой по горному склону. Он может выписывать разные кульбиты, но движение вверх по склону или вбок ему недоступно. Северная Корея как довольно жесткая идеократия налагает дополнительные ограничения. Внук Ким Ир Сена и сын Ким Чен Ира (и это очень важная составляющая его легитимности) не может пойти на действия, которые в той или иной мере подрывают или затеняют авторитет великих руководителей. Это означает, что российская или китайская составляющая реформ, в которых предыдущий руководитель страны (Сталин или Мао) обвинялся в ереси, после чего декларировалось возвращение к истокам, ему недоступно. Даже репрессированный Чан Сон Тхэк не тянет на стрелочника номер 1, хотя не исключено, что на него спишут какую-то часть причин текущих проблем, благо, объем его власти в сочетании с коррумпированностью, позволяет это сделать, не сильно притягивая ситуацию за уши.
Затем надо помнить, что Ким Чен Ын очень серьезно относится к своей роли руководителя страны. Этим он совсем не похож на образцового диктатора из комиксов, для которого власть – это не ответственность, а возможность жить в свое удовольствие. Это означает, что если диктатор, ставящий на первое место свое личное благосостояние обычно рассматривает вариант, при котором в критической ситуации у него есть возможность сбежать с награбленным и вести частную жизнь где-нибудь подальше от новой власти, перед Ким Чен Ыном такой альтернативы не стоит. Но это же означает, что он должен хорошо рассчитывать ситуацию, исключив из возможного будущего тот вариант развития событий, при котором проведение реформ вызовет процессы, выходящие из-под его контроля. Молодой Ким достаточно представляет себе внешнеполитический контекст, чтобы учиться и на опыте постсоветского пространства, и на уроках «арабской весны».
Поэтому радикальных действий ожидать не стоит. Возможно, то, что давно существует де-факто, будет легализовано де-юре. Возможно, будут придуманы новые названия, объясняющие существующие тренды. Но вряд ли надо будет ожидать декларированной смены курса.
Несколько более конкретно можно будет говорить после того, как в первые дни января в центральных газетах КНДР будет опубликована новогодняя речь Ким Чен Ына. Это уже стало традицией, и в данном выступлении лидер КНДР как бы очерчивает контуры ведения будущего на ближайший год и ставит некоторые задачи. Сравнивая эту речь с предыдущими, анализируя особенности риторики, языковые маркеры, мы можем сделать прогноз о будущем съезде с большей степенью вероятности.
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов во вторник обсудит ситуацию на Корейском полуострове со спецпредставителем МИД Южной Кореи Хван Чжун Гуком, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Во вторник состоится встреча спецпредставителя МИД Южной Кореи Хван Чжун Гука с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым по ситуации на Корейском полуострове", — сообщил собеседник агентства.
Хван Чжун Гук является спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове.
Северная Корея 6 января заявила об успешном проведении испытаний водородной бомбы. Эксперты высказывают сомнения в том, что было испытано термоядерное оружие, но едины во мнении, что КНДР провела четвертое ядерное испытание. Япония, США и Южная Корея настаивают на введении Советом Безопасности ООН новых санкций против Северной Кореи.

Минфин: бюджет не потянет кредиты другим странам
"Считаю, что шансов у правительства принять решение по предоставлению новых кредитов очень мало. Бюджет напряженный, более чем напряженный. Я думаю, что мы объективно находимся в ситуации, когда вынуждены будем взять паузу с точки зрения принятия обязательств по новым кредитам", - отметил замминистра.
В 2015 г. Россия подписала "достаточно много" кредитных соглашений. "Крупные обязательства приняли на себя. А не выполнить обязательства по предоставленным кредитам - это еще позорнее, чем не выполнить обязательства по кредитам, которые привлекли. Большего стыда для любого кредитора нет", - подчеркнул Сторчак.
"В нынешних бюджетных условиях, как они сформировались, принятие новых обязательств по предоставлению кредитов иностранным заемщикам сопряжено с повышенными рисками и с рисками неисполнения этих обязательств в будущем", - пояснил замминистра.
В августе 2014 г. правительство внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменении условий кредита Кипру, который Россия предоставила этой стране в конце 2011 г. Размер кредита - 2,5 млрд евро под 4,5% годовых. Предполагали, что Кипр единовременным платежом погасит долг в 2016 г. По протоколу срок погашения кредита перенесли с 2016 г. на 2018-2021 гг., а процентную ставку уменьшили с 4,5% до 2,5% годовых. Смягчение условий по кредиту - "существенный вклад России в соответствующие усилия международного сообщества, включая поддержание стабильности международной финансовой системы", отмечено в пояснительной записке к протоколу.
Между тем Сторчак пока не видит возможности выхода России на внешний рынок заимствований из-за санкций в отношении страны. На текущий год бюджетом предусмотрены внешние заимствования в объеме до $3 млрд.
По словам замминистра, инвесторы из стран, которые не присоединились к санкциям, в частности из Китая, могут иметь трудности в случае покупки российского долга. "Там очень сложно. У них же (у китайских инвесторов - ред.) покупатель бонда будет тогда уличен в том, что он нарушает запреты, он сам подпадет под санкции. Там же все очень четко. Там же не то чтобы ограничения на нас, там последствия для тех, кто эти ограничения пытается преодолеть. Так попали те, кто работал с КНДР, с Ираном. Штрафы люди платили", - пояснил Сторчак.
"Мы оставляем, юридически базу создаем себе, для того чтобы гибко реагировать на изменения рынка", - заключил замминистра.
Российско-китайский ответ на THAAD
Василий Кашин
К.полит.н., с.н.с. Центра стратегических проблем СВА, ШОС и БРИКС ИДВ РАН, с.н.с. Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД
12 января 2017 г. в Москве представители России и Китая договорились о принятии совместных мер против размещения американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи. Каково значение развертывания системы на Корейском полуострове для безопасности в регионе и какие контрмеры могут предпринять Москва и Пекин?
Российско-китайское соглашение о совместных мерах по обеспечению своих стратегических интересов и баланса сил в регионе в ответ на будущее развертывание в Южной Корее американской системы ПРО THAAD на данном этапе следует рассматривать скорее как шаг по усилению политического давления на Сеул. О готовности немедленно предпринять конкретные военные шаги говорить, по всей видимости, преждевременно.
Решение о развертывании на территории Южной Кореи батареи комплекса ПРО THAAD было принято летом 2016 г., а само развертывание должно произойти до конца 2017 г. Разразившийся в Южной Корее в октябре 2016 г. острый политический кризис, начало процедуры импичмента президента Пак Кын Хе поставили судьбу соглашения под вопрос. На этом фоне Китай активизировал политическое и экономическое давление на Южную Корею с целью добиться если не отмены, то существенной модификации корейско-американского соглашения по THAAD.
Данное соглашение с самого начала носило весьма спорный характер с точки зрения интересов Южной Кореи. Американский THAAD едва ли способен обеспечить защиту важнейших объектов и населенных пунктов на корейской территории. Стремясь вывести крайне дорогостоящий комплекс из-под возможного удара северокорейской дальнобойной артиллерии, тяжелых реактивных систем залпового огня и многочисленных ракет малой дальности, его решили расположить на значительном удалении от демилитаризованной зоны. В результате комплекс, судя по некоторым публикациям, вообще не способен обеспечивать защиту агломерации Сеула, где сосредоточено до половины населения Южной Кореи. Кроме того, арсенал средств нападения, имеющийся в распоряжении КНДР, слишком разнообразен, чтобы одна батарея THAAD могла серьезно повлиять на ситуацию.
Между тем ценой размещения комплекса стало резкое ухудшение отношений Южной Кореи с Китаем, не только сильнейшей державой региона, но и важнейшим экономическим партнером. С точки зрения китайцев, входящая в состав комплекса РЛС дальнего обнаружения AN/TPY2 может быть эффективна для фиксации пусков китайских баллистических ракет средней дальности, развернутых в Северо-Восточном Китае. Особого внимания стоит тот факт, что хотя США вполне согласились продать THAAD таким своим партнерам, как Объединенные Арабские Эмираты и Катар, система, размещенная в Корее, будет принадлежать армии США. Следовательно, она может быть задействована в сценариях конфликтов между Китаем и США, не затрагивающих Корейский полуостров.
Размещение комплекса произошло, вероятно, под серьезным американским давлением. Данная мера подвергается критике рядом видных южнокорейских оппозиционных политиков, которые, благодаря политическому кризису в стране, вполне могут прийти к власти в обозримом будущем. Самое время для эскалации давления на Сеул. Это давление со стороны КНР принимает порой довольно конкретные формы и включает в себя, помимо прочего, внеочередные налоговые, санитарные и прочие инспекции в отношении многочисленных корейских предприятий в Китае.
Целью для Китая на данном этапе выступает как максимум отмена решения о размещении THAAD, а как минимум — отсрочка его реализации, введение дополнительных условий, исключение возможности дальнейшего усиления группировки ПРО. В отличие' от Китая, российский стратегический ядерный потенциал не страдает напрямую от размещения этого комплекса ПРО в Корее. Российские базы межконтинентальных баллистических ракет и атомных ракетных подводных лодок находятся далеко от Кореи, и Россия не производит баллистические ракеты средней дальности, для борьбы с которыми главным образом предназначен этот комплекс. Но Россия в принципе возражает против приближения систем ПРО США к своим границам и выступает единым фронтом с Китаем из этих общих политических соображений.
Конкретный российско-китайский военный ответ на THAAD, если он будет, зависит от успешности кампании политического давления на Сеул, которую Пекин и Москва будут вести в ближайшие месяцы. Еще в 2016 г. Россия и Китай впервые провели совместные учения (компьютерную симуляцию) действий сил ПРО на театре военных действий, и эти учения, как было позднее объявлено, повторятся в 2017 г. Таким образом, очевидным вариантом ответа может быть активизация российско-китайского взаимодействия в сфере ПРО и его расширение с ПРО на театре военных действий на стратегическую ПРО. Вероятным представляется также проведение совместных учений по преодолению ПРО противника и уничтожению ее ключевых объектов. В любом случае, наличие на южнокорейской территории американского объекта ПРО превращает Южную Корею в заложника любого военного кризиса между Китаем и США, даже если истоки этого кризиса будут находиться на расстоянии тысячи километров от Корейского полуострова.
Миссия невыполнима
Автор: Александр ДРАБКИН. Политический обозреватель «Правды».
Соединённые Штаты уже более семидесяти лет строят однополярный мир, ими управляемый. Результат не оправдывает ожиданий. Но работа продолжается — за время конструирования глобального доминирования в США выросли поколения, одержимые идеей миссионерской роли своей страны «в этом скверно устроенном мире».
Рузвельт не хотел «служить полицейским на Балканах»
Очевидно, нелепо было бы утверждать, что все американцы — империалисты и потому сражаются во многих уголках земли за глобальное торжество своего гегемонизма. Один из ветеранов президентского журналистского пула, имевший возможность наблюдать разных хозяев Белого дома, рассказывал мне об эпизоде, связанном с Франклином Рузвельтом. В начале 1945 года, обсуждая со своими военно-политическими советниками ситуацию в Южной Европе, он резко бросил: «Я не хочу служить полицейским на Балканах». Тогда некоторые специалисты предлагали использовать американские войска для закрепления позиций США в Греции и Турции. Это позволило бы нейтрализовать коммунистическую Югославию и существенно ослабить позиции СССР в восточном Средиземноморье. Рузвельт не хотел ссориться со Сталиным и решил в балканские дела не вмешиваться. Что и было выполнено.
Однако через полтора года после смерти Рузвельта его преемник Гарри Трумэн обнародовал внешнеполитическую доктрину (своего имени), в соответствии с которой Греция и Турция были превращены в американские военные плацдармы для боевых действий против СССР и его союзников. В Турции разместили ракеты США, нацеленные на южные районы Советского Союза. А в 1999 году вооружённые силы США нанесли мощнейшие авиационно-ракетные удары по Югославии, что привело к полному разрушению этой влиятельнейшей балканской страны. «Американский мир» укрепился в Южной Европе.
По-корейски это будет так…
Доктрина Трумэна не ограничилась балканским регионом. В 1950 году войска США вместе с боевыми частями их союзников, прикрываясь голубым флагом ООН, вломились в Северную Корею. Эта небольшая и очень бедная азиатская страна имела огромное геостратегическое значение для осуществления глобальных гегемонистских планов Вашингтона. Она располагается вблизи границ КНР и СССР, что было очень важно для планирования будущих ударов по мировой коммунистической системе. Об этом нелишне напомнить сейчас, когда мировые СМИ нагнетают истерию по поводу испытания в КНДР водородного оружия.
Советский Союз не использовал право вето при обсуждении корейского вопроса в Совете Безопасности ООН, что легитимизировало американское вторжение на Корейский полуостров 65 лет назад. Некоторые наши друзья в Пхеньяне были шокированы таким решением. Но корейские лидеры прекрасно понимали, что Советский Союз ведёт тяжелейшие политико-дипломатические бои на Западе. Базу антисоветского идеологического фронта составили доктрина Трумэна и фултонская речь Черчилля. Они знаменовали собой переход от антигитлеровского союзничества к «холодной войне» — жалкому суррогату настоящего мира. Это был трудный и опасный период в истории всего человечества.
Основы такого развития событий были очевидны, ещё когда воины антифашистской коалиции плечом к плечу сражались с «коричневой чумой». Уже тогда Черчилль приказал складировать и ремонтировать трофейное оружие вермахта, чтобы в случае войны с СССР раздать его пленным немецким военнослужащим. Заметный эпизод, характеризующий ситуацию, произошёл на одном из греческих островов, где гарнизон вермахта был пленён и разоружён английским десантом. Немцы покорно дожидались своей судьбы за колючей проволокой. Однако, когда на острове появились греческие партизаны-коммунисты и быстро прижали британское воинство к береговой полосе, в Лондоне вспомнили о пленных немцах. Англичане их спешно построили в боевые порядки, вернули оружие и бросили в бой против плохо вооружённых коммунистических партизан. Грекам пришлось отступить. Англичане отпраздновали победу.
Очень напугал Запад парад Победы, который провели в центре Берлина, в Тиргартене, войска антифашистской коалиции. Англичане, французы и американцы вывели на торжественный марш скромные контенгенты недавно вышедших из боёв частей. А Георгий Константинович Жуков приказал двинуть на парад 200 новеньких тяжёлых танков ИС, которые только-только, в обстановке строжайшей секретности, были доставлены в Берлин с Урала. По оценке военных специалистов, эта стальная колонна при поддержке закалённых, обстрелянных частей Красной Армии могла бы дойти до Мадрида за шесть дней. Союзникам было над чем подумать.
Ким Ир Сен о том времени вспоминал так:
— Андрей Александрович Жданов (во время встречи в Москве) спросил меня, в какой помощи нуждается корейский народ в борьбе за государственное строительство после освобождения? Я ответил ему, что Советский Союз вёл войну с Германией в течение четырёх лет, а впереди — большая война с Японией. Где вы найдёте силы, чтобы помочь нам?.. Мы надеемся на политическую поддержку Советского Союза и хотели бы, чтобы Советский Союз впредь активно поддерживал нас на международной арене…
«Жданов остался доволен моим ответом», — добавил корейский лидер.
Суровая поступь народа-воина
Сейчас, когда на Дальнем Востоке того и гляди полыхнёт атомная война, когда американцы перебросили с базы на Гуаме тяжёлую бомбардировочную авиацию, способную нанести ядерный удар по Северной Корее, а корабли ВМС США (в том числе и новейшие подводные лодки) группируются у берегов КНДР, многие аналитики задаются вопросом: как оказалось, что небольшая, находящаяся под международными санкциями страна стала реальной опасностью для сверхмощной Америки? Ответ нашёлся простой: во всём виноваты Россия и Китай. Они вроде бы осуждают испытания водородной бомбы в Корее. А на самом деле снабжают КНДР всем необходимым для формирования сверхмощной армии. По такой схеме Пхеньян находится в вассальной зависимости от Москвы и Пекина. И когда нужно, создаёт опасное глобальное напряжение, пугая американцев и их союзников.
Мне довелось много лет писать о корейских делах. И берусь утверждать, что война, которую народ КНДР ведёт уже семьдесят лет за свою свободу и независимость, — это корейская война, а не действия марионеток. В своих мемуарах Ким Ир Сен, рассуждая о том, что он называл «провалом социализма в Восточной Европе», писал так: «Руководители стран Восточной Европы больше верили Советскому Союзу, чем своим народам. Почти все страны Восточной Европы были освобождены советскими войсками. И, ориентируясь на Советский Союз, они строили социализм по советскому образцу. Низкопоклонство у них укоренилось столь глубоко, что, если советские руководители произносили «А», и они тут же говорили «А». И если в Москве шёл дождь, они у себя ходили под зонтами. Одна из причин провала социализма в Восточной Европе кроется как раз в низкопоклонстве». И делал однозначный вывод: у нас такого не будет.
Ким Ир Сен не путал дружбу с низкопоклонством. Он вспоминал: «В связи с предстоящей операцией против Японии много времени приходилось отводить на определение направлений боевых действий наших отрядов внутри Кореи и на координацию наших оперативных планов со всеобщей подготовкой войны СССР против Японии».
Корейские коммунисты были настроены решительно. «В связи с предстоящим последним, решительным боем мы направили много малых отрядов и боевых групп в пределы Кореи. Всем партизанам, народным вооружённым отрядам и организациям сопротивления нами было дано задание: после полного разгрома противника ликвидировать органы колониального господства, взять под охрану жизнь и имущество народа, создать органы партии и народной власти», — вспоминал Ким Ир Сен. В его душу глубоко запала совместная работа на Дальнем Востоке с маршалами Советского Союза К.А. Мерецковым, А.М. Василевским, Р.Я. Малиновским. Особо он выделял встречу в Москве с Г.К. Жуковым.
Партизанские отряды и боевые группы корейских коммунистов полностью владели информацией о боевых действиях, наносили чувствительные удары по японским империалистам. Партизанский командир Ким Ир Сен за мужество и умелые боевые действия был награждён советским боевым орденом Красного Знамени.
Ким Ир Сен до последних дней своей жизни остался мужественным воином. В день своего восьмидесятилетия он сказал, что ни одна ядерная держава не подвергалась нападению. Это значило, что КНДР бросит все силы, чтобы обезопасить свой народ от происков любого агрессора. И не случайно в день столетия Ким Ир Сена в Пхеньяне приняли решение осуществить космический запуск — Северная Корея ворвалась в закрытый клуб ракетно-ядерных держав. Сейчас к дню рождения Ким Чен Ына осуществлено испытание термоядерного оружия — в КНДР есть что защищать, есть кому защищать и есть чем защищать.
29 июля 1953 года «Правда» напечатала статью выдающегося советского публициста и писателя Ильи Григорьевича Эренбурга. Эти строки, написанные более шестидесяти лет назад, удивительно актуальны и сейчас:
«Сегодня впервые спокойно спали матери Кореи. Сегодня впервые за долгие годы люди в Пекине, в Калькутте и в Лондоне, в Москве и Париже, развернув газеты, не увидели страшных сообщений о кровопролитии в Корее, о сожжённых городах, о горе выжженной земли. Это хороший день для всего человечества и это победа мира…
Я хочу прежде всего преклониться перед мужеством патриотов Кореи, которые с редкой самоотверженностью отстаивали право на свою жизнь, на человеческое достоинство. Позавчера господин Даллес с гордостью, которую вряд ли кто-нибудь сочтёт уместной, пересчитывал, сколько погибло мирных жителей Кореи. Он говорил о том, что потеряла за годы войны Северная Корея. Он не вспомнил, что сберегла эта страна ценой великих жертв: свободу…
Сейчас, припоминая два года трудных переговоров, три года грозных боёв, мы можем с благодарностью вспомнить обо всех усилиях, направленных для окончания кровопролития…
Поединок между миром и войной не кончен. Тёмные силы не разоружены. Они могут ещё попытаться возобновить войну в Корее. Возможно, что где-нибудь в другом месте силы войны попробуют взять реванш за неуспех в Корее. Они приложат все силы, чтобы подогреть «холодную войну», чтобы помешать переговорам, чтобы держать народы в постоянной тревоге. Если им захочется заработать лишний миллиард, они попытаются перегнать кровь Вьетнама в доллары. Если в их природе — жечь, они найдут ещё и дома, и города, которые будут пылать. Силы войны не побрезгуют ничем, только чтобы помешать народам жить в мире, торговать друг с другом, как того требует и солидарность людей, и человеческая совесть…»
А пока у самых границ России барражирует американская военно-воздушная мощь с ядерным оружием на борту, внизу, в глубинах корейских скал, изготовились к ответному удару северокорейские ядерные ракеты — у Пхеньяна есть всё необходимое, чтобы стереть с лица Земли как минимум половину Калифорнии. Сумеет ли при этом Россия остаться в стороне? Сомнительно. Более вероятно, что от драки с гарантированным самоуничтожением не сможет уклониться никто, если Америка не откажется от ориентации на призрачную миссию доминировать в мире.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























